Окаянная Русь
Роман посвящаю брату Дмитрию
Часть I ВЫЕЗД В ОРДУ
Зима в том году стояла лютая. Недаром в народе месяц декабрь называют — студень. Снег едва прикрыл замерзшую почву, и она огромными плешинами проступала в бору. Сильные морозы изукрасили её многочисленными трещинами, и земля, бесстыдно раскинув напоказ своё неприкрытое тело, с нетерпением ожидала снежного покрова, который укутает её в мягкое снежное одеяло. Ветер между тем становился всё сильнее и яростнее: заковал, словно колодника, и быструю глубокую речушку. Она замедлила своё стремительное течение у деревни, где по весне широко разливалась, подступая прямо к плетням огородов.
Ждали в деревне снег с той неистовостью, с какой пахарь молит в жару о благодатном ливне: ведь он зерно напоит, стало быть, и хлеб уродится. А снега всё не было, задержался где-то, родимый. Укрыл бы он белым пухом землю потеплее, сберёг семена, брошенные щедрой рукой в землю по осени.
Дошли наконец до Господа людские мольбы, и снег повалил мягкими хлопьями ранним утром в Варварин день. Он сразу приодел в белое поле, лес, реку; и одинокая сосна, что стояла на самом краю опушки, походила на невесту, надевшую фату. Уже навалилась темень, а снег всё падал. Он казался праздничным, лежал нетронутым и непорочным в своей белизне. Быть ему таким до следующего утра, а уже потом его растопчут идущие по воду бабы и спешащие за дровами в лес мужики. Примнут его бесшабашные ребятишки. А из окон иной раз выглянет довольное лицо хозяина: снег-то всегда к добру — весной землицу водой насытит, а она уже потом не обидит христианина.
Рассвет наступал незаметно: поначалу ночь таинственно скрывала крепко слаженные избы, словно прятала беглеца, а потом очертания домов проступили отчётливее — так бывает, когда от кострища поднимается ядовитая жёлтая дымка. И вот уже из тёмного плена освободился лес, замерзшая река, а в версте от деревеньки на дороге появилась горстка всадников.
— Государь, ты плащ бы накинул. Снег-то какой валит, — заботливо подсказал Василию[1] воевода Плещеев. — Пока доберёмся, вымокнешь совсем.
Снег ложился на реку, словно хотел уберечь прозрачную замерзшую гладь от дурного глаза, и там, где она широко разливалась, напоминала ровное поле. Вот туда и ехал князь, сокращая себе путь до Кремля. Сбоку оставалась деревенька, избы которой курились белым дымом, и он стлался над землёй петляющей полосой. Следом за Василием, шаг в шаг, поспешала дюжина всадников.
Князь не ответил. Молчал, словно обет дал. Губы его сжались — видно, дума одолела крепкая, и сейчас Василий напоминал деда — Дмитрия Донского: то же движение губ, тот же упрямый подбородок и молчун точно такой же. Бывало, Дмитрий Иванович за всю дорогу и слова не обронит, а ежели скажет, то будто самоцветами одарит.
Боярин подметил, что Василий Васильевич за минувший год подрос и окреп. Стукнуло князю едва шестнадцать, а уже шесть лет, как стал великим московским князем. Рано повзрослел Василий, ему бы ещё в лесу с девицами хороводы водить, через кострища лихо сигать, а он вот соколиную охоту выбрал. По-княжески!
Сокольник ехал подле князя, такой же молоденький, как и сам Василий, вертел из стороны в сторону головой. На руке сокольника, вцепившись когтями в кожаную перчатку, сидел ястреб. На маленькой хищной головке — красный клобучок, надетый на самые глаза, потому птица и напоминала праведного монаха. Ястреб не дремал, иногда он слегка приподнимал крылья, показывая свою готовность воспарить под облака, чтобы потом камнем упасть на землю и рвать мягкую горячую плоть своей жертвы.
Кони усердно топтали снежный ковёр, и белые слипшиеся комья весело разлетались по сторонам из-под копыт. Князь московский, видно обременённый излишней опекой боярина, поддал в бока жеребцу шпорами, и тот вынес его на крутой берег реки. Вдруг из-под ивы, печально склонившейся над рекой, выскочил русак. С него ещё не успела слезть старая шерсть, и сейчас он выделялся на снегу серым упругим комком.
— Заяц! — совсем по-ребячьи вскричал князь Василий, и боярин поверил, что князю всего лишь шестнадцать лет. Вот даже восторг удержать не может, заорал, как посадский мальчишка: — Пускай скорее! Пускай ястреба!
Сокольник тотчас снял клобучок с головы птицы, но ястреб, видно до конца ещё не осознавший своего освобождения, медлил. А когда рука нетерпеливо дрогнула, подбрасывая его вверх, ястреб понял, что он свободен. И воспарил. Русак, зарываясь лапами в рыхлый снег, суетливо петлял по реке. Ястреб взмыл высоко, словно примеривался, по силам ли добыча, — только чёрная точка виднелась на светлом небе. И когда заяц уже поверил в спасение, с высоты на него упал ястреб.
Птица яростно разрывала крючковатым клювом плоть, а тонкий писк жертвы ещё более сердил ястреба. И когда клюв разодрал гортань, окрасив снег в алый цвет, заяц успокоился, смиренно уставившись открытым глазом в своего обидчика. Ястреб же всё терзал свою жертву, проникая всё глубже внутрь хищным клювом.
Великий князь попридержал коня — ястребиный пир заворожил, и только сокольник, помня о государевой службе, поддал жеребцу шпорами и вырвался вперёд.
— Ну, шальное! — Он умело ухватил ястреба под крылья. — Полакомился — и будет!
Ястреб, спрятанный под клобучок, долго не мог успокоиться, торжественно и рассерженно клекотал, он ещё не забыл про солоноватую кровь. Сокольник поднял со снега растерзанное тельце и упрятал его в котомку. Снежинки, падая на неровные, ещё не остывшие пятна крови, сразу таяли.
Всадники проехали деревней к лесу, а там ордынская дорога прямёхонько вела в Кремль.
Василий ехал не спеша, только иной раз подгонял жеребца, когда взбирался на кручи, но никто не осмелился обогнать князя. Немногочисленная дружина держалась позади.
— Боярин, ничего не слышишь? — попридержал вдруг князь поводья, и конь послушно застыл, фыркая.
Боярин привстал на стременах, прислушался, пытаясь разобрать, что же такое заинтересовало князя, но вокруг было тихо. Только ветер, как непоседа, играл бахромой попоны.
— Воронье беснуется, может, зверь какой рядом?
Князь свернул с дороги и повёл жеребца полем, где у куста можжевельника горланила чернокрылая братия. Птицы кружились над чахлым кустом, именно так язычники исполняют танец вокруг огня, взывая к великой милости окаменевшего бога. Вороны то разом поднимались в воздух, то вдруг летели вниз, громко галдя, а потом, чем-то встревоженные, разлетались по сторонам. Они беспорядочно кружились, собираясь в стаю, но куст можжевельника, словно заколдованный, не хотел отпускать от себя воронье.
— Ба! — вымолвил боярин. — Видать, здесь зверь павший.
Из-под снега тёмными пятнами проглядывала свалявшаяся шерсть, и, только подъехав совсем близко, всадники поняли, что это лежит мёртвый человек.
Воронье продолжало кружиться, недовольно каркало и совсем не желало смириться с тем, что с находкой придётся расстаться. Князь Василий спешился и долго смотрел на убитого. Шапка с отрока слетела, грудь расхристана. Молод! По всему видать — ровесники. Не бывать ему в княжеской дружине, а суждено покоиться в убогой яме.
Бояре помалкивали, молчал и князь и, насмотревшись на смерть, повелел:
— Пусть откопают и похоронят.
До Китай-города ехали молчком. Скверно было. И только когда стали появляться деревянные хоромины купцов, от сердца малость отлегло.
Боярин Плещеев, ехавший подле князя, проронил:
— А одежда-то на убиенном богатенькая! Видать, из Купцовых чад. Быть может, до Москвы шёл, да на татей[2] набрёл, вот они живота его и лишили.
Это могло быть правдой — в этот год разбойников под Москвой развелось много. Они выходили из леса поздней ночью и грабили купцов, остановившихся в посадах. Василий трижды за последние два месяца наказывал воеводам изловить их в лесах. Да разве за душегубами поспеешь! Рать в лес идёт, а они в это время по деревням отсиживаются.
— Может быть... — только и ответил великий князь.
— Мне кажется, здесь не обошлось без колдовства, — осмелился подать голос сокольник. — Убиенный в чародейском травнике лежал. Бесы его сюда заманили! Народ сказывает, что колдуны в полночь траву рвать идут в чистое поле. Потом из неё зелье варят.
— Какая же корысть в том зелье? — засомневался боярин.
— Как зельем колдун опоит, так всю силушку у того витязя и вытянет, а потом чертям служить заставит, — продолжал сокольник, ободрённый тем, что сам князь его слушает. — А сам он, по всему, чернокнижник.
— Отроку-то лет шестнадцать будет! — возразил боярин. — Какой же из него чернокнижник?
— Вот из таких молоденьких чернокнижники и бывают, а когда седой волос пробьётся, тогда настоящим колдуном станет! — горячо настаивал на своём сокольник. — У нас в селе такой жил. Чёрные книжки колдуны прячут и никому не показывают. А кто их увидал да прочёл, тому черти служить будут. Являются ночью и работы требуют. Видать, этот отрок поначалу им лёгкую работу давал — скот потравить, чуму на честной народ напустить. Черти со всем этим легко справляются и ещё злодейства хотят. А чего им ещё дать, отрок не знал, вот они его и придушили. — Сокольник перекрестился. — Чертям-то потруднее работу давать нужно: косы из песка плести, горы рассыпать, каменья в воду обращать, — заговорил он снова, и походило, что сам он знается с бесами и каждую ночь заставляет хвостатых перетаскивать горы с одного места на другое и выжимать из глыб ручьи.
Кони вышли на дорогу и застучали копытами по мёрзлой земле. Ударил колокол, и по серебряному звучанию великий князь понял, что к обедне звала звонница Успенского собора.
— Так, стало быть, думаешь, что он чернокнижник? — переспросил великий князь.
— Как есть чернокнижник, — затараторил Прошка, польщённый тем, что сам Василий обратился к нему с вопросом. — Чего ему тогда в чистое поле идти да к чародейскому травнику?
Прошка Пришелец был знатный сокольник: и ястреба обучит с руки слетать, и птицу бить; силки на зайца умеет расставить; но более всего занимали великого князя его рассказы, которые знал он без счета. И коротал Василий Васильевич времечко, слушая его нескончаемые истории.
Отец у Прошки был пришелец. Сказывали старики, что притопал он ещё мальцом босым откуда-то из Ливонии. Был он дворовым у Василия Дмитриевича и потешал князя рассказами о чужой, неведомой жизни, которая казалась в городе Москве чудной и непонятной. Женился, нажил мальцов с полдюжины и умер стариком, но так навсегда и остался для всех пришельцем — не смогла принять его славянская земля. Зато для Прошки московское подворье было родиной, менять которую, даже на лучшую долю, он не стал бы. Унаследовал Прохор от отца не только диковинные рассказы о заморских странах, по и обидное для русского слуха прозвище — Пришелец. Был Прошка чист лицом, улыбчив, щедр на доброе слово, а государю приходился сверстником. И, наверное, потому великий князь выделял его среди прочих, прощая непочтительность, дерзость в речах, привычку встревать в степенный разговор с боярами.
Всадники подъехали к Китай-городу: запоздало заликовал набат, возвещая округе о возвращении князя в свой удел.
У кремлёвской стены шёл торг. Людно было в этот час. С длинных рядов торговали пивом варёным, белорыбицей свежей, вином белым, пах душисто свежеиспечённый хлеб.
Ненадолго торг замер, когда Василий Васильевич приблизился к рядам, и многие гости, впервые близко созерцая князя, приветствовали его. Приложил Василий руку к рубиновым бармам[3] и слегка в ответ наклонил голову.
Показался великокняжеский дворец. Дворовая челядь уже спешит: стряпчие[4] скамью государю под ноги ставят, чтобы с коня сошёл: ключник кваску медового несёт, чтоб с дороги господин жажду утолил. Василий Васильевич, не дожидаясь дворовых, лихо соскочил с коня и не степенно, как подобало бы великому московскому князю, а бегом взошёл на Красное крыльцо.
У дверей Василия встречал митрополит Фотий. Припал князь к руке старца и почувствовал на губах сухость его кожи. Тёмный клобук[5] скрыл печаль в глазах монаха, а голос у него скрипучий:
— Никак угомониться Юрий Дмитриевич[6] не желает. Опять великого княжения московского требует. Мало, стало быть, ему Галича, а ведь слово давал!
Рано сошёл в землю Василий Дмитриевич[7] — сыну тогда только десять годков и минуло. Не успел Василий подрасти: ему бы сил поднабраться, опериться, и взлетел бы он тогда соколом, ведь и птенец без перьев не полетит.
Сына по духовному завещанию Василий Дмитриевич оставил жене — великой княгине Софье Витовтовне. Велел ей беречь чадо. Княжеская вдова оставалась на попечении отца — великого литовского князя Витовта[8], родных и двоюродных братьев. И только ни слова не было сказано о Юрии Дмитриевиче. Словно предчувствовал великий князь, что ляжет большая ссора между его сыном и средним братом.
Едва успел сказать тогда великий князь московский:
— А даст Бог сыну моему великое княжение... Благословляю на стол московский сына своего, Василия Васильевича, — вздохнул печально, словно ещё радел о делах земных, и отошёл с миром.
На сорок первый день после того, как приняла земля в себя великого князя, митрополит Фотий послал гонца в Галич к Юрию Дмитриевичу, чтоб поклонился тот московскому князю и племяннику, а затем признал его старшим братом.
Юрий Дмитриевич не принял гонца: велел снять с него сапоги и босым выставил за ворота. Следующим просителем стал тогда сам митрополит Фотий, он появился у ворот Галича ранним утром, долго кликал стражу, а потом велел, чтоб проводили его к Юрию Дмитриевичу.
Юрий не вышел навстречу митрополиту, так и оставил его томиться в сенях, а через дворовых людей передал старцу:
— Я и при жизни Василия Дмитриевича прав его на московский престол не признавал, а после смерти брата и подавно не признаю!
Избегал даже называть племянника по имени.
Василий Васильевич прошёл в светлицу. У окна в золочёной клетке радостно щебетал щегол. В углу, под образом Богородицы, тлела лампадка. На столе — подсвечник и медная братина[9]. Здесь же лежало послание от Юрия Дмитриевича.
Мир оказался недолгим. Вновь пожелал галицкий князь московского княжения. А ведь и трёх лет не прошло, как клялся митрополиту Фотию, что никогда не будет искать великого московского княжения.
Возможно, не было бы и этих трёх спокойных лет, если бы не испугался Юрий небесной кары, когда отказался принять у себя митрополита. Едва отъехал Фотий от города, как в Галиче начался мор. Воротил он старца со слезами, выпрашивал на коленях у него милости. Вот тогда они и поладили: митрополит дал ему благословение, Юрий — клятву.
И тотчас пропал мор.
Василий был не силён в грамоте, но помнил слова, читанные дьяконом: «Мне по праву принадлежит великое московское княжение. Так стариной заведено было, так и отцом моим завещано — Дмитрием Ивановичем. После смерти старшего брата на московский престол должен садиться средний брат, потом младший, и уже после смерти последнего наступает черёд сыновей старшего брата. Ты же, Васька, против старины идёшь, а значит, сидишь на московском столе нечестно!»
Взял грамоту князь, а она, как уголья, так и жгут кожу бранные слова. Василий поднёс бумагу к пылающей свече. Пламя охватило исписанный лист, и от этой горячей ласки края бумаги почернели, и она неохотно занялась желтоватыми язычками. Затрещало письмо, а быть может, это Юрий Дмитриевич серчал и поносил бранными словами племянника и Софью Витовтовну. Так и слышалась Василию злая речь дяди:
«Софья — дочь Витовта, кто она? Баба гулящая! Слюбилась с литовским боярином, вот от этого греха и родился Василий. Если разобраться, так его, как котёнка, в пруду топить нужно! А он на княжение московское взобрался. Об этом ещё сам Василий Дмитриевич знал, вот оттого и не любил он сына».
Только пепел остался от этих слов.
— Батюшка, боярин Иван Дмитриевич Всеволожский к тебе просится, — Прошка ломал ещё с порога шапку.
— Чего хочет?
— Не пожелал мне говорить, хочет с тобой повидаться.
— Зови!
Князь Василий приблизил к себе дельного сокольника, и теперь тот стал ещё и посыльным.
Вошёл Иван Дмитриевич Всеволожский. Он был потомком смоленских князей и от лукавых пращуров унаследовал весёлую хитринку в глазах, живой и бойкий ум. Иван Дмитриевич как хозяин прошёлся по комнате, и тесно стало в хоромах от его ладной фигуры и зычного голоса:
— Здравствуй, Василий Васильевич! — Боярин не упал в ноги московскому князю, а только достойно склонил красивую голову. В нём жила кровь его предков, хранящих память о былой вольнице древнего города. — Чем же опечален, государь мой?
Иван Дмитриевич лукавил: знал он о послании и печаль Василия ему была понятна.
Не были дружны между собой Василий и Юрий Дмитриевичи, словно родились от разных отцов. Как сойдутся, так будто две грозовые тучи друг на друга наползают — только молнии и сыплются. И вот эту вражду вместе с московским столом оставил Василий в наследство своему сыну.
Василий взял от отца Дмитрия Донского гибкий ум, Юрий перенял волю. А им бы матушкиных черт побольше — смирения и терпимости, не было бы тогда сплава прочнее, чем эти непохожие братья. Вот и сейчас не мог Юрий смирить гордыню и покориться племяннику.
Как не знать о печали князя, если Юрий боярам своим нашёптывает, что не отступится от великого московского княжения. Не отдаст того, что принадлежит ему по праву! А на днях передали Ивану Дмитриевичу весть: дескать, отписал князь Юрий злое письмо племяннику и требует вернуть московский стол.
Оттого Василий Васильевич и уехал на соколиную охоту. Да разве такую тоску этими забавами уймёшь?
— Неужели не слыхал? — укорил Василий. — Тебе об этом первому должно быть известно. Ты же у Юрия служил. Или запамятовал?
— Не запамятовал, князь, и о печали твоей слыхал, — не стал более лукавить Всеволожский. Грудь его при вздохе поднялась, словно кузнечные мехи, наполненные огненным жаром. — Московское великое княжение тебе отец оставил (царствие небесное Василию Дмитриевичу), — боярин торжественно перекрестился, — и, стало быть, ты по праву на нём и стоишь! Всё в твою пользу складывается, Василий Васильевич, ведь ещё три года назад князь Юрий от московского стола отказался, а тебя признал старшим братом.
— Лукавил он, боярин! — в сердцах воскликнул Василий. — Чего ему тогда меня грамотой тревожить!
— Охо-хо! — Грудь боярина вновь заработала мехами. Пожалел бы он великого князя, приласкал бы медвежьей лапой, а вместо этого сказал: — Мне думается, в Орду тебе, батюшка, надо ехать, к хану Мухаммеду!
Василий с надеждой уставился на боярина. Может, что верное надумал? А Всеволожский продолжал доверительно:
— Отпиши письмо Юрию, что по весне хотел бы ехать с ним в Орду. Как решит хан, так тому и быть. А мы меж тем что-нибудь придумаем. Даст Бог, так московский стол за тобой останется. Я ещё с мурзами[10] знатными переговорю. Есть у меня в друзьях татары добрые, которые в обиду не дадут.
— Чем же я тебе обязан буду, если на московском столе останусь? — спросил Василий, понимая, что неспроста печётся Всеволожский.
Боярин в раздумье помедлил, а потом отвечал:
— Всё ты, батюшка, торопишься, сторонишься меня. Мой дом объезжаешь. Заехал бы как-нибудь, навестил меня. Хоромы мои посмотрел бы, а там и поговорим.
Великий князь пришёл к Ивану Дмитриевичу после обедни, приехал во двор Всеволожского без обычного сопровождения: не было ни бояр, ни челяди, только Прошка Пришелец да холоп дворовый для посылок.
Боярин Всеволожский жил в Китай-городе, и хоромины его, строенные в три клети, стояли на берегу речки Неглинной, подавляя своим размахом и великолепием тесные избёнки ремесленников. Жил Иван Дмитриевич отдельно от прочих бояр, которые норовили селиться ближе к великокняжескому двору и обязательно в Кремле. Не выносил его своевольный характер зависимости от московского князя. И если Москва принадлежала великому князю, то эту часть Китай-города Иван Дмитриевич не без оснований считал своей вотчиной. Даже купцы здесь кланялись ему ниже, чем самому Василию Васильевичу, называли его ласково «благодетелем» или «батюшка наш».
Великого князя встречали хлебосольно. Сама хозяюшка — красавица Юлия — вышла с хлебом-солью. Отломил сдобный ломоть Василий, макнул его в соль, откусил малость и в дом прошёл.
Терем у боярина был справный. И широкая лестница вела на красное крыльцо, откуда видны Неглинная и избёнки мастеровых, разбросанные по снежному полю, словно кто-то нарочно рассыпал их нечаянно и забыл собрать. А по весне, когда солнце растопит лёд и в полный рост взойдёт трава-мурава, место это будет многолюдным. Девки придут сюда со всего посада, чтобы водить весёлый хоровод, и голосистая песня закружит молодцам головы.
Великий князь прошёл в сени. А боярин на челядь покрикивает, нагоняет страху:
— Свечи! Свечи запалите! Да чтобы все до одной горели! Я и пудовую свечу для такого гостя не пожалею!
Василий Васильевич вошёл в светлицу. Стол уже был заставлен яствами: в братинах — заморское белое вино, в кубках — мёд крепкий, на блюдах — мясо и капуста тушёная.
— Откушай с нами, князь, — пригласил боярин, — сделай нам милость.
Сел Василий Васильевич, а Всеволожский ему у стола прислуживает: из своих рук в стаканы белое вино льёт и приговаривает:
— Один ты, князь Василий Васильевич. Совсем одинёшенек! Опереться тебе даже не на кого. Бояре твои на Юрия озираются. И знаешь почему?
— Почему? — простодушно спрашивал Василий.
— А потому, что за ним сила! Он и раньше, бывало, дерзил Василию Дмитриевичу, а сейчас совсем свирепым стал, как увидал, что ты ослаб. — Василий выпил вина, и оно горячо разошлось по телу, согревая его. — Кто и был за тебя, так это князь литовский Витовт. Так и он год назад почил! Царствие ему небесное... — Боярин перекрестился на образа. — Теперь там Свидригайло, свояк Юрия. Туго тебе придётся.
В светлице у боярина жарко натоплено. Василий снял с плеч кафтан, а челядь уже спешит принять на руки драгоценную ношу.
— Разве один я, боярин, — пытался возражать Василий. — А Константин Дмитриевич? А митрополит? А челядь дворовая и холопы, что за князя живота своего не пожалеют?
Говорил так князь и не мог не чувствовать правоту слов Ивана Дмитриевича. Бояре — это не холопы, они кому хотят, тому и служить станут. Повздорили с князем и пошли другого хозяина искать, а уж тот наверняка их приветит. А кто же из бояр не желает служить сильному господину?
Иван Дмитриевич меж тем продолжал вдохновенно:
— Опора нужна тебе крепкая. Породниться тебе нужно с родом многочисленным и сильным. Таким, чтобы за тебя лучше псов дворовых постоять могли. Вот тогда хозяином ты себя и почувствуешь!
Разве много отроку нужно? Ослабел Василий от вина, а боярин в пустую чашу уже мёда крепкого плещет.
— И какую же ты мне девку в суженые сватаешь?
Князь поднёс чашу к губам. Рука дрогнула, и на вышитую сорочку струйкой потёк мёд.
— А хоть бы мою Марфу! И лицом удалась девка и статью, а такой покорности, князь, тебе на всей Руси не сыскать! — выдохнул Всеволожский, и пламя свечи отпрянуло в сторону, пуская под потолок чёрную копоть. — Мы, смоленские князья, всегда друг за друга стояли, а тебе надёжной опорой будем. На меня только положись, и Юрия мы облапошим, на Москве, как и прежде, великим князем останешься.
— Где же твоя дочь, боярин? Позови! Товар нужно лицом купцу показывать.
— Марфа! Поди сюда! — крикнул Иван Всеволожский.
На его голос из горницы вышла стройная девушка с белым лицом, с румянцем на щеках. Закружилась голова у Василия Васильевича: не то от выпитого вина, не то от увиденного. Хотелось ему подняться навстречу такой красе, да вот ноги не держат, словно приросли, окаянные, к полу.
— Это дочь твоя, Иван Дмитриевич? — искренне удивился Василий.
Верилось с трудом, что эта гибкая яблонька может быть дочерью такого крепкого дуба, каким был Иван Всеволожский. Только глаза, зелёные и лукавые, выдавали родство.
Согнулась яблонька перед князем, словно на ветру, и поклонилась в самые ноженьки.
— Здравствуй, князь всемилостивый.
А слово-то какое приберегла — всемилостивый!
— Здравствуй, Марфа.
Не укрылось от внимательных глаз Ивана Дмитриевича смущение великого князя: видно, девка по сердцу пришлась. Оженить бы! Что ещё Софья Витовтовна об этом скажет? Воспротивиться может, горда не в меру.
— А я вот тебе жениха привёл, доченька, — говорил Всеволожский, обнимая дочь за плечи.
Марфа стыдливо закрылась платком, только лукавые глазёнки на князя поглядывают. Приосанился Василий, ему пришлась по душе шутка боярина.
— Ступай, лебёдушка, мне с князем поговорить надобно, — отправил Иван Дмитриевич дочь в девичью.
Василий Васильевич уже справился с хмелем, заел квашеной капустой сладкое вино и поспешил откланяться:
— Идти мне надо, Иван Дмитриевич. После потолкуем, а уговор я запомню.
— Вот и ладненько... — Боярин помог князю надеть кафтан.
— Эй, Прошка! Бес! Где ты там?! — орал из сеней Василий. — Опять девок дворовых щиплешь! Выводи коня к крыльцу!
— Сейчас, Василий Васильевич! Сейчас! Это я мигом! — Прошка Пришелец оторвался наконец от важных дел, а в тёмном углу слышалось хихиканье молодки.
Ночь на дворе. А стужа такая, что и дьявола заморозит. Сел Василий Васильевич на жеребца, а он не хочет идти — недовольно гривой потряхивает. Ни шагу с боярского двора! Пригрелся в конюшне, здесь ему тепло и сытно. А возможно, и он прознал про печаль великого князя, оттого и не спешит.
Они уже отъехали от боярского подворья за версту, когда Василий Васильевич придержал коня:
— Один во дворец поедешь. Мне к боярину Всеволожскому вернуться надо.
— Оставил чего, князь? — хмыкнул Прошка. — Так, может, я принесу?
Кому надо во двор к боярину Всеволожскому, так это Прошке Пришельцу: в пристройке для дворовых людей его дожидалась сенная девка.
— Не найдёшь, — хмуро посмотрел на холопа князь. — И коня моего возьми, обратно я пешком дойду.
— Хорошо, батюшка, как скажешь.
Темна ночь, будто в колодец провалился князь. Постоял Василий Васильевич малость в тишине, только и слышит, как Прошка звонким голосом погоняет хозяйского жеребца:
— Но! Пошёл!
Боярский дом спал. Окна черны, и огонёк нигде не вспыхнет. Забрехала с перепугу собака и успокоилась. Скрипнула калитка, обернулся князь, а рядом девица стоит:
— Я знала, князь, что ты вернёшься, вот потому и во двор вышла, тебя встретить. За мной иди. — Марфа взяла ласково государя за руку. — Да ты не робей. Челядь здесь не ходит, а батюшка с матушкой уже спать улеглись.
Рука девушки была горячая, и теплота от неё, сокрушая стужу, разошлась по его телу успокаивающей волной. На лестнице, ведущей в опочивальню боярина, князь неловко оступился, ударившись коленом, и лёгкий девичий смех был ему в утешение:
— Тихо же ты, косолапый, дворню разбудишь!
Разве можно обижаться на эти слова, даже если рождён князем. Только крепче стиснул Василий маленькую ладошку, и ночь легла прохладой на лицо.
Без скрипа отворилась дверь в девичью; в свете чадящей лампадки Василий вгляделся в зелень лукавых женских глаз и прильнул к ним губами, словно путник к крынке с холодной водой. Как железо может быть мягким в пламени, так и Марфа сделалась податливой и нежной в горячих и нетерпеливых руках князя. И случился грех.
Едва Василий задремал, а петухи уже горланят как удалые хвастливые молодцы, извещая округу о наступлении нового дня.
— Идти тебе надо! — тронула за плечо великого князя красавица. — Спал ты крепко, аж будить было жаль. Боюсь, матушка может застать.
Ночь прошла-пролетела, а девичья тайна — останется ли она только между ними двоими?
— Ты женишься на мне? — спрашивала Марфа.
Василий Васильевич вспомнил её нечаянный крик и лицо, искажённое болью. Плечи ещё хранили теплоту её рук, и князь отвечал искренне:
— Да, женюсь, Марфа!
Боярский терем Василий Васильевич покинул незамеченным, только раз-другой спросонок забрехала хозяйская сучка и вновь забралась в конуру на тёплую подстилку.
Солнце выглянуло из-за Девичьего поля красной короной. Запалив огромные сугробы, оно поднималось всё выше и скоро взобралось на маковки церквей.
Новый день наступал.
Послание великого московского князя застало Юрия Дмитриевича в Коломне. Оно пришло после проводов осени, когда святые Кузьма и Демьян, как заправские кузнецы, прочно сковали реку льдами, а в деревенских избах справляли праздник — выставляли на стол курицу, обжаренную в печи.
Юрий Дмитриевич хлебал щи, и густой навар стекал но его русой бороде. Крепок был князь — широкой костью удался в отца, а трапезничал так, что на животе блох давить было можно.
Гонец терпеливо дожидался, когда князь галицкий закончит трапезу и опорожнит ковш с медовухой, не решался без приглашения переступить порог княжеский. А Юрий Дмитриевич звать не спешит — держит у порога.
Икнув сытно, князь наконец велел кликнуть гонца.
— С чем пожаловал?
— Грамоту я привёз тебе от московского великого князя Василия Васильевича.
— От Васьки-то? — нахмурил бровь Юрий. — Тоже мне московский князь! Ему ещё титьку мамкину сосать! Князь!.. А ну дай сюда грамоту, что он там понаписал?
Юрий сдёрнул печать и бросил её под каблук сапога. Давил брезгливо, словно тварь какую. За чтение принялся не спеша, причмокивал толстыми губами, словно жидкую кашу хлебал. И чем дальше вникал в послание племянника Юрий Дмитриевич, тем складка на его челе становилась глубже. Прочитав, швырнул грамоту в угол.
Из-за стола поднялся невысокого росточка татарин, ухмыльнулся в серповидные усы и кривой пятерней заграбастал брошенную грамоту. Прочитав написанное, он бережно положил свиток на край стола.
— Что скажешь на это, Тегиня? — спросил князь и погрозил кулаком продолжавшему стоять в дверях гонцу. — Передай вот это своему князю, и чтобы я тебя здесь не видел, а то на дворе выпороть прикажу!
Гонец исчез, будто его и не было.
Тегиня улыбнулся причудам князя.
— Соглашаться надо, князь Юрий. Я тебе помогу. Мухаммед Тегиню слушает, как он скажет, так и будет, — успокоил князя мурза.
О тайной силе мурзы Тегини Юрий Дмитриевич был наслышан. Именно его хан посылал в дальние вотчины собирать дань, что доверялось только особо приближённым. В прошлом году взбунтовался Переяславль — укрощать отправили непокорных мурзу Тегиню. Он пользовался особым доверием хана Золотой Орды ещё и потому, что приходился властителю молочным братом, и в знак высочайшего расположения тот отдал ему в жёны свою младшую сестру. Мухаммед сделал Тегиню первым советником, а когда сам ненадолго покидал Орду, во главе ханства оставался маленький человечек с жёстким выражением глаз. Мурзе Тегине завидовали, его ненавидели, но боялись все. А после того как Тегиня породнился с самим ханом, он поднялся ещё на одну ступень, оставив позади своих завистливых недругов. Перед мурзой Тегиней трепетали в Орде даже отпрыски Чингисхана. Заискивали эмиры больших государств. Именно к нему сначала обращались князья, когда возникали споры вокруг вотчинных земель.
И вот сейчас знатный мурза находился в Коломне и сидел за столом князя Юрия.
Князь Юрий посмотрел на Тегиню с надеждой. Попробуй пойми ордынца, что у него на уме — в глазах будто бес пляшет. Уж не лукавит ли? Подношения возьмёт, а дело не продвинет. Больно золото любит хитрый мурза, да баб ему порумянее подавай!
— Если поможешь, мурза, московский стол взять... золотом с головы до пят обсыплю! — серьёзно пообещал Юрий Дмитриевич.
Тегиня квас пьёт и будто не слышит обещаний.
— Девка у тебя в горнице прибирает, — мурза стрельнул глазами на краснощёкую девицу, которая проворно прибирала со стола чаши. — Дай мне её! Нет, не в подарок, — замахал рукой мурза. — Я заплачу. Моей женой будет.
Юрий Дмитриевич посмотрел на девку, смахивающую ладонью сор на пол, и грустно промолвил:
— Княгиня будет недовольна. Эта девка ей косу заплетает... Но так и быть! Для такого дела не жалко, забирай красавицу!
Заулыбался Тегиня — кожа на его острых скулах натянулась, того и гляди, лопнет на тонких морщинках-трещинках.
Вечером, когда солнце стало клониться к закату и его красноватые лучи с трудом пробивали тёмную слюду в окнах, проникали в хоромины и застывали на полуигровыми пятнами, князь Юрий принялся за грамоту. Он не назвал Василия, как бывало прежде, по имени и отчеству, обратился просто: «Князь Василий! Сообщаю, что согласен ехать с тобой весной в Золотую Орду, чтобы найти праведного суда у хана Мухаммеда. Как он решит, так тому и быть!»
Князья выехали из Москвы в Золотую Орду в мартовскую оттепель, на самое Благовещение, когда колокола заливались радостным перезвоном, приветствуя наступление ранней весны. Около изб распускались вербы, уже рушился зимний путь, а посады утопали в непролазной распутице. Князья тешили себя надеждой, что нежданную оттепель высушит поздний мороз и уж тогда в Орду проехать будет легче.
Оглянулся Василий Васильевич на островерхие главки соборов и махнул рукой:
— Трогай!
Повозка покатилась по Ордынке. Она без конца пропаливалась, вязла в липкой грязи, но под залихватские крики возницы и яростное старание лихой тройки гнедых лошадок вырывалась из цепкого плена, тряслась дальше на ухабах и вновь ухала с высоты в проталины. Дрянная дорога, куда ни повернёшь. До Орды всю душу вытрясет. По заморозку да по снежку доехали бы быстро, однако нельзя — Мухаммед велел быть весной.
— На Благовещение весна зиму берёт, — высказался боярин Всеволожский и умолк, глубоко погрузившись в свои думы.
За оконцем всюду проталины. Погано стало на душе, хоть вой!
С Москвой расставался Василий Васильевич неохотно, помолился в домовой церкви, отвесил с дюжину поклонов у алтаря, поставил свечку Николе Угоднику, выпрашивая заступничества в делах, и вышел вон. У крыльца матушка дала пояс, вышитый крестами, тот, что бесов отгоняет и от лихоманки стережёт, а ещё удачу приносит. С этим богатством и отбыл великий князь в татарскую Орду.
Повозка князя Юрия Дмитриевича ехала чуть поодаль. Василий слышал, как кучер молодцевато поругивал лошадей, заставляя их переходить на галоп.
Родная кровь сильнее недавней вражды: ещё вчера Василий держал обиду на дядю, а увидел его опять — такого похожего на отца, — сразу улетучилась обида, так, бывает, ветер разгоняет грозовые тучи, оставляя только небесную синь. Руки у Юрия Дмитриевича такие же сильные, как у отца. Разве можно забыть эти руки, которые подкидывали его высоко над головой, и Василий видел тогда весь мир: Москву-реку, пойму, заросшую травой, и хороводы девушек, одетых в лёгкие белые сарафаны.
Набраться бы сил, подойти сейчас к нему и рассказать о том, что гложет, сделаться ненадолго отроком, каким был всего лишь два года назад, но время ушло далеко вперёд — вылепило его великим московским князем, а значит, возвысило над всеми, и сам Юрий Дмитриевич обязан теперь снимать перед ним шапку.
Как не может речка течь в гору, так и Василий не мог спуститься со своей высоты к дяде. Только один должен быть великим московским князем — двоим на державном столе нет места.
Повозка всё дальше удалялась от Москвы — увозила Василия Васильевича в Золотую Орду.
Первый раз Василий ехал в Орду и понимал, что робеет. Если другие московские князья шли в Орду, чтобы просить ярлык на княжение, то он ехал судиться с дядей. Пусть же решит хан по справедливости, кому на московском столе сидеть.
Взгрустнулось Василию ненадолго, когда он вспомнил о мученической смерти тверского князя. Хоть и не ладили Москва и Тверь, но ведь умер Михаил мученически: не на бранном поле, а у шатра золотоордынского хана.
Боярин Всеволожский тихо похрапывал, как будто совсем не занимала его великокняжеская судьба, укачала старика дорога. И безмятежность спящего боярина подействовала на Василия умиротворяюще. Даст Бог, всё и обойдётся. Вернёмся живые. И рука сама собой легла на матушкин пояс.
Но чем дальше отъезжал Василий Васильевич от первопрестольной, тем больше забирала его грусть.
— Гей, дорогу! — покрикивал порой возница на зазевавшихся. — Не видишь, что ли, дурень! Князь московский едет!
И крестьянин, шарахнувшись на обочину, кланялся низким поклоном.
Дорога — это не только грязь под копытами лошадей. В первую очередь — это его, князя московского, земля, которая простиралась широкими полями, дремучими лесами, полными дичи и всякого зверья. Только сейчас, по дороге в Орду, Василий Васильевич понял, как он богат.
Золотоордынская дорога знавала времена и худшие, когда с обычным ясаком увозили в полон рабынь, пополнявших невольничьи рынки Кафы. Славянки всегда считались дорогим товаром, и богатые заморские купцы не скупились — платили щедро, пополняли свои гаремы красивыми девушками.
Всеволожский всю дорогу был неразговорчив: уткнёт нос в соболью шубу, и думы его где-то далеко от дороги и великого князя.
— Подарки и серебро в обозе, — встряхнувшись, как воробей от снега, иной раз скажет Иван Дмитриевич. — Чего кому давать, я знаю. А ты смотри и помалкивай. А если тебя спросят, говори, что согласен. Поначалу мурз нужно задобрить, а они хорошие слова о тебе хану скажут. И только после этого к самому Мухаммеду подступать нужно. Иначе нельзя, просто так до хана не допустят. До осени можно ждать! И чем больше подарков дашь, тем дело твоё вернее. А я уж постараюсь подлезть к ним. Авось и выиграем дело с Божьей милостью.
Там, где начинались степи, проходила граница Золотой Орды. Зелёная трава с трудом пробивалась через серую грязь, чтобы неделей позже распуститься красноголовыми тюльпанами. Может, это и не цветы вовсе, а кровь русских воинов, павших за свою землю, взошла алым цветом?
Сарайчик вырос неожиданно: показались зелёные крыши минаретов, огромные мраморные дворцы, и, словно приветствие, раздался громкий голос муэдзина. Повеселел князь, сбросил с себя дрёму боярин Всеволожский, а отряд всадников, сопровождавший великого князя, затянул голосистую песню.
К хану в этот день князей не пустили, отвели им место в гостевых хороминах и наказали ждать.
Тегиня уже праздновал победу: велел князю Юрию заказать у турецких мастеров новые великокняжеские бармы, обновить великокняжеский венец. Иван Дмитриевич тоже не унывал — щедро раздавал подарки, не жалел золота и серебра и одного за другим переманивал мурз на свою сторону. Мурзы хмелели от ласковых слов хитрого боярина, благодарили за щедрое угощение и говорили всегда одно:
— Якши! Поможем тебе, боярин. Сладко поишь, будет Василий на Москве князем.
Но то же самое мурзы обещали Юрию Дмитриевичу, и трудно было понять, чья чаша с серебром окажется тяжелее.
Иван Дмитриевич ластился к Тегине и обещал молочному брату хана золота без счета:
— Эх, мурза, правда-то на стороне Василия Васильевича, помог бы отроку, а мы твою милость вовек не позабудем. — Боярин обнимал медвежьей лапой мурзу, и худенький Тегиня просто тонул в его объятиях. — Знаю, как ты силён, знаю, что и к хану в покои вхож, замолви за мальца словечко перед господином! — Хитрый мурза только улыбается и молча принимает из рук боярина пиалу с кумысом. — Хочешь, хоть сейчас в шапку серебро отсыплем? А хочешь, так сразу две!
Тегиня отставил в сторону надоевший кумыс и решил попотчевать себя медовухой — потянулся рукой к кувшину, а Всеволожский, угадав желание мурзы, уже наливает ему напиток в чашу. Ордынский вельможа, удобно развалившись на лавке в покоях боярина, попивал ядрёную медовуху. Напиток был крепкий, так и бил в голову. Тегиня многозначительно улыбался, но обещаний не давал — не в его характере сотрясать воздух словами. А Всеволожский, понимая это по-своему, неустанно поднимал цену — справедливо считая, что великое княжение стоит намного больше.
— Золотую цепь, Тегиня, получишь, а хочешь — драгоценные камни.
— Золотая цепь хорошо, только хан Мухаммед не прост!
— И я об этом же, мурза, вот потому и к тебе подошёл. Так и быть, бери каменья драгоценные и золотую цепь.
Тегиня прищёлкивал языком, всё более удивляясь щедрости боярина, но вместо ответа Всеволожскому — опять полупьяная улыбка. Ох и крепка же медовуха у Ивана Дмитриевича! А потом, испив и наливки, он нетвёрдой походкой покидал гостеприимные палаты и возвращался в свой юрт[11].
Всеволожский, не умевший поддаваться унынию, только чертыхался вслед мурзе и без конца удивлялся его изворотливости:
— Вот же хитрая бестия! Согласие не даёт и об отказе речи не заводит. Видать, князь Юрий крепко его прикупил. Но ничего, Василий, всё будет хорошо, один Тегиня ничего не решает. Хоть он и молочный брат хану, но помимо него у Мухаммеда ещё советники есть. Как мурзы твоё дело хану представят, так оно и выйдет. Ничего, я со всеми мурзами переговорю. Серебра жалеть не надо, князь! Иначе не видать тебе великого княжения. — И уже заискивающе, заглядывая в светлые очи великого князя: — А дщерь моя, Марфа, как тебе? Ведь вправду хороша? Вижу, по душе пришлась. — Василий смутился и почувствовал, как ядовито растекается по лицу краска, обжигая кожу. Всеволожский понимал смущение князя по-своему. — Она девка видная, всем взяла. Эх! — забавно хлестал он себя по толстым ляжкам.
Боярин Всеволожский не уставал нашёптывать каждому мурзе на ухо при встрече:
— Что же это такое получается? Получается так, что Тегиня всеми вами управляет. — Косматая голова покачивалась из стороны в сторону, и лукавые глаза поглядывали на озадаченных мурз. — Ещё немного, и он начнёт называть себя ханом. Он мне хвастается без конца, говорит: как я хану Мухаммеду скажу, так оно и будет. Дескать, мы с ним молочные братья, и он меня всегда послушает. — Иван Дмитриевич удовлетворённо замечал, как мрачнели волосатые лица мурз; слова боярина, что зёрна зрелые, падали на благодатную почву и готовы были дать первые ростки. Боярин распалялся всё больше: — Насмотрелся я на него, бестию! Ходит по двору так, будто он в Орде первый господин. Скоро от ближних мурз потребует, чтобы его почитали как самого хана. И все против закона, шельмец, норовит повернуть. Ведь Василий Васильевич не варяг какой-нибудь на столе московском, по ханскому жалованию сидит.
Угрюмо помалкивали мурзы и сосредоточенно любовались серебром, подаренным боярином. И трудно было понять Ивану Дмитриевичу, что прячется за прищуром глаз: коварство или, быть может, сочувствие.
Однако большая часть времени проходила в ожидании, и князья могли видеть хана только издалека, когда он, в сопровождении большого числа знатных мурз, покидал дворец и уезжал на охоту.
Мурзы относились к Василию благосклонно: оказывали радушие и гостеприимство. Даже дня не проходило без того, чтобы он не побывал у какого-нибудь ордынского правителя: а здесь и соколиная забава, и долгие разговоры за столом. Но таким же гостеприимством пользовался и Юрий, и трудно было сказать, кто же выиграет этот затянувшийся спор. В одном не сомневались оба князя, что в лице заботливых мурз за ними неустанно наблюдает зоркое око хана Золотой Орды.
Через оконце в покои боярина Всеволожского задувал ветер — выстуживал тепло золотоордынских вельмож. Зябко на дворе. Иван Дмитриевич растёр ладони, поёжился. Не прибавляют тепла его разговоры с мурзами, а печь, выложенная по-русски, так и дышала жаром. Боярин взял несколько щеп и затолкал их далеко в огненный зев.
— Слышь, княже... — Боярин посмотрел на Василия Васильевича, который за весь вечер так и не проронил ни слова. — Завтра на суд к хану едем, как он решит, так и будет. Я золото приготовил, нужно будет всё до последнего отдать. Дочери в приданое я здесь цепочку золотую заказал, так и её отдам. Ничего, потом сочтёмся по-родственному.
Месяц рамазан начинался с появления молодой луны, когда серп её можно увидеть в глубоком колодце Луну встречали словно невесту: били в барабаны, неустанно звучали трубы, повсюду раздавались радостные крики.
Боярин Всеволожский ёжился от этого шума, не мог заснуть и на чём свет стоит проклинал степной край, то и дело жаловался князю:
— Да чтоб им пусто было! Что у них за веселье такое в темень! Спрашиваю, а они говорят — пост начался. Теперь вот и не уснёшь. До утра так и будут барабанить. А потом молитва начнётся. Что у них за вера такая? Только ночью и едят. Думают, их басурманский бог в это время спит, вот поэтому за всеми грешниками усмотреть не может. А ты, Василий Васильевич, спи, к завтрашнему дню силы приберечь надо.
Вместе с тишиной наступило утро.
Василий Васильевич явился во дворец хана Мухаммеда вместе со всем двором: присутствие близких людей должно придать ему силы. У дворца уже томился Юрий, поджидая стольного князя. Шапку не снял, а только хмыкнул на приветствие:
— Здравствуй, племяш.
Ханский дворец больше походил на величественную мечеть, чем на покои сиятельного Мухаммеда. Снаружи — белый мрамор, а внутри — персидские ковры. Высокие ступени бесконечны, и казалось, отсюда начинается путь к Аллаху. И, глядя на это величественное сооружение, верилось, как ничтожен человек перед волей Всевышнего и его судом.
Шатровая крыша напоминала восходящее солнце, на самом верху золотого шпиля сиял месяц.
Всеволожский перекрестился, привычно разыскивая глазами кресты, и, разглядев на минаретах только луну, зло сплюнул:
— Ладно, пойдём, Василий. Бог нам в помощь.
Холопы приподняли сундуки с мягкой рухлядью, золотом и серебром и поспешили за князем следом. Стража расступилась в дверях, пропуская Василия Васильевича в покои хана. Конский волос, повязанный на концы пик, весёлым хулиганом растрепался на ветру и, шаля, коснулся горящей княжеской щеки, успокаивая.
Перед величием дворца оробел и Юрий Дмитриевич, и только уверенность Тегини добавила ему силы. Князь зыркнул на бояр, которые приотстали у громадной лестницы, и зло прикрикнул:
— Ну, что стоите, как стадо овец! Хан дожидается. Сундуки с золотом пусть во дворец несут. Лапотники!
Хан восседал на большом троне, который своей высокой спинкой едва не упирался в потолок. Эмиры и мурзы стояли по обе стороны и внимательно следили за руками Мухаммеда. Его пальцы чутко реагировали на всё, что происходило в зале. Мухаммед то хлопал в ладоши, когда молодой музыкант заканчивал мелодию, которой развлекал хана, играя на флейте, то его руки грозно приказывали подойти ближе или прогоняли прочь. Это были руки воина, умевшего крепко сжимать саблю и искусно управлять конём.
Мухаммед был огромного роста, и приближённые вельможи к его имени уважительно добавляли Улу, что значит «большой». Хан Мухаммед действительно вырос на зависть. Так в тепле поднимается тесто, замешанное на дрожжах. Щедрым для хана оказалось солнце Сарайчика.
Холопы князей поставили к трону Улу-Мухаммеда[12] щедрые дары: справа стояли сундуки молодого эмира Василия, слева — эмира Юрия. Рабы по движению пальца Мухаммеда приоткрыли кованые крышки, и свет камней ослепил стоящих рядом мурз. Вздох прошёл по залу, а иные закачали головами, одобрительно зацокали языками. Посмотрел хан на добро Василия Васильевича — сундуков-то здесь побольше будет, правда, всё больше серебро да меха. А у эмира Юрия — золото! И трудно было предвидеть, кто же выиграет этот спор.
— Пусть говорит эмир Юрий.
Рука хана вытянулась и остановилась на оробевшем князе. Рубин на пальце Мухаммеда заиграл красным светом, и кровавые блики побежали по его белому халату.
Юрий Дмитриевич подошёл поближе, низко поклонился и долго не поднимал головы.
— Просителем я к тебе пришёл, хан, — наконец заговорил он. — Спор у меня вышел с племянником моим, князем великим Василием Васильевичем, который на московском столе сидит. По старине русской и по летописям древним, на стольном городе после смерти отца старший сын его княжит, потом младшие. И после того как все отойдут, на стол садится сын старшего брата. Так было завещано отцом нашим Дмитрием Ивановичем. Да вот брат мой старший, князь Василий Дмитриевич, обошёл меня в духовной грамоте и после себя на столе московском сына своего оставил. Где же справедливость, хан!
И вновь зашевелились тяжёлые руки хана.
— Говори! — ткнул он пальцем в Тегиню.
Тегиня по праву молочного брата стоял рядом с троном Мухаммеда. Всего лишь два шага, и он может взойти на престол. Тегиня вышел вперёд и остановился рядом с князем. Если бы знать, о чём сейчас думает хан, но по бесстрастному лицу правителя никогда не узнаешь его мыслей. Чело мурзы собралось в глубокие складки, лысый череп от напряжения вспотел.
— Эмир Юрий всегда служил тебе честно, хан. Старый слуга всегда лучше нового. И московский стол он хочет получить по справедливости, как отец его распорядился, и по твоему разрешению, а эмир Василий княжит без твоего дозволения. Я всё сказал, великий хан, — поклонился мурза и отступил на два шага назад, и тесный ряд мурз расступился, принимая молочного брата хана.
Руки Улу-Мухаммеда успокоились на коленях, он терпеливо выслушивал каждого мурзу.
Вперёд вышел старик в синем халате, сквозь редкие седые волосы проступал жёлтый череп. Ему уже нечего было бояться на этом, свете: старик пережил ненависть, любовь, зависть, всё это осталось далеко позади, и кому, как не ему, возражать всемогущему Тегине.
— Эмир Юрий хоть и старый слуга, но скверный. А как хозяин поступает с псом, который посмел ослушаться его? Он наказывает его палкой! — Василий посмотрел на дядю и увидел, что по его лицу пробежала судорога — незавидная доля умирать перед троном хана. И московский князь почувствовал жалость к своему немолодому дяде. — Разве ты не помнишь, хан, что эмир Юрий задержал ясак со своих уделов на четыре года!
Только мудрая старость способна тягаться с властью и могуществом.
При упоминании о ясаке руки хана гневно вскинулись, он никогда не прощал неповиновения.
— Да, я не забыл этого. Что хочет сказать эмир Василий?
Вперёд вышел боярин Всеволожский, и его огромная фигура закрыла отрока Василия от ханского взгляда.
— Хан, разреши мне сказать вместо князя Василия?
— Говори.
Низко наклонилась косматая голова боярина, и седые кудри разметались по персидским коврам.
— Наш государь, великий князь московский Василий Васильевич, ищет стола своего, а твоего улуса по ханскому жалованию и по ярлыку с твоей печатью. А князь Юрий хочет забрать московский стол по мёртвой грамоте, вопреки твоему жалованию. И разве смог бы столько лет сидеть на московском столе Василий, если бы на то не было желания самого хана? — И боярин Всеволожский снова низко склонился перед троном.
— Если великое княжение ты у эмира Василия отберёшь, хан, — вперёд вышел седой бабай[13] поддержать Ивана Дмитриевича, — значит, ярлыки твои лживы!
Хан колебался только одно мгновение.
— Принести мне саблю, — распорядился Улу-Мухаммед.
Страж поднёс хану саблю, которая лежала на бархатной зелёной подушке. Хан повертел оружие в руках, и полоска стали показалась в его огромных ладонях игрушкой.
— Подойдите ближе ко мне, эмиры, — приказал Улу-Мухаммед.
Оба князя приблизились к трону: вот сейчас решится то, ради чего они проделали путь до самого сердца Золотой Орды.
Замер и двор, ожидая решение Улу-Мухаммеда: хан должен вручить саблю одному из князей, и судьба великого московского стола будет решена. Со времён Ярослава Второго на великокняжеский престол всходили Александр Невский и Михаил Святой, Василий Первый и Иван Калита, Семеон Гордый. Кто же будет на этот раз?
Дядя и племянник стояли плечом к плечу. Вырос за этот год Василий, только не дотянул до Юрия Дмитриевича: дядя был ростом повыше и статью крепче. Однако и ему было далеко до Улу-Мухаммеда, который возвышался над всеми на целую голову.
Хан спустился на три ступени и оказался рядом с мурзами.
— Брат мой, эмир Василий, — Улу-Мухаммед проявлял великодушие, обращаясь к слуге как к равному, — тебе быть на улусе моём, в Москве, великим князем.
И руки Василия Васильевича ощутили тяжесть сабли.
— Во веки веков добра твоего не забуду, хан, — произнёс великий князь московский Василий, и губы его коснулись лезвия. Булатная сталь оказалась остра, и Василий почувствовал на губах вкус крови.
— Ты же, эмир Юрий, будешь великому эмиру Василию младшим братом, — объявил хан Юрию Дмитриевичу, — тебе же вести его коня под уздцы до самого терема. Мурзам Бешмету и Тегине я поручаю до самого крыльца проводить моего гостя.
— Спасибо за честь, брат Мухаммед, только не бесчесть моего дядю, сам я доберусь до терема, — пытался возражать Василий.
— Хан не меняет своих решений!
Раздались звуки флейты, а вместе с ними заголосил карнай, наполнив покои хана лающими звуками.
— Мудрость хана не знает границ! — восторженно отозвались мурзы.
— Пусть же славится в веках имя Мухаммеда! — льстиво кричали другие.
Весть о решении хана Золотой Орды уже выплеснула далеко за пределы дворца, и сразу забили барабаны. Громкоголосое веселье наполняло город.
Тегиня бережно ухватил Василия Васильевича под правую руку, мурза Бешмет, седовласый бабай, подошёл с левой стороны, и неторопливо начали они выводить московского князя из покоев хана.
Меч, упрятанный в ножны, скользил по бедру и мешал идти, но Василий Васильевич больше не торопился, он попридержал саблю и почувствовал на пальцах ласку бархата.
У мраморной лестницы нарядного коня к нему подвёл Юрий Дмитриевич. Не смотрели друг на друга племянник и дядя.
— Это подарок хана, — льстиво произнёс Тегиня.
Конь был вороной масти. Тонкими ногами он нетерпеливо рыхлил песок, поджидая нового господина. Голова у жеребца горделиво поднята, словно он знал, что украшения были заказаны у лучших мастеров в Византии, а попона подарена хану бухарским эмиром.
Величаво сходил Василий Васильевич со ступеней, а плащ, отороченный горностаем, стелился по белому мрамору.
Конь закивал головой, растрепав длинную гриву, потом доверчиво, мягкими губами, потянулся к великому князю, признавая в нём нового хозяина.
Мурзы под ноги Василия Васильевича подставили руки, и князь взобрался на широкую спину коня.
Юрий Дмитриевич не скрывал печали, совсем позабыл, что стоит без шапки и кудри на бедовой голове лохматит ветер. Виданное ли дело, князю простоволосым стоять!
Боярин Всеволожский, будто выпрашивая прощения у Юрия Дмитриевича, попросил:
— Князь! Юрий Дмитриевич, голову-то шеломом прикрой.
Юрий Дмитриевич надел шлем, отвернулся, стараясь спрятать от мурз и бояр княжескую скорбь.
— А теперь поехали, великий князь и брат мой старший, Василий Васильевич, — сказал Юрий пятнадцатилетнему племяннику и, взяв коня под уздцы, повёл вороного красавца в сторону терема, где остановился Василий Васильевич с челядью.
Сарайчик ликовал так шумно, будто встречал самого хана. Неустанно стучали барабаны, трубили фанфары, неистовствовал и бесновался карнай. Впереди великого князя шли бирючи[14] и громко возвещали на всю округу:
— Мусульмане! Православные, спешите увидеть! По улицам Сарайчика едет московский эмир Василий! Народ, спешите приветствовать волей Божьей, ханской милостью московского эмира Василия!
Со всех улиц к шествию сходился народ. Однако тесно великому князю не было — расступились перед ним жители Сарайчика, а конь, горделиво потряхивая густой гривой и пританцовывая, нёс драгоценную ношу. Сейчас Василий Васильевич был выше всех: остался внизу дядя Юрий Дмитриевич и сопровождавшие его мурзы, и только хан Золотой Орды оставался по-прежнему недосягаемым.
Впереди показалось жилище великого князя — небогатая, но крепко строенная изба. Мурзы подхватили Василия Васильевича и осторожно, как хрупкую чашу, поставили на землю.
— Эй, Прошка, бедовая твоя башка! — окликнул князь рынду[15]. — Вели сказать, чтобы золото и серебро из котомок тащили и мягкую рухлядь, какая есть. Мурз отблагодарить надобно.
Прошка Пришелец проворно юркнул в сени и выбежал уже с котомкой в руках, следом показалась и челядь: в руках у каждого шубы бобровые, воротники лисьи, шапки горланные.
Василий Васильевич запускал руку в открытую котомку и щедро награждал мурз.
— Спасибо за помощь, мурза Бешмет... спасибо за помощь, эмир Назым... И тебе спасибочки, мурза Тегиня.
Мурзы, попрятав монеты в кафтаны, благодарно отходили в стороны, а Василий всё сыпал и сыпал по сторонам серебро и золото, раздавал шубы да шапки лисьи.
А едва наступила ночь, город ожил, загорелись костры во, дворах, замерцали лучины в окнах, раздались звуки дутар на улицах. В воздухе повсюду витал сладковатый запах жареного мяса.
Не остались скучать и бояре с князем — откликаясь на навязчивые уговоры мурз, они переходили из одного дома в другой, ели жареную конину и пили кумыс, а потом, устав от хлебосольства, убрались восвояси в терем.
Они ещё долго не могли уснуть, а боярин Всеволожский, беспокойно ворочаясь на своём ложе, говорил:
— Знаю их обычаи, не первый раз в Орде! Думаешь, чего они ночью-то едят? Место для себя в раю подыскивают. В книге их басурмановой сказано, ежели гостя в Рамазан на ужин пригласишь, тогда в раю будешь. А христианам-то сейчас самое время спать. Завтра нам рано поутру вставать. В Москву, Василий, нам ехать надобно, а там и за свадебку сядем. Вот Марфа-то обрадуется.
При упоминании о боярышне внутри у Василия сладко защемило. Эх, Марфа, эх, лебёдушка!
Утром Василий Васильевич покидал Орду. По указу Улу-Мухаммеда до самой стольной вотчины его должны будут сопровождать ханские послы. В парчовом халате, вышитом жемчугом, ехал рядом с князем Тегиня. Безымянный палец правой руки его украшал огромный перстень — подарок великого князя, и когда лучи нежно касались гладкой поверхности камня, он вспыхивал ярким огнём, отблески от которого падали на тёмное лицо молочного брата хана.
Благая весть о возвращении князя Василия уже летела на Русь. Ликовали, трезвоня, колокола, встречая великого князя. Весна уже прочно вступила в свои права, успела подсушить непролазную грязь, а на солнечных склонах оврагов показались золотоголовые бутоны мать-и-мачехи. Повозка великого князя весело подпрыгивала на ухабах и, не желая останавливаться даже на день, быстро продвигалась на север. Только в Переяславле великий князь решил подзадержаться — это была уже Русь, теперь золотоордынцы находились в гостях у великого князя. Родная земля придала уверенности, даже взгляд у государя стал твёрже — закалила его поездка в Орду: уехал он отроком, а возвращался великим московским князем.
Василий долго молился в церквах: благодарил Всевышнего за его милости, за то, что так всё хорошо разрешилось, теперь он законный владелец московского престола. И когда из Москвы прибыли гонцы от матушки с пожеланием скорейшего возвращения, Василий приказал собираться в дорогу.
Первыми о прибытии государя на родную землю возвестили колокола Симонова монастыря. Василий Васильевич разглядел на звоннице Успенского собора долговязую фигуру звонаря, который с натугой тянул на себя многопудовый язык колокола, и грех было не остановиться и не осенить лоб крестным знамением. Спешился государь, наблюдая за удалой работой звонаря. Двужильный, видать! А на вид так себе, худоба одна.
Ветер ласкал светлые кудри государя, и вспомнилось великому князю, что построен монастырь дедом Дмитрием Донским как оплот силы, ставшей на пути ордынской тьмы. Супротив самого Тохтамыша поднялся.
Ордынской дорогой великий князь Василий Васильевич въезжал в стольный град. У Золотых ворот встречал его митрополит в праздничной ризе и епитрахили[16]. Сопровождаемый игуменами[17] и боярами, он вышел с крестом и святыми иконами: народ чуть поотстал и вразнобой голосил псалмы[18].
Василий Васильевич сошёл с коня и пешим пошёл к народу. Если Христос въезжал в Иерусалим на осле, так почему бы князю не войти в Москву пешком. Митрополит протянул государю икону.
— Целуй Христа! — говорил он. — В самые стопы целуй! Не гордись, великий князь!
И Василий, низко склонясь, поцеловал кровоточащую рану.
Давно не помнила Москва такой радости — ликовали все, от мала до велика. Князь Василий прошёл через толпу в город, а челядь под ноги стелила ковры, чтобы не испачкал государь бархатные сапоги о весеннюю грязь.
С особым нетерпением дожидался Василий Васильевич следующего утра. Успенский собор в эту рань был полон: бояре и духовные чины терпеливо дожидались великого князя. Он пришёл в сопровождении ордынских мурз. Крякнул разок Тегиня, переступая порог православного храма, но шапку скинул с головы долой, достал ханское послание и принялся громко читать. Голос мурзы, усиленный многократно сводами храма, блуждал под высокими куполами Успенского собора:
— Хан Золотой Орды, величайший из великих, покоритель больших и малых народов, несравненный Мухаммед, с позволения Всевышнего жалует брату своему эмиру Василию великое московское княжение. Пусть же он почитает своего старшего брата Мухаммеда и служит честно.
Тегиня, махнув рукой, подал знак: митрополит взял великокняжескую шапку и водрузил её на голову Василия.
Великая княгиня долго не могла освоиться в Москве. Всё здесь для неё было чужое: и язык и вера. Удивляла странная традиция русских держать женщину в отдельных палатах и оберегать от чужого взгляда. Никто, даже самые близкие бояре, не могли увидеть её лица. Как это было не похоже на обычаи в родной Ливонии, где заезжие рыцари поклонялись красоте. До замужества у Софьи случались романы с придворными кавалерами, и знала она, что Василий совсем не тот мужчина, о котором она мечтала в девичестве. Не было в князе той утончённой галантности, какую можно встретить во дворце отца или в соседних королевствах. Там и музыканты и поэты, здесь — бесконечные пиры и междоусобицы.
Свою невинность Софья Витовтовна подарила придворному поэту. Он посвящал ей стихи, украшал свою одежду её любимым цветом, и только много позже она вдруг неожиданно поняла, что это была её настоящая любовь.
А Василий словно и не князь, а мужик с посада: может на соломе спать и шкурой укрываться. Однако волю своего отца, великого Витовта, восприняла безропотно, как судьбу. Поцеловал литовский князь дочь в лоб и сказал: «Так надо, доченька. А теперь езжай и ни в чём не печаль князя».
Василий, в отличие от придворного поэта, всегда был хмур, вечно ссорился с братьями и без устали мог си деть на пирах и удивлять бояр количеством выпитого вина. Несколько раз, вопреки установленным обычаям, он брал её с собой на эти шумные застолья. Вот тогда она и обратила внимание на молодого боярина по прозвищу Кваша. Поначалу он только искоса поглядывал на молодую жену Василия, не решаясь заговорить, только много позже обнял её в сенях и зашептал на ухо ласковые словечки. И однажды, когда Василий уехал к брату в Галич, Кваша заявился в терем поздним вечером, и княгиня не могла устоять перед напором молодого боярина.
По-настоящему Софья Витовтовна освоилась в Москве только после смерти мужа. Теперь она была вдовой, и великое московское княжение принадлежало ей.
После возвращения Василия из Золотой Орды великая княгиня строго наказала сыну:
— А теперь тебе, Васенька, жениться надо.
Знакомая сладкая волна поднялась в груди князя.
Вспомнилась белолицая Марфа; её, словно китайский бархат, кожа, и Василий отвечал:
— Согласен я, матушка.
Софья Витовтовна продолжала:
— Я уже и невесту тебе подыскала, сестру князя серпуховского Василия Ярославовича.
— Матушка, — посмел возразить великой княгине Василий, — другая мне по сердцу пришлась. Дочь Ивана Дмитриевича, Марфа.
Крутой характер у великой княгини, глянула она на сына, и увидел Василий глаза своего деда — великого Витовта.
— Я повторять не буду! Решено всё с Василием Ярославовичем. К свадьбе готовься. Не годится, чтобы великие князья с худородными в родстве были!
— Обещал я боярину, — старался не смотреть в глаза матери великий князь и воззрился в красный угол, где висело распятие. Вот у кого надо искать спасения. — Матушка, ведь если бы не Иван Дмитриевич, не быть бы мне московским князем.
Молчал Бог и безучастно наблюдал за тем, как разрешится спор между его подданными.
— Ты крест целовал? — спросила вдруг Софья Витовтовна.
— Нет, не целовал, матушка, но боярин моему слову великокняжескому поверил.
— Если не целовал, так это и не клятва вовсе! Её и нарушить можно.
С тем и ушла великая княгиня, оставив молиться сына в одиночестве.
В Крестовой палате было светло от лампадок и свечей, которые мягко тлели перед образами. На иконостасе, у ног Иисуса, свечи уже догорали, расплывшись белым восковым пятном. Василий Васильевич перекрестился, зажёг новые свечи и поставил их перед иконой.
— Прости, Господи, ежели согрешил, но как же мне пойти против воли моей матушки? А может, это и есть твоя воля, Господи?
Снизу вверх с надеждой смотрел Василий на Бога, но уста его не произнесли ни слова. Успокоился малость великий князь, авось как-нибудь всё и образуется.
С помолвкой сына Софья Витовтовна затягивать не стала, и уже на третий день пребывания Василия в Москве дьяки на площади зачитали указ о том, что Василий Васильевич обручён с дочерью серпуховского князя Владимира Андреевича и что молодые в знак верности обменялись кольцами.
Не в характере Ивана Дмитриевича было прощать обиды — он сразу явился во дворец великого князя. Однако боярина рынды не впустили даже в переднюю: вытолкал плечиком Ивана Дмитриевича здоровенный детина и обругал при этом:
— Дурья башка, сказано тебе, что не велено пускать! Великий князь в опочивальне!
— Спрятался, стало быть, от меня, злыдень! — догадался Иван Дмитриевич. — Разговора со мной боится. Но ничего, попомнит он ещё мою обиду. Будет ему ещё за измену Божья кара! Это надо же, до такого позора довести!
— Пустить боярина, — послышался из соседней палаты голос государя, и Прошка без особой радости пропустил рассерженного Ивана Дмитриевича в великокняжеские покои.
Василий Васильевич был одет по-простому: в домашнем халате, на голове скуфья[19] бордовая.
— Побойся Бога, государь! Как же это так можно! — Боярин Всеволожский как хищный зверь вбежал в горницу. Полы кафтана распахнулись, на груди блеснула чешуя кольчуги. — Что же ты делаешь-то с нами?! Почему такой позор на мою голову? Обещал же Марфу в жёны взять! Чего же я тогда в Золотой Орде ради тебя старался? И ведь клятву же ты давал, князь Василий Васильевич!..
— Я креста не целовал, — вспомнил Василий слова великой княгини.
Отшатнулся Иван Дмитриевич от такого удара, но на ногах устоял. Крепким орешком оказался великий князь. Всеволожский долго медлил с ответом, а потом тихо произнёс:
— Вот как, значит, князь, ты мне на добро отвечаешь. Не ожидал я этого. Молод ты, чтобы так хитрить, видно, Софья тебя этому научила. Под самый дых меня ударили. В Орде я нужен вам был, а здесь лишним оказался. Да если б не я, на этом месте Юрий Дмитриевич бы сидел! Но ничего, я ещё отдышусь! — грозился боярин. — Обернётся, Васька, тебе в горе моя печаль. Ох, попомнишь ещё меня, великий князь московский!
Пламя свечей от дыхания Ивана Дмитриевича подрагивало, будто и оно было сердито на великого князя. Запахнул Иван Дмитриевич кафтан, крепко подпоясался и достойно вышел из княжеских палат.
Иван Дмитриевич Всеволожский был первым среди бояр не только по праву дальнего родства с великими московскими князьями и не только потому, что его род корнями уходил к самому Рюрику, но ещё и потому, что терем его по убранству и роскоши не уступал палатам самого великого князя. Богат был Иван Дмитриевич! Только под Москвой ему принадлежало десятка два деревушек, а людских душ он и вовсе не считал.
Дом боярина был построен на самом берегу Москвы-реки, белокаменный и высокий, он напоминал величественный струг, скользящий по гребню волн с поднятыми парусами. Помешкал немного у ворот боярин и прошёл на двор.
— Эй, — окликнул Всеволожский дворового молодца, — зови ко мне потешников. Скажи им, что Иван Дмитриевич повеселиться хочет.
Скоморохи будто того и ждали — выбежали разом из потешных палат и давай боярина забавлять: рожи ему строят, на гуслях играют, через голову кувыркаются. И чем звонче пели гусли, тем угрюмее становился Иван Дмитриевич. Показалось ему, что потешаются скоморохи над его горем.
— Подите прочь! — осерчал боярин. — Один хочу остаться! Не до веселья мне.
С тонким, звенящим звуком лопнула на гуслях струна. Оборвался смех. Потешники ушли так же скоро, как и появились, — боярская палата опустела.
Не было у Всеволожского возможности вернуться назад к Юрию Дмитриевичу. Не захочет простить он, даже если явится с повинной головой. Горд больно! Иван Всеволожский вспомнил о том, как не хотел князь Юрий отпускать со службы умного боярина, давал ему сразу три деревни. Иван Всеволожский отказался от подарка и поступил по-своему: лучше служить великому стольнику, чем удельному князю. Не мог он предвидеть того, что судьба столкнёт их лбами уже в Золотой Орде: князя и его бывшего боярина. И уж совсем он не мог предположить, что когда-нибудь захочется ему вернуться обратно в Галич. И тут Иван Всеволожский вспомнил о брате Юрия — Константине Дмитриевиче, с которым Юрий был особенно дружен. А если сначала к брату его, Константину, подластиться, он уж не выдаст, замолвит словцо.
Марфа казнила себя все эти дни. Поминала Василия недобрым словом и тайком от матушки с батюшкой привечала в девичьих палатах ворожей. Чаще всех повадилась шастать в девичьи покои баба Ксенья. Старуха больше напоминала жердину — такая же высокая и худая. Голову она всегда повязывала чёрным вдовьим платком, длинные концы которого едва не касались земли. Низко сгибалась она у порога боярышниных палат и ласково приговаривала:
— А это я пришла, горюшко моё. Заждалась небось?
— Проходи, тётка Ксенья, — отвечала Марфа.
— Вот увидишь, моя радость, и денёчка не пройдёт, как он к тебе, окаянный, явится. Заклинания наши всю душу ему избередили. Тело его коростой покрылось, а сердце у него язвами источено.
Щедрая рука боярышни отсыпала горсть монет в хищную ладонь старухи.
— Благослови тебя Господи! Благослови, родимую, — привычно приговаривала старуха. — Вот увидишь, сердешная, как он к тебе сам на покаяние прибежит. А разлучница ваша в могилу сойдёт.
Белолицая красавица бледнела ещё больше, и виделся ей великий князь в венчальном уборе, а по правую руку от него разлучница стоит; кольцами они меняются, и на глазах у всего народа Василий поцелуем невесту одаривает.
Боярышня не скупилась и просила о своём:
— Сделай так, чтобы разлучница ему опостылела, чтобы только я Василию была любушкой.
— Сделаю, родимая, сделаю, — уверенно обещала колдунья. — Сам он к тебе приползёт гадом ползучим и, как пёс бродячий, в двери твои начнёт царапаться. — Старуха завязывала серебро в тёмную тряпицу. — Только заговор нужно будет вновь повторить. Он, сердешная ты моя, покрепче прочих наговоров будет. Эти заклинания стариной проверены. Как только ты его произнесёшь, так он и явится.
Марфе хотелось так приворожить великого князя, чтобы метался он, окаянный, в тоске чёрной по зазнобушке своей и чтобы белый свет был ему в тягость. Чтобы не мог он без Марфы жить, как не живёт дите малое без материнской груди; как рыба не живёт без водицы.
— Говори, что делать должна.
Старуха упрятала монеты в котомку, ещё туже затянула под подбородком платок и заговорила нараспев:
— Прежде всего ноченьки нужно дождаться. Ночь всякому заговорному делу подмога. Зажги лучину, повернись на восток и молви: «Плачет тоска, рыдает тоска, белого света дожидается, радуется и веселится. Так меня, рабу Марфу, ждёт суженый мой, великий князь Василий. Так не может он без меня ни жить, ни быть, ни пить, ни есть. Ни при частых звёздах, ни при буйных ветрах, ни в день при солнышке, ни в ночь при месяце. Впивайся, тоска, въедайся, тоска, в грудь, в сердце, во весь живот рабу, великому князю московскому Василию Васильевичу. Разрастись и разойдись по всем жилам, по всем костям ноетой и сухотой по рабе Марфе». Запомнила?
— Запомнила. «Разрастись и разойдись по всем жилам, по всем костям ноетой и сухотой по рабе Марфе».
— Так. Как повторишь те слова, так государь и одумается. А теперь пошла я, Марфа, вечер на дворе, — поклонилась колдунья в самые ножки боярышне и прочь ушла.
Весенние сумерки наступают скоро: едва солнце ушло за дол, а на дворе уже ночь. Ахнул злобно филин и умолк. Марфа зажгла лучину, обкурила комнату колдовскими травами и принялась творить заклинание:
— Плачет тоска, рыдает тоска, белого света дожидается, радуется и веселится...
Едва успела Марфа договорить заклинание, как в окошко робко постучали. Глянула девица через прозрачную слюду, а во дворе великий князь стоит. Будто и не было печали, отлегла боль от сердца. Не обманула, стало быть, колдунья, сумели чародейские слова приворожить князя.
— Ой, Господи, что же мне делать-то!
Василий постоял ещё, а потом вновь нетерпеливо застучал по ставням.
Отперла дверь Марфа, а Василий Васильевич уже через порог ступил и руки загребущие тянет, обнять девку за стан норовит. Увернулась Марфа проворной белкой от государевой ласки и к образам, как под защиту, заспешила.
— Позднёхонько ты явился, Василий Васильевич, я уже тебя забывать стала.
— Не мог я прийти раньше, любушка, — только и сказал в своё оправдание великий князь.
Время, проведённое в разлуке, не убавило в нём страсти, а наоборот, любовь к Марфе вспыхнула с новой силой, как, бывает, полыхает масло, Пролитое в огонь. Девичьи слова вонзились в Василия калёной стрелой, так и жалят, причиняют боль.
— Жениться, стало быть, надумал?
— Не моя эта вина, матушка так решила, — поспешил оправдаться великий князь. — Как же я смогу против её воли пойти? Она ведь и проклянуть может, строга не в меру!
Каждое сказанное слово словно заноза в сердце девичье. А Василий и не чувствует, ещё глубже ядовитые щепы вгоняет:
— Сначала смотрины у нас были, а потом и обручились.
— Ко мне же с чем пришёл? Счастьем своим поделиться?
Хотелось Марфе надсмеяться над государем, как советовала колдунья, только так можно возвыситься над собственной бедой, но, заглянув в очи Василию, удержалась. Того и гляди, заревёт великий князь медведем, а самой ей от этого ещё горше сделается.
— Люба ты мне... вот я и пришёл.
Закружилась девичья головка от сказанных слов.
— Вернулся, мой сокол ненаглядный. Вернулся, родимый. Как же я теперь без тебя буду? — Марфа посмотрела на иконы: — Ой, Господи, что же это я делаю! Обожди, Васенька, обожди, я только крест нательный с себя сниму.
И была ночь, и была любовь, и лучина потрескивала перед образами, охраняя сон молодых.
Свадьба князя Василия была пышной. Спозаранку трезвонили, ликуя, колокола всех церквей и соборов, а главный колокол Москвы на Благовещенской звоннице гудел басовито. Челядь великокняжеского дворца угощала всех молодцов хмельными напитками. Никто не мог пройти мимо, не отведав этого зелья: ни бродячий монах, ни крестьянин, ни боярский сын. На свадьбу великого московского князя были приглашены все: стольные бояре и дворовые люди. Каждый был сыт и пьян.
Скоморохи не уставали веселить гостей: горланили частушки и выделывали коленца. Дураки-шуты и шутихи наряжались в боярышень и водили хоровод, а карлы и карлицы забавляли гостей тем, что прыгали друг через дружку и ходили павами, подражая государыне. Весело было во дворце. Столы ломились от пива варёного и вина белого, мёда хмельного и овсяной браги, дичи печёной и караваев душистых. А запах от них исходил приятный и сладкий.
Столы для черни стояли в подклетях[20], а для родовитых и желанных гостей — в светлом тереме. Бояре в нарядных кафтанах восседали на скамьях, окунув густые бороды в наливки и соусы.
Молодых провели трижды вокруг стола, потом усадили на лавки. А бояре лукавые знай спрашивают:
— Княгинюшка, по сердцу ли тебе пришёлся жених твой, князь Василий Васильевич?
Невеста, не смея взглянуть в лица гостей, отвечала сдержанно:
— Как батюшке, как мамаше, так и мне.
Не зря гласит молва: «С лица воды не пить!» Но княгиня была на редкость пригожа собой, приложиться бы губами к её лицу и испить эту чистоту, как утреннюю росу с полевых цветов.
Господь создал суженую Василия Васильевича на удивление всем, хотел подивить народ красотой. Коса у великой княгини ниже пояса, нос прямой и тонкий; лоб без единой морщиночки, губы сочные, как спелый заморский гранат: щёки с ярким румянцем; подбородок горделив, а маленькая ямочка на нём придавала княгине лукавство. Кажется, вот-вот Господь не сумеет довести до конца начатое творение, уж слишком сложен труд. Но нет, не дрогнула божественная рука, Создатель уверенно лепил великую княгиню: стан получился гибким, ноги длинные, грудь высокая. Не было сил отвести взор от такой красоты. Василий смотрел на княгиню, как голодный смотрит на стол, заставленный яствами.
Забылись вчерашняя ночь и обещания, будто и не было никогда горячих нашёптываний Марфы. Разве можно устоять перед силой прекрасных глаз Марии: у князя закипела кровушка, а лицо разгорелось, словно солнцем припекло.
Софья Витовтовна поднесла икону молодым, благословляя.
Захмелели бояре от выпитого вина, а в дальнем конце стола кто-то пьяным голосом затянул песню.
Мария встаёт из-за стола. Кланяется поначалу великой княгине Софье Витовтовне, потом мужу своему, почётным гостям. Дарит братьям жениха по рубашке. Василий Юрьевич благодарит невестку и целует её в бархатную щёку. Сладка жёнушка у братца! Дмитрий Юрьевич[21] перешагнул через лавку и вышел навстречу невесте. Шаг у него лёгкий, но не такой, какой бывает у незрелого отрока, спешащего на гулянье, а как у дружинника, готового к долгой сече. Только девичья краса могла заставить молодца согнуться до самой земли. Поклонился Дмитрий Шемяка, разметались русые кудри, а красавица дарит ему вышитую рубаху и приговаривает:
— Чтоб носил ты её, Дмитрий Юрьевич, с любовью. Чтобы в мороз она тебя согревала, в дождь укрывала, а летом от жары спасала. И чтобы рубаха эта сносу не знала.
Благодарно принял подарок Дмитрий и тотчас надел её под кафтан.
Дураки-шуты забили в бубенцы, и продолжалась потеха. Вышла молодая из-за стола и поплыла лебедью по кругу, рука у неё белая, лёгкая, взмахнула она ею, и бояре посторонились, пропуская невесту князя. Василий Юрьевич пустился вдогонку за Марией, выделывая коленца. Гости засмотрелись на удалую пляску, а старый боярин Пётр Константинович, служивший ещё при Василии Дмитриевиче, указал на Василия:
— Глянь, Софья Витовтовна! Пояс-то, что на Василии Юрьевиче, наследникам московским принадлежит. Детям твоим!
— Как так? — подивилась великая княгиня.
— А вот так, пояс был дан за дочерью великого князя нижегородского Дмитрия Константиновича великому московскому князю Дмитрию Ивановичу в приданое. А этот пояс подменил на свадьбе у князя тысяцкий его, Василий. Тысяцкий потом передал пояс своему сыну Микуле. А Микула затем передал пояс в приданое Ивану Всеволожскому за дочь свою. А когда Иван Всеволожский из Орды с твоим сыном вернулся, обручил свою дочку с Васькой Косым[22] и отдал ему пояс.
И здесь Иван Всеволожский, никуда от него не денешься! Что же это за проклятье такое!
А старик продолжал:
— Погулял этот поясок по рукам, да как не погулять, если он работы византийской, ещё самому Дмитрию Донскому принадлежал!
Васька Косой безмятежно, гоголем прохаживался по кругу и зазывал в центр девок, а те стыдливо закрывали лица платками, и только самые отчаянные из них принимали приглашение князя.
И как не знать Софье Витовтовне, что Дмитрий Донской в своей грамоте, разделяя Московскую землю между сыновьями, не забыл поделить без обиды золотые цепи и резные шкатулки с каменьями.
Пояс для князя — это что сабля для ордынца. Счастливый пояс передаётся от отца к старшему сыну, как хранителю доблестей рода, и потеря его считается большой бедой для всей семьи. И нужно быть совсем глупым, чтобы расстаться с поясом великого Дмитрия Донского. А пояс знатный, одних крупных рубинов на нём с дюжину. Они дразнили великую княгиню, подмигивая ей лукаво красными зрачками.
Василий Косой выбрался из круга, вытер рукавом рубахи блестящий лоб. Василий был старшим из Юрьевичей, и два Дмитрия — Красный[23] и Шемяка, зная крутой нрав брата, старались держаться от него подальше. Не терпел Василий возражений, а обидчика запоминал надолго. Он никогда не упускал случая, чтобы напомнить о прошлой ссоре. Братья недолюбливали его, но почитали за старшего и считались с его словом наравне с отцовским. Был Василий роста невысокого, зато широк в плечах, и коренастая его фигура, словно отлитая из чугуна, внушала уважение всем. И лицом был красен Василий Юрьевич, только вот беда — косил на правый глаз. Левое око смотрело зорко, умело пробирать собеседника до нутра, зато второй глаз будто юлил, норовил убежать в сторону. И за этот недостаток прозвали в Москве Василия Юрьевича Васькой Косым.
Софья Витовтовна подошла к Василию и, указав на пояс, спросила:
— Откуда у тебя этот пояс, Василий?
— Князь Иван Дмитриевич Всеволожский подарил, когда с дочкой своей обручал, — осветилось радостью лицо Василия.
Видать, и великой княгине поясок приглянулся. Напрасно отец гневался и на свадьбу племянника не пошёл. А веселье удалось. Столы так и ломятся от угощений! Одного вина белого три бочки выставлено. Ладно, хоть сыновьям не запретил явиться.
Василий бережно поправил пояс, и короткие пальцы прикрыли рубины. Погас сразу огонёк.
— Ведь поясок-то этот не тебе принадлежит, — ласково пропела Софья Витовтовна. — Этот пояс Дмитрия Донского, а стало быть, предназначен он моему сыну Василию Васильевичу как московскому князю и прямому наследнику. — Руки великой княгини уже потянулись к поясу.
Софья Витовтовна умело справилась с застёжкой, и кафтан на Василии Юрьевиче просторно повис.
Забегал беспомощно правый глаз князя, отыскивая поддержку, а в трапезной сделалось тихо: девки-шутихи уже не водили хоровод, гусельники не пели, бояре застыли с ложками у рта. Зато левый глаз смотрел по-прежнему уверенно. Он не прощал ни молчания, которое так неожиданно установилось за трапезными столами, ни разинутых ртов бояр, ни спокойного самодовольного взгляда Софьи Витовтовны. Эх, понагнали на Русь Гедиминовичей, вот они и глумятся как хотят!
—Этот пояс подарок!
— Нет, этот пояс Дмитрия Донского, а на его свадьбе он был подменен на худший его тысяцким! Возьми, Васенька, пояс своего деда Дмитрия Донского, — обратилась великая княгиня к сыну, — и будь достоин его памяти.
Пояс перешёл к новому хозяину, и Василий Васильевич растерянно улыбался, держа в руках свадебный подарок.
Девки-дурёхи уже танцуют и через голову прыгают.
— Смотри, тётка, — угрозой повеяло от слов обесчещенного Василия. — Отольётся тебе наш позор горькой слезой! Мало тебе показалось Московского княжества, так ты ещё и на поясок позарилась.
Отодвинулись от Василия Косого московские бояре: встали особняком и лукавые улыбки в бороды попрятали.
— Попомнишь меня ещё, княгиня! Ох попомнишь! — Запахнул Василий широкий охабень[24] и пошёл прочь, уводя за собой братьев.
Иван Дмитриевич отъехал от Москвы сей же час. Перекрестился на красный угол, поклонился в порог и со словами: «Дай мне, Бог, ещё вернуться сюда... победителем!» — сел в возок.
Холоп оглянулся на Ивана Дмитриевича и спросил робко:
— Куда едем, боярин?
— В Углич езжай. Константина Дмитриевича проведать нужно.
Обида сжигала Ивана Дмитриевича Всеволожского. Нутро горело, словно от ядовитого зелья. «Опозорил великий князь слугу своего верного — в Орде нужен был, а сейчас, когда за ним московский стол остался, так и надобность отпала». Вспомнил Иван Дмитриевич старину, над которой потешался ещё в Орде. Отъехал боярин от московского князя искать себе нового хозяина. Не холоп какой-нибудь, а боярин! Кому хочу, тому и служу!
Константин Дмитриевич встретил бывшего слугу московского князя радушно. Услужливые углицкие холопы подхватили боярина под руки, помогли сойти на землю. О печали Всеволожского Константин Дмитриевич уже успел прослышать и, зная характер боярина, понял, что не успокоится он до тех пор, пока не отомстит великому московскому князю все свои обиды. Родиться бы ему удельным князем, носить бы ему бармы, а он всего лишь боярин. Не успокоится Иван Дмитриевич до тех пор, пока не расколет Русь надвое, и, как в недавнем прошлом, пойдёт брат на брата.
— Слышал ли ты, Константин Дмитриевич, про обиду, что князь мне учинил? — жаловался Иван Всеволожский прямо с порога.
— Как не слышал? Знаю! На одной земле живём.
Сложись всё иначе, был бы Иван Дмитриевич тестем великого князя московского, и в могуществе отпрыск смоленских князей мог бы потягаться с самим тверским князем. А сейчас Всеволожский что сорванный ветром лист летал над чистым полем. Видно, в боярине сидел бес, который гнал его из Москвы в Углич. Константин Дмитриевич догадывался, что искал боярин хозяина посильнее, такого, чтобы мог подняться супротив московского князя. Но не по мятежному хотению, а по старым грамотам, только за таким человеком и могут пойти бояре. Лишь один человек на Руси способен встать вровень с Василием Васильевичем — этим мужем был неугомонный князь Юрий. Выходит, дорога Ивана Дмитриевича Всеволожского лежала дальше, к Галичу. Понимал Константин Дмитриевич и то, что не мог явиться Всеволожский сразу к Юрию. Уж слишком крут галицкий князь и не прощает обид. А уж такое, чтобы за племянником своим, как холопу бессловесному, вести коня, так и подавно. А Васька Улу-Мухаммеду даже воспротивиться не посмел — обесчестил сына Дмитрия Донского до исподней рубахи.
Знал Константин Дмитриевич, что такое великокняжеская опала, потому и встретил боярина Всеволожского тепло. Когда-то брат Василий лишил его удела, и сейчас, получив из рук Василия Васильевича Углич, дорожил городом, как последней любовью.
Из собственных рук подал князь боярину братину с белым вином. Осушил Иван Дмитриевич её до дна, и, когда от хмельного малость закружилась голова, заговорил боярин о затаённом:
— Мне бы с братом твоим старшим встретиться, Константин Дмитриевич. Службы я у него просить хочу. — И, заглядывая в глаза Константину, пытаясь угадать ответ, спросил: — Возьмёт ли он меня к себе боярином? По старине хочу жить.
— Старину, стало быть, вспомнил. — Князь отпил вина, и оно закапало с рыжей бороды Константина Дмитриевича прямо в квашеную капусту. — Кажись, в Орде ты над ней потешался?
— Укорил, — обиделся боярин. — Я-то к тебе с добром пришёл.
— А ведь не любят тебя в Москве, Иван. Всю власть к себе хочешь забрать. Бояре говорят, что и на митрополита стал покрикивать, чуть ли не великим князем себя возомнил.
— Не дело ты говоришь, князь, если бы только меня обижали, а то ведь и племянника твоего на свадьбе обесчестили! И как это взбрело в голову великой княгине пояс у Васьки Косого отобрать!
Князь Константин только хмыкнул.
— И здесь не обошлось без тебя, боярин. Хитёр ты не в меру, вот твоя беда! Склоку из-за пояса ты сам и подстроил. Мне известно, что ты нашептал боярину Петру Константиновичу, будто бы пояс этот Дмитрия Донского. А ведь ты лучше всех знаешь, что это не так!
Иван Дмитриевич засопел:
— Наговариваешь, князь, обидеть меня хочешь.
— Ладно, не обижайся, Иван Дмитриевич, — улыбнулся Константин, — это я так. Против великого князя пойти я не смогу, а вот от тайной помощи не отказываюсь.
— Не пожалеешь об этом, князь. Честно я служить Юрию Дмитриевичу буду. Грамоту бы ты мне написал к нему, а уж я сумел бы растолковать, что и как.
Константин допил белое вино, потом протолкнул двумя пальцами в большой рот капусту и сказал:
— Не уговоришь ты Юрия без моей помощи, с тобой я в Галич поеду.
Быстро разошлась по городам весть о женитьбе Василия Васильевича. В церквах во здравие великого князя и княгини служили молебны, ставили свечи. Государыня разъезжала по святым местам и щедро одаривала братию милостыней. Убогие и нищие прибывали в стольный град в надежде отыскать тёплый кров и сытный обед. Узкие улочки заполнили сироты, калеки, слепцы и просто бездомные, всем хотелось погреться у очага великого князя.
Дружина князя, вытесняя со двора юродивых, бранилась нещадно. Нет-нет, да и полоснёт плетью какого-нибудь надоедливого вдоль спины хмурый дружинник. Да так, что бродяга взовьётся от боли.
— Прочь с Красного крыльца! — орёт Прошка. — Сказано же, это государево место!
Нищие неохотно сползали вниз с лестницы, но только для того, чтобы подняться вновь поближе к светлице великого князя.
Василий Васильевич только однажды вышел к народу в сопровождении двух дюжих молодцев. Постоял на крыльце, созерцая плешивые головы стариков, а потом запустил руку в котомку, что висела у одного из молодцев на плече, и бросил горсть серебра на склонённые головы. Богомольцы расторопно похватали рассыпанные деньги и вновь с надеждой устремили взоры на государя. Задержалась у князя ладонь в котомке, зашуршало серебро, а потом вновь весёлым дождём полетело во двор.
— Да хватит, государь, монетами сорить! Нищие — что голуби, сколько ни давай, всё склюют, — советовал стоявший рядом Прошка Пришелец.
Василий Васильевич словно и не слышал его: он горсть за горстью бросал серебро, будто и вправду скармливал деньги прожорливым птицам. И когда в котомке не осталось ничего, Василий распорядился:
— Бросай и котомку!
Прошка далеко вниз швырнул сумку, и она подраненной птицей завертелась в воздухе и, едва коснувшись земли, тотчас была подхвачена каким-то расторопным нищим.
Кончилась великокняжеская милостыня, однако народу не убавлялось, наоборот, становилось всё больше. Они, тесня друг друга, пробивались к самому крыльцу. Так голуби отпихивают крыльями соперника, стремясь поближе протиснуться к кормушке.
Государь скрылся неожиданно, словно его и не было вовсе. Солнце тоже, бывает, выглянет из-за тучки, порадует слепящим лучом и вновь спешит укрыться.
Уже неделя прошла, как сыграли свадьбу Василия и Марии. Её ласки уже не трогали великого князя, был он сдержан. Тогда, в первую их ночь, оставшись наедине с Марией в комнате, он робко обнял её за плечи, и княгиня покорно приняла ласку мужа и долго не хотела выпускать из своей ладони руку Василия. А когда он грубо повалил её на кровать, Мария только невольно всхлипнула и затихла вновь. Так стала она бабой и великой княгиней.
Пировать бы государю свадебку да любиться с молодой женой, но думка о прошлой любви изъела ему душу поганым червём. К Марфе бы сейчас, в Китай-город. Вспоминалась государю шальная тёмная ночь, где боярыня была к нему ближе, чем рубаха на голом теле. Открыть бы кому свою тайну, да разве расскажешь? Бывает, и колодец говорит.
Великая княгиня Мария была в тереме, а Василий Васильевич уже битый час пялился на образа в Крестовой палате — молитвы не читались.
— Прошка! — наконец окликнул великий князь своего верного слугу.
Явился Прошка Пришелец, застыл у двери.
— Как там... Марфа Всеволожская?
О тайном недуге своего господина Прошка догадывался и раньше, блеснули хитрые глаза, и отвечал он, напустив грусть:
— Уехал боярин Всеволожский, а куда — неведомо. А после него уже жёнка с дочерью в повозках укатили. Только челядь в хороминах и осталась. Да никуда ему не деться, князь, здесь у него остались земли богатые.
— Зажги новые свечи перед образами и уходи, — наказал великий князь. — Мне помолиться надобно.
Со многих городов собрал дружину Юрий Дмитриевич. Укрепили его силой и обиженные сыновья. Не обошлось здесь и без лукавого боярина Всеволожского, который неустанно разъезжал по городам и собирал великую силу.
Однако не сразу князь Юрий допустил к себе Всеволожского, и если бы не брат Константин, повелел бы боярина затравить собаками.
С лаской и подарками явился Иван Дмитриевич к князю Юрию, хитрой гадиной по земле расстилался. Долго говорил о заповедной старине и о грамотах, что великим московским князем Дмитрием Донским оставлены. Хмуро слушал Юрий, только всё больше пьянел: не то от слов, сказанных боярином, не то от зелья хмельного, выставленного на столы расторопными девками.
Иван Дмитриевич знал, чем улестить князя, какие нужно сказать ему слова:
— А как он тебя унизил, Юрий Дмитриевич, уж этого я и от Васьки не ожидал. Ты ведь сам великий князь, а не холоп дворовый, чтобы за отроком коня вести! А племяш-то твой, гордец эдакий! Спину выпрямил и на толпу с высоты поплёвывает.
Хотелось возразить боярину, напомнить, что была на это воля Улу-Мухаммеда, и в Золотую Орду он пришёл просителем, но рана, которая, казалось, затянулась со временем, закровоточила вновь. Обмакнул в хмельной мёд русые усищи Юрий Дмитриевич и невесело согласился:
— Прав ты, боярин. Васька мне на голову наступил и этим возвысился. — И, хмуро поглядывая в строгие глаза Ивана Всеволожского, продолжал: — Никогда не думал, что после того случая из одной братины буду с тобой вино пить.
— Спасибо, князь, что не прогнал. И мне ведь горько! Он, негодник, всякого норовит обидеть: тебя, меня, дочь мою, а теперь вот сыновья твои пострадали! Вспомни же, как на свадьбе Васьки литовка эта окаянная пояс с твоего сына сняла! Перед всеми дворовыми опозорила. И сдался ей тот пояс! Да не поясок ей нужен был, Юрий Дмитриевич, а позор твой! С силой соберись, за тебя и другие города станут, и грамоты древние на твоей стороне. А за правду всегда воевать легче.
Хитрые речи боярина пробирали до самого нутра, и краска гнева разошлась по лицу князя. Он сумел бы позабыть собственную обиду, навсегда бы оставил надежды на московский стол, но оскорбления, нанесённые его сыновьям, прощать был не вправе. Им ещё дальше жить!
— Что скажешь, Юрий Дмитриевич?
Глаза у князя стали тёмными, как осенняя ночь. Поёжился боярин, словно от стылого ветра, не обратился бы княжеский гнев против него самого. Но Юрий Дмитриевич протянул ему чашу с вином и сказал:
— Племянника наказать нужно, пока он не окреп на московском столе. Тянуть не стану, послезавтра и выступлю с воинством.
Дружину Юрий Дмитриевич собрал ладную и числом многочисленную. Постояли денёк у Галича, дожидаясь опоздавших, а потом, не прячась от вражьего глаза, воинство двинулось в Москву.
Дружина быстро дошла до Переяславля, а уже отсюда вёрст шестьдесят будет и до стольного града.
В Троицком монастыре Юрия Дмитриевича додали посланцы московского князя. Ударили челом перед удельным князем.
—Государь наш, Василий Васильевич, к тебе послал. Миру он у тебя, князь, просит. Так и спрашивает, зачем же Русскую землю междоусобицами рвать? Неужто мы полюбовно договориться не сможем? Ведь обещал же ты московскому князю быть младшим братом!
Бояре с непокрытыми головами терпеливо ожидали приговора князя.
Рано в этот год поднималась трава. Едва солнышко припекло, а она уже пробуравила рыхлый снег и зеленью покрыла весь монастырский двор. Только в самых углах, где снега было поболее, он совсем не собирался сдаваться перед теплом. Однако разрушительное солнце делало своё дело — снег исходил холодными ручейками и пропитывал серую монастырскую землю. В самом центре двора дружной семейкой расцвела мать-и-мачеха, и золотые головки цветов склонились перед величием галицкого князя.
Впереди всех стоял боярин Юрий Патрикеевич. И этот гордец терпеливо дожидался с непокрытой головой крепкого слова князя. Князь Юрий смотрел на посланцев и думал: «Может, заковать их в железо да побросать в яму!» Он видел, сколь безгранична его власть, а стало быть, и великое московское княжение ему принадлежит по праву. По духовным грамотам. По старине.
— Берите свои шапки и прочь со двора! Не будет Ваське мира!
Нахлобучил на самые уши свою шапку Юрий Патрикеевич и пошёл со двора прочь размашистым шагом, слыша за спиной смешки. У самых ворот боярин остановился, отыскал глазами среди дружинников галицкого князя и, облегчая душу, выругался:
— Язви тебя!.. Да чтобы у тебя скривило!..
Воинство Юрия Дмитриевича встретилось с дружиной московского князя у реки Клязьмы. Трепетали на ветру стяги, тревожно колыхались хоругви. Разве легко пойти на братича? Не грешное ли дело — саблями рубить православные полотнища? Ведь не ордынцы стоят, свои же, русские! Только и может в этом случае помочь речь матерная, тогда в ответ и руку с копьём на обидчика поднять можно. Сначала будет долго слышаться над полем непристойная брань, а потом дойдёт черёд и до сечи.
— Что же это у вас воевода такой пузатый? Что это он, на поле рожать вышел? А может, вас на сечу и не воевода ведёт, а баба?!
Громкий смех раздался над дружиной Юрия Дмитриевича. Побагровел от злобы знатный воевода, и воздух с тонким свистом рассекла первая пущенная стрела. Не долетела она до рати князя Юрия: взрыхлила землю у ног коней, острым наконечником подрезав стебель распускающегося ландыша.
А в ответ раздаётся:
— Что же вы за бугром-то прячетесь? В поле боитесь выйти, или вам так и помирать кочкарями?
«Кочкари» — слово обидное, оно намертво прилипло к воинам города Галича, которые на поле битвы предпочитали скрываться за кочками. А сечу выигрывали числом, а не смекалкой.
Дюжина стрел полетела в ответ. Да только робкий у них полёт, едва смогли перелететь неширокую Клязьму и острым жалом воткнулись в песок. По-прежнему не решаются напасть на братича.
Злоба здесь нужна. Да такая, чтобы не стыдно было и руку поднять на ближнего, кровь единоверца пролить. А для этого необходимо раззадорить себя. Воскресить в памяти старые обиды, напридумывать новые.
Слова летят колючие и похожи на укол копья. Раззадоривают друг друга дружинники, но ещё не могут переступить ту черту, за которой начинается кровавая сеча. Куда проще с татарвой: здесь и злобы особой не требуется. Едва увидел бунчуки[25], а кровь так и бурлит.
Дружина Василия собрана наспех. Высыпали они на поле нестройным порядком, и одеты воины кто во что горазд. Лишь немногие из них в доспехах да шеломах.
Войска Юрия — все, как один, в броне, только некоторые из них, не имея возможности приобрести кольчуги, надевали на голое тело просторные червонные рубахи. Возможно, это преимущество над дружиной великого московского князя и сдерживало воинство Юрия, слишком скорым может быть суд.
Брань на поле становится всё более угрожающей, того и гляди, перерастёт в кровавую битву. Стрелы летят чаще и дальше. Одна из них перелетела первые ряды и впилась в плечо отрока. Охнул молодой дружинник и здоровой рукой переломил тонкое древко.
Вот что нужно было для смертной сечи — пролитая кровь. Захмелело воинство, словно напилось вдоволь браги, и пошли дружины друг на друга. Перемешались знамёна, только лики святых недоумённо глядели друг на друга, словно просили прощения за грехи воинов.
Разве может князь находиться в стороне, когда рубится его дружина?
Боевой топор Юрия Дмитриевича не знал усталости — разил направо и налево, а конь уверенно шёл туда, где стоял шатёр Василия Васильевича. Смешалось воинство московского князя, поддалось силе, и отступил воевода Юрий Патрикеевич, показав галицкому князю спину.
Василий Васильевич бился на другом конце поля. Сабля уже затупилась, лицо запачкалось кровью — и пойми тут, своя это или вражья.
Рядом Прошка Пришелец глотку дерёт:
— Назад, государь! Побереги себя! Со всех сторон дружина Юрия!
Оглянулся великий князь — и правда! Один за другим валятся на траву верные воины, сражённые копьями, а сам он, поборов страх, озлился ещё более — рвался туда, где царит смерть.
— Государь! К Твери нужно идти! — орал Прошка. — В полон попадёшь!
Кольчуга на спине Прошки разодрана, шлем помят. Достал его вражий меч, и, если бы не полумаска, лежать бы ему бездыханным.
Повернул коня Василий Васильевич и, увлекая за собой остатки дружины, поспешил к Твери.
Борис Александрович, тверской князь, Василия встретил радушно. Распростёр руки и обнял по-родственному. Великий князь Васька, но уже не московский. Москва осталась за Юрием Дмитриевичем. Однако сказал не то, что думал:
— Не часто ты ко мне заезжаешь. Братину с вином моему гостю, да чтобы до краёв налили!
Принесли братину и с поклоном протянули Василию. Глаза у тверского князя светлые, будто и не знает о печали.
— За помощью я к тебе, Борис Александрович, — не стал лукавить Василий. — Разбил меня мой дядя на Клязьме и отчину отобрал. Некуда мне теперь идти. Давай соберёмся с дружинами и выгоним его из Москвы.
Крякнул от досады князь Борис. Отмолчаться бы, да нельзя — Василий ответа ждёт. Братина в руке великого князя подрагивала, и вино быстрыми капельками падало на носок сапога.
— Знаешь ли ты, Василий, что князь Юрий ко мне заезжал, чтобы уговорить на тебя пойти?
— Знаю, что ты отказался, Борис Александрович. Спасибо тебе на этом. Вот поэтому я и здесь. — Вино побежало тонкой струйкой. Поднёс братину Василий к губам, но пить не стал, решил дождаться ответа Юрия.
— О чём угодно проси меня, Василий Васильевич, но только не об этом. Не хочу я в междоусобице быть.
— А ведь если бы я был московским князем, не отказался бы!
Борис Александрович молчал.
Василий Васильевич облизнул пересохшие губы, а потом далеко в сторону швырнул братину с вином.
Теперь путь великого князя лежал в Коломну.
До Костромы доехали только через неделю. Усталое воинство искало отдыха.
— Открывай ворота! — гудел Прошка. — Московский князь приехал!
Не славили великого князя многошумные колокола, не вышли из города бояре, чтобы встретить Василия Васильевича в радости, поддержать под руки и ввести в светлицу. На стенах мрачные ратники, и голос тысяцкого зло трубил:
— Московский князь?! Дружины его не вижу, видать, всю на поле потерял. Ладно, откройте им ворота, пусть переночуют.
Отворились ворота, и Василий Васильевич въехал в город. Едва сошёл с коня, как услышал злой голос тысяцкого:
— Слушайте меня, отроки! Хватайте московского князя! Да покрепче руки ему вяжите! Не Ваське мы служим, а благоверному Юрию Дмитриевичу!
Василия Васильевича опрокинули наземь, стянули руки за спиной ремнями, а тысяцкий не успокаивается:
— Крепче вяжите! Крепче!
Отшвырнуть бы их в сторону, взять меч да пройтись по шеям супостатов, но сил уже нет. Всё битва отобрала.
Прошка на коне волчком вертится, к себе не подпускает и сулицей[26] колет. Попробуй подступись!
— Хватай его! Чего рты пораззявили?! Или совсем одурели?! — орал тысяцкий. — Будет вам от князя Юрия Дмитриевича!
Только на миг оглянулся Прошка Пришелец, чтобы посмотреть, крепка ли стража у Василия Васильевича, как получил удар по голове и свалился с седла. Заломали Прошке руки, только хруст пошёл.
— У, басурмане! — бранился Прошка. — Христопродавцы! Ведь государя же своего обижаете! Кому служите, ироды! Одумайтесь!
— Бить в колокола! — распорядился тысяцкий. — Юрий Дмитриевич к городу подходит.
Князь Юрий с дружиной въезжал в город уже не Галицким князем, а московским великим князем. Колокола радушно басили, возвещая благую весть.
Иван Всеволожский ехал подле Юрия, и разгорячённый конь то и дело норовил вырваться вперёд. Боярин сдерживал его и не давал ходу, опасался быть впереди князя-победителя.
И года не прошло, как митрополит Фотий скончался, а Русь уже стонет от междоусобной войны, изнывает её большое тело от ран, льётся невинная кровушка. Митрополит был той силой, которая способна удержать кровопролитие. Боялся митрополита князь Юрий. Он был единственным человеком на Руси, перед кем сын Дмитрия Донского снимал шапку.
Коломна — второй город после Москвы. Именно сюда великий князь сажал своего старшего сына, именно с этого удела он возвращался в стольный город. Коломна на Руси славилась высокими церквами и резными хороминами, даже колокольный звон здесь был по-особому чист и высок. И сам город ухожен и горделив. Жителей Коломны не удивишь ни приходом великого князя, ни многочисленной ратью, ни кровавой сечей. Доводилось видеть городу и гнев великокняжеский и милость великую. Единственное, чего не видели горожане, так это пленения московского князя. И Василий Васильевич, словно дикий зверь, был посажен в железную клетку.
Юрий Дмитриевич, победителем въезжая в Коломну, перекрестился. Шапку скидывать не стал (негоже московскому князю голову перед смердами обнажать) и, повернувшись к тысяцкому, спросил:
— Где Василий? Взглянуть хочу.
— Пойдём, государь. Здесь он, окаянный, у терема княжеского дожидается. Как он со товарищами явился, так мы его сразу и повязали! Теперь не уйдёт, теперь он в твоей воле!
Шуршал под ногами песок, но идти было легко. Во всём Коломна была лучше прочих городов, даже грязи поменьше, а домов крепких да изукрашенных — великое множество!
Покоробило Юрия Дмитриевича от увиденного. Кольчуга на Василии драная, голова бесстыдно обнажена, на щеках запёкшаяся кровь, а сам, будто злыдень какой, в клетку упрятан.
Видно, так устроен человек, что не может он не чувствовать боль сородича, даже если находится с ним в тяжкой вражде. «Горемыка этот Василий Васильевич, — подумал князь Юрий. — В беде зачат. Видно, тащить ему этот груз до самой домовины».
— Сказано же было не своевольничать! — не на шутку осерчал Юрий. — Перед вами великий князь, а не холоп бесправный! Зачем его в клетку железную заперли, как медведя свирепого?! Снять с Василия Васильевича железо! — И уже тише, в самое ухо тысяцкому: — Держать князя в монастыре, и стражу крепкую приставить. Никого к нему не пускать! Бояре и дружина Василия пускай идут по домам. Вся Русь должна знать, что Юрий Дмитриевич крови понапрасну не льёт!
Шестьдесят вёрст отделяют Коломну от Москвы. Этот небольшой путь можно одолеть за сутки, однако Юрий Дмитриевич не торопился. Пугала его Москва. Теперь он ехал в стольную не гостем, а хозяином земли Русской. Был бы он помоложе, город стал бы для него наградой. А так сколько ему править? Как ещё московиты его встретят? Привыкли они к Василию, знают его с малолетства. И отец его, и дед были великими московскими князьями. Юрий успокаивал себя тем, что за ним старина. «А придёт время — и Василий на московский стол сядет». Не удержать сейчас отроку такой земли, Москва ведь характер имеет!
Иван Всеволожский не умолкал всю дорогу, торжествовал:
— Свершилось Божье правосудие! Так ему и надо, Ваське. Ишь чего захотел! Московское княжение ему подавай. Ежели всякий начнёт старину попирать, тогда вообще порядка лишимся.
Хотелось напомнить Юрию про Орду. Да смолчал. Обидится боярин, пусть разглагольствует. А Иван Всеволожский всё более распалялся:
— Ты, князь Юрий Дмитриевич, спуску Ваське не давай, — только так называл боярин некогда московского князя. — Запри в монастыре, и пусть там сгниёт! Сначала он над тобой надсмехался, значит, и ты волен так поступать. А если молвы боишься, так плюнь, поговорят малость, а потом утихнут. Эх, как он надо мной распотешился! Не будет ему счастья.
Дорога в Москву Юрию Дмитриевичу была знакома. Помнил он здесь каждый поворот, каждый камень. Частым гостем приходилось бывать в стольном граде, только впервые въезжал в Москву хозяином. Уже и посады показались, а Юрию неспокойно.
— Передохнем здесь! — остановил князь аргамака, и вместе с ним замерла вся дружина.
Из деревушки, раскинувшейся по обе стороны дороги, навстречу воинам выбежали ребятишки: выпрашивали у ратников поломанные стрелы, просили подержать тяжёлые рогатины[27]. Крестьяне домовито занимались хозяйством: правили плетни, строгали брёвна на срубы, а в дальнем конце деревни неутомимым дятлом стучал топор.
Остановившееся войско было не в диковинку. Часто князья на этом поле останавливались на отдых и отправляли гонца в город, чтобы он наказал боярам встречать князя с почестями. Вот и эта дружина тоже стоит: дожидается хлеба с солью да колокольного звона.
Постояли ещё у леса. Помолчали. И дружина не торопится в Москву.
— Как будто ты и не рад великому московскому княжению, Юрий Дмитриевич, — обронил Иван Всеволожский хмуро.
— Не понять тебе всего, боярин, — был ответ. — Василий племянник мне.
— А может, ты трезвона дожидаешься с Благовещенского собора, князь? Так не будет его! Не привыкли к тебе московиты, их сначала покорить нужно, а уже потом признания ждать. Ваське они многим обязаны, вот его встретили бы! И ещё я тебе скажу, Юрий Дмитриевич, хорошо, если ворота откроют, а то штурмом город брать придётся.
— Поехали! С Богом!
Ворота в Москву оказались открытыми. В карауле два безбородых отрока застыли с бердышами[28] на плечах. Не смутили их великокняжеские бармы Юрия Дмитриевича.
— Кто таков?!
Потянулся Иван Дмитриевич за клевцом[29], чтобы рубануть строптивцев по самой макушке заострённым концом, но великий князь отстранил занесённую руку. Негоже первый день со смертоубийства начинать.
— Я, Юрий Дмитриевич, князь великий, а это холопы мои. В вотчину свою еду, в Москву!
— Вам бы поклониться Юрию Дмитриевичу, а вы глотку дерёте, — поучал молодцов боярин.
Караульные расступились и впустили великого князя с воинством в стольный город.
Чужака Москва встретила враждебно — третьи сутки Юрий Дмитриевич княжит, а бояре к нему идти не спешат. Запёрлись в своих хороминах и нос во дворец не кажут. Можно было призвать на службу галицких и дмитровских бояр, однако лапотники! Куда им со стольными тягаться! Московиты породовитее и познатнее будут, а серебра накопили столько, сколько у великого князя не найдётся. Служба силком не делается, нужно выждать немного — пускай бояре попривыкнут к новому хозяину, а потом сами ко двору заявятся. Да ещё бобровые шапки перед его милостью поснимают. Без князя им никак, даже собака в добром хозяине нуждается. А перед самой вечерней, когда слуги уже запалили в палатах свечи, неожиданно к великому князю пожаловала Софья Витовтовна.
Расступилась проворно дворня перед великой княгиней, а престарелый юродивый, давнишний обитатель великокняжеского двора, увязался за Софьей.
— Здесь он, матушка, здесь! От тебя всё прячется. И страже велел тебя не пускать, да разве они могут великую княгиню ослушаться? Мы его, ирода, всюду сыщем! Никуда он от нас не спрячется!
Софья Витовтовна прошла в покои великого князя. Здесь всё было так же, как и при её сыне. Вдоль стен выставлены могучие сундуки, у окон стоят лавки, и только под иконами один стул — для самого князя.
— Что же ты сестру свою не приветишь? Навстречу ей не выйдешь? — беззлобно укоряла Софья Витовтовна князя Юрия. — А я помню, было время, когда ты меня перед Красным крыльцом встречал и низко в ножки кланялся.
Князь Юрий даже не поднялся со стула, отвечал:
— Что было, то прошло, княгиня. Только всё моё уважение к тебе обида за сыновей вытеснила. Теперь на Москве я хозяин. Сын твой монастырь в Коломне выбрал, постриженья ждёт. Видно, участь у него такая, доживать свой век монахом. А ты, княгиня, не серчай, глядишь, игуменом станет.
— Вот, стало быть, как ты мне за моё добро платишь. Муж мой, Василий Дмитриевич, зол был на тебя очень. Воинами на поле брани хотел тебя, как зайца, затравить, да я ему всё время поперёк дороги становилась. Помнила всегда, что ты свояк братича моего, Свидригайла.
При упоминании о Свидригайле Юрий Дмитриевич слегка нахмурился. Оба князя были женаты на дочерях смоленского воеводы Ивана Святославича. Свояка Юрий любил. Месяца не проходило без того, чтобы он не навестил его. Выработалась в князе потребность во время крепкого пития изливать свояку душу. Свидригайло умеет слушать и советы добрые даёт.
Однако князь отвечал зло:
— Знакома мне уже твоя доброта! Опозорила моих сыновей на Васькиной свадьбе! Вся Москва хохотом изошла!
— Видно, придётся отписать брату Свидригайле, как его свояк великую московскую княгиню хулит.
Говорила с досадой великая княгиня — знала, не дойдут её слова до сердца Юрия Дмитриевича. Был бы жив Витовт, не дал бы внука в обиду, сумел бы его позор смыть. Свидригайло и сам всегда против старшего брата шёл, вот этим он и напоминает Юрия Дмитриевича. Однако великая княгиня не могла не знать, что упоминание о Свидригайле — единственная тропинка в душе Юрия, которая способна привести её к цели. Знала княгиня Софья и о том, что почитал Юрий своего побратима больше собственных братьев.
Поёжился князь Юрий. Великая княгиня уходить не хочет, по-прежнему стоит у порога.
— Проходи, Софья, что у дверей жмёшься? Какие же мы с тобой враги? Нам делить нечего. У тебя свой есть удел, у меня свой. Я на чужое не зарюсь.
— Мой удел — это вотчина мужа моего, только он и смог бы его отнять. Но зачем ты Василия удела лишил? Хорошую же ты ему участь предрешил — монахом быть. — Софья прошла в палату. — Вот что я тебе скажу. Не пойдут служить к тебе московские бояре до тех пор, пока Васе город не дашь. Так и просидишь в этих хороминах один, как сыч!
Понимал Юрий, горячилась Софья Витовтовна, но правда в её словах была. На Руси уж так повелось, что старший сын после смерти отца забирает главный город. Василий унаследовал Москву, которая уже три дня находилась во власти галицкого князя. А Василий Васильевич оставался без удела. А ежели действительно дать ему город, может, и бояре к нему лицом повернутся. Хоть князь и сам себе голова, но без доброго совета жить непросто.
Княгиня присела на лавку. И Юрий Дмитриевич увидел, что она очень напоминает своего брата Свидригайло: тот же прямой и тонкий нос, подвижные чуткие ноздри, какие бывают только у резвых и породистых лошадок. Лицо, слегка подернутое сеточкой морщин, оставалось по-прежнему красивым и моложавым. Подбородок — волевой, сильный, только глаза по-женски мягкие. Именно их тепло и расплавило тот лёд, который морозил душу князя.
— Хорошо... — наконец согласился великий князь. — Дам я Василию Переяславль!
Софье поблагодарить бы великого князя, большой, поклон отвесить, но кровь своевольного Витовта забурлила. Вскинула княгиня красивую голову и отвечала:
— Переяславлем решил моего сына задобрить? Удел моего сына — Москва!
Софья Витовтовна ушла, не взглянув более на великого московского князя Юрия Дмитриевича.
В самом углу горницы в огромной клетке сидел филин. Взгляд его был устремлён куда-то вдаль. Филин аукнул, потоптался на месте и потом затих. Время-то вечернее, вот и не спится старому разбойнику. Скучает он по вольному простору. Даже сытная еда не может заменить сладость долгого полёта. Этого филина Юрий Дмитриевич прошлым летом отбил у лисы, когда гостил у свояка. Крыло у птицы было повреждено, и летать она не могла. Кто знает, может быть, тогда филин принял неволю благодарно, ведь его ожидала зашита и сытная пища. Филин не противился, когда князь посадил его на руку. Даже через кожаную перчатку он чувствовал его крепкую хватку.
Свидригайло предупредил князя Юрия:
«Будь осторожен, князь, филин — это исчадье ада».
«Почему?»
«Разве добрая птица будет промышлять ночью? А эта от солнечного света скрывается. Посмотри на сокола, — показал он в небо. — Солнце едва взошло, а он уже в полёте. Филин ночная птица, потому что со злыми силами знается. Это и по нашей вере и по вашей — всё едино!»
Может быть, и следовало выслушать свояка — тот зла не пожелает, но верх одержало сложное чувство: жалость к птице и ещё желание испытать собственную судьбу. Филина Юрий провёз через всю Русь до самого Галича и вот сейчас вспомнил о предостережении Свидригайло.
Юрий Дмитриевич подошёл к клетке, распахнул её. Птица недоверчиво взглянула на хозяина, слегка наклонив крупную хищную голову. Перья на затылке чуть приподнялись, видно, осерчал старый филин. Разве может скоро поверить в свободу птица, так долго прожившая в неволе?
— Ступай! — поторопил Юрий Дмитриевич филина.
Строгий голос Юрия, а может, близкая свобода, жажда полёта, которая никогда не умирала в филине, заставила птицу сделать первый шаг к своему освобождению. Этот шаг был неуверенный, как первый полёт.
— Ты свободен.
Так тюремщик говорит прощённому узнику. А тот всё ещё не верит в желанное освобождение, не смеет подойти к распахнутой настежь двери.
Юрий взял в руки птицу. Она не сопротивлялась — успела привыкнуть к этому хозяйскому и одновременно бережному обращению. Умные глаза филина смотрели в самое лицо князя. Потом Юрий распахнул окно и подбросил птицу вверх: не подвело крыло, пошло впрок скормленное мясо. Птица взмахнула крыльями и могуче воспарила над теремом, перелетела колокольню.
Даже крика прощального не услышал князь: в полёте птицы усмотрел радость.
А может, зря отпустил филина? Кто знает, возможно, эта ночная птица была его талисманом? Помощь тёмных сил сейчас ой как нужна!
Прав боярин Всеволожский, когда говорил, что нужно запереть навечно Ваську в монастыре; права Софья, когда говорила, что не может её сын остаться без удела. Была и третья правда — подсыпать в питьё зелья, никто и не узнает, как сгинул московский князь.
Велик город, а довериться некому.
— Ты спишь, князь? — Дверь чуть приоткрылась.
Вошёл Семён Морозов, любимый боярин князя, который выделялся среди других кротким и рассудительным нравом. Именно он служил кладезем всех его личных тайн. Ему Юрий Дмитриевич и доверил свою печаль.
Галицкого князя и боярина связывала давняя дружба: вместе они на соколиной охоте, вместе и на поле брани. Даже в Москве Юрий держал Морозова подле себя, выделив в великокняжеских хоромах палаты. Семён Морозов родом был из тверских князей и перед московскими шапку снимать не обучен. Потому московские бояре не любили его и ревностно наблюдали за дружбой великого князя и боярина. Наиболее ретивые не упускали случая очернить Морозова в глазах великого князя. И только Юрий Дмитриевич знал, что вряд ли найдётся в государстве более преданный ему человек, чем этот боярин с угрюмым лицом. Да и боярином-то он стал не так давно — по прихоти самого Юрия Дмитриевича, — а так помирать бы ему в безвестности.
Боярин от порога перекрестился на образа, прошёл в палаты.
— Помнишь, Юрий Дмитриевич, как ты меня с басурманова плена выкупил? — спросил вдруг Морозов.
Давно это было, пятнадцать лет уже минуло. Мурза золотоордынский на Тверскую землю пришёл и много людей в полон взял. И надо же было тому случиться, что окольный Морозов в окраине вепря травил. Недолгим был бой, полегли все отроки мучениками в чистом поле. Видно, судьба была такая у Семёна — уцелел! А может, по богатой одежде угадали татары в нём знатного воеводу. Стянули ему верёвкой за спиной руки и бросили в арбу на солому. Отъехала от родной вотчины скрипучая арба, пересекла границу Руси и направилась прямиком в Кафу.
Через два месяца узнал Юрий Дмитриевич о судьбе Семёна Морозова, молился о спасении его души в домовой церкви. А скоро запросили за него татары такой откуп, какой за князя не всегда просят.
Выплатил Юрий Дмитриевич выкуп, всё до последней копейки выложил.
Из плена Семён вернулся через год: исхудал, осунулся, а борода, как и прежде, торчит строптиво. С этих пор князь Юрий больше с боярином не расставался.
— Разве возможно забыть? — выдохнул Юрий Дмитриевич.
— Так вот что я хочу сказать тебе, князь. Когда я в басурманном плену был, тяжко мне приходилось. Но, кроме жизни, ордынцы ничего отнять у меня не могли.
— К чему ты это, Семён?
— А вот к чему. Сейчас тебе, князь, вдвойне тяжело. Ты власть получил, какой у тебя не было, и распорядиться ею правильно не можешь, потому что находишься в плену гордыни.
— Что же ты мне посоветуешь, боярин? — с надеждой посмотрел он на Семёна.
— Когда к тебе шёл, встретил на дворе великую княгиню Софью, — не спеша начал Морозов. — В печали она, горько ей. Когда власти много, можно обидеть ненароком ближнего, как бы потом самому об этом не пожалеть.
— Вот ты сказал, горько великой княгине. Думаешь, мне не горько? Разве легко рогатину на родича поднять? Ведь и моя тоже кровь в Ваське течёт!
— По-христиански нужно делать, так, чтобы совесть у самого была чиста. Ты у Василия удел забрал, ты ему удел и верни!
— Какой же ты ему удел дать посоветуешь?
— Тот самый, какой дал бы своему старшему сыну, Коломну! Тогда и московские бояре тебя поймут.
Василий Васильевич уже неделю томился в келье. Только и дел у него сейчас, что хлебать овсяный суп и молиться. А клал поклоны он рьяно, и свет через узкую бойницу ложился на его сгорбленные плечи. Наказывал его Бог, стало быть, есть за что. «Марфу обидел!» И князь старательно наложил на грудь размашистый крест, согнулся; лоб почувствовал прохладу камня.
Посмотрел Василий в окошко — в небе бездонной рекой разлилась синева. Ласковый жёлтый луч заплутавшимся путником проник в монашескую келью. Хорошо сейчас во дворе. Тепло. Видать, трава кругом.
Князь поднялся, тронул рукой дверь, и она заскрипела, выдавая тайные помыслы узника. Вместо привычного стража в проёме показался саженного роста монах в схиме[30] и пробасил густо:
— Не велено пускать, князь. Погодь ешо. Не приспело твоё время.
Хотел было Василий осерчать на монаха, уже рука поднялась для расправы, но гнев испарился под суровым взглядом чернеца[31], и сил хватило лишь на то, чтобы кротко коснуться двумя пальцами выпуклого лба.
— Ступай!
Монах притворил за собой дверь.
Убого в келье. Вместо кровати — скамья, вместо подстилки — пук соломы, стола нет вообще. Это не московский дворец, где одних палат в Теремной, почитай, с дюжину насчитаешь! Да чего уж там вспоминать. А одежда? Вместо княжеского бордового плаща — монашеское рубище. Сумел позаботиться дядя о племяннике! Да и рубище-то ношенное каким-нибудь святым затворником: на локтях протёрто, а клобук монашеский изрядно порван.
Не собирался Василий смириться: и князем толком не побывал, а уже в монахи подался. Не для этого у Мухаммеда великое княжение выпрашивал, чтобы под схимой состариться. «Вот ежели в Москву бежать, — серьёзно рассуждал Василий, — там уже бояре не выдадут, все, как один, за великим князем пойдут». Помнят бояре ещё его батюшку, он их в боярство и вывел.
За дверью, словно подслушав тайные мысли князя, густо раскашлялся монах. «Не уйти отсюда, — думал князь, — и версты не пробежишь, как схватят! А ежели подкупить: обещать серебро, золото, может, позарится чернец?»
Василий Васильевич приоткрыл дверь и окликнул монаха:
— Чернец, крест с моей груди возьми в подарок. — Снял князь тяжёлую золотую цепь с шеи и протянул её монаху.
Видно, бес попутал схимника, потянулась его рука к сверкающим камням и тут же отдёрнулась, как от огня. Сумел победить монах искушающего его беса.
— Не могу, князь, — совладал с собой схимник. — Мой крестик хоть и поплоше и на нити держится, но менять его даже на золото не стану. Матушка мне его дала перед тем, как душу свою Господу отдала. Дорог крестик мне. Видно, ты меня о чём-то попросить хочешь. Если это в моей власти, тогда выполню.
— Как тебя звать, чернец?
— В послушниках нарекли Зиновий, «богоугодно живущий», значит.
— Отец Зиновий, помоги из монастыря выбраться, дам тебе всё, что ты пожелаешь. Хочешь, помогу игуменом монастыря стать?
Усмехнулся чернец:
— Ничего мне не надо. Если я милость великую от себя отринул, княжеский крест не взял, так зачем мне ещё что-то? Да и не могу я! Клятву на верность Юрию Дмитриевичу давал. А теперь ступай к себе в келью, Василий Васильевич, и не тревожь меня более.
Третья неделя пошла, как Василий в заточении. Весна хорошела красной девкой и врывалась в тёмную келью Василия Васильевича криками жаворонков, волновала его младое сердечко. С женой ещё вдоволь не налюбился, детишек не нарожал, а уже в монахи идти.
Василий Васильевич не слышал, как на монастырский двор въехал отряд всадников. Впереди, облачённый в золотую броню, ехал Семён Морозов. Боярин спрыгнул на землю, звякнув шпорами.
— Игумен, почему гостей не привечаешь? — басовито укорил боярин вышедшего на крыльцо старика. — Или слуги князя Юрия у тебя не в чести?
— В чести, боярин, в чести, — засуетился игумен, — только за усердием своим и молитвами прихода твоего не расслышал. Эй, братия, готовьте стол, боярин великого князя к нам в обитель пожаловал! Может, с дороги ноги желаешь вымыть?
— Нет! Веди к Василию.
Василия, как опасного преступника, прятали в подвале, от глухоты его отделяло небольшое узенькое оконце у самого потолка. Зябко сделалось Семёну Морозову. Стены такой толщины, что и сам узником себя почувствовал.
Увидел Семён Морозов князя великого, и боль сжала сердце. Исхудал Василий Васильевич за две недели: длинные руки плетьми висят, а юношеская жиденькая бородка топорщится неприкаянно. Едва удержался боярин от того, чтобы не прижать к груди отрока. Сдержанно поклонился в ноги его милости, известил о воле князя Юрия Дмитриевича:
— Свободен ты отныне, великий князь. Юрий Дмитриевич, как наследника своего старшего, городом Коломной тебя жалует. Поезжай в удел свой.
Стянул со лба клобук Василий Васильевич и утёр им лицо. Недавняя обида прорвалась, вот он и спрятал её под монашеское одеяние. Волос у великого князя густой, цвета спелого льна, и кудри мелкими колечками сбежали на голую шею. Но никто не посмел осудить Василия за непокрытую голову, то, что не прощается великому князю, дозволено монаху.
— Стало быть, Коломну даёт? — Василий Васильевич наконец осмелился показать лицо.
— Жалует, батюшка, жалует. Хоть сейчас можешь в Коломну отбывать, — отвечал Семён Морозов и разглядел почти на ребячьем лице князя счастье. — Не серчай за былой грех на Юрия Дмитриевича.
Снял с себя рубище великий князь, а под монашеским убогим одеяньем прятался великокняжеский кафтан, шитый золотом. Не был никогда монахом Василий Васильевич, не угасла в нём кровь Рюриковичей.
Дверь кельи распахнута, а в проёме тот самый детина-монах жмётся.
— Дорогу! — переступил порог Василий Васильевич. — Прочь поди!
И разве можно воспротивиться этому приказу. Отошёл детина-схимник в сторону и сгинул в темноте.
Монастырский двор встретил Василия светом, ослеп на миг великий князь, а потом глаза возрадовались вновь. Небо было бездонно синим, что очи суженой. Трава успела подняться повсюду, грязь пообсохла, взялась паутинкой трещин.
Монахи вышли из своих келий. И невозможно было понять по этим взорам — прощание или приветствие выражали они прощённому узнику. Суровы лица старцев, и великая скорбь лежала на них.
— Молитесь за нас всех! — наказал великий князь и, оборотись к игумену, спросил: — Где мой Прохор Иванович? — И пригрозил: — Не поеду без него со двора!
Привели Прошку. Отощал, стервец, на монашеском хлебосольстве. Видно, один квас и хлебал. Но ничего, зато святости поднабрался.
— Пусть коня мне подержат! Князь я великий или нет! — строго напомнил Василий.
Сорвался с места Прошка Пришелец, чтобы пособить великому князю, да суров взгляд у Василия — вернул его назад.
Бояре и монахи кучно стояли у ворот, не смея двинуться. Да и не князь он для них, а так... пленник бывший. Кто знает, как далее получится, может, предстоит ему ещё вернуться и схиму принять.
Василий Васильевич терпеливо ждал. Отделился от толпы боярин Семён Морозов и проворно ухватил под уздцы жеребца.
— Скамейку пусть принесут! Не пристало коломенскому князю, как простому отроку, на коня прыгать.
Монахи меж собой переглянулись, а игумен уже скамью тащит. Подставил её под ноги Василию Васильевичу и отступил смиренно.
— Удобно ли тебе, князь? — спросил старик.
Василий Васильевич ступил на скамью и сел на коня. Кажись, и всё, теперь и в удел свой можно отбывать. На богомолье надо будет сюда приехать, братию покормить и ещё раз глянуть на то место, что когда-то было его тюрьмой.
— Ворота шире отворяй! Тесно мне здесь!
Не ждал в этот час гостей Юрий Дмитриевич. Время вечернее, а тут ещё и Мартын-лисогон. Князь страсть какой охотник, особенно до лисицы. А как сказывают старики, лисы в этот день роятся между пней и бегут на людей. Нападает в Мартыново время на лис курячья слепота, и бери их тогда хоть руками. В этот день меняют они свои старые норы на новые.
Но заявился боярин Иван Всеволожский с сыновьями, и стало ясно старому князю: не бывать охоте. И пожалел Юрий Дмитриевич, что не поднялся он с рассветом, гонял бы сейчас по лесу рыжих бестий, наверняка вернулся бы не с пустой котомкой.
Иван Всеволожский брякнул чем-то в сенях и прошёл в хоромы князя.
— Что же ты делаешь, князь? Почему Ваське удел дал? Коломна всегда за старшим сыном остаётся. Вспомни, когда-то Коломну Дмитрий Донской Василию Дмитриевичу передал! Это что же получается? Приберёт тебя Господи (отдали этот день, Иисусе!), — крестил грешный лоб боярин, — так Васька опять на великое княжение московское вернётся!
В сенях кто-то запнулся о высокий порог, чертыхнулся громко, проклиная преисподнюю и всех чертей зараз, и в горнице показалась кудлатая голова Василия Косого, следом ступал Дмитрий Шемяка.
— Отец, за что так детей своих обижаешь? Чем мы тебя прогневали, что ты нас хочешь безудельными оставить? — подал голос Василий Косой.
Потолок во дворце у князя крепко слеплен, да низок больно — того и гляди, придавит к самому полу. И Юрий почувствовал на плечах многопудовую тяжесть. Старость, видно, берёт. Раньше и взгляда было довольно, чтобы одёрнуть непослушных отпрысков, а сейчас даже голос напрягать приходится.
— Я в Золотой Орде за старину стоял и здесь не отступлюсь! После смерти моей на престол московский сядет коломенский князь Василий!
— Да что ты, Юрий Дмитриевич, нам всё про старину талдычишь! — укорил князя Иван Всеволожский. — Видали мы её! Только не нужна она нам теперь и детям твоим не нужна! По-новому править надобно. Посади на коломенский стол старшего своего сына!
Защемило в груди у князя, прикрыл он веки, собираясь с ответом. А сам ждёт, когда уляжется загрудная боль, которая всё настойчивее бередила его дряхлеющее тело. Видно, хворь привязалась к князю давно и давала о себе знать тогда, когда кровь быстрее бежала по жилам.
— Василий Васильевич займёт московский стол после моей смерти, не нарушу я заповедной старины.
Приутихли сыновья, зная неуступчивый и крутой характер отца. Он ведь не посмотрит, что они уже выбрались из-под отцовской опеки — достанет кнутовищем по спинам.
— Дать Ваське Коломну князю боярин Семён Морозов насоветовал, — подковырнул Юрия Дмитриевича Всеволожский. — Отец ваш, будто бессловесный отрок, как боярин ему нашепчет, так он и поступает. А только мы для чего? Советники твои? Я же не против твоих сыновей иду! Когда Василий Васильевич на Москву вернётся, он тогда нам все свои обиды вспомнит. Почему меня выслушать не хочешь — если бы не мои старания, так ты бы и не побил Ваську на Клязьме.
— Если бы не ты, так кровь вообще не пролилась бы! — напомнил князь. — В Золотой Орде московский стол я бы взял даром!
— Вот ты и сознался! Признаешь, стало быть, силу моих советов! Я Василию хорошо советовал в Орде и тебе то же дело говорю. Отбери у Василия Васильевича Коломну, отдай город своему старшему сыну! По-новому нужно жить, что на старину оглядываться? Зачем тебе московские бояре сдались! Новое право сейчас за тем, кто силён и удачлив!
— Нет!
— Смотри, Юрий Дмитриевич, один ты останешься. Бояре московские тебя не чтут. Коломну ты ему дал, и все они, как один, к Ваське сбегутся!
Юрий Дмитриевич глянул на сыновей. Трое их у него. И все разные! Как не может быть одинаковых пальцев на руке, так и дети у матери все разные. Не было со старшими братьями Дмитрия Красного. Не желал он ссоры с отцом.
Первенец Василий не сумел забрать всю любовь Юрия Дмитриевича, и большая часть нерастраченной нежности досталась младшему, Дмитрию Красному. Вот кому он дал бы Коломну, да нельзя — старшие сыновья есть. И об этой привязанности Юрия к младшему сыну знали все: челядь домашняя, бояре и даже приживалки, которые ютились по полатям.
— Только ведь не пойду я против Бога. Вон он, из угла на нас смотрит. Куда он перстом кажет? На небо. А оттуда всех видать. И так я грех тяжкий содеял, что кровь пролил. Я ещё Василия и в Москву позову. Пир для него устрою. Дары ему богатые дам. Прощения просить стану!
— Совсем ты, князь, разума лишился. Ведь они же сыновья твои, а не щенки от приблудной сучки. Трон-то детьми укреплять нужно.
— Только Василий мне тоже не чужой, а доселе старшим братом был!
— Так вспомни, как этот старший брат тебя в Орде позорил, заставил коня под собой вести. Всё по-новому теперь смотрится. Не укрепляй Ваську властью. Ему только крикнуть, как со всей Руси к нему в Коломну дружины явятся.
Загорелось в груди у Юрия Дмитриевича, словно хлебнул он хмельного, только не разошлось оно по жилочкам, а жгучим кругом остановилось напротив сердца.
— Если так... посмотрим. Пока я великий московский князь, — хмуро обронил Юрий.
Василий Васильевич засел в Коломне. Не велик город, что и говорить, зато старший из всех городов после Москвы будет. Отец, Василий Дмитриевич, тоже с этого города начинал.
В вотчину Юрий Дмитриевич проводил своего племянника славно: устроил прощальный пир, одарил богатыми дарами и отпустил со всеми боярами. Добром простились. Однако зловещее предчувствие не оставляло Василия. Бояре сказывают, что Всеволожский Иван мутит двоюродных братьев и коломенское княжение подбивает у Василия Васильевича отобрать. Не по нраву им пришлось и то, что московские бояре пошли за прежним господином.
Василий Васильевич невесело понукал коня, который, почувствовав настроение хозяина, едва переставлял ноги. «Видно, разморило его в стойле или овёс неотборный достался», — мимоходом думалось князю.
— Прошка!
— Да, господин государь, — охотно отозвался рында.
— В Переяславль послал гонца к боярину Ощепкову?
— Послал, Василий Васильевич.
— А в Углич, к князю Оболенскому, отправил?
— И к нему отправил, — засиял Прошка весенним цветом, показывая боярину щербатый рот.
— Зуб где потерял? — вяло поинтересовался князь.
— Зуб-то? — замялся вдруг Прошка. Было видно, что вопрос навеял не лучшие воспоминания. — Давеча силами мерился с чернецом Агафоном. Упал я на камень, вот зуб и вылетел.
— Кто же кого одолел? — проявил Василий неподдельный интерес, сам любивший всякие молодецкие затеи.
— Да как тебе сказать, князь. Чернец Агафон боец видный! Ручищи у него ого-го какие толстенные. Как сожмёт в объятьях, так всю душу может вытрясти. Да ведь я тоже не промах. Только начал он меня на землю валить, я тут же извернулся и ногу ему подставил. Повалил всё-таки чернеца. Да вот упал нечаянно, и беда, что на зуб, — охотно показывал Прошка осколок выбитого зуба. — А теперича он мне язык колет и саднит сильно. Страсть как болит, государь! Я уж и травкой его морил, и слова заклинательные творил. Ничего не помогает. Видно, огнём его обжигать нужно, авось малость и поутихнет.
Чернеца Агафона Василий Васильевич знал. Всегда в чёрном рубище, с клобуком по самые глаза, он напоминал величественный каменный утёс. Такой же мрачный и неприступный. И только была в монахе одна страсть — мериться силами. Кто кого на спину положит. Вот тогда оживал чернец. Глазёнки его зажигались весёлым светом и делались от того бесовскими. Скинет монах рубище на землю, чтобы имущество монастырское не порвать, и наступает смело. Ну, пощады не жди! И было большим дивом, что Прошке удалось уложить такую махину.
Кто только не ругал Агафона за это чёртово пристрастие: игумен наставлял, братия косилась, епитимию[32] не раз на него накладывали, грозили от церкви отлучить! А ему всё нипочём. Если бы не эта его слабость, во всём примерным монахом был бы, хоть схимы принимай. Но Агафон готов отказаться от питья и еды, а от молодецкой удали — никак!
— А ты не врёшь? — вдруг засомневался князь.
— Чего мне врать? У кого хочешь спроси, — достойно отвечал Прошка, — народу там много было. Даже игумен был. Он-то уж как радовался, когда я Агафона победил, говорил, что, может, это отвратит его от дурной забавы.
— На кулаках ты с Агафоном пробовал? — деловито поинтересовался Василий Васильевич.
— Кулачный бой? — Прошка почесал крутой затылок. — Трудно. Такую глыбину свалить непросто. Чернец Агафон и от ведра браги не упадёт, а от удара кулаком только чесаться будет.
И снова тягостные думы одолели князя.
Василий Васильевич едва вступил в Коломну, как по многим городам разослал гонцов к родовитым боярам с приглашением на службу. Дьяк, слушая неторопливый голос коломенского князя, писал очередное послание: «Ежели помните отца моего, великого московского князя Василия Дмитриевича, и ежели сын его у вас в чести, милости прошу в удел мой Коломну. За честь вашу, жён ваших и чад постоять сумею. От беды оберегу. Вам же за верную службу положу богатое жалованье».
Из Галича, Новгорода Нижнего, Твери и ещё из многих ближних и дальних земель Руси потянулись к внуку Дмитрия Донского бояре да князья за службой почётной и за богатым жалованьем.
Оставляли бояре московские земли, меняли белокаменные палаты Кремля на деревянные постройки Коломны. Каждый из них надеялся на то, что когда-нибудь Василий вернётся в Москву, а вместе с ним прибудут в Первопрестольную и княжеские слуги.
— В Нижний Новгород отправил гонца к боярину Стародубову? — вновь спрашивал князь.
— Отправил, государь. Скоро он в Коломне будет. Из Москвы боярин Ощепа явится. Не привык, говорит, Галицким князьям служить.
«От родовитых и знатных людей в Коломне тесно не будет. Разве не с боярами растёт величие князя? Ежели что, так хоромины понастроим, — думал Василий. — И не какие-нибудь, а мурованые! Да такие, чтобы самой Москве завидно было».
— Прошка, поехали на медвежий двор, — Василию Васильевичу вдруг захотелось потехи. — Давно я там не был.
Медвежий двор находился подле княжеских хором. Содержала его дворовая челядь для забав молодого князя. Любил князь медвежью потеху. Медведя отлавливали аж под самым Ярославлем и доставляли к великокняжескому двору. Считалось, что зверь там особенно свирепый и крупный. Медведей всегда кормили сытно, да только какая челядь не без причуд — прикуют зверя цепями к клетке и давай измываться: пиками в бока колют, в морду головешки жжёные суют. Хуже того, псов на него натравят. Зверь от такого обращения только сатанеет, а отрокам веселье. Впрочем, свирепый зверь и нужен для потехи. Медведь от ярости ревёт, злобствует, лапами по клети бьёт, того и гляди, рассыплются прутья.
Охоч был князь Василий до зрелищ.
— Сколько сейчас медведей на дворе? — спросил князь.
— Четыре, — охотно отвечал рында. — Один так вообще громадина! Матёрый зверь. Мы тут стравливали его с двумя медведями, он обоих задрал, — уважительно заметил Прошка.
— Скажи дворовым, чтобы его вывели, — распорядился Василий Васильевич.
Василий взобрался на стену, окружавшую медвежий двор, и стал наблюдать.
Скоро послышался рёв, кандальное бренчание цепей, и в тесный дворик вышел его обитатель — огромный косматый медведь. Он передвигался на задних лапах, слегка покачиваясь из стороны в сторону, видно, привык бродить так по лесу, где чувствовал себя хозяином. Медведь не озирался, он не привык делать этого у себя в дремучей чаще. На первый взгляд он казался добродушным, сразу потянулся мордой к угощению, которое оставили для него в углу. Мясо было свежее, а медведь голоден. Пускай же князь разглядит его получше. Когда зверь показывал свои желтоватые клыки, раздирая лосиную тушу, становилось ясно: добродушный вид его обманчив. Князь видел перед собой бойца хищного и опасного. Медведь такой же князь у себя в лесу, как и он сам в своём уделе.
Зверь рвал тушу острыми зубами так легко, как если бы это была тонкая парча. Он глотал мясо огромными кусками и никак не мог насытиться. Князь невольно залюбовался медведем. Красив! Василию вспомнился отец, который любил медвежью забаву и один на один, потехи ради, выходил на медведя. А сам бы он мог осилить вот этого князя леса?
Медведь меж тем наелся лосиного мяса и сытно рыгнул. Он не обращал внимания на дворовую челядь, к которой привык, не слышал бестолковых распоряжений Прошки, не примечал самого великого князя. Медведь оттащил остатки туши в угол двора и когтистой лапой стал присыпать её песком.
Прошка присел рядом с государем и негромко сказал:
— Медведи всегда так: сначала поедят, потом остатки туши землицей присыпят. С душком зверь любит, когда запашок пойдёт, тогда и доест.
Закопал медведь остатки туши, потянулся сладко и, не обращая внимания на крики зрителей, улёгся спать.
— Скажи дворовым, что я на медведя выйду. Да рогатину мне батюшкину принеси.
— Государь, одумайся! Зверь-то матёрый! Не каждый медвежатник на такую махину пойдёт!
— Я приказал рогатину батюшкину принести! — рассердился Василий.
— Что же ты с ним поделаешь! — хлопнул себя по бокам рында. — Несу, государь.
Василий Васильевич сошёл со стены. Только железные прутья отделяли его от медведя. «Пришёл час, чтобы испытать себя. Если одолею медведя, значит, прочие недруги не страшны, — думал князь, — ежели не одолею, стало быть, и великокняжеский стол не по чину. Пусть тогда на княжении Юрий Дмитриевич сидит честно».
Зверь, увидев князя, сделал навстречу первый неторопливый шаг, оскалился, показывая жёлтые клыки.
— Рогатина, князь! — тронул за плечо Василия Васильевича Прошка.
Василий ухватил крепкое древко. Остриё заточено (любил Василий Дмитриевич, чтоб в порядке было оружие), только самый его кончик слегка надломлен. Вошла, видно, рогатина под ребро вот такого же зверя да там и обломилась.
— Открывай! — распорядился князь. — И чтобы никто ко мне не входил. Пусть это будет Божий суд!
— Как же, государь, неужто ты думаешь, что посмею оставить тебя?!
— Войдёшь... до смерти запорю, холоп!.. Если жить останусь... — осатанел великий князь.
— Ну что ты будешь делать с государем! — опешил Прошка, но дверь отворил, и она тяжело заскрипела, впуская Василия во двор к медведю.
Василий вошёл уверенно, так боец ступает на поле брани, — рогатина наперевес. Вот и встретились два князя: один лесной, другой коломенский. И каждый в своём уделе велик и не знает равного. Не часто можно увидеть князей, встречающихся в таком поединке, и этот бой должен выявить первого.
Маленьким показался Василий Васильевич в сравнении с медведем. Прошка Пришелец перекрестился и тихо сказал челяди, которая понабежала со всего двора смотреть поединок:
— Авось одолеет великий князь зверя. Сегодня день для ведьм тяжёлый, нечистая сила отходит.
Василий Васильевич наступал на зверя смело: переложил рогатину с левой руки в правую и остановился, поджидая медведя. Видно, посчитал он постыдным убивать зверя, не ожидающего удара. Пусть разъярится, а уж потом...
Медведь как будто не торопился: присел и совсем по-собачьи почесал ухо. Развернулся и зевнул сладко, показывая чёрную пасть. Один прыжок отделял медведя от великого князя. Вот сейчас бы зверя рогатиной в шею ударить, и закончится бой. Но разве лёгкой победы жаждет Василий Васильевич? Никто не видел, как быстро шевелились его губы, он читал молитву во спасение.
Медведь — боец искусный: ухо правое рваное, огромный багровый рубец на боку уже начал зарастать шерстью. Василий Васильевич, чувствуя за спиной беспокойные взгляды челяди, обернулся, и в это мгновение медведь распрямился, в прыжке пытаясь достать великого князя. Ахнули дворовые люди. Василий едва успел подставить рогатину под брюхо медведю. Древко не выдержало многопудовой тяжести, сломалось, разрывая зверю внутренности. Заревел медведь и, раскинув лапы, пошёл на князя. А Василий Васильевич уже и меч достал и точным движением, будто всю жизнь только и делал, что хаживал на медведя, распорол ему горло. Медведь дёрнулся раз, шевельнулся другой и затих навсегда, разбрызгивая кровавую пену на мелкий дворовый песок.
Василий Васильевич повертел в руках обломок древка и бросил его на скрюченную тушу.
— Свершился Божий суд. Теперь меня никто не остановит.
Ещё подумалось Василию Васильевичу, что этим ударом он сравнялся со своим отцом. Василий Дмитриевич был знатный медвежатник, и первого зверя он побил, когда ему минуло восемнадцать лет. Как сейчас коломенскому князю.
То, чего так опасался Иван Всеволожский, случилось скоро: не успел Василий Васильевич Коломну занять, как к нему со всех сторон стали сходиться бояре. Московская дума осталась без родовых бояр. Одни окольничие да младшие чины. А Иван Всеволожский всё более напирал на Юрьевичей:
— Всё Семён этот! Морозов! Послушал его Юрий Дмитриевич и Коломну отдал супостату! Пусть бы и был Васька монахом, так нет же! Праведным, говорит, хочу остаться. Хочу, говорит, чтоб всё по-христиански было. А теперь вот вы без престола остались. На старину Юрий Дмитриевич всё ссылается, только время сейчас такое, что по-новому править нужно! А начать с того, что Сёмку Морозова наказать!
Василий Косой и Дмитрий Шемяка молча выслушали правдивые слова боярина. Иван Дмитриевич, зло брызжа слюной на кафтан, поглядывал в серые от злости лида братьев, увещал старшего:
— А что, если Семён Морозов и не московскому великому князю служит, а Ваське коломенскому! Что это о нём он так хлопочет? Проучить боярина надобно, пусть же знает, кто первый князь на Руси!
Юрьевичи вышли от Ивана Дмитриевича рассерженные. Василий Косой забыл застегнуть плащ, и он огромными крыльями развевался за спиной от быстрой ходьбы.
Братья спешили к Семёну Морозову. Дом боярина стоял по соседству с крепкими хоромами Ивана Всеволожского, только улицу перейти. Двор Семёна Морозова встретил князей враждебно: из будки, высунув косматую морду, забрехал здоровенный пёс.
— Пшёл вон! — прикрикнул Василий Косой.
Чёрные люди уже оттащили рассерженного кобеля, пичкая его сырым мясом.
— Хозяин где?! — орал Дмитрий Шемяка.
— У государя, Юрия Дмитриевича, — бросившись в ноги Василию, отвечал ключник.
Семёна Морозова братья Юрьевичи застали в дворцовых сенях. Жарко было боярину в натопленной палате, вышел он в сени и ковшом черпанул яблочного квасу. Питьё пришлось ему по вкусу, он смачно крякнул, и борода его заблестела от пролитой влаги. Боярин поставил деревянный ковш-уточку на полку, и она, словно покачиваясь на волнах, забренчала, перекатываясь с боку на бок.
— Вот он, изменник, — ворвался в сени Василий Косой. — Ты нас без удела оставил! Ты батюшке присоветовал Ваське Коломну отдать!
— По-христиански я посоветовал! — Семён Морозов смело поднял глаза на братьев. — И не было ни в чём моей корысти!
Хоть и великие мужья Юрьевичи, а боярина великокняжеского тронуть не посмеют! И не холоп он какой, а сам из князей.
Василий Юрьевич не дослушал, подступил к Семёну Морозову вплотную, а рука привычно отыскала клинок.
— Вотчины хотел нас лишить! Без наследства батюшкиного пожелал оставить! Ведь знал, изменник, что все бояре московские за Васькой в Коломну уйдут.
— Чего же мне не знать, ежели это бояре. Бояре народ вольный, кому хотят, тому и служат! — строптиво сказал Морозов.
— Чего ты с ним разговариваешь, Василий? Крамольник он! Злодей! — подошёл с другой стороны Дмитрий. — Отца без опоры оставил, а нас без великого княжения! Он всегда лихоимцем для нас был. Тверич он! А тверичи никогда с московитами не ладили! — поддержал старшего брата Дмитрий Шемяка.
Не мог смолчать Семён Морозов. Как унять гнев тверича, который, словно хорошо настоянная брага из-под плотной крышки, выплеснулся наружу.
— Сами вы злодеи! Душу свою бесу продали! И батьку своего мутите!
Василий Косой выхватил кинжал и ткнул им Семёна в живот. Охнул боярин и присел на лавку, будто бы притомился, а ковшик-уточка не удержался на полке и слетел под ноги Шемяке. Размахнулся ногой Дмитрий и поддел носком сапога ковшик, отлетел он в угол сеней и затих.
Распрямился Семён Морозов, оторвал ладонь от раны, разглядывая кровавые пальцы, только и вымолвил:
— Вот, стало быть, как!..
— На тебе! — ткнул боярина Дмитрий кинжалом в сердце.
— Жаль, что не в бою умираю... — посетовал боярин и повалился на лавку.
А из комнаты Юрий Дмитриевич кличет своего верного слугу.
— Семён!.. Где же ты там?! Куда запропастился? Семён!
Лежал боярин с открытыми глазами, брови насуплены, словно своей смертью укорял своевольных Юрьевичей: «Что же вы наделали, братья?»
Отшатнулся Дмитрий, попятился к выходу. Узкие сени напоминали великокняжескую темницу. Бежать надо, от гнева батюшкиного спасаться, а ноги отяжелели, и не находилось сил, чтобы оторвать их от пола.
Юрий Дмитриевич кликал всё настойчивее:
— Семён! Боярин!
И, словно услышав голос своего господина, скатился с лавки боярин, будто хотел сделать шаг навстречу государю.
Первым опомнился Василий Косой, тряхнул он за плечи Дмитрия и зашептал жарко в самое лицо, подталкивая к двери:
— Бежим, брат! Не простит нам батюшка!
Быстро князья сбежали с крыльца и вскочили в сёдла аргамаков.
Гулко зацокали о булыжник подковы удаляющихся коней.
Юрий Дмитриевич покидал Москву. Уходил князь не празднично, как бывало ранее: под трезвон колоколов, с пышной свитой, а шёл тайно, словно опасался чей-то жестокой мести. Удалялся великий князь, оставленный боярами и брошенный строптивыми сыновьями. Лишь пять бояр осмелились разделить участь некогда великого князя, того самого, который ещё вчера безраздельно господствовал по всей Московии, с кем считалась Северная Русь, кого поддерживала Ливония. Власть ушла так же быстро, как скоро покидает запруду вода через разбитую плотину.
Юрий Дмитриевич попридержал коня, посмотрел назад. Снять бы сейчас шапку да поклониться Первопрестольной, но Москва молчала, спрятав от его взора купола церквей в мохнатые предгрозовые тучи.
Дорога лежала на Галич, в прежнюю вотчину Юрия Дмитриевича. Неласково встретила Москва, так же безрадостно и спровадила. Видно, ушла навсегда былинная старина и не прижиться в Москве князьям малых вотчин. И от этой догадки, которую Юрий Дмитриевич пытался спрятать даже от себя, сделалось нехорошо, а значит, его участь — управлять былой вотчиной, что передал Дмитрий Донской в наследство своему среднему сыну.
Уезжал Юрий Дмитриевич из Москвы, чтобы уже никогда не возвращаться в стольный город. Город, которого он добивался всю свою жизнь, отстаивая своё право на стол; город, который был причиной отдаления от старшего брата; город, из-за которого затянулась ссора с племянником, которая лихоманкой сотрясала всю Русь.
Теперь Москву Юрий Дмитриевич оставлял добровольно.
Растерял Юрий Дмитриевич прежний злой задор, присущий ему в молодости. Он устал от постоянных междоусобиц с братом и племянником, князь Юрий устал от жизни. Если бы он был не так стар, то разве отпустил бы от себя бояр? Показал бы им свою силу! А усталость вкралась не только в его тело, она отобрала у него и прежнюю волю.
Москва всегда была своенравным городом. Характер её отличался от характера других городов, и если б не это её своенравие и свободолюбие, то разве сумела бы она сделаться Первопрестольной? Обуздать Москву может только молодость и воля и законное право на стол. Этого права не было ни у него самого, и тем более нет его у строптивых Юрьевичей. Остаётся Василий Васильевич. Вот кому покорится Москва!
В день убийства любимого боярина, в страшном гневе на своих сыновей, Юрий Дмитриевич послал к Василию возницу с грамотой, в которой просил его вернуться на московский престол. Грамоту при свете луны нацарапал дьяк. Иногда Юрий Дмитриевич замолкал и, глядя на струйки копоти, подбирал слова. Он долго не знал, с чего стоит начать послание, а потом, подумав, наказал:
— Пиши так, дьяк... «Старший брат мой, князь великий московский Василий Васильевич, пишет тебе брат твой младший, князь углицкий Юрий Дмитриевич. Осерчал я шибко на детей своих, Василия и Дмитрия, за то, что посмели лишить живота боярина Семёна Морозова. Старший брат мой, не держи на меня более лиха, сделай мне милость, возвращайся на московский стол и правь нами, как и прежде было. Я же обязуюсь быть тебе верным холопом, смуту не чинить, а на московский стол более права не иметь...» Написал? — спрашивал Юрий.
— Написал, князь, — покорно отвечал дьяк.
— Пиши далее... «Князь московский, Василий Васильевич, дело своё от дел сыновей моих Василия Юрьевича и Дмитрия Юрьевича я отделяю, поскольку прокляты они отцовским словом. Обязуюсь не принимать отступников вовсе! Об этом же и сыну своему накажу, Дмитрию Красному. Просьба у меня к тебе есть, Василий Васильевич, стар я стал, не вели мне более садиться на коня, когда поведёшь полки на супостата. И ещё об одном прошу тебя, не неволь меня, ежели надумаешь на Литву идти. Свояк мой там правит, побратим Свидригайло. Оберегай тебя Христос! И на том кланяюсь. Младший брат твой, углицкий князь Юрий Дмитриевич».
Дорога показалась Юрию Дмитриевичу тягостной и, как никогда, бесконечной — длиною в прожитую жизнь! Чего только не передумаешь за это время. Не легко отринуть от себя родную кровь. Не щенки ведь! Кому, как не им, дело отца продолжать.
От Васьки Косого, смутьяна эдакого, лихо идёт. Он и раньше братьев младших задевал, а как подросли, так совсем их прижимать стал. Ладно отец вступился и по вотчинам их рассадил, а так быть бы драке. Видно, Васька Косой и подговорил Дмитрия Шемяку, чтобы боярина Морозова убить. Да ещё и Иван Всеволожский, как щенков безмозглых, князей на Семёна Морозова науськал.
Юрий Дмитриевич особенно остро почувствовал одиночество, а тут ещё ко всему и конь запнулся, зацепившись копытом за камень, и едва не сбросил седока. Не к добру это. Неизвестно, как Галич встретит. Эх, что за судьба такая! Трёх сыновей вырастил, а помирать, видно, в одиночестве придётся.
Рассвет застал Юрия Дмитриевича в дороге. Туман путался в ногах коней, стеной стоял на пути князя, но он уверенно направлял коня в белёсое облако.
Ни дружины с ним, ни славных воинов, только несколько бояр. Кто знает, быть может, ушли бы и эти, да только стары больно. Не лучшее для них время, чтобы искать сытой доли в чужих вотчинах.
Не слал Юрий Дмитриевич вперёд гонца с грамотой, который мог бы возвестить о приходе князя в свой город, чтобы челядь успела подготовить князю достойную встречу. И только когда показались деревянные стены детинца, а Юрий Дмитриевич уже отчётливо различал маковки куполов церквей, которые в сизом тумане казались нереальными, сказочными, раздался звон колоколов. Вот оно, приветствие Галича!
Юрий Дмитриевич снял шапку и, украдкой глянув на молчаливых бояр, утёр набежавшую слезу. Это был дом, его вотчина, где он полноправный хозяин. Князь легко узнавал голоса колоколов: басил стопудовый Плач Ордынца, вслед ему гудел двухсотпудовый Ревун. Их мелодии долго гудели над городом, а потом запели колокола поменьше.
— Звонят, — сказал кто-то из бояр, — встречают тебя, князь.
Распахнулись ворота, и народ вышел навстречу великому князю. Первым шёл епископ. Руки раскинул и на грудь князя принял.
— Постарел ты, Юрий, постарел, князь, — только и сказал владыка. — Бог с этой Москвой. Быть князем в Угличе тоже не малая честь. Не оставляй нас больше своей милостью.
Часть II СТАРИЦА МАРФА
Высоко в небе парил ястреб. Он то поднимался под самый купол неба и становился едва заметной точкой, то вдруг стремительно падал вниз, превращаясь в грозную птицу, заставлял прятаться под куст серую куропатку и зарываться поглубже в нору тщедушного хорька. Ястреб не искал поживы, птица наслаждалась полётом, пробуя крепость своих крыльев в упругом потоке ветра. И они, послушные его воле, возносили гордеца на ещё большую высоту.
Ястреб наслаждался полётом, так путник, томимый жаждой, не может напиться досыта, так тать одним поклоном не может замолить тяжкий грех. Ястреб всё летал и летал, умело лавировал в потоке ветра, словно желал убедиться: а не ослабели ли его крылья в сытой, но тесной княжеской клети? Нет, не ослабел ястреб. Он замечал малейшее движение на далёкой земле, видел переполох птиц на речной заводи. Однако не спешил спуститься вниз и тем самым оборвать сладостные мгновения полёта.
Василий Васильевич смотрел на любимца с надеждой. Эго был ястреб, которого сокольники поймали два года назад. Птицу поили святой водицей, дабы рос он сильным и смелым, скармливали ему свежее мясо. Ястреб одинаково охотно попивал святую воду и сглатывал горячую кровь. Разве мог думать Василий Васильевич, что любимый ястреб, выпущенный в небо с его руки, уже никогда не вернётся на кожаную перчатку? И судить его за это грешно, разве способна гордая душа вынести плен?
Прошка Пришелец не мешал разговорами господину, Василий Васильевич любил порой помолчать. Он ехал рядом, зыркая по обеим сторонам. Мысли Прошки были заняты совсем не полётом ястреба. Прошка думал о девке, с которой переспал на сеновале. Спелая была девка, ядрёная, из великокняжеской дворни. Поначалу-то всё брыкалась, а как прижал покрепче, так и сомлела. До сих пор Прошка чувствовал на шее жар её поцелуев, вкус пухлых, сладких губ. Он заволновался, вспомнив ту ночь.
Уже прошла неделя, как великий князь Василий прибыл в Москву. Изменники наказаны, закованы в железо и сидят в темницах, только лихоимец Иван Всеволожский где-то скрывается.
Василий Васильевич, задрав голову, смотрел на волнующий полёт птицы, и оставалось только дивиться, как держится на его макушке княжеская горлатная шапка. И ничего не было для него сейчас важнее, чем самозабвенный полёт птицы.
— Не вернётся ястреб, государь, — оторвался Прошка от своих дум, — видишь, крыльями машет. Это он прощается с тобой.
Жаль стало князю Василию птицы, такой уже больше не будет, и, оборотись к Прошке, спросил:
— Боярина Всеволожского разыскали?
— Покамест нет, князь, — выдохнул Прошка. — Гонцов во все города отослали. Видать, запрятался где-то, лихоимец! Но ничего, сыщем мы его! Будет знать наперёд, как государю изменять. Другим неповадно будет.
Отвлёкся князь на минуту, а ястреб пропал с небес. Устал от долгого внимания и улетел за лес, где, быть может, надеялся отыскать себе пару.
Вчера великий князь встретился с Марфой. Боярышню Василий навестил тайно, только ночь и была свидетелем. Всё глубже увязал во лжи великий князь, погружаясь в сладостный грех. И предстоящая расправа с Иваном Всеволожским виделась ему как освобождение от крепких пут. Василий Васильевич мог обмануть великую княгиню, но разве можно перехитрить бестию Прошку. И сейчас, поглядывая на него, московский князь читал в его глазах ехидную усмешку. Давно уже для Прошки не секрет отношения князя с дочерью Ивана Всеволожского.
А ястреб вернулся из-за леса с добычей, сжимал крепкими когтями длинную змею. Укрепилась гадина и давай ястреба обвивать, к земле тянет. Тяжело теперь давалась ястребу высота. Князь с Прошкой замерли, с волнением наблюдали за борьбой в небе. Покрутился ястреб, пытаясь избавиться от змеи, а потом, кувыркаясь, упал в лес, ломая крылья о крючковатые ветки.
Видно, так злые силы борются с добром, и не всегда побеждает правое дело.
Взгрустнулось великому князю. И свободы досыта не попил. Эх, бедняга! Возможно, именно так и должен был умереть ястреб великого князя, разбившись грудью о землю. И снова мысли вернулись в светлицу Марфы.
Она — девка сытая да ладная. И Василий Васильевич не без удовольствия вспоминал вчерашнюю ночь. Он перебирал в памяти все ласковые слова, которые нашёптывала ему боярышня наедине, и ощущал, что слова эти, так же как и её горница, обладали своим особенным цветом и запахом. Они казались московскому князю васильковыми, душистыми, как свежее сено, и податливыми, мягкими, как первая весенняя трава. Он поглаживал девушку по голове, и ладонь утопала в мягком шёлке волос. Существует на Руси поверье, по нему женщина никогда не должна показывать своих волос, не может выйти за околицу простоволосой. Есть в них якобы сатанинская сила, что способна испепелить траву, навести мор на людей и скотину. От волос Марфы, наоборот, веяло покоем, теплом, были они мягкими, пушистыми. Не великокняжеские хоромы у боярышни: всего лишь горница одна. Вместо стекла — серая полупрозрачная слюда, вместо мягкого ложа — сено, укрытое холстиной. Но не было для Василия лучшего места, чем эта светлица.
— Князь, — Марфа посмотрела на Василия Васильевича, и по этому напряжённому голосу он понял, что речь пойдёт о главном. — Я знаю, что ты гонцов по Руси послал, батюшку моего ищешь. Что же ты с ним делать собираешься?
Боярышня лежала неприкрытой, не стыдилась любимого. Округлые бёдра, плечи манили великого князя. «Эх, ежели б такую красоту великой княгине!» — подумалось Василию. Не было у Марии ни этих рук, ни шеи лебединой, пышности и дородности. «Вот если бы Марии чуток от того, что досталось дочери Всеволожского, быть может, и жизнь складывалась бы у меня совсем по-иному», — убеждал себя князь. Конечно, великая княгиня красива: и ростом удалась, и походка плавная, будто по кругу в танце плывёт, но было в ней излишнее изящество, хрупкость, что деревенскими бабами, приученными к труду, считалось почти за изъян.
При упоминании о боярине Всеволожском московский князь нахмурился, но разве мог он солгать этим глазам?
— Боярин Иван Всеволожский будет наказан, — произнёс он сухо, а ласковая мягкая рука боярышни легла на его грудь, и тепло от неё через кожу проникло в самое нутро. — Бояре судить его будут, — произнёс он тише, — что смогу, то и сделаю. Бог даст, жив будет.
Прошка первый разглядел гонца. Он мчался к великому князю на сером скакуне, и за ним развевался длинный шлейф пыли.
— Великий князь, Василий Васильевич, — оборотись к Василию, сказал Прошка, — никак, гонец к тебе спешит. Видать, новость какую везёт.
Василий пробудился от дум.
Гонец спешился, бросил Василию Васильевичу в ноги шапку и, сияя, сообщил:
— Боярина Ивана Всеволожского, сына Дмитрия, в Костроме сыскали. У боярина Ноздри в тереме прятался. Там ещё двое Юрьевичей были. Не хотели они изменника давать, так мы его силой отняли.
— Где он?
— Бояре со дружиной до Москвы его везут. Что с ним повелишь делать, великий князь?
Уже минуло два года, как золотоордынский хан рассудил спор в пользу московского Василия. Вырос Василий Васильевич, и лицо его потеряло юношескую округлость, а острый подбородок зарос густой тёмной бородкой. Если бы не этот смутьян боярин Всеволожский, возможно, и не было бы долгого раздора с дядей, а стол московский достался бы ему с меньшими усилиями.
— А как, по-твоему, я должен поступать с изменником? — насупил брови Василий Васильевич.
Молод был князь, да уж не в меру крут: возьмёт и рубанёт сгоряча мечом. И невозможно тогда найти на князя управу, только Божий суд и может его усмирить. Вспомнилось гонцу, как неделю назад повстречали они небольшое племя язычников, долгое время жившее неподалёку от Москвы в сосновом бору. Повернулся Василий в сторону костра, у которого стоял вырубленный идол, и грозно сказал: «Всех посечь!» И посекли всех мечами. Ни жён, ни чад не пожалели.
— Как я должен поступить с боярином, что лихо мне сотворил? — продолжал рассерженный князь. — Выколоть глаза его бесовские! Пусть же не смеет на господина своего смотреть! — Вспомнилась Марфа, тёплая и желанная, и её просьба: «Батюшку пожалей!» — Отвезти боярина в монастырь, и пусть он там слепцом свой век доживает. Нет в Москве для него места!
— Слушаюсь, великий князь! — сказал гонец и вскочил на коня, отправляясь в обратную дорогу.
Скоро Юрий Дмитриевич прознал об ослеплении боярина Ивана Всеволожского. Пожалел его князь, умом таких бояр, как он, крепка Русь, и рана, которая начала затягиваться сразу после примирения с Василием Васильевичем, открылась снова. Хоть и не было в окружении московского князя близких ему бояр, но о делах Василия Юрий Дмитриевич осведомлён хорошо. Чем, как не слухами, полнится земля. Знал галицкий князь и о том, что собирается племянник пойти на его строптивых сыновей, что рать московского князя пополнили полки из Ярославля, Суздаля, Ростова Великого. Хоть и отринул князь Юрий от своих дел Василия и Дмитрия, но не вытравить отцовскую любовь даже к нелюбимым сыновьям! Хоть и непокорными выросли они, но чем хуже прочих Рюриковичей? Никогда не жило племя Ивана Калиты в мире: раздоры и брань. Видно, такая судьба ожидает и внуков Дмитрия Донского. И вдруг понял престарелый князь, что не сможет отказать сыновьям, если явятся они к его двору с покаянием и обнажат русые кудри.
Это случилось скоро, на день святых Бориса и Глеба. Земля уже оттаяла, согрелась, и наступило времечко бросать в землю доброе зерно. В рощах заливался соловей и торопил крестьян в поле, отдохнувшее за время затянувшейся зимы.
Юрий Дмитриевич вышел на красное крыльцо. На нём он встречал желанных гостей, отсюда он любил смотреть на поля, которые начинались сразу за крепостными стенами и ровными делянками расходились во все стороны.
Рассвет едва наступил, а мужики уже были в поле, да не одни, а с жёнами. Так уж повелось в Галиче, что первые зёрна они бросали вдвоём. И делали это затейливо, земля, как девка до замужества, ухаживания требует.
Князь из-под ладони увидел, что один из мужиков повелел своей бабе лечь на землю. Согнулась женщина, легла на весеннюю траву, ноги оголила до самого живота. Перекрестился мужик, поклонился на восток, распоясал порты и лёг на бабу. Согнула жена коленки и обняла ногами муженька. И не было в том греха, ибо ублажали они землю-кормилицу, и мать с отцом, и бабка с дедом, и все пращуры, что веками сеяли здесь рожь, делали то же. А иначе нельзя, земля обидеться может, и тогда не бывать щедрому урожаю. Баба от истомы стонет, едва криком не заходит, а мужик знай своё делает. А когда пришло время, чтобы одарить землю, поднялся он с бабы, встал на колени и стряхнул белую каплю на чернозём. То было первое семя, брошенное по весне на землю.
Ну а теперь и за соху можно. Лошадка стояла в стороне, лениво поглядывала на утеху хозяина. Подпоясал мужик портки, поплевал на ладони и вогнал соху в землю.
— Но! Пошла, кобылка! — понукал мужик лошадь.
Жена уже успела одёрнуть сарафан и пошла вослед мужу разбрасывать золотистое зерно.
На дороге показались всадники. Пригляделся Юрий Дмитриевич и увидал стяги сыновей. Защемило отцовское сердце от предвкушения недоброй встречи. Но что поделаешь — родная кровь!
Вбежал боярин и, захлёбываясь от радости, поведал:
— Батюшка! Князь Юрий Дмитриевич! Сыновья твои едут! Василий и Дмитрий у города! Может, в колокола прикажешь ударить?
Юрий Дмитриевич насупил брови и сказал сдержанно:
— Больно чести много... Так пусть въезжают. Нечего радость показывать. Спасибо им надо отцу сказать, что взашей не выставляю.
В покои великого князя Юрьевичи входили с повинной. Головы склонённые и ноги босые, только не было в глазах у сыновей того раскаяния, которое ожидал увидеть Юрий Дмитриевич. В глазах по-прежнему вспыхивали злые огоньки. И если явились они к отцу, то не для покаяния, а за помощью. Если бы пали они на колени, переломили гордыню, тогда и сердце оттаяло бы у отца. Эх, никогда меж собой не жили на Руси братья дружно. Но не хватило у великого князя духу каждого из сыновей огреть плетью. Боярина Морозова уже не вернуть, а с сыновьями не жить в мире — последнее дело.
— Что нужно? — спросил Юрий.
— Прости, отец, — начал Василий Косой, — только и ты не во всём прав. Если бы не было боярина Семёна Морозова, стол московский за нами бы остался, и Васька вместо Коломны сидел бы где-нибудь на окраине.
Хотелось Юрию Дмитриевичу возразить сыну, сказать, что не удержать им никогда московского стола и совсем не Семён Морозов в том повинен, просто дело покойного Василия Дмитриевича навсегда отринуло старину. Участь двоюродных братьев быть при старшем Василии удельными князьями. Не станут служить московские бояре галицким да костромским князьям.
— Вы ко мне с этим пожаловали? — насупился Юрий. — Ваше дело от своего я отринул.
— Или ты погибели нашей хочешь, отец? — младший Дмитрий выступил вперёд. — Неужели не знаешь, что Васька воинство собрал и к Коломне идти хочет.
— Зачем же вы Коломну заняли без дозволения московского князя?
— Мало ему Москвы, так он и Коломну решил захватить. Если мы этого не сделаем, так он и наши уделы отобрать захочет.
Была правда в словах старшего сына. Чем более взрослел Василий Васильевич, тем более жаден становился до земли. Всю Русь ему подавай!
— А тут он ещё на Верею зарится, на удел можайского князя Андрея Дмитриевича. Так за кем же она, правда, батюшка? Или не ведаешь об этом?
Как же не знать об этом Юрию Дмитриевичу, коли он не отшельником на Руси живёт.
— Хорошо... Дам я вам свою дружину. — Подумав, добавил: — Но сам против Василия не пойду.
Как укрепился Василий Васильевич на московском столе, так сразу послал своего боярина Юрия Патрикеевича к городу Коломне наказать строптивых Юрьевичей.
Битва произошла на реке Куси.
Пойма не успела освободиться от талого снега, и дружины рубились, стоя по колено в холодной жиже. Раненых было мало, они падали в студёную воду, чтобы никогда не подняться.
Отважно билось московское воинство, но потеснили вятичи дружину великого князя, а самого Юрия Патрикеевича, сполна испившего стылой водицы, забрали в полон.
Не существует на Руси клятвы крепче, чем целование креста. А ежели и её посмел преступить, так будешь предан анафеме во веки вечные, и гореть тогда нечестивцу в адском пламени. Князь Юрий Дмитриевич не целовал креста в том, что не будет помогать сыновьям, а стало быть, не подвержен Божьему суду. Если и найдётся на него судья, то это будет великий московский князь.
Василий Васильевич давно вышел из отроческой поры. Не юноша он теперь, а благочестивый государь! Да разве пристало великому князю спускать обиды, поэтому и ждал Юрий Дмитриевич подхода к Галичу московских полков.
Неделя понадобилась Василию Васильевичу, чтобы собрать новое войско и выйти в сторону Галича.
Затаился своевольный град: не слышно звона колоколов, не встречают князя бояре хлебом-солью. Ворота закрыты, мост поднят.
Воротился из дозора Прошка Пришелец. Конь под ним гарцует, подставляя солнечным лучам вышитые золотом чепраки[33]. И яркие блики играют на нарядных доспехах верного рынды.
— В посадах мы поспрашивали, сказывали, что город пуст. Бежал Юрий Дмитриевич на Белоозеро. Не достать теперь его, Василий Васильевич.
— Не достать, говоришь? — проскрипел зубами Василий. — Предать град огню!
— Князь, может, с миром уйдём, — посмел возразить Прошка. — Город не виновен. Юрий Дмитриевич нам нужен, а не детинец. И стены его ещё нам послужат. Не басурманы же мы.
— Уйти — и чтобы мне в спину чернь рожи строила? Нет! Сжечь город! Это вотчина князя Юрия Дмитриевича! Делай, как сказано! — прикрикнул на Прошку разгневанный князь.
Залили дружинники кипящей смолы в сосуды, насыпали пороха и забросали ими детинец и посады.
Деревянные избы вспыхнули почти разом в нескольких местах. Не прошло и часа, как соединились они в одно огненное кольцо. Пламя быстро охватило деревянные стены, перекинулось на кремль. Клубы дыма закрыли небо, и ядовитый чад душил вокруг всё живое.
Если и защемило сердце Василия Васильевича, то ненадолго — не московские хоромины горят, а полыхает вражий посад! Великий князь московский смотрел, как гибнет некогда сильный город. И был горд. Враг не повержен, но он трусливо покинул свой город, оставив его победителю.
Изготовилась дружина, опустив копья, чтобы по первому трубному звуку ворваться в город и колоть, рубить, резать. Махнул рукой великий князь. Нет, не будет последнего удара — пускай распрямится город Галич.
В Галиче уцелела только церквушка Троицкая. Помогли, видно, молитвы прихожан. Не сгорел Божий дом. Повсюду уголья чадят, а этот стоит на прокопчённых брёвнах, только кроваво проступила на них смола, и крест на маковке почернел, дымом порченный.
Сгинул в пламени и княжеский дворец, откуда совсем недавно наблюдал Юрий Дмитриевич за первым севом. Потоптался Юрий Дмитриевич на пепелище и к церкви пошёл. Вроде бы в вотчину вернулся, а дома-то и нет! Напакостил великий князь и ушёл, а теперь строить сызнова придётся до студёных дней.
Поседел князь в одночасье, седые нити выступили на висках и в густой бороде.
Юрия узнали, народ у паперти расступился, пропустили князя в Божий храм. В беде все едины: что князь, что чернь.
Юрий Дмитриевич прошёл в церковь, остановился у распятия и долго, стоя на коленях, молился. Он чувствовал на себе жалостливые взгляды горожан, которые впервые видели его голову непокрытой. Прежние обиды забылись, а ведь и крут бывал князь — не терпел слова, сказанного поперёк, мог плетьми наказать, в яму посадить. И только один Бог был ему судьёй.
Юрий Дмитриевич ушёл, облегчив грешную душу молитвами, а толпа за ним так же молчаливо сомкнулась. Но знал князь — сейчас народ всё ему простил, и в горе он вместе с ним. Им вместе всё начинать заново.
Юрий Дмитриевич не умел долго предаваться горю и на следующий день повелел рубить лес для города и стен. Тоска уходила вместе с работой. Дома поднимались быстро: всюду стучали топоры, визжали пилы.
Мужики утерев потные лбы, вздыхали:
— Эх, сейчас бы бочку хорошего вина! Тогда и работа спорилась бы пуще прежнего! Да в колокола ударить — то было бы веселье.
Соборные колокола треснули от жара, и только единственный на Троицкой звоннице остался цел. Пламя лишь слегка расплавило его крутые бока, но звон его от этого не сделался глуше, по-прежнему был мелодичен и ласков. Однако колокол берегли до особого случая, то была надежда Углича — вот если и он треснет, тогда не возродиться никогда городу.
Колокола были особой гордостью Юрия Дмитриевича: лучшие мастера Руси их отливали. Не жалел князь на благое дело серебра и щедро отвешивал драгоценный металл мастеровым. И то-то они потом радовали его своим перезвоном! Однако пожар разорил князя Юрия, и единственное, что оставалось ему сделать, — просить сыновей о помощи. Не отступись, родная кровь, помоги серебром и медью. Помоги сотворить чудо, чтобы, как прежде, зазвучал над Галичем колокольный глас.
Галич возродился.
Не впервой на Руси строить заново спалённый город. И месяца не проходит, глядишь, новые избы опять вдоль улицы выстроились, церквушка на пригорке устроилась, и даже корчма притулилась там, где народу удобнее собираться. Трудно поверить, что ещё вчера здесь торчали развороченные огнём обугленные брёвна. А сейчас что и напоминает о пожаре, так это редкие пепелища, и долго ещё на них не будут расти луговые цветы.
Скоро были отлиты и колокола, и мужики охотно, задрав бороды в поднебесье, слушали их дивные песни.
Юрий Дмитриевич был не из тех князей, которые забывают обиды, хоть и не признавали его московские бояре, но силу он свою знал. Могущество, оно в единстве, сыновья-то с ним. И весной, закончив строительство города, Юрий Дмитриевич послал гонцов к сыновьям, просил постоять за отцовскую обиду. Отправил Юрий гонца и к своевольным вятичам, которые завсегда были горазды досадить московскому великому князю.
Собрав большую силу, Юрий Дмитриевич повёл рать на Москву.
Полки галицкого князя стали лагерем у горы Святого Николы. Вот уже пятый десяток лет пошёл, как облюбовал старик эту неприметную и заросшую лесом вершину для своего жилища. Так и прозвали её с тех пор — гора Святого Николы. Редко кому удавалось увидеть старика, ибо выходил он из своей землянки ночью, а разговаривал с гостями через узенькую щель в двери.
Не было дня, чтобы не наведывался к затворнику кто-нибудь из мирян, поговорит со старцем и краюху хлеба под порог положит. Тем он и жил.
Знающие люди говорили, что зимой и летом носил святой старец одну и ту же рясу, во многих местах прохудившуюся, но менять её не желал и тёплой одежды ни у кого не принимал.
— В этой рясе я иночество принял, — говорил старик, — в ней и помирать буду!
Ходил старец всегда без шапки, волос никогда не стриг, и они длинными седыми космами свисали по плечам.
Юрий Дмитриевич спешился у подножия горы и в сопровождении сыновей — Васьки Косого и Дмитрия Шемяки — пошёл к землянке. Шапку князь с себя стянул и предстал перед святым с непокрытой головой.
— Отец Никола, — окликнул негромко старика князь. — Жив ли ты? Отзовись!
Некоторое время в землянке было тихо, а потом послышалось лёгкое покашливание.
— Кто ты, добрый человек? С чем пожаловал? — тихо спросил старик.
— Я великий князь галицкий, Юрий Дмитриевич, — не сумел унять гордыню князь. И сразу понял свою ошибку. Не было для святого разницы, кто перед ним: князь великий или бродячий монах. Все рабы Божьи, и всё проистекает от Его повеления.
— Слушаю тебя, князь.
И почувствовал Юрий Дмитриевич, что, быть может, величие не в княжеском звании да родовитости, а вот в этой святости, неприхотливости, простоте существования. А сам старик так возвысился над ним, ушёл далеко, что никогда не догнать его ни в земной, ни в загробной жизни.
— Правду ли говорит про тебя народ, что ты княжеского рода и имя своё мирское скрываешь?
— Правда, — был ответ, — только ведь кровь и плоть у всех единая. Суета всё! Один Бог вечен.
— Слышал ли ты, старец, о племяннике моём, московском князе Василии Васильевиче?
— Прости, князь, не слышал.
Подивился ответу Юрий, но спрашивал далее:
— А об отце моём Дмитрии Донском слышал? О брате Василии Дмитриевиче?
— О брате тоже не слыхал. А у Дмитрия, князя московского, прозванного за подвиг свой Донским, я в дружине воеводой был. Кровь на поле брани чужую проливал, вот до сих пор и замаливаю этот грех.
— Знаешь ли ты, зачем я пришёл к тебе, старец?
— Ведаю, — уверенно отвечал старик. — Одна болезнь у всех князей. Братьев наказать хочешь. Только ведь не в распрях сильна Русь, а в единстве!
Если старец замаливает пролитую татарскую кровь, то как он смотрит на него, который идёт проливать братову кровушку. Нет, не видать благословения.
Ушёл Юрий Дмитриевич, и ещё долго слышался ему тёплый голос старца: «Только ведь не в распрях сильна Русь, а в единстве!»
— Государь Юрий Дмитриевич, — услышал князь голос воеводы. — К горе полки Василия Московского и Ивана Можайского подходят.
Пожаловали, стало быть, племянники.
— Трубить сбор! Не хочу святого старца сечей тревожить. Встретим рать московского князя в поле. Пусть звон железа не мешает ему молиться.
Отошла от горы рать Юрия Дмитриевича. И вправду: на горизонте пыль поднялась, скоро Васька здесь будет.
Для битвы галицкий князь выбрал поле огромное, где луговая трава высокая и сытная. Луговые ромашки, голубые колокольчики склонили свои головки, словно и они признавали господином Юрия Дмитриевича.
И часа не пройдёт, как будет помята трава сражающимися, телами убитых и раненых, а ромашки скорбно поникнут, политые не дождевой водой, как бывало раньше, а кровью русича.
Рать Юрия терпеливо поджидала дружины Василия Московского и Ивана Можайского. Ратники прилаживали кольчуги и панцири, читали негромко молитвы. Сам Юрий Дмитриевич надел поверх красной рубахи байдану бесерманскую[34] и крепко стянул её широким поясом.
Полуденное солнце сильно припекало. Пот обильными ручьями заливал глаза, рубаха под кольчугой промокла и пристала к спине, долгого ожидания не выносили и кони, они без устали махали хвостами, отгоняя оводов, нетерпеливо рыли копытами землю.
И когда первые ряды дружины Василия Московского поднялись на косогор, князь Юрий повелел стоящему рядом трубачу:
— Ну давай, с Богом, труби к бою!
Услышав трубный голос, рать Юрия Дмитриевича всколыхнулась, словно на ветру, и, изготовив наперевес копья, двинулась на Василия Московского.
Стонали раненые, падали убитые, в панике носились по полю осиротелые кони, гремела без устали труба. И всюду звон, крики, ржание лошадей...
Третий час рубились ратники. Полки князя Юрия теснили рать Василия Васильевича. Обескровела дружина московского князя, повернули бы спины к врагу и во весь опор помчались бы к дому, но разве бывает смерть более позорная, чем в бегстве? Убегающего и колоть легче.
Полки князя Василия Васильевича отходили шаг за шагом. Видно, решил он сохранить силы для главного боя. На поле брани остались лежать первые ряды ратников, кто пал во спасение остальных. Другие, зная о своей участи, дрались отчаянно, сдерживая могучий натиск дружины князя галицкого.
Позорно отходил Василий к Новгороду, только небольшая рать сопровождала московского князя.
Таков уж был Великий Новгород, что принимал под защиту своих крепких стен опальных князей, тем самым всегда наживая могущественных врагов. И закреплял за собой бунтарскую славу. Однако иного он себе не желал, только в вольнице сила великого города. И не было над Господином Великим Новгородом большей власти, чем народное вече.
Сейчас московский князь шёл на поклон к бунтарскому вече просить у него помощи. Славился Новгород не только богатыми купцами, вольнодумством, но ещё и тем, что всегда был готов пригреть обиженного, не откажет в помощи слабому.
Не ждал Василий Васильевич от города многошумного и добродушного колокольного звона в свою честь, не ждал каравая душистого хлеба, поданного на рушнике. Вот если бы город дружину дал добрую, а там и с Богом. Авось в долгу не остался бы! С этой мыслью ехал Василий в славный Новгород.
Не умел Новгород служить ни московским князьям, ни закованным в тяжёлую броню ливонцам, ни татарам на лихих конях: у тех и у других отвоёвывал своё право на независимость. Город представлял силу, не считаться с которой было невозможно. Где самые богатые купцы на Руси? В Новгороде Великом! Где самые искусные пушкари? В Новгороде! Чьи колокола звонче всех к заутрене зовут? Новгородские! А чьи мастеровые могут белокаменные церкви ставить? И здесь Господин Великий Новгород первый! Только новгородские каменщики стены мгновенно залатать способны, только новгородские купцы могут золото дать. А ежели и Новгород не поможет, тогда не найдётся другой силы во всей Руси, чтобы пособить. Не единожды Москва просила помощи у Новгорода. Сами московские князья, въезжая за его крепкие стены, шапку смахивали.
Ехал Василий Васильевич за ратной силушкой. С версту осталось до мурованых новгородских стен.
Сошёл с коня Василий Васильевич — решил в город идти пешком, тем самым показав своё смирение. Конь послушно ступал за хозяином, следом шли немногие из бояр.
День был базарный, и Василий направился на Торговую сторону. Мост, под которым река Волхов несла свои воды в холодную Ладогу, поскрипывал. У моста, прижавшись крутыми бортами к берегу, стояли иноземные парусники. На палубе в тюках лежало сукно, в мешках — соль; по мосткам на берег чёрные люди выкатывали бочки с пивом. На Опоках высился храм Иоанна Предтечи, перед входом иконка Божией Матери. Вокруг церкви «Иванское сто», в толстые стены которой упирались длинные торговые ряды, толпился народ. Важно, в длинных чёрных мантиях, шествовали по базару заморские купцы, холёными пальцами щупали блестящие шкурки бобров. Прошка Пришелец, глянув на кудлатую голову князя, предостерёг:
— Чёрного люда полно, князь. Шапку бы надел.
Натянул государь Василий Васильевич соболью шапку на самые уши и пошёл дальше.
Не знал Новгород голода. Жил он всегда сытно, славился хлебосольством. На торговых рядах в изобилии выставлен хлеб, который свозили в Великий Новгород со всей Северной Руси. Поморы к столу новгородцев доставляли жирную сельдь и рыбу.
Размашисто, вдоль всей реки, проходил рынок. Под навесами устроился суконный ряд, мясной, рыбный. И, созерцая это изобилие, Василий Васильевич подумал, что торг в Москве будет поскромнее.
Всем взяли новгородцы: не было у них того трепета перед богатым платьем, который отличает крестьян и чёрный люд Московии. Дерзко вскинет иной малолеток бесовские глазищи и окликнет проходившего мимо заморского гостя:
— Господин! Сало отведай. На вкус такое, что язык проглотишь!
Трудно было не поддаться на уговор и не отпробовать угощения, а уж если отведал, так бери целый шматок!
А иной малец, не считаясь с чином, тянет родовитого гостя за рукав и зовёт к своему лотку, где его батянька черпает тёмное пиво и разливает его в деревянные чаши просителей.
Подошёл князь к бочке, бросил на лоток деньгу и тотчас получил чашу с пивом. Ожило нутро от горького напитка, в голове зашумело, и сделалось веселее.
— Куда идём, князь? — поинтересовался Прохор.
— К посаднику, — махнул рукой повеселевший князь. — Авось не откажет в помощи.
И, поглядывая на богатый торг, Василий в который раз позавидовал тому, что купцы московские были победнее.
Василий и Прошка прошли Плотницкую сторону, где мастеровые чинили прохудившиеся ладьи, собирали срубы. Здесь же, у самой реки, стоял крепкий дом. Тут проживал новгородский посадский дьяк Кондрат.
На стук глухо забрехал за воротами пёс, и тотчас раздался во дворе строгий голос:
— Чего орёшь, ушастая бестия! А ну пошёл в конуру! Гости это!
Заскрипели ворота, отворяясь, и Василий Васильевич увидел дворового мужика.
— Батюшки святы! — выдохнул мужик. — Никак ли сам московский князь к нам пожаловал? Проходите, дорогие гости, проходите! Надо было бы вам вперёд себя гонца послать, мы бы сумели вас встретить! Кондрат Кириллович, радость-то какая, — орал слуга, — московский князь у нас на подворье!
В белой вышитой сорочке и синих широких портках, на высоком крыльце появился сам хозяин дома. Если бы перед ним появился сам Иисус Христос, возможно, он удивился бы куда меньше, чем приходу великого московского князя.
Московские князья приезжали в Великий Новгород всегда с большой дружиной, загодя посылали гонцов, чтобы город успел приготовиться к встрече и величал бы их хлебом-солью да звонкими колоколами, низкими поклонами чёрных людей. Чтобы митрополит Новгородский шёл впереди встречающих и несли бы чудотворную икону; и сам князь въезжал бы не по голой земле, а чтобы копыта жеребцов топтали дорогие иноземные ковры. Только к таким почестям привыкли московские князья. И всегда сосед — древний Новгород старался ублажить честолюбивого сильного соседа.
Сейчас великий московский князь был один, если не считать немногих бояр, которые жались за его спиной. Пропала былая горделивость и высокомерие во взгляде, которыми отличались московские Рюриковичи, и посадник Кондрат Кириллович понял, что произошло нечто важное. Видно, это «что-то» заставило смирить прежнюю великокняжескую гордыню, вот от того и явился Василий в Великий Новгород не хозяином, а изгнанником.
Не сломался в поклоне Кондрат Кириллович, что случалось в прежние времена. Был он сам теперь хозяином положения. Ведь новгородцы величали его по имени и отчеству, называли «батюшка наш». Заложил за пояс Кондрат ладони и смотрел с вызовом на великого князя.
Нахмурился московский князь, не по душе ему пришлась вольница Новгорода.
— Здравствуй, Кондрат. Что же ты князя московского не хочешь приветить? Или не господин я?
— А для меня есть один господин — вече народное! Князь московский меня не выбирал. У него своя земля есть. Новгород, он всем городам старший брат.
Василию Васильевичу захотелось возразить строптивому посаднику, сказать, что, дескать, прошли те времена, когда Великий Новгород величали старшим братом, и что только один город на Руси может быть первопрестольным, но сдержался. Если бы явился он в город с великой дружиной, нашёлся бы, что ответить дерзкому посаднику. А сейчас Кондрат на обидные слова и прогневаться может. Бывало в истории Великого Новгорода, когда изгоняли они за ворота неугодных князей, а про гостей непонравившихся и говорить нечего. Взашей выпрут!
Посадник, желая загладить неловкость, проговорил мягче:
— Ну, чего же ты у порога застыл, князь? Проходи в хоромы, ведь не иноземец какой, а свой, русский. За столом и расскажешь про дела. И что за беда тебя в Новгород привела. — И лихо прикрикнул на дворовых людей, которые сбежались посмотреть на московского князя: — Чего рты пораззявили?! А ну бегом стол готовить! Не видите, что ли? Проголодался Василий Васильевич! Пойдём, государь, пойдём, — чуток приобнял посадник Василия за плечи.
Разговор начался после того, как великий князь с боярами отведали шесть кушаний кряду. Молодые девки, зыркая на юного князя, убирали со стола пустые блюда. Утёр ладонью жирный рот Василий и, оборотись к посаднику, сказал:
— Опять Юрий Дмитриевич ссору затеял. На московский стол зарится, супостат.
— Знаю, — махнул рукой посадник. — Чай, не в пустыне живём. Народ уже сказывал об этом. Говорят, побил он тебя на реке Куси и под Ростовом.
— Побил, — согласился Василий. — Теперь мой черёд сдачи давать. Может, ты мне поможешь новгородскую дружину собрать? Что скажешь, Кондрат Кириллович?
Кондрат был из поморов. И дед и отец его жили тем, что ходили в заморские страны, торговали мехами, ловили белорыбицу и привозили с собой удивительные истории про житие-бытие заморское, рассказывали, что происходит вне родных стен. Чужая жизнь казалась удивительной: дома всюду строили из кирпича, церкви были высоченные, со множеством колоколов, даже обычные дороги выложены брусчатником, и оттого даже в самую непогоду грязи на них не увидать. Быть может, и Кондрат навсегда связал бы свою жизнь с морем, умножая славу своего удивительного края, да только судьба распорядилась иначе. Приглянулся смышлёный мальчишка новгородскому тысяцкому: и грамоту разумеет, и на язык остёр. Года не прошло, как пятнадцатилетний отрок сделался при тысяцком подьячим[35]. А как вошёл в мужицкую силу, женой обзавёлся, стал тысяцкий именовать его дьяком. Может, суждено ему было остаться дьяком при сильном новгородском тысяцком, если бы не случилась беда: в лютую годину, когда Витовт, презрев крестное целование, двинул литовское воинство на Новгород, попал тысяцкий в полон. Вот тогда возглавил дьяк новгородское ополчение. Вместе с дружиной Василия Дмитриевича отбросили литовцев от Пскова и Новгорода, освободили тысяцкого.
И, поглядывая сейчас на Василия Васильевича, Кондрат вдруг обнаружил, как похож тот на своего отца. Далее кольчугу его надел! Та же пряжка золотая у самой шеи, а на ней выбито: «Сохрани меня. Господь!» Василий Дмитриевич уберёгся, своей смертью помирал великий князь, какова судьба сыну его достанется?
Хоть и непохожими были Москва и Новгород, но объединяла их всегда одна беда: как Новгород просил у московского князя помочь защитить пригороды от ливонцев и шведов, так и московский князь посылал за помощью в Великий Новгород, чтобы поднимались они супротив ордынцев. И не было в этой поддержке ничего зазорного.
Кондрат поёрзал на скамье, нужно было отвечать московскому князю. Однако не мог подобрать слов умный посадский.
Не успела оправиться Новгородская земля от недавней войны с ливонцами, а тут, не далее как полгода назад, прошёл по её большим просторам мор, который унёс тысячи жизней. Хотелось сказать Кондрату, что обезлюдела Новгородская земля: многие деревни пусты, некому землю пахать по весне. И собрать воинство будет непросто.
— Ты же знаешь, Василий Васильевич, всё решает вече! Это у вас на Москве всё просто. Пожелал князь — оторвал мужиков от сохи и собрал посошную рать. Набрал чёрный люд и пустил на ворога. А новгородцы народ вольный! Холопов у нас отродясь не бывало. Как вече решит, так тому и случиться. А я противиться не стану.
— Вече, говоришь? Пускай будет вече. Только поначалу я сам бы хотел на этом вече высказаться.
— На вече может говорить каждый. Вот завтра и устроим. Эй, Манька! Фёкла! Девки! Где вы там?! Дайте князю горло наливой ополоснуть! И ещё медовуху несите. Да покрепче! Ту, что в чулане под навесом стоит. Липовую.
Вече проходило на Ярославском подворище, на Торговой стороне, и с трудом вместило всех новгородцев. Однако тесно здесь никогда не бывало. Плечом к плечу стояли ремесленники и купцы, поморы и заморские гости. В центре дворища — степень, помост, сколоченный из грубых досок; тут же било, которое зазвучало в то утро по-особому звонко, заставляя стекаться к площади народ.
Монах, высоченный и сутулый детина, колотил молотом по тяжёлому железу, и бухающий звук с каждым новым ударом расходился далеко во все стороны, будоража и торговую площадь, и новгородский посад.
Новгородцы подходили к дворищу степенно, сдвинув на самые затылки мохнатые шапки, и скоро двор наполнился гулом.
На степень взошёл Кондрат и одним взглядом охватил площадь. Он был виден отовсюду — с ближних и дальних уголков Ярославского дворища.
— Братья новгородцы, — сказал Кондрат, сняв перед великим вольным собранием шапку. — К нам в Великий Новгород приехал московский князь Василий Васильевич просить нашей помощи супротив дяди своего, Галицкого князя Юрия Дмитриевича. Что вы скажете на это, новгородцы?
— Пусть князь московский говорит! — раздалось из толпы.
— Пусть князь своё слово скажет!
— Василия желаем выслушать!
Василий Васильевич стоял близ помоста в окружении бояр. Если кто и повелевал им когда-то, так это митрополит Фотий, который укорял князя в прелюбодеянии, в несоблюдении постов, в жестокости к мирянам. Ещё по малолетству ругал его отец, Василий Дмитриевич. Здесь же были новгородцы, чужие ему люди, которые хотели видеть князя и слышать, что он им скажет, как поведёт себя.
Им нужен был не пряник и не кнут, а слово, которое способно пробить до глубины души.
Василий хорошо знал и уважал Новгород — город с крепкими стенами, чугунными воротами, величественными соборами. Сейчас на него смотрели те, кто сотворил это чудо, те, чьей славой живёт вольный Новгород. Сейчас Василий находился в самом сердце прекрасного города, на главном его дворище, где собирается вече, и, глядя в открытые лица новгородцев, он понял, что убедить их будет нелегко. Не гордецом, жестоким и властолюбивым, не побеждённым и униженным должен предстать князь перед людьми, а сохранить спокойствие и достоинство.
— Вольный город Новгород! Пришёл я к тебе не с дружиной и войной, а с миром и низким поклоном. Я пришёл к тебе за помощью и советом... — И тут Василий Васильевич вспомнил, что не обнажил голову перед новгородцами, как того требовал обычай, шлем его показался ему неимоверно тяжёлым. Но он князь! Он Рюрикович! Разве подобает князю, избранному самим Богом, обнажать голову перед смердами? Пусть это даже новгородцы. — Помоги мне, Новгород, отобрать стол московский у давнего моего недруга Юрия Дмитриевича, снаряди для меня дружину! Ну, а внакладе я не останусь, отблагодарю тебя сторицей! — Вече молчало. — Разве Новгород не помнит того добра, какое делал ему отец мой, Василий Дмитриевич, отстаивая от шведов и ливонцев! Разве мало московитов полегло под стенами Новгорода?! Я не хочу быть вам старшим братом. Я буду относиться к вам так, как это делал мой батюшка Василий Дмитриевич! А если и была когда-то между нами какая-то беда, прошу покорнейше прощения. На то только Бог вам и судья! — Князь спустился со степени, смешался с толпой, только княжеские бармы и отличали его от стоявших бояр.
На степень взобрался вихрастый детина, расшитая рубаха выдавала в нём мастерового.
— За помощью к нам пришёл великий князь, а гордыню норовит впереди себя выставить. Шапку перед вольными людьми постеснялся снять. А может, он сраму боится? Только мы ведь не холопы, каждый сам себе хозяин! Бывало, мы указывали на порог князю и приглашали другого... — Порыв ветра взъерошил кудри детины, и он стал похож на воинственного петуха. — А для нас один господин — Великий Новгород!
Новгородцы тревожно загудели:
— Чего нам Москва?! Мы сами по себе! У Москвы свои заботы!
Детина откинул кудри, глубоко за пояс заткнул шапку и продолжал:
— Ты нас, князь, не неволь! Не привыкли мы к этому. И нужды в том особой нет, чтобы рать новгородскую собирать. Это твоё домашнее дело, вот с дядей один и разбирайся! Если бы помощь от татар просил или от латинян, тогда отказа бы не получил. Первым бы я в ополчение пошёл! А здесь расходятся наши пути-дорожки!
Детина давно уже спрыгнул на брусчатник, а новгородцы продолжали тревожно гудеть:
— Верно говорит! Не пойдём к Москве. Чего зазря животы класть! Юрий Дмитриевич никогда зла Новгороду не желал!
— Юрий Дмитриевич с Новгородом в мире был!
Ясно стало Василию, что помощи от Великого Новгорода не видать. Ох уж этот Господин Великий Новгород! Только одна досада от него. Орут каждый своё, не считаясь с чином. Такое в Москве невозможно.
Покинул великий князь вече, а слова новгородцев ещё долго звучали в ушах, беспокоя.
Вечером к Василию пришёл Кондрат и, словно винясь, завёл разговор:
— Не моя это воля, слышь, князь. Я всего лишь посадник новгородский. Захотело вече — избрало меня, а пожелает, так и взашей за ворота выкинет. Вече всему господин! Думаешь, князь, просто нам кровь русича пролить? Ой, как трудно! Так что не обессудь, государь, и помощи от нас не ходи. В Новгороде можешь жить сколько захочешь. В обиду тебя не дадим. — Кондрат надел шапку, постоял и добавил: — Может, тебе в Нижний идти, авось не откажут там.
Василий остался один, через грязно-мутное стекло тускло пробивался дневной свет. В комнату вошёл Прошка:
— Государь Василий Васильевич, письмо тебе от Ивана Можайского.
Своё послание Ивану Можайскому великий князь отправил сразу, как только прибыл в Великий Новгород. Всё это время он с нетерпением дожидался ответа, от которого, быть может, зависела не только личная его судьба, но и участь великого московского княжения. Сейчас, получив весть от двоюродного брата, он боялся услышать правду.
— Читай! — протянул великий князь послание верному слуге.
— «Государь мой и старший брат князь Василий Васильевич Московский, живи в здравии. Спасибо тебе за послание, не забываешь ты меня своей заботой...»
— Читай дальше, суть хочу слышать!
— «Матушка шлёт тебе поклон, справляется о твоём здоровии...»
— Главное читай! — сжал кулаки князь.
Прошка отыскал глазами то, чего ожидал услышать великий князь.
— «Государь мой, князь великий Василий Васильевич, где бы я ни был, всюду слуга твой верный. Но сейчас, прости, не могу пойти за тобой. Силой мне грозит Юрий Дмитриевич! Отписал мне третьего дня, что, если я за тебя вступлюсь, пойдёт на меня войной. Но теперь нельзя терять мне свою отчину. Не хочу, чтобы матушка скиталась по чужим дворам неприкаянной. Прости меня, государь, на том кланяюсь тебе низко».
Растерял величие московский государь, будто его и не бывало. А бояре? А что с них взять! Служат тому, кто посильнее, вот только Прошка один и остался, да и то потому, что безродный и без племени.
— Что делать будем, великий князь?
Василий Васильевич посмотрел на двор, где молодка сыпала зерно набежавшим курам, и отвечал честно:
— Не знаю.
Неделю стольный град выдерживал натиск дружины Юрия Дмитриевича. Среди осаждавших был здесь и полк Ивана Можайского.
Воевода московский, Роман Иванович Хромой, плевал со стен на головы гонцам галицкого князя Юрия Дмитриевича и отворять ворота не велел. А потом, когда воевода, сражённый, упал, московские бояре распахнули ворота и вышли навстречу сыну Дмитрия Донского, держа в руках хлеб-соль.
Смилостивился Юрий Дмитриевич: простил всех бояр, а отважного воеводу повелел отпаивать травами.
Великих княгинь Юрий Дмитриевич видеть не пожелал. Приказал их вести по улицам через весь город. Горожане отворачивались, смотрели себе под ноги, не желали видеть позор Марии Ярославовны и Софьи Витовтовны. Не пряча лиц, они пешком прошли до самых ворот, где их уже дожидалась колымага, чтобы отвезти великих княгинь в заточение в монастырь в город Звенигород.
У самых ворот Марья Ярославовна посмела потревожить свекровь вопросом:
— Матушка, может, Василий забыл про нас?
Софья Витовтовна строго посмотрела на сноху и зло оборвала:
— Ты чего такое говоришь! Как это московский князь может о матушке и жене своей забыть? Не время ему сейчас! Вот соберётся с силами, тогда... тогда и вернётся в Москву. Подмогу он ищет, чтобы совладать с Юрием. Не старые времена, бояре новому князю служить не станут. А ещё я брату отпишу. Не будет он к себе Юрия принимать. Вот попомнишь моё слово, один Юрий останется!
Мария Ярославовна ни о чём более не спрашивала. Хотела она поделиться с ней тайным, но удержалась. Охладел к ней Василий Васильевич, не желает её. Завелась у великого князя зазноба с синими глазами в боярском тереме. И Мария приняла свою судьбу покорно. Как же пойдёшь против мужниной воли? Видно, не сумел московский князь устоять против соблазна, вот и кружит, злодейка, ему голову, зельем приваживает.
Земля всегда полна слухов. Мария знала и о том, что сперва Василий Марфе обещал жениться, об этом у московского князя и договор с Иваном Всеволожским был. Да вот Софья Витовтовна настояла на своём. Однако синие глаза прочно приворожили Василия Васильевича, и, видно, не сыскать наговора, который мог бы вытравить эту болезнь.
— Да, матушка, один князь Юрий останется, — поспешила согласиться Мария.
Челядь помогла Софье Витовтовне подняться в колымагу, рядом села и Мария. Возница повертел головой и, увидев, что княгини расселись по местам, взмахнул кнутом.
— Пшёл, лентяй! Пшёл! Ишь ты, застоялся!
Лошадь, помахивая густой гривой, неохотно потащила колымагу по дороге.
Не сыскал Василий Васильевич помощи в Великом Новгороде. Не пожелали новгородцы ссориться с окрепнувшим галицким князем, который обеими ногами взобрался и на московский стол. И первые монеты с изображением нового князя уже попали на новгородский торг. Василий Васильевич долго разглядывал серебряный круг: на одной стороне всадник, поражающий змея, на другой неровными буквами выведено имя нового московского князя. Подержал на ладони Василий Васильевич монету и швырнул её в грязь. Кони торопливо затоптали монету и порысили дальше по нижегородской дороге.
Помог один Кондрат, собрал великому князю небольшую дружину, чтобы проводила его до московских пригородов с честью, а на том и конец.
Всю дорогу Василий Васильевич был угрюмым, а если говорил, то словно зёрна спелые бросал на пашню.
Наконец подъехали к Владимиру. А что, если повернуть к белокаменной, в родную вотчину? Неужели отступится от своего господина московский народ? Может, гонцов сначала послать, а самому ехать не спеша, дня за три доехал бы.
Бояре поведали: во Владимире ждал отдых. Задиристую песню затянул Прошка Пришелец. Тут уже и Московская земля недалеко, почитай, своя вотчина! Ратники заговорили о долгом постое, о медовухе и жёнах. Небольшая рать Василия Васильевича измоталась в чужих землях и хотела хоть небольшого, но отдыха. С владимирской стороны веяло покоем и теплом. Город Владимир сытен и хлебосолен, не откажет великому князю в гостеприимстве.
Василий Васильевич оглядел свою немногочисленную рать и произнёс, прервав все мечты и ожидания своих ратников:
— Во Владимире останавливаться не будем. Едем дальше.
— Куда же дальше, князь?
— В Нижний!
Приуныли враз бояре и челядь. Скрывая от Василия Васильевича досаду, воротили носы ратники, и бестолковой сейчас казалась песня Прошки. Скоро угасла и она, не поддержанная никем.
Опытными ловчими оказались Юрьевичи: заставы, выставленные на дорогах, извещали их, что Василий свернул с Владимирской дороги и пошёл в Нижний Новгород. Василий Васильевич чувствовал за спиной дыхание братьев и знал — остановись он во Владимире хотя бы на день, сечи не избежать.
Не было сейчас на Руси человека, которому бы он сумел довериться, а князь нижегородский тоже себе на уме. В темницу, конечно, не запрет, но и против Юрьевичей вряд ли захочет выступить. В Орду надо ехать, к хану Улу-Мухаммеду, вот кто не обидит. А там, может, и стол московский сумеет вернуть.
— В Бахчисарай едем, — повернул на ордынскую дорогу князь Василий. — Заступничества у хана Мухаммеда просить станем.
Юрий возвращался с охоты и с дороги видел, как бабы, подоткнув подолы, дёргали сорную траву. На руке сокольника тихо клекотал ястреб. Не было сейчас для Юрия Дмитриевича милее музыки, чем голос птицы.
— Восточный ветер дует, князь. К напасти это, — произнёс сокольник. — Видать, быть в этом году болезням. Примета такая есть на Луку Ветреника.
Не хватало Юрию Дмитриевичу Семёна Морозова, вот кто мог его добрым словом утешить. А с сыновьями, кроме родства, ничего и не связывает. Сказано им было не трогать Василия, а они его до сих пор по всей Северной Руси, как зайца, выслеживают.
Когда подъезжали к Москве, у самого моста князя вдруг неожиданно качнуло, да так крепко, что, не держи он поводья, слетел бы с седла. Оглянулся назад Юрий, кажись, никто не приметил его слабости, лишь конь, видно почуяв тайный недуг хозяина, пошёл ещё тише; старался ступать осторожнее по неровной дороге.
Вечером Юрию Дмитриевичу сделалось совсем худо. Кожа покрылась красными пятнами, и князя стал одолевать жар. К утру ему полегчало, и тело его, как и прежде, наполнилось привычной силой. Но он не знал, что болезнь уже завладела им, и через некоторое время на коже появились кровоточащие язвы. Юрий слёг. Знахарки, приглашённые к больному князю, пичкали его разными травами, шептали молитвы, но Юрию Дмитриевичу становилось всё хуже.
Боясь княжеского гнева, старухи утешали его, твердили:
— Потерпи, князь. Потерпи самую малость, батюшка, хворь и отойдёт.
— А если не отойдёт? — неожиданно спросил князь.
И только самая смелая ответила:
— Если не отойдёт хворь... значит, Господь к себе заберёт, батюшка.
Для всех было ясно, что болезнь отняла у князя последние силы и дни его сочтены.
Галицкие бояре, пришедшие за Юрием в Москву, не отходили от своего господина. Как могли, помогали своему государю: кто пить подаст, слово доброе скажет, ведь вместе много дорог пройдено.
— Виноват я перед великими княгинями, — тихо говорил князь. — В заточение я их отправил... в Звенигород. — Лицо его кривилось и в мерцании свечей выглядело мертвенно-бледным. — Я бы ещё перед Василием Васильевичем повинился, братичем моим. Видно, это Господь меня за многие злодеяния наказывает. Дьяк! — крикнул князь, собирая последние силы.
— Здесь я, батюшка! Здесь! Чего писать-то прикажешь? — дьяк разглаживал бумагу ладонью.
— Пиши вот что... Стол московский оставляю князю... Василию Васильевичу.
Не удивились бояре решению князя. Совестлив Юрий Дмитриевич. Бывало, слугу накажет за провинность, а потом сапоги ему дарит.
Дьяк добросовестно выводил буквы, то и дело макал перо в чернильницу. Большая тёмная капля вдруг капнула прямо на бумагу. Дьяк слизал чернила и продолжал писать дальше.
— Пиши... что винюсь перед ним, прошу прощения, как у старшего брата... — не успел князь закончить свои предсмертные указания, захрипел да и почил с миром.
Дьяк, отерев чернильные руки о кафтан, прикрыл умершего.
Великого князя Юрия Дмитриевича похоронили в Архангельском соборе у восточной стены. Угомонился беспокойный князь. Московские и галицкие бояре, прекратив прежнюю вражду, собрались вместе, стали решать, что делать дальше. Кресло великого князя оставалось свободным, и бояре поглядывали ненароком в дальний угол, словно надеялись, что Юрий Дмитриевич сумеет справиться с такой напастью, как смерть, и встанет из могилы.
Первым заговорил конюшенный Григорий Плещеев, он был старейшим из бояр:
— Господин наш, князь Юрий Дмитриевич, повелел звать на московский стол Василия Васильевича. У Юрия Дмитриевича три сына осталось. Васька Косой мог бы быть московским князем по новому праву. Что скажете, бояре?
С лавки поднялся постельничий[36], боярин Сабуров Пётр.
— Можно было бы уважить волю князя Юрия Дмитриевича. Только ведь её как будто бы и не было. Митрополит должен стоять рядом у постели и подтвердить слова покойного, а Юрий отошёл неожиданно, даже причастие не успел принять. И волю свою он до конца не изрёк. А где Василия Васильевича сыскать? Рыскает он где-то по Руси что волк без логова. А Юрьевичи рядом, вот им и нужно писать! А там как Бог даст.
На том и порешили.
Полки Дмитрия Шемяки торопились по Владимирской дороге вслед князю Василию. Он находился в двух днях пути, и пыль едва осела на придорожную траву.
Со стороны Владимира навстречу воинству спешил гонец.
— Эй! — Детина осадил коня рядом с ратником, чинившим в стороне от дороги огромную пищаль[37]. — Как великих князей Василия и Дмитрия сыскать?
— А чего их искать, — отложил в сторону оружие ратник. — Дмитрий час назад уехал, говорят, зайца гонять. Его полки на лугу. А Василий здесь... Вон в тех хоромах брата ждёт. Коням отдых нужен, семь дней под седлом.
Спешился гонец у хором и, сняв шапку, уверенно стал подниматься по крутым ступеням. У самого входа его попридержал отрок с бердышом.
Детина отстранил от лица бердыш и зло выругался:
— Глаз проткнёшь, пёс смердячий! С письмом я срочным к великим князьям спешу!
Переглянулась стража, но гонца пропустила. А у дверей уже Василий Косой стоит, подбоченился, заслонил статной фигурой весь проем.
— Куда прёшь! Не видишь, князь перед тобой!
Посыльный согнулся в поклоне и разглядел, что сапоги у князя татарские, вышитые голубками, кожа на голенищах красная, словно по крови ходил.
— Вижу, государь, вижу. Письмо я тебе везу от бояр Юрия Дмитриевича... помер князь великий Юрий. Спаси, Господи, его душу.
— Помер... — не то подивился, не то огорчился Василий Косой. — Ведь здоров был. На охоту собирался ехать, когда мы с Дмитрием его оставляли.
— Вот на охоте и скрутило его, горемычного. Только два дня после этого и пожил, а на третьи сутки отмаялся.
— Так, стало быть...
— Бояре наказали тебе и Шемяке об этом сказать.
— Стража! — окликнул Василий Косой стоявших у дверей воинов. — Взять лихоимца да бросить его в темницу. И чтобы охраняли пуще глаза своего! — приказал Василий. — Упустите, с живых кожу сдеру!
— Государь! Князь Василий Юрьевич, да за что же мне такая немилость, — вырывался гонец из крепких рук стражей. — Дозволь слово молвить! Дозволь сказать!.. — кричал посыльный вслед удаляющемуся князю.
Василий уже не слышал, вдел в стремя ногу и, лихо вскочив в седло, погнал коня прочь от митрополичьих палат.
— Пошёл, злодей! — толкали дружинники гонца в спину. — Князь зря неволить не станет, он знает, что делает!
Полки Василия Косого разбили шатры за городом. По приказу воевод многие уже облачились в доспехи и ждали сигнала, чтобы следовать к Нижнему Новгороду. Уже были развёрнуты знамёна, били копытами кони, но трубы по-прежнему молчали. Войско давно выстроилось поколонно, сотники ретиво грозили кулаком дружинникам и с трудом добивались повиновения. Тяжёлые пищали погрузили на телеги. Полки на левом и правом флангах пока не спешили — сперва головной должен тронуться, а уже затем и меньшие князья за ним пойдут.
Кое-где шатры были ещё не собраны, около них горели костры, ратники от безделья скалились, перекидываясь грубыми шутками, весело гоготали.
Зазвучала труба. Лагерь всполошился, и головной полк, вопреки ожиданию, двинулся в сторону Московской дороги.
Безбородый ратник подобрал с земли пищаль и, нагоняя сотника, спросил:
— Куда мы идём, Степан? Разве не в Нижний?
— Держи крепче оружие, раззява! В Москву идём, так князь Василий Юрьевич повелел.
Выстроившись в шесть колонн, рать Василия Юрьевича двигалась в Москву. Последним шёл полк, который состоял сплошь из мужиков, взятых чуть ли не от сохи. Редко на ком из них встретишь сапоги, а так все лапти да длинные, до колен, рубахи. Мужики покорно следовали по Московской дороге туда, куда вёл их великий князь.
Впереди всей дружины ехал Василий Косой, его конь горделиво ступал по пыльной дороге, неся драгоценную ношу. Князь доспехов не снял, и солнце играло на золотой броне.
— Что с гонцом делать прикажешь, князь? — спросил тысяцкий.
Призадумался Василий. Он уже забыл о гонце, брошенном в темницу. А если младшему брату захочется занять отцовский стол? Есть ещё и опальный Василий Васильевич, он-то уж точно не откажется от подарка. А вести о смерти князей разлетаются быстро, не успеешь оглянуться, как кто-нибудь из братьев на московский стол взойдёт, и опять тогда прозябать в окраинном уделе. Хватит! Побыл младшим братом, теперь другим черёд!
— Гонца убить! И сейчас же! Сделать это незаметно, так, чтобы в полках никто не прознал об этом.
— А если о гонце кто из бояр спросит?
— Скажешь, уехал уже.
— Понял, государь, — кивнул тысяцкий. — Пойду распоряжусь.
— Стой! — остановил тысяцкого Василий Косой. — Никому не говори, сам всё сделаешь.
— Как скажешь... — не посмел противиться тысяцкий.
Он подумал, что за невинно убиенного человека накажет его Господь и никакие молитвы и поклоны тут не помогут. Никогда не замолить ему этого греха.
Гонец сидел в земляной яме и, подперев плечами влажную стену, смотрел прямо перед собой. Зацепившись за тоненькую веточку, на блестящей паутине над ним висел здоровенный мохнатый паук и терпеливо плёл липкую сеть, поднимаясь всё выше и выше к железным прутьям. Вот так бы самому наверх выбраться.
Узник смахнул паука рукой и раздавил каблуком. Сорок грехов как и не бывало. Ноги затекли. Гонец разогнулся и увидел, что прутья решётки лежат неровно.
— Эй, парень! — раздалось сверху. — Вылезай, тысяцкий тебя видеть желает.
Затем о земляной пол стукнулась лестница.
После холода земляной ямы солнце показалось особенно тёплым. Гонец стряхнул с полы кафтана налипшую глину и дерзко посмотрел на тысяцкого.
— Ответишь ещё за своеволие! Будет тебе от московского князя.
Тысяцкий только хмыкнул. Последние десять лет он служил Василию Косому. И сейчас понимал, что выбор был сделан верно. Честолюбив молодой князь, быть ему на московском столе первым.
— Не бранись, молодец. Вот лучше выпей чашу с вином. Это тебе Василий Косой прислал, отпускает тебя. На том и разойдёмся.
И тут гонец почувствовал, что сейчас ему очень хочется пить. А раз сам князь потчует, то можно и забыть прежнюю обиду, а сердце от хмельного только веселеет.
Принял он с благодарностью чарку и осушил до дна.
— Спасибо, брат, уважил... — только и успел произнести, а потом сделал шаг, неуверенно — другой и, хватаясь за горло руками, захрипел и повалился на землю.
— Кажись, околел. Не по-христиански это, без попа хоронить. Да что уж сделаешь, князь повелел! — И, оборачиваясь к страже, сказал: — Припрятать бы гонца надо, а потом зарыть тайно.
Настороженно стольный град встретил нового князя. Колокола онемели, будто языка лишились, улицы пусты, окна ставнями закрыты. И рать Василия Косого, уверовав в быструю победу, въезжала в Москву, непривычно тихую.
Для всех было памятно недавнее прибытие в стольный город галицкого князя Юрия Дмитриевича. На белом рысаке проехал, попона у коня золотом расшитая, будто править ехал на долгие годы, будто ждали его, окаянного, здесь. Покарал злыдня Господь: и месяца не прошло, как болезнь Юрия свалила. Видать, то же самое и Ваську Косого ожидает за то, что без позволения Божьего на стол московский зарится.
Старухи в чёрном, прячась за заборами и воротами, крестились и шептали в спину князю:
— Сатана поехал! Сатана поехал! Не будет теперь никому жизни! Всех со света сживёт!
Боярин Брюхатый замахнулся на кликуш плетью, но ударить не посмел. Такое поверье на Руси: нельзя старого да убогого трогать. Грех большой!
Как ни старался скрыть весть о смерти отца Василий Косой, скоро она докатилась и до Дмитрия Шемяки — и застала его на подходе к Нижнему Новгороду. И тотчас отпала надобность гнаться за великим московским князем: не ровен час, и сам в опальных окажешься.
Василий Косой, заняв Москву, отправил братьям гонцов, чтобы спешили ехать к нему в вотчину целовать крест на верность.
Два родных брата у Василия Косого, оба Дмитрия: Шемяка и Красный. Братья знали, не давал Василий спуску в отроческих играх, не будет жалеть и сейчас. Крут бывал Василий и с дворовыми людьми. Дмитрий Шемяка помнил, как старший брат в сенях нещадно лупил дворовую девку за какую-то небольшую провинность. Забил бы её до смерти, не вмешайся тогда Юрий Дмитриевич, а над князем и никто не властен, кроме Всевышнего.
Невинные детские обманы переросли со временем в коварство. Бог, он шельму метит — и правый глаз Васьки косил, напоминая всякому о воровской натуре княжича. Все знали и помнили братья, но пришлось-таки выполнять волю старшего.
Дружина остановилась в Больших Сокольнях. Селом его назвать трудно — скорее всего, пригород Нижнего Новгорода. Оба Дмитрия поселились в крепком доме, строенном в три клети. Такие хоромины и у бояр не часто встретишь, а тут староста общинный! Жило село богато и стояло вдали от больших дорог, вот и подзабыли они набеги татар. Богатели.
Князьям прислуживали три дочери старосты. Две чернявые с карими глазами, видно, в отца, а младшенькая — беленькая, и волос, словно лен чёсаный. Та, что помладше, нет-нет да и стрельнёт в Шемяку озорным глазом.
Захмелела у Дмитрия Шемяки головушка от выпитой медовухи, забилось радостно сердце от ясного взора, а когда девка проходила мимо, обнял её князь за тонкий стан и горячо зашептал:
— Как стемнеет, приходи ко мне в горницу. Ждать там тебя буду. Не бойся, не обижу, люба ты мне!
Вывернулась девка из молодецких объятий и от самого порога сказала:
— Мала я ещё, князь. Шестнадцать только и минуло.
Разве могли Юрьевичи, захмелев, обойтись без пения и музыки. Дмитрий наказал старосте:
— Вели, чтобы гусляр пришёл, петь хотим!
— Хорошо, гости дорогие, будет вам музыка. Эй, Меланья, сбегай за Никиткой Хромым. Да пускай гусли с собой возьмёт, князьям играть будет.
Вошёл гусляр. Роста малого, сам неказист и ногу чуток подволакивает. Но тронули тонкие пальцы струны, и полилась радостная музыка. Запел гусляр чистым, словно родниковая вода, голосом. Пел про раздор братьев и про княгиню-красу; пел про степняка-злодея и про русскую полонянку.
Уже смолкли струны, затих гусляр, а Дмитрий Шемяка долго не мог согнать с лица печаль.
— Словно про нас пел... Нет мира между нами, родными братьями, жаль, родными мы уродились, как не могут вырасти одинаковыми три семени с одного дерева. Одно всегда выше, другое вкривь пойдёт, а третье ростком зелёным пробьётся да и зачахнет. Видно, и у нас не получится мира с Васькой Косым. Отберёт он у нас отцовские отчины, и придётся нам подаваться на чужую сторонушку, к латинянам... По мне, уж лучше пускай Василий Васильевич вернётся на великое московское княжение... — Дмитрий помолчал, потом, оборотись к старосте, сказал: — Что-то дочки я твоей младшей не вижу. Иль отослал куда, хитрец? Пусть поублажает князей, станцует что-нибудь!
— Дак... Эдак... — мялся староста, пытаясь справиться со смущением.
Разве сыщется смельчак, который посмеет отказать в просьбе князьям? С них и взять-то нечего, выпорют на площади да и уедут восвояси, а ты потом доживай век с этим срамом. Но и голубушку дочь нельзя отдавать князьям. Как увидел староста-отец, что Шемяка обнял за стан младшую, так и обмерло его сердце, и до греха совсем недалеко, кто же потом опозоренную девку посватает? Только один путь и останется ей — головой в омут. Обругал тогда староста любимицу и велел, чтобы к гостям и носа не показывала.
— Или гостей отказом хочешь обидеть? — строго спросил Шемяка.
— Меланья! — крикнул староста. — Зови Сонюшку, пусть спляшет гостям.
И, затворив за собой дверь, перекрестился в сенях, пытаясь унять беспокойное отцовское сердце. Надо же такому случиться — нагнал бес гостей в дом!
Софья вошла в горницу, несмело остановилась у двери. Гусляр заиграл плясовую, и она, немного помедлив, плавно пошла по кругу в танце, горница казалась ей тесной. Взмахнёт рукою, и словно степной ветер поднимется, обожжёт лицо и уйдёт через распахнутое оконце, а может быть, это хмель разбирал князя. И чем ближе подступала к нему Софья, тем жарче становилось Дмитрию Юрьевичу.
Дмитрию Красному приглянулась Меланья. Отбил её некогда хозяин у бродячих монахов, да с тех пор и осталась она у него в доме. Не жена, не прислуга, а полюбовница хозяйская. Девка была красивая. Косы тяжеленные до пояса, видно, от того держала она голову высоко и глаз не прятала. И вся краса у неё напоказ: полная, белая шея, налитая высокая грудь.
Как ни зорок был хозяин, а не заприметил, что переглянулись между собой Меланья и Дмитрий Красный. Сердечко девки забилось тревожно и сладко, как же не согрешить с таким красавцем, да ещё с князем!
На дворе уже спустилась ночь. Улеглась дворовая челядь, а девки всё плясали и веселили князей. Уже и батюшка не показывался, не усмирили девок его строгие взгляды, не пугал сердитый голос. Свечи быстро оплывали и торопили грех.
Меланья всё жарче поглядывала на князя Красного и мечтала: «Провести бы ноченьку с этаким красавцем, а там что будет!» Видно, судьба её — быть изгнанной из хозяйского дома и бродить, как в малолетстве, по дворам. А может, смилостивится князь — если не полюбовницей, так дворовой девкой возьмёт к себе во дворец.
Вспыхнул последний раз фитиль, освещая тёмные углы, и высветил из темноты князя Шемяку и Софью, которая изнемогала, льнула к князю, как в непогоду жмётся к стволу дерева хилая хворостинка. Кокошник упал с девичьей головы, тугие косы растрепались.
Видно, и вправду говорят люди, что бабьи волосы обладают дьявольской силой. Ещё сильнее захмелел Дмитрий Шемяка от запаха волос Софьи. Это надо же, такую красу укрывать!
— Дмитрий, — толкнул Шемяка брата. — Шёл бы ты отсюда в другую горницу. Мне Софье кое-что поведать нужно.
Дмитрий Красный поднялся с лавки, пошатнулся от выпитого зелья, и белая рука Меланьи, как бы невзначай, коснулась княжеского плеча.
— Неужели ты меня оставишь, князь Дмитрий?
— Пойдём со мной. Староста сказал, что в сенях мне постелил. Думаю, там нам обоим места хватит.
Темно. Дом уснул. Софья смотрела на холёное, без единой морщинки лицо князя. Вот сейчас должно случиться то, о чём так часто она думала. Не так всё это ей представлялось. Видела себя в подвенечном наряде, слышала звон колоколов, а рядом он, красивый, стройный... И, видно заметив смятение девки, Шемяка успокоил:
— Ладно, не трону я тебя... ложись, где пожелаешь. Ежели трону... из падшего яблока и червь выползает.
Не разглядел князь грусть в глазах Софьи.
— Люб ты мне, князь. Если и случится грех, так только с тобой.
Ночь была длинная, и принесла она радость двоим. Забылись все заботы, отцовские угрозы и девичьи мечты. А утром вместе с похмельем явилось и раскаяние.
Дмитрий взял с лавки княжеские бармы и протянул их Софье:
— Вот... помни обо мне.
— Я и без подарка не забуду, князь, — отстранила руку Дмитрия девушка.
Утром Юрьевичи съехали со двора. Дорога показалась, как никогда, печальной. Не мог Шемяка позабыть осуждающего взгляда старосты, полные слёз глаза Софьи и, как наяву, слышал проклятия, пущенные ему вслед:
«Не будет тебе, окаянный, покоя ни на земле, ни на небе! Накажет тебя Господь за твой грех!»
Хотелось полоснуть Шемяке старосту мечом, чтобы остался лежать бездыханным на своём подворье, но раздумал. И, тронув коня шпорой, молча выехал на дорогу.
Издавна считалось, что Владимир — княжество Московское. Древние старики ещё успели застать прежнюю вольницу, когда и митрополичий стол был не где-нибудь, а именно в городе святого Владимира. Ступив на Московскую землю, Дмитрий Шемяка понял, что отдаёт себя во власть старшего брата Васьки Косого. А этот хомут ох как тяжёл, и голову поднять трудно будет. И чем ближе Шемяка подъезжал к Москве, тем всё больше осознавал, что его дороги со старшим братом расходятся. Не сумеет Василий Косой удержать ту власть, которая невызревшим плодом упала ему на ладони. Соком плод налиться должен, а для этого время требуется. Если и есть сейчас на Руси настоящий господин, так это Василий Васильевич, вот ему и кланяться надо.
Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный остановились во Владимире только для того, чтобы отстоять утреннюю службу и отписать старшему брату, Василию Васильевичу, письмо: «Брат наш старший, Василий Васильевич, князь великий, пишут тебе братья младшие: Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный. Если Богу не угодно, чтобы княжил отец наш, то ступай на московский стол и правь нами, как бывало ранее. А Ваську Косого, супостата эдакого, видеть мы не желаем!»
К полудню князья уже были в дороге. Впереди войска спешили гонцы с посланием, в которых оба Дмитрия признавали Василия Васильевича старшим братом.
Едва выехал Василий Васильевич из Новгорода, как со всех сторон к нему уже заспешили с поклонами князья. И хоть не впервой держать ему московский великокняжеский скипетр, но тем не менее благую весть он встретил так же взволнованно, как когда-то принимал великое княжение из рук самого золотоордынского хана Улу-Мухаммеда. Но что значит почёт мелких князей в сравнении с поклоном и признанием Юрьевичей! И предстоящего свидания с братьями Василий ждал особенно.
Обоих Юрьевичей Василий Васильевич встретил на Владимирской дороге. Дмитрий Шемяка сошёл с коня и так, как когда-то это сделал в Орде его отец, повёл коня Василия под уздцы в стольный город.
— Не надо, Дмитрий, я поведу коня сам! — пытался воспротивиться желанию младшего брата Василий Васильевич. — Садись же на своего коня.
— Нет! — ещё крепче сжимал поводья князь, чувствуя, как твёрдая кожа врезается ему в ладонь. — Ты старший брат!
Следующим коня вёл Дмитрий Красный. Споткнулся Дмитрий Юрьевич о камень, выступавший на дороге, и, если бы не крепкие поводья, запачкался бы княжеский плащ в пыли.
Впереди на холме стояло городище. Народ покинул эти места несколько лет назад. И, как напоминание о недавней междоусобице дяди с племянником, кое-где сохранились лишь сожжённые стены. Только воронье, теперешние обитатели некогда большого и шумного города, поднялось с частоколов и полетело в поле на прокорм.
— Чу! Бесовская сила! — отпустил на миг поводья Дмитрий Красный, крестясь, а потом повёл коня дальше, мимо порушенного городища, к Москве.
Под стенами Москвы уже собралась большая рать. Подошли дружины из Углича, Дмитрова, Ржева.
Звенигородские полки во главе с Василием Косым запёрлись в городе.
Все ожидали Василия Васильевича, а скоро прискакал и гонец, который сообщил, что великий князь выходит к Яузе.
Великокняжеская рать появилась из чащи многошумно: звенела и бряцала оружием, гремели трубы, приветствуя ратников. На город ложилась ночь. Шествие дружины Василия Васильевича напоминало величественный крестный ход — люди шли со свечами в руках и непокрытыми головами, все двигались к священным стенам. Далее князья спешились и шагали в ногу вместе со всеми. И если бы не робкий ветер и не зыбкое пламя свечей, огни казались бы отражением звёзд.
Дружина развернулась, опоясав огнями крепостные стены, и ещё долго слышались нестройные и охрипшие голоса воинов.
Утром великий князь назначил штурм крепостных стен Москвы, но с рассветом ворота вдруг отворились, и оттуда степенно вышли бояре.
— Ушёл Васька Косой! Совсем ушёл, пёс, как сатана в подземном ходе сгинул.
— А как же рать? — подивился Василий Васильевич.
— С собой всех увёл. Испугался, видать, множества огней, вот и ушёл.
Вздохнул Василий Васильевич, и не знали бояре, чего в этом вздохе было больше: облегчения, что не пролил братову кровь, или досады, что удалось Косому уйти от праведного гнева.
По прибытии в Москву Василий Васильевич пожаловал младшему брату Дмитрию Шемяке Ржев и Углич; Дмитрию Красному — Бежецкий Верх, а у Косого отобрал звенигородский удел.
Но нужно было совсем не знать Василия Косого, чтобы уверовать в то, что старший из Юрьевичей смирится. Василий Юрьевич ехал в Великий Новгород, туда, где прятались опальные князья. И Господин Великий Новгород принял Василия так же, как тремя месяцами раньше московского князя Василия Васильевича.
На Руси жалости достоин юродивый, калека и гонимый. Василий Косой был и тем и другим. Обидеть их — значит оскорбить самого Бога.
Вече, погудев, собрало Косому небольшую дружину, не оскудеет от этого Новгородская земля, почитай, вдоль всего океана тянется.
Василий в Новгороде не засиделся. Недосуг! В Коломну нужно поспешать, рать собрать, а затем к вятичам. Они всегда Юрия поддерживали, авось сыну пособят. И, отвесив на прощание посаднику Кондрату поклон, уехал из Новгорода. У самых ворот князь решил обернуться. Примета есть такая: если хочешь ещё раз с добрым человеком встретиться, обернись, прощаясь.
Обернулся Василий и никого не увидел.
Было далеко за полночь, когда в ворота монастыря постучали два чернеца. Монашка-вратница посмотрела в окошко на бродяг и строго сказала:
— Шли бы вы отсюда, добрые люди. Не могу открыть, игуменья больно сердита.
— Матушка, — взмолился один из чернецов, — неужто ты нас на дороге ночевать оставишь? Ведь не басурмане же мы какие, а свои, православные! Нам только ночь переждать, татей в лесу полно. А дальше мы своим путём пойдём. А хочешь, так заплатим!
— Ну ладно, чего уж с вас взять. Есть у нас для гостей местечко в притворе, для таких бродячих, как вы. А на рассвете, не обессудьте, прогоню! Матушка больно сердита, — снизошла к просьбам путников вратница, — прогневаться игуменья может.
Чернецы ступили на двор и пошли вслед за монахиней.
— Свечи я зажигать не буду, а ваше место вот где. — Она показала на большой сундук в самом углу. — Если жёстко будет, можете соломы под голову положить.
— Матушка, — один из чернецов ухватил за руку монахиню, — не откажи в моей просьбе. Позови Марфу Всеволожскую.
— Ты чего надумал, охальник?! И как язык у тебя повернулся?! — отстранилась в испуге вратница. — Чай, не постоялый двор, а монастырь!
Чернец снял клобук.
— Князь я московский... Василий Васильевич. Будь добра, матушка, позови Марфу Всеволожскую.
Как не всесилен был Василий Васильевич, но власть его в стенах монастыря кончалась, и был здесь только один хозяин — Бог! Конечно, мог Василий Васильевич въехать во двор, заставить покорных монахинь отбивать поклоны и велеть горделивой игуменье подавать ему в трапезную квас с блинами. И не устрашила бы его наложенная епитимия с лишней сотней поклонов. Но что скажут бояре? И посошная рать не встанет под его знамёна, гони её хоть плетьми! А если и удастся заманить кого-нибудь, то что это будет за дружина? Не пожелают отроки положить своего живота за княжеское дело. Будет тогда Ваське Косому потеха!
В Божий храм князь может войти только покорным просителем.
— Князь?! Василий Васильевич?! — всплеснула руками монахиня.
Только большая беда могла привести князя в монастырь или... большая любовь.
Разве сама она всегда была старицей? И она была молодая. Грех, он пахнет всегда полевыми цветами да пряными свежескошенными травами. Сколько их было помято, прежде чем привела её дорога в тесную келью.
Василий Васильевич попытался было задобрить монахиню серебром, а она руками замахала:
— Христос с тобой, князь! Что же я с этими деньгами делать буду?.. Ведь монахиня я. Разве что на Пасху пряников сёстрам накуплю. А Марфу Всеволожскую я позову... Фрина она теперь. Сестра Фрина.
Фрина по-гречески «сердце». Надо же такому случиться, сердце его заточено в монастырь. Горше стало от этого.
Монахиня ушла, и Василий Васильевич ощутил волнение, какое бывает перед долго ожидаемым свиданием с любимой. И чтобы утаить от Прошки свои чувства, князь прикрыл глаза и стал читать молитву.
Василий не услышал, как вошла Марфа, Прошка слегка подтолкнул хозяина в плечо и шепнул на ухо:
— Князь, Марфа здесь... — И, почувствовав себя липшим, вышел из притвора.
Марфа стояла у самого порога, смиренно опустив руки. Чёрное покрывало скрывало глаза, и Василий Васильевич никак не мог разобрать — видит она его или нет. Но когда князь сделал шаг, чтобы подойти ближе, Марфа отступила.
— Чего хотел ты от меня, Василий Васильевич? Зачем же ты тревожишь меня? Иль опять мук моих хочешь?
— Я пришёл, чтобы увидеть тебя... Марфа, — не мог князь назвать её иноческим именем.
— Разве мало тебе моего позора? Батюшку со света сжил, матушка от горя померла, меня в монастырь отправил, вотчину нашу в казну забрал. И тебе всего этого мало, князь?!
— Прощения пришёл я у тебя, Марфа, просить...
Монахиня чуть приподняла голову, как будто хотела убедиться в искренности сказанных слов, и Василий Васильевич увидел глаза Марфы. Даже скорбное монашеское одеяние не могло загасить их света.
— Бог простит, Василий Васильевич...
Василию подумалось, что не портило её красоту даже монашеское одеяние, а, возможно, как раз наоборот, целомудренный покрой платья подчёркивал женственность и очарование молодой монахини.
— Могла бы и женой моей быть... да, видно, Господь рассудил иначе.
— Разве, князь, не ты решил нашу судьбу? Ты сюда пришёл для того, чтобы мучить меня? Что же ты раньше не заявлялся? Разве не по твоему наказу отобрали у меня младенца, сына твоего, а меня сослали в монастырь?
Исчезла прежняя застенчивость в Марфе, обвиняла она князя гневно, без покорности.
— Сына?! — искренне удивился Василий. — Не знал я об этом, Марфа! Истинный крест, не знал! До того ли мне было, когда я рыскал по всей Руси волком загнанным, спасаясь от дяди своего Юрия Дмитриевича! Видно, за грехи меня Бог карал, вот поэтому на великое княжение не сразу и сел. И тебя в монастырь я не ссылал. Видит Бог, не ссылал, поклянусь чем хочешь! На колени встану.
— Нет, нет, государь! — испугалась Марфа. — Если и подобает тебе стоять на коленях, так не передо мной, а перед Господом. Верю я тебе, Василий Васильевич.
— Где же сын мой? Куда же его отправили?
— Говорят, в Москве он в одном из монастырей, а может, и в Ростове Великом. Ты бы сыскал его, государь. Быть может, и при себе определил бы.
— Сыщу, Марфа, сыщу!
Не было для Василия женщины более желанной, чем Марфа. Разве не грешил он, разъезжая по Руси? Ведь угощали его бояре не только наливкой и медовухой, старались угодить великому князю, подсовывали в его опочивальню бабу посдобнее и поопытнее, да такую, чтобы попокладистее была и понимала, какую честь ей оказывают. Были среди них и очень красивые, попадались девки душевные, о которых он вспоминал с чувством благодарности — хоть ненадолго, но они глушили его сердечную боль. Но он скоро забывал не только их лица, но и имена. И только Марфа как будто всё время находилась рядом. Было время, когда ему казалось, что одна черноокая зазноба способна заслонить образ Марфы. Сколько счастливых ночей провёл он с красавицей в походных шатрах, в боярских теремах. Возил князь её повсюду с собой, как добрый хозяин, который держит под рукой нужную вещь. Возможно, и сейчас она была бы рядом, не полюбись ей смазливый боярский сын. Повелел привязать Василий Васильевич свою любаву и боярского сына в дремучей чаще к дереву и уехал, позабыв о них совсем.
И чем горше были воспоминания об этой давней любви, тем отчётливее вставал перед ним образ Марфы. Видно, Богу было так угодно, чтобы жили они в разлуке. И тот его сын, рождённый в грехе, возможно, стал бы его наследником. Но схватили его злые люди, бросили сироту в монастырь. И каждый монах может дать послушнику затрещину, не ведая, что течёт в мальчике великокняжеская кровь.
Марфа оставалась желанной до сих пор. И эта страсть походила на болезнь, которую невозможно вытравить ни чертополохом, ни наговором старой знахарки. Увидал её, и будто не было разлуки длиной в три года, словно этот день стал продолжением той первой ночи. Василий и сейчас помнил глаза боярышни и вновь услышал ласковые слова, сказанные шёпотом:
— Любимый мой, желанный, единственный...
Помнит ли всё это боярышня? Князь посмотрел на Марфу: её взгляд, полный невысказанной тоски, сказал князю: «Помню всё, Василий Васильевич, помню, тоскую...»
— Отвернись, государь, — попросила монахиня.
Василий отвернулся и через узкое оконце увидел двор, разглядел одинокую фигуру монахини, охраняющей его краденое счастье. Счастье было в этой келье: зыбкое, мерцающее и очень слабое, как огонь свечи, который можно загасить даже лёгким дыханием. Видно, оттого Василий перестал дышать.
— Государь, — услышал великий князь голос Марфы. — Здесь я. Повернись ко мне. Обними меня.
Василий Васильевич обернулся. Разве мог он позабыть это тело? Он помнил каждый его изгиб. Сейчас Марфа вошла в ту пору, когда женщина расцветает, становится притягательнее. Грубое монашеское одеяние лежало у её ног. Марфа перешагнула через него и приблизилась к князю...
Василий уехал из монастыря ранним утром. Монахиня-вратница посмотрела на государя и произнесла:
—Господь с тобой, государь, счастливого тебе пути. — Монахиня знала об их тайне, знала, что никогда и никому не сможет поведать о ней.
Некоторое время великий князь и Прошка ехали молча, а потом Василий произнёс:
— Сын у меня родился... от Марфы.
— Да?! — искренне подивился Прохор, не зная, как реагировать на эту новость: радоваться или огорчиться.
— Марфа сказывает, отправили его или в Москву, или в Ростов Великий. Найди его!
— Хорошо, государь.
— Кто Марфу в монастырь отправил? Я же сказал, не трогать её!
— По желанию Софьи Витовтовны это сделано. А отвёз боярин Никита Ощепков.
Тягаться с матушкой Василий Васильевич не мог, с досады огрел коня плёткой, а потом зло сказал подъехавшему Прошке:
— Предать позору негодника! Пусть на площади без шапки постоит, а чёрные люди на него посмотрят.
Великокняжеская рать и полки Василия Косого встретились у Ипатьевского монастыря близ Коломны. Развела братьев Волга: вторые сутки они стояли друг против друга с поднятыми знамёнами.
Воды в реке в этот год осталось мало. Полки сошли прямо по песку к самой реке, а кони не шли в воду, упрямо пятились, утопая копытами в иле. Над рекой раздавалось их беспокойное ржание. Ратники молчали, вглядываясь в противоположный берег. Так и стояли дружины, и лишь лошадиное ржание нарушало тишину.
Дважды игумен ходил к Василию Юрьевичу и Василию Васильевичу, прося князей о мире, и всякий раз возвращался ни с чем. С утра и до вечера монахи по его наказу жгли свечи и вымаливали отпущение грехов воинам. А на третий день, когда великий князь Василий Васильевич готовился к переправе, врата Ипатьевского монастыря отворились, и оттуда неторопливо, крестясь, вышли старцы. Они шли к самому берегу, где должна была состояться сеча. Многих старцев иноки несли на носилках, и это шествие больше напоминало похоронную процессию. Монахи прошли мимо великокняжеского шатра и вышли на песчаный берег, встав между двумя враждующими лагерями. Многие монахи были настолько стары, что едва сидели, и послушники поддерживали их под руки. Космы и седые бороды старцев лихо трепал ветер, норовил сорвать клобуки с трясущихся голов.
По полкам прошёл ропот:
— Неужто через святых старцев будем переступать? Не простит нам Бог такой грех!
От великих князей приходили бояре, Христом Богом просили вернуться в монастырь, но упрямые старики стояли на своём:
— Вместе со своими детьми и помрём здесь. Думаете, нам легче будет, если под стенами келий рубиться станете? Нет уж! Так и передайте великому князю, что никуда отседова мы не пойдём. То наше последнее слово, так вся братия решила.
Ушли бояре, посрамлённые благочестивыми старцами.
Уже перестали летать через Волгу стрелы. Ратники поснимали с себя тяжёлую броню и превратились в мирных хлеборобов.
С той стороны Волги, где тревожно колыхались на ветру знамёна дружины Василия Косого, тишину нарушило пение. Оно было протяжным и неторопливым, как течение Волги. Старцы прислушивались к псалмам, а потом игумен тоже запел красивым густым басом. И трудно было поверить, что голос принадлежит немощному старику. Один за другим подхватывали пение старцы, а следом за ними и вся рать. Голоса двух враждующих сил вдруг слились воедино в одном мощном хоре. И не стало здесь врагов, и невозможным казалось после пения поднять руку на брата.
В шатёр к Василию Васильевичу вошёл игумен. Приложился губами великий князь к сморщенной руке старца и попросил:
— Помири меня с братом моим, не желаю я более лить кровь.
— За тем я и пришёл к тебе, — не стал лукавить старик. — Три года в междоусобных войнах кровушка льётся. Ладно бы за веру стояли, а то убиваете один другого за власть, гордыню смирить не можете. Оглянись вокруг, князь, посмотри, как обнищала Русь. Похожа она на тяжкого больного, ранами и язвами покрыта. Сам я к Василию Юрьевичу поеду, думаю, не посмеет он старику отказать. Если что, так и в ноженьки ему поклонюсь, на колени встану. Нет во мне гордыни, я её в мирской жизни оставил. Да и не о себе я хлопочу, а о деле нашем. Кого же ты в дружину свою призывать будешь, если ордынцы на границах появятся? То-то и оно, что к брату своему обратишься, а больше не к кому! А он к тебе за помощью придёт. Только в единстве мы и сильны! Ты думаешь, князь, Василию Юрьевичу легко со старшим братом воевать? И ему так же тяжко. А ещё есть пословица такая: лучше худой мир, чем кровавая сеча.
— А если Василий Косой откажет в мире? — засомневался великий князь.
— Не мне он откажет, — просто отвечал игумен. — Немощных старцев оскорбит, что томятся на берегу какой день. Откажет он всему православному миру, что радеет о мире между братьями. А стало быть, будет предан анафеме! Отвернутся от него не только ближние бояре, но и все люди. — И, подумав, добавил старец: — Пусть откажет! Возможно, тогда на Руси и восторжествует добро. Благословляю я тебя, князь, — заторопился старик в обратную дорогу.
Василий Васильевич проводил его до самой воды. Лодка была плохонькая, рыбацкая, едва законопаченная. Взмахнули гребцы вёслами и отчалили от берега. Именно так первые апостолы уезжали в чужедальние края обращать в Христову веру племена язычников.
Некоторое время Василий Васильевич мог видеть неясные силуэты людей, а потом ночь скрыла и их.
Не положено встречать святых с оружием в руках, и, когда лодка пристала к берегу, ратники попрятали мечи и помогли сойти игумену.
— К князю Василию Юрьевичу меня ведите, — наказал он. — Дело у меня к нему есть.
— Пойдём за мной, святой человек, — предложил свою помощь один из бояр. — Да не оступись, темно здесь.
Ярко полыхали факелы, и их кровавый свет заставлял отступать темноту, освещая дорогу игумену. Старик шёл осторожно, подобрав длинную рясу, а впереди островерхим шеломом уже высился шатёр Василия Косого.
Василий Юрьевич вышел навстречу гостю, поклонился и провёл в шатёр.
Игумен всматривался в лица воинов. Его окружали бородатые мужи и безбородые отроки. Они походили на тех, которые остались на другом берегу Волги. Игумен с грустью подумал, что многих ему уже не суждено увидеть, если он не склонит Василия Юрьевича к миру. Возможно, завтра суждено им сойтись в битве с дружиной Московского князя, и будет много пролито крови, много людей останется на поле брани.
— Я пришёл от Василия Васильевича Московского просить мира, — начал игумен, войдя в шатёр.
Василий Косой смиренно ждал, когда старик присядет на табурет, и только после этого решился сесть сам. Сундук под его тяжестью испустил протяжный стон и смирился с ношей.
— Продолжай, святой старец, — глухо отозвался Василий.
Игумена Ипатьевского монастыря, отца Фотия, князь знал давно. Монах часто бывал у него в Звенигороде, а ещё раньше появлялся в уделе отца в Угличе. Юрий Дмитриевич не однажды звал старца на свою землю, сулил златые горы, обещал епископство, но старик отказывался от всего, объясняя своё упрямство гак:
«Народу в Угличе много, отвлекать меня от молитв станут. А мне о Боге нужно думать, у мирян же только одна забота — поесть и попить всласть. А нам, монахам, многого не надо: была бы крыша над головой и крест на груди. Я бы дальше на север ушёл, да братией связан, не могу бросить! А молитва до Бога лучше доходит в одиночестве».
Фотий был из тех людей, чьё призвание — служить Богу. Едва исполнилось отроку четырнадцать годков, как оставил он отчий дом и подался в монахи. Поначалу всю Русь исходил босиком с посохом в руках. И только через десяток лет понял: служить Богу нужно не на дорогах, а в маленькой келье посреди пустыни. Так Фотий сделался пустынником.
В полном одиночестве он провёл пятнадцать лет. Потом близ кельи поселился ещё один монах, через год их было пятеро, а через несколько лет на этом месте вырос крепкий монастырь.
И вновь вспомнил Фотий о своём призвании пустынника. Шумно стало на прежнем месте, теряется сила молитвы в пустословии да злословии, только абсолютная немота и приятна Богу.
Скоро Фотий ушёл дальше на север, в земли, которые были заселены язычниками. Недоверчиво поначалу встретили они проповедника, однако не трогали и келью монаха обходили стороной.
На благодатной почве и зерно приносит обильный урожай, и через несколько лет язычники признали Фотия и с благодарностью приняли Христову веру. И вновь Фотий был не один, вокруг него, как и прежде, стали собираться монахи. Так вырос монастырь, где Фотий стал игуменом.
Дальше бы ему идти, искать одиночество, но вдруг почувствовал себя Фотий старым и усталым и решил остаться в этих местах навсегда.
— Люди сказывают, что ты насильно собирал рать супротив великого князя московского, — продолжал строго Фотий. — Кто не желал идти воевать господина твоего, так того наказывал! По-божески ли это?
— Клевещут на меня, святой отец! — осерчал Косой. — А что на Ваську Московского хотел идти, так это правда! И собирал я рать со своих уделов.
— Ошибаешься, князь. Эти земли принадлежат московскому князю.
— Нет! Эти земли принадлежат моему отцу Юрию Дмитриевичу, который сам был на Москве князем, я же его наследник по праву.
— Не боишься ты Божьей кары, Василий! — строго сказал Фотий. — Видно, случится худшее, рать не пойдёт за тобой. А тебя я оставлю без благословения.
Фотий поднялся, чтобы уйти, и тут Василий вскочил, загородил дорогу старцу:
— Прости, святой отец, не прав я, прости! Чего же хочет от меня Василий Васильевич?
— Он хочет, чтобы ты признал его старшим братом, — отвечал старик.
Нахмурился Василий Косой, но сдержал себя:
— Сначала мой отец был для него младшим братом, теперь он того же и от нас требует. А ведь я старше его на четыре года.
— Разве в годах дело? — удивился старик. — За кем стольный город, тот старшим братом и будет.
— Что ещё хочет Васька Московский?
— Василий Васильевич даёт тебе в удел Дмитров. И говорит, чтобы ты вернул всю казну, вывезенную из Москвы, и чтобы никогда не зарился на великое княжение, далее если того захотят ордынцы. А людей, которые развели крамолу на великого московского князя, к себе не принимать повелел.
— А не многого ли требует великий князь? — насупился Василий Косой, и глаз его беспокойно забегал.
— Это не воля московского князя, — смиренно возражал старик, — это Господь глаголет его устами.
— А ведь Василий боится меня, — неожиданно повеселел Василий Юрьевич. — Потому что не даёт мне обратно звенигородский удел. Оторвать меня хочет от горожан, с которыми я сроднился. Привыкли они ко мне и господином почитают. В Дмитрове всё сызнова начинать придётся.
Промолчал игумен Фотий. Была в словах Василия Косого правда. Повелось так из старины, что не задерживались удельные князья на одном месте, чтобы не успели полюбиться жителям.
— С корнями меня рвёт князь. Только дерево без корней сохнет, а я ещё поживу!
— Так что же мне передать великому князю? Согласен ли ты с ним или за войну стоишь?
Душно стало в шатре. Пахло расплавленным воском и ладаном, запона[38] у самой шеи мёртвой петлёй перехватила горло. Трудно стало Василию дышать. Отстегнул он её, и плащ медленно сполз на земляной пол.
— Хорошо... Поезжай к Василию и скажи, что я признаю его старшим братом.
На Афанасия Афонского в Москве появился волк. Огромный, с оскаленной пастью, он ранним утром бегал по улицам и кидался на всех, кто попадался навстречу. Трудно было понять, как оказался он в городе: мосты на ночь поднимали, а ворота закрывали наглухо. Но самое странное — зверь был совершенно без шерсти, к если существует дьявол, то, видно, он имеет такое же обличье. Волка мужики закололи у дворца великого князя и бросили бродячим псам, которые с неистовым воем разодрали труп, оставив на земле только багровые спёкшиеся пятна.
Народ перешёптывался на базаре, что облик волка принял священник Благовещенского собора, на которого наложили епитимью. Были даже слухи, что его уличили в волховстве, да вот сгинул неделю назад, чтобы сейчас предстать в таком виде.
Другие утверждали, что это сам дьявол, посланный Василием Косым загрызть великого князя. Так это было или иначе, никто точно не знал, но все соглашались: примета скверная, а значит, нужно ждать неприятностей.
Ещё в народе говорили, что в Переяславле вода в озере три дня была красного цвета, а молодухи, которые из того озера осмелились пить, обросли бородой.
В Угличе было знамение: появились на небе три огненных столпа. И потому быть большой беде.
Но не знала Русь большей беды, чем та, когда брат идёт на брата. Только на время затаился Василий Косой, а сам рассылает подмётные грамоты, в которых оскорбляет своего старшего брата и собирает рать в Костроме.
На базарах говорили и о том, что берёт он в свои полки не только чернь и мужиков, оторванных от сохи, но и бродячих монахов, которые во множестве шастают по дорогам. А тех, кто не желает идти в его рать, сечёт плетью нещадно.
Два месяца длился мир между Василием Васильевичем и Василием Юрьевичем. Как не сразу пробивается на опалённой земле травушка, так и обида между братьями забывается не скоро. А если причиной раздора являются вотчинные земли, тогда ещё горше обиды.
Василий Юрьевич вместе с воинством шёл в Галич к младшему брату Дмитрию Красному. Сейчас, как никогда, он нуждался в опоре.
Недалеко от города рать остановила застава. Широкобородый десятник в золочёном колонтаре[39] выступил вперёд и, преградив дорогу копьём, спросил дерзко:
— Кто таков?! С чем пожаловал?
Рубануть бы охальника мечом от плеча до пояса, чтобы, задрав ноги, повалился на землю, но Василий Косой сумел обуздать гнев и отвечал спокойно:
— Я князь Василий Юрьевич, к брату своему Дмитрию еду.
Десятник не унимался:
— Если в гости едешь, тогда почему рать с собой ведёшь? Не велено в город ратников пропускать!
Говорил десятник смело, в голосе чувствовалась твёрдость, которой стоило подчиниться. Видно, и он был наслышан про опалу Василия Косого. Знал, ослабел Василий Юрьевич и скитается по лесам, подобно загнанному зверю.
— Сообщите брату о моём прибытии.
Десятник колебался лишь мгновение.
— Эй, Миколка, скачи в город к князю, сообщи ему, что Василий Юрьевич в крепость просится.
Миколка боднул русой башкой и с гиканьем погнал рысака в город, подняв на дороге облако пыли.
И часу не прошло, как возвратился он с вестью обратно. На всём скаку остановил коня перед десятником:
— Князь Дмитрий повелел, чтобы Василий Юрьевич с боярами ступал в город. А рать пусть оставит в посадах.
Василий усмехнулся: «Повелел, стало быть. С каких это пор на Руси младшие братья повелевают старшими?» И, повернувшись к тысяцкому, сказал:
— Останешься в посаде. Если я не дам о себе знать к вечеру... посылай за вятичами и спали город. — Глянув хмуро на бояр, князь обронил: — Ну, чего застыли? Поезжайте! Князь видеть нас пожелал.
Дмитрий встретил Василия Косого на красном крыльце и терпеливо дожидался, когда он, преодолевая ступень за ступенькой, поднимется к нему. Возможно, это свидание могло быть другим и сопровождалось бы радостным приветствием, братским похлопыванием по плечу, но слишком далеко развела их вражда. И ещё насторожило братьев послание, отправленное московскому князю: «Если Богу неугодно, чтобы княжил отец наш, тебя, Васька, мы сами не хотим!» Если бы не эта грамота, сидел бы Василий Юрьевич на московском столе и оба Дмитрия шли бы к нему с поклоном.
Последняя ступенька отделяла младшего брата от старшего. Остановился Василий Юрьевич, словно раздумывал — а стоит ли подниматься далее? — но, заметив протянутые для приветствия руки, шагнул навстречу.
— Как же мы давно не виделись с тобой, Дмитрий!
Не случайно Дмитрия прозвали Красным. Как и прежде, лицо иконописное, с тонким прямым носом, а большие глаза, что у отрока, наивные. Стоило только увидеть брата, и не стало прежней обиды, рассеялась она, как лёгкое утреннее облако.
— Держишь на меня обиду?
— Не держу, — отвечал правду Василий и принял на грудь склонённую голову брата.
Горячий комок застрял в горле, на глаза навернулись слёзы. Разве всегда они были по разные стороны? Старший брат больше, чем брат, — почти отец! И разве Дмитрий не ощущал на себе братовой опеки? Василий посадил его на коня, он же научил его держать оружие. Неужели он сможет пойти против Васьки Косого?
Дмитрий Красный рос покорным ребёнком, кротость была его главной добродетелью. С малолетства он мечтал об иночестве, но властный Юрий на поле брани заставил сына пролить кровь и этим отворотил взор Дмитрия от монашеских келий. Тихому послушному отроку внушал:
— Ты князь! И род твой должен быть княжеским. Не наша доля преть в затхлых кельях, наша судьба — это война, власть!
Если и стоило ожидать от кого-то угроз, так это от Шемяки. Дерзким рос средний брат, и только отец мог его усмирить.
Василий Юрьевич продолжал:
— Если не держишь на меня обиду, так почему же тогда полки мои у ворот городских томишь?
Смутился Дмитрий на укор и, пропуская Василия в горницу, сказал:
— Чего же это мы, брат, у порога разговаривать будем? Кушанья поначалу отведай, браги крепкой испей. Дорога-то не коротка. Не всё так просто, как ты думаешь.
И по этой недоговорённости Василий Юрьевич понял, что Дмитрий Шемяка по-прежнему для Красного старший брат. Крякнул от досады Василий Косой и вошёл в горницу.
Когда от хмельного закружилась голова, когда уже помянули отца и матушку, когда тонкая нить, что связывала братьев, стала крепче, чем была раньше, Василий Косой заговорил о главном, для чего явился к брату в Галич:
— Помири меня с Дмитрием, не желаю я в ссоре с ним жить. Чего же нам делить, когда мы сидим в своих уделах? Есть у нас другой враг — Васька московский! Вот кто последнее наше хочет отобрать!
— Новой брани хочешь, Василий?
— Не брани я хочу, а своё получить, то, что нам от батюшки осталось.
Дмитрий Красный с детства стоял между братьями, так широкая река делит большой лес. Вроде бы течёт лениво и дремлет, но если случится пожар, не пустит его на другой берег. Дмитрий Красный не давал распалиться пожару. Родиться бы ему девкой, слишком мягок и добр он для князя, даже слугу не устыдит, когда тот пробежит мимо, не скинув шапки.
— По себе ли ты шапку меришь, Василий? — мягко возражал младший брат. — Не отдаст московский князь свою вотчину без брани. А мир через войну не построишь.
Был бы Дмитрий добрым монахом, не будь он княжеского рода, наставлял бы братию на путь справедливости и истины, утешал бы больных и сирых. Но княжеские бармы и посох отринули его от простых смертных, возвысили над ними.
Василию Косому подумалось: «Вот ежели случилось бы Дмитрию Красному быть в Москве князем, не отвернулись бы от него бояре».
— Помири меня с Дмитрием Шемякой, прошу тебя! Чего нам делить, если у нас один отец и одна мать.
Вместе нам нужно быть. И разве это справедливо уступать двоюродному брату московский стол, а самим по уделам разбегаться?
Хлебосольный стол у Дмитрия Красного. Капуста удалась на славу, ядрёный рассол стекал с бороды князя на атласный кафтан.
— Помирю, — просто отвечал Дмитрий Красный. Глаза следили за тонкой струйкой, которая затерялась в складках одежды, оставив на шёлковой поверхности влажное пятно.
Не для братской пирушки сошлись под Галичем Дмитрий Шемяка и Василий Косой. Не захрустят косточки от могучих братских объятий. Уныло вокруг. Крикливое воронье, предчувствуя поживу, низко кружилось над полями, едва касаясь крыльями одиноких кустарников.
Пропела призывно труба, а вслед за этим истошный голос завопил:
— Пусть князь Василий едет! Дмитрий Юрьевич ждёт!
А с другой стороны задиристо ответили:
— Пусть князь Дмитрий навстречу едет! Василий Юрьевич ждёт!
Пропало доверие между братьями так же быстро, как в мартовскую пору стремительными ручьями сходит залежавшийся снег. Пакостно на душе было у обоих от того, что доверяли боярам больше, чем друг другу.
Переговорили между собой бояре и порешили: князья встретятся посередине между враждующими полками. Здесь и разговор держать.
Князья сходились медленно. Кони втягивали ноздрями незнакомые запахи, помахивали хвостами, пятились назад.
Некоторое время братья молчали, всматриваясь друг в друга: не бесследно для обоих проходит ссора — безжалостно оставляет на лице морщины, серебрит волосы.
— Ты хотел меня видеть... князь? — наконец спросил Дмитрий.
Он с грустью отметил перемену, которая произошла с Василием за последние месяцы. Лицо его похудело и сморщилось. Именно так в осеннюю пору жухнет лист, лишившись живительных соков. Ему очень хотелось назвать Василия братом, но произнести это слово мешало отчуждение, зародившееся в их отношениях давно.
— Хотел... брат, — неожиданная улыбка тронула губы Василия. — Ответь мне, что же нам делить? Ссора только ослабляет нас, вместе мы — сила!
Их связывала не только единая кровь, но и слова матушки, сказанные на смертном одре: «Дети, живите дружно!» Вот так они исполняют родительский наказ!
— Тогда ответь мне, Василий, почему же ты против меня идёшь?
— Я не могу идти против своих братьев.
— Разве это не ты, пробыв месяц на московском столе, захотел отобрать наши уделы?
Кони наконец успокоились и щипали розовый клевер. Вороны ещё немного покружились над полем и, разочарованные, улетели искать лёгкую поживу. Хотел Василий возразить Дмитрию, сказать, что на великокняжеском столе может сидеть только один. Величие не терпит соперничества, он должен быть так же одинок, как парящий в небе сокол. Нет места рядом даже ближнему, а значит, только один может быть старшим братом.
Василий Косой попытался слукавить:
— Не мог я поступить по-другому... Престол я занимал по праву старшего брата. Но никогда я не смог бы поднять руку на брата. Веришь ли ты мне?
— Да, — неуверенно согласился Дмитрий.
— Помоги же мне тогда занять великокняжеский стол, Дмитрий, отблагодарю тебя, не обижу!
Как невозможно пройти мимо нищего, сидящего на паперти, чтобы не бросить в раскрытую ладонь мелочь, так немилосердно отказывать в помощи раскаявшемуся брату.
— Как же я помогу тебе, Василий? Московский стол Василий Васильевич занял крепко, и бояре за него. Стоит только ему бросить клич, со всей Руси воины сбегутся.
— У меня к тебе будет только одна просьба... ты с Васькой дружи.
— Дружить? — не понял брата Дмитрий.
— Делай вид, что ты ему верный союзник, а как только он где оступится, дай мне знать. Зверя легче всего бить, когда он в западне. Обещаешь?
— Обещаю.
Разговор между князьями был долгий, и полки терпеливо ждали, парились в доспехах и кольчугах.
Обнялись братья на глазах у всех и разъехались каждый в свою сторону.
В Галиче полки Василия Косого простояли недолго. Замирился князь с братьями и с лёгким сердцем пошёл в Устюг.
Брать нужно город за городом, чтобы потом навалиться на великого князя с великою силой.
Крепкими деревянными стенами преградила путь Василию Косому крепость Гледен.
Воеводы подступили к Василию:
— Когда брать, государь, прикажешь? Может, с ходу, авось не ждут?
— Посмотри, на башнях забегали. Приготовились уже. Крепость не слабая. Подождём вятичей, вот тогда и приступим.
Некогда Юрий Дмитриевич опирался на своевольных вятичей, и сейчас Василий Косой решил прибегнуть к услугам их воинственной дружины. А за подвиги жалование платил серебром, самоцветами. Знал князь и то, что у вятичей с устюжанами давняя вражда. Не могут составить одно целое огонь и вода: вот вятичи с устюжанами и не знали мира, уничтожая друг друга без жалости. Не живут в одной берлоге два медведя, так и они не могли быть добрыми соседями. Крепость Гледен для вятичей — лакомый кусок.
Вятичи прибыли на третьи сутки. Говорливые и неугомонные, они задирали ратников Василия и весело гоготали, когда шутки достигали цели.
На следующий день был назначен штурм. Василий Косой велел подкатить к городу наряд[40], и каменные ядра с глухим стуком обрушивались на деревянные стены крепости. Уже несколько ночей не спал город. Восьмые сутки без продыху засыпали его дворы стрелами, палили из пищалей. А он несокрушимой твердыней продолжал стоять, загораживая Василию дальнейший путь.
Который раз объезжал князь детинец, но маленький, крепко сбитый, он утёсом возвышался над ровным полем. Слишком высоки были стены, очень крепкими — ворота, глубоким — ров. Конечно, можно взять крепость терпеливой осадой, но терять время Василию не хотелось. Соберётся московский князь с силушкой да и ухнет по братовой рати.
Оставалось единственное — хитрость.
— Кто в крепости воевода? — спросил Василий Косой у подъехавшего вятского воеводы Ушастого.
— Князь Оболенский... Вон он, на стене броней сверкает, — ткнул пальцем воевода на одну из башен, на которой, презирая пролетавшие рядом стрелы, стоял ратник в дорогих доспехах. Знатен, видать, золотым блеском слепит глаза. — Отважен. Ни стрел, ни великокняжеского гнева не боится. А если сеча, так в первых рядах. Доводилось мне с ним знаться. Бывало время, когда на пиру за одним столом сидели. В бою храбр, а в речах, что дитя малое, каждый его обмануть сумеет. Доверчив, есть в нём что-то от блаженного. — И по интонации воеводы трудно было понять, чего было больше в его словах — укора или восхищения.
— Блаженный, говоришь, дитя малое. А это мы сейчас проверим. Пошли в детинец посланца, и пусть от моего имени скажет: если сдадутся на мою милость, никого не трону, а ещё и награжу. Если будут сопротивляться дальше — перебью всех до одного, а крепость спалю! И пусть не рассчитывает на помощь московского князя, до него далеко. Если согласны крепость отворить, пусть протрубят, а на башне белое знамя вывесят и ворота пусть распахнут поширше, чтобы я войти смог.
Ратник с башни уже спустился. Глухо ахнула со стен пушка, и тяжеловесное ядро со свистом опустилось в нескольких саженях от Василия Косого. Конь шарахнулся в сторону, едва не скинув седока на землю. «Ладно, князь Оболенский, это тебе учтётся!» — зло усмехнулся Василий.
Уже четвёртый час стояло затишье: стрелы не летали, не палили пушки. Видно, думу думал князь Оболенский, и только, как и прежде, из бойниц тёмными жерлами угрюмо торчали пушки.
Василий уже совсем отчаялся в ожидании, когда призывно запела труба. Широко отворились ворота, приглашая незваного гостя.
— Теперь с Богом!
Вскочил Василий на коня и, тронув поводья, повёл за собой дружину в сдавшуюся крепость.
Князя Оболенского Василий увидел сразу. На нём были всё те же золочёные доспехи, шлем расстегнут, меч вложен в расписные ножны.
«На спасение надеется, — скривился Василий Косой, — поверил, дуралей, что я и вправду всех пощажу».
— Почему шелом передо мной не снимешь? — Глаза Василия Косого зло сверлили воеводу.
— Я московский воевода, — строптиво отвечал князь. — У меня один господин, великий князь Василий Васильевич.
Нет, не договориться ему с Оболенским, и Василий что есть силы ударил шестопёром[41] по тонкому лицу воеводы. Стальные лепестки с хрустом глубоко врезались в кость.
— Православные, что же это делается? — завопил монах, стоявший рядом. — Почто князя убили?! — орал он, показывая на бездыханное тело князя Оболенского. — Васька Косой обещал нам кровь не проливать, а сам воеводу срубил! Теперь он нас всех побьёт!
Василий Юрьевич знал о том, что на Руси он прослыл не московским князем, а Васькой Косым, подчас ему казалось, что он слышал за спиной боярский шёпот: «Бог шельму метит!» И тогда гнев заливал ему лицо.
Здесь же Василий Юрьевич оставался спокоен, и бояре, ехавшие за князем, недоумевали.
— Повесить монаха, — равнодушным голосом произнёс Василий. — На башне повесить! Пусть клевать его прилетят вороны со всей округи.
Дюжие молодцы подхватили под руки сопротивляющегося монаха и поволокли по лестнице к башне, откуда ещё совсем недавно князь Оболенский взирал на полки Василия. Монаху живо набросили на шею верёвку, закрепили её на коньке крыши и сбросили трепыхающееся тело вниз. Раза два дёрнулся монах, а потом затих, сильно раскачиваясь.
— Остальных строптивцев посечь мечами. Пусть запомнят Ваську Косого.
Полки будто ждали этого приказа: разбежались по домам, башням и, не жалея ни малого, ни старого, секли всех подряд. Скоро всё было кончено. Крепость опустела. И всё равно не мог Василий Косой унять свой гнев.
— Крепость сжечь! Золото и серебро в обозы! — И повернул коня к воротам.
Василий Юрьевич не любил оборачиваться. Но сейчас ему хотелось увидеть поверженную крепость. Он оглянулся назад. Огонь рвался в самое поднебесье, казалось, его огненные языки дотянутся до самого Бога. Полыхали дома, крепостные стены, маленькими кострами горели убитые горожане.
На душе у Василия Косого малость полегчало. Впереди его ждала Москва.
Из терема Софья Витовтовна спустилась по широкой лестнице и по длинному коридору пошла на государеву половину. Лицо её, против обыкновения, было открыто, и стража, заслышав шаги, низко кланялась, опасаясь дерзким взглядом оскорбить великую княгиню. Старухи приживалки, повязанные чёрными платками, ещё издали приметили Софью Витовтовну и сгибались до самого пола.
— Здравствуй, государыня, здравствуй, — шамкали они беззубыми ртами.
Бывало, государыня остановится, поговорит, послушает жалобы старух, а то и пригласит к себе на трапезу. Сейчас она быстро прошла мимо, не обращая внимания на их заискивания. Остановилась у горницы Марии Ярославовны, распахнула дверь и увидела невестку, сидящую у окна.
Разве могло что-то укрыться от вниманья Софьи? Княгиня унаследовала от своего отца не только громкое имя, но и твёрдый характер. И Василий Васильевич, уже будучи великим князем московским, всё ещё не мог выбраться из-под матушкиной опеки. Княгиня жаловала верных людей наделами, одаривала подарками, изгоняла неугодных, подвергая их опале. Она и сыну сосватала дочь боровского князя Ярослава Дмитриевича. Во дворце великая княгиня держала свору старух, которые сообщали ей о каждом шаге Василия Васильевича и невестки, следили за боярами и челядью. Этих доносчиц справедливо окрестили шептуньями. Сами того не подозревая, они обладали великой силой. Шепнут на ушко Софьюшке о каком-нибудь молодце, глядь, и закончит он свою жизнь в темнице. А то и вообще просто тихонько кого-нибудь великокняжеские слуги заколют пиками. Подлое слово-то — острее меча.
Поэтому старух не любили и старались держаться от них подальше, но никто, даже самый могущественный боярин, не рисковал с ними вступать в открытую борьбу. Это значило нанести оскорбление самой Софье Витовтовне. Со старухами старались ладить — кланялись, задабривали подарками. Сейчас княгине нашептали, что Мария Ярославовна плачет и тоскует, а причина тому — великий князь.
Мария Ярославовна обернулась, увидала в дверях свекровь и ещё ниже склонила голову. Однако Софья Витовтовна сразу поняла, что это не обычная почтительность невестки к всемогущей свекрови, а желание спрятать лицо.
— Подними на меня глаза... дочь моя! — приказала великая княгиня.
На Руси невестка, в крестьянской ли избе она жила или в великокняжеском дворце, долго оставалась бесправной, пока не одряхлеет или не умрёт свекровь, а сама она, вместе с мужающим наследником, не обретёт силу. Если родилась она в деревне — таскала бы по утрам воду из колодца, обстирывала всю большую семью и выслушивала нарекания свёкра и свекрови. Во дворце перед великой княгиней Марией низко склоняли головы бояре, низко ей кланялись, когда она выходила из дворца. Но даже челядь знала, что не было более бесправного и зависимого создания, чем великокняжеская жёнушка: свекровь прикрикнуть может, а иной раз и ударит. И пожаловаться нельзя — верит князь своей матушке и ближним боярам, главная же обязанность невестки — внимать сварливым словам свекрови да ублажать мужа.
Мария Ярославовна подняла голову, и великая княгиня Софья увидела, что невестка плачет.
— Ты чего ревёшь? — осерчала было княгиня, но голос вдруг сорвался и сделался мягче.
Видать, вспомнились Софье её горькое замужество и её горькие слёзы. Закроется, бывало, Софья Витовтовна в горнице, сядет перед зеркалом и плачет.
— Что же случилось, Мария? — с участием спросила великая княгиня и вдруг почувствовала к невестке почти материнскую жалость.
Мария Ярославовна, видно, почувствовала перемену в голосе великой княгини и неожиданно для себя прижалась лицом к её груди.
— Не люба я стала великому князю, — прошептала Мария.
— Почему же ты так решила? — насупила брови Софья Витовтовна.
— Добрые люди сказывают, что с полюбовницей он встречается, — зарыдала Мария. — Монашка она, государь к ней в монастырь ездит. Там даже келью для него держат.
— Это какие же добрые люди?! — ужаснулась великая княгиня. — Ты так называешь тех, кто мужа твоего оговаривает?! Кто же они? Говори!
Испуганно встрепенулись влажные ресницы Марии, поняла, что наговорила лишку, и со страху запричитала:
— Не губи, матушка! Не губи, Христа ради! Прошу, не губи! Крест целовала, что не скажу!
Софья посмотрела на невестку. Хоть и детей нарожала, а глаза что у младенца — чисты, как роса! И сама словно дитя малое.
— Ладно, — пообещала Софья, — быть по-твоему.
— Спасибо, матушка, — Мария вытерла слёзы.
— Иди, ступай к девкам. Пусть они тебя причешут и умоют. И щёки нарумянят как следует... Поговорю я с Васильком.
Софья Витовтовна и раньше знала о невинных забавах своего сына. Мужики-то быстро взрослеют, им сразу бабу подавай! А какая молодка может устоять перед князем, да ещё перед таким пригожим, как Василий Васильевич. С ним-то и грешить сладенько.
Софья Витовтовна сама подстелила под великого князя свою дворовую девку, румяную Аксинью. Красивая девка, зрелая. А у князя тогда только ус начинал пробиваться. И великая княгиня беззастенчиво учила простоватую Аксинью, как легче князя к греху склонить.
Утром девка пришла к великой княгине и без затей рассказала обо всём:
— Я к полуночи к нему пришла. Как ты велела, матушка, кваску ему принесла. А Василий сказывает, поставь квасок в сторону. Так и повалил меня в сенях, даже до горницы не дошли, — прыснула девка, и глаза её радостно блеснули. — Как могла, помогала князю, ой и добрый муж будет, матушка!
Именно это и хотела выведать княгиня. Значит, не порченый, добрый мужик, а стало быть, и внуков ожидать нужно, тогда и престол великокняжеский окрепнет.
Перемену в сыне тогда отметила не только княгиня. Бояре тоже разглядели, что Василий стал взрослее, даже голос его по-мужски окреп. Дворовая челядь, встречая Василия, ещё ниже голову клонила, признавая в нём будущего государя, а бедовые девки плутовато зыркали глазёнками.
Великой княгине нашёптывали, что Василий Васильевич не мог устоять перед тридцатилетней вдовой — мастерицей Софьи Витовтовны. Потом была восемнадцатилетняя красавица — любимица Софьи, Агафья. После появилась язычница, существование которой Василий скрывал от всего двора. Великому князю могли простить прелюбодеяние — легко забывался нечаянный гнев, — но разве сумеют понять христиане его любовь пусть даже к красивой, но чужой веры девушке.
Василий Васильевич держал свою утеху далеко за Москвой, в одной из охотничьих изб, куда частенько отправлялся вместе с сокольничьими на охоту. Но однажды приехал туда, чтобы повидать зазнобу, и не нашёл её: изба оказалась пуста. Да разве мог он тогда предположить, что не обошлось здесь без матушки. Софья Витовтовна взяла на себя этот грех. И грех ли это вообще — освободить сына от чар язычницы!
Не могла укрыться от всевидящего ока Софьи Витовтовны и любовь Василия к дочке боярина Всеволожского. Это по её воле было разорено поганое гнездо, это по её желанию Марфу заточили в монастырь. Но кто мог знать, что чувство князя не остынет и даже через годы будет толкать в объятия своей любушки. Кто бы мог подумать, что он будет рядиться под бродячего монаха, чтобы увидеть Марфу.
Оставалась у великой княгини ещё власть над сыном. На это и рассчитывала Софья. Она пришла в горницу великого князя, когда тот находился один и потихоньку горевал у окошка. Василий даже не обернулся на приветствие матушки, только слегка наклонил голову. «О Марфе тоскует, — дрогнуло от жалости материнское сердце. — Вырос сын, князь теперь великий, а не прежнее бесштанное дитятко».
Великая княгиня вдруг почувствовала, что робеет перед Василием, не чувствовала она теперь больше себя властной и сильной. Слабой женщиной, любящей матерью предстала она перед сыном. Теперь он её господин!
— Князь, я бы хотела поговорить с тобой.
— О чём?
— Печалишься ты...
— Гонец прибыл. Васька Косой Устюг пожёг, князя Оболенского живота лишил. Опять на московский стол зарится. Если не сегодня, так уж завтра у посадов с полками объявится. Я уже гонцов по городам разослал, наказал воеводам, чтобы с силой собирались и к стольному граду спешно шли.
— А что у тебя жена грустит? Забываешь ты её, Васенька.
— Не о том сейчас, матушка, думаю. Васька Косой хуже ордынца сделался. Земли разоряет, а людей моих мечами до смерти сечёт. Попомнит он меня!
Василий Васильевич обманывал себя. Васька Косой по-прежнему оставался братом, и, попроси он завтра мира, отказать ему не нашлось бы сил. Хватит на Руси и одного Окаянного — Святополка. Своё имя он не запачкает.
— Ну будет тебе, Василий. За жёнушкой своей последи, рожать ей скоро, а она печалится. Люди не без глаз, говорят, что у тебя зазноба появилась... Уж не дочка ли это боярина Всеволожского? — сказала княгиня и пожалела тотчас.
— А это, матушка, моё дело! Могло и по-другому всё получиться, а Всеволожский стал бы моим тестем! Верные люди меня известили, сказали, что это ты Марфу в монастырь упекла. Сына малого куда-то упрятала. Грех ведь это великий. Только ведь уже не поможет, присох я к ней! А теперь оставь меня, матушка, — приказал великий князь, — мне перед сном помолиться следует.
Утром Василию Васильевичу сообщили, что к Москве вместе со всем двором идёт Дмитрий Шемяка.
— Без полков? — подивился московский князь.
— Да.
— Что ему нужно? — спрашивал великий князь, когда постельничий боярин помогал Василию вдеть руки в кафтан.
— На свадьбу тебя зовёт.
— Не до свадьбы мне теперь. Пошёл вон!.. Хотя постой, — остановил Василий гонца у двери. — Зови Шемяку ко мне в покои.
Вошёл Дмитрий в палату Василия и в поклоне коснулся пальцами дубовых половиц.
— Здравствуй, государь московский, на свадьбу я тебя зову. Анастасию в жёны беру, дочь Романа Семёновича.
Василий Васильевич стоял к брату спиной. Дмитрий разглядывал колонтарь великого князя, стянутый на плечах кожаными ремнями. Пластины поблескивали, играя в тёмных углах солнечными зайчиками.
Василий повернулся и скрестил руки на груди. Он поймал себя на том, что именно так встречал отец ослушавшихся слуг. Неожиданно для себя он вдруг понял, что унаследовал отцовскую манеру держаться, перенял даже жёсткие интонации его голоса.
— На свадьбу приглашаешь? Там и Васька Косой будет? Так что, я с ним за одним столом сидеть должен? А может, ты своим братом в Москву как лазутчик подослан?
— О чём ты говоришь, князь?!
— Мне ли доверять Юрьевичам?! Отравить меня хотите на свадьбе, чтобы самим княжить!
Дмитрий Шемяка был моложе московского князя на пять лет, кому, как не ему, называть Василия старшим братом.
— Государь мой, старший брат! Разве я не отказался от Васьки Косого, когда он после смерти батюшки без нашего позволения сел на московский стол? Разве не мы с Дмитрием отписали тебе повинную грамоту? И если бы я был виновен перед тобой, посмел бы тогда явиться перед твоими очами? Единственная вина моя в том, что я доверял Ваське Косому. Ты же знаешь, брат, характер Васьки. Невозможно с ним тянуть одну повозку, того и гляди, перевернёт!
— Разве ты с ним не встречался под Устюгом? — напомнил Василий Васильевич, давая понять, что ему многое известно о той встрече. — О чём вы там говорили? Уж не замышляли ли с силой супротив меня собраться?
Дмитрий Шемяка сумел перебороть смущение, стало быть, и об этом Василию известно. Видать, кто-то из бояр нашептал, но ответил уверенно:
— Ничего дурного я против тебя не замышлял, князь. Как ты считаешь, если бы я доверял Василию, разве пошёл бы я к нему с ратью?
Довод бы разумным.
— Однако Васька Косой под Москвой с полками стоит. Погостишь ты у меня, Дмитрий Юрьевич. Хозяин я гостеприимный, выделю для тебя просторные хоромы. Рынды! — заорал московский князь.
На крик Василия Васильевича вошли два дюжих молодца с бердышами.
— Уюта, князь, не обещаю, но сыт будешь. Взять князя! — ткнув пальцем в Дмитрия Шемяку, приказал Василий. — Бросить его в темницу!
— За что, князь, бесчестишь? — попытался вырваться Дмитрий.
— Держать в темнице до тех пор, пока с Васькой Косым не сквитаюсь! — Рынды нерешительно застыли, дело ли, самого князя взашей толкать! А Василий Васильевич уже прикрикнул на нерадивых: — Ну чего рты раззявили?! В холодную его... держать на воде и хлебе!
Полки Василия Васильевича прошли по нешироким улочкам посада, и скоро лес поглотил растянувшуюся колонну.
Вместе с великим князем шли Иван Можайский и литовский князь Баба Друцкой. Иван Можайский ехал рядом с Василием и временами поглядывал на сумрачное лицо великого князя, пытаясь разгадать причину его печали.
Не приходится удельным князьям выбирать господина, чаще служат тому, за кем большая сила. Год назад был Иван Можайский вместе с Юрием Дмитриевичем, теперь со своими полками влился в дружину Василия Васильевича, только так и возможно сохранить удел. Конечно, между ними уже не существовало той прежней сердечности, какая связывала двоюродных братьев в юношестве, однако он в числе первых признал старшинство Василия после смерти Юрия Дмитриевича, а значит, Иван не случайно ехал с московским князем стремя в стремя.
Иногда Ивану Можайскому казалось, что Василий поглядывал на него недобро, и тогда холодело внутри от страха. Сейчас Василий Васильевич в силе, самое время вспомнить прежнюю обиду, когда Иван Можайский отказал в помощи московскому князю, переметнувшись к его врагу, Юрию Дмитриевичу. Василий может приказать своим стражам, не отстававшим от великого князя ни на шаг, схватить его и стеречь в Коломне вместе с Дмитрием Шемякой. Поохают бояре, попричитают и примут от московского Васьки нового князя. Московские князья не умеют прощать обид. Они могут держать при себе сотоварищей, но только до тех пор, пока этот союз не противоречит собственным интересам. Стоит только разойтись в малом, как из друзей они превращаются в опаснейших врагов.
Московские князья сгубили тверских князей в Орде, когда решался спор, какому городу на Руси быть первым. Шепнули хану, что против него недоброе дело тверичи замышляют, отсыпали дорогих камней хитроглазым мурзам, и приговор свершился. Иван Можайский знал: сейчас Василий нуждается в его поддержке, оттого и идут их лошади голова к голове, но как только разобьют они Косого, припомнятся старые обиды. Ивану Можайскому подумалось, а не лучше ли для него, если бы Василий Васильевич потерпел поражение, а московский стол занял Васька Косой. Уж как-нибудь он с Галицкими князьями поладил бы!
Иван посмотрел на Василия, который, не догадываясь о тайных помыслах можайского князя, трепал по шее лошадь. Конь охотно откликнулся на хозяйскую ласку и тянулся губами к ладони хозяина.
Нужно помочь Василию Косому, но действовать придётся хитро, чтобы о тайных замыслах Василий Васильевич и подумать не смел.
Полки Василия остановились далеко за Москвой, в широком поле, и, куда ни глянь, всюду синь небесная. Поднялась в лугах высокая трава, мешает идти, путаются в ней ноги. Василий Васильевич спешился, взмахнул мечом, хотел срезать Зелёные колоски, да одумался — пускай живёт себе озорница. Запестрели шатры на зелёной траве. Сотники уверенно распоряжались, заставляя ратников надевать доспехи. Дружинники облачились в кольчуги, подвязывали колонтари, чинили боевые топоры и бердыши, затачивали стрелы.
— Старшой, — обратился Иван Можайский к Василию. — Может, мне к Ваське Косому съездить? Образумить нечестивца, от брани отговорить?
Вздохнул Василий Васильевич глубоко, закружилась голова от вольного воздуха, и запах полыни показался ему чересчур горьким. Недоспал, видать, государь, всё в седле да в седле, и Ивана Можайского вдруг кольнула непрошеная жалость: «А может, поберечь московского князя?» Но Василий Васильевич сурово глянул на брата, и Иван Можайский понял, что не ослабел великий князь ни духом, ни телом, а с полками своими окреп ещё более.
— Поезжай! — безразлично махнул Василий Васильевич. — Если дурня образумить сумеешь... спасибо скажу.
Василий Косой был во хмелю. Чёртова сивуха мутила голову. Поднял он окосевшие глаза и спросил у рынды, стоявшего в карауле:
— Кого это вы привели?
— Не привели, государь, это князь можайский, от Василия Васильевича пришёл.
— Иван?! — подивился Василий.
— Он самый.
— Чего это ты пришёл? Поначалу к отцу моему приставал, а теперь за Василием коня под уздцы водишь.
— Опозорить меня хочешь, князь. Не заслужил я такого обращения. Я и батюшке твоему верой служил. Поднимись он сейчас из гроба, так ни в чём меня упрекнуть не смог бы.
— Говори, с чем пожаловал, — оборвал Ивана Василий и дохнул сивухой в самое лицо.
— А пожаловал я вот с чем, князь, — присел Иван Можайский на сундук. Тесно было в шатре, у свечей бесшабашно кружилась мошкара. — Побьёт тебя московский князь! Вон он силу какую понабрал, почитай, вся Русь за ним. Даже братья твои единокровные от тебя отворачиваются. Дунет на тебя Василий Васильевич — и нет тебя...
— Уж не затем ли ты пришёл, чтобы уговорить в ноги московскому князю поклониться? На милость его просишь положиться?
Грозен был князь Василий во хмелю, боялись к нему подойти бояре.
— Не понял ты меня, — мягко возразил Иван Можайский. — Хочешь, я помогу тебе от Василия Васильевича избавиться да на московский стол сесть?
— Хм... И как же это ты поможешь? — недоверчиво хмыкнул Василий.
— Дай мне сейчас слово, что вотчину мою расширишь и Переяславль отдашь.
— Обещаю! — сказал Василий.
Просто даются обещания во хмелю.
— Ты крест целуй свой нательный, — строго наказал Иван.
Помялся Василий Юрьевич, но рубаху расстегнул. Крест у него большой, посерёдке каплей крови застыл рубин. Перекладина креста слегка помята — побаловался князь в кулачном бою, вот и попортил матушкин подарок. Приложился Василий влажным ртом к распятию и выжал из себя клятву:
— Ладно, паскудник, клянусь... Обещаю расширить вотчину, когда на стол московский поднимусь. — И пригрозил: — А если обманешь — голова с плеч полетит. Ну теперь говори, с чем пришёл, что надумал.
— Как только я уеду, пошли гонца к Василию Васильевичу, пусть он скажет, что ты просишь перемирия до утра. Московский князь поверит, успокоится, а ты на него с полками сразу и наступай. Как в полон возьмёшь, так на московский стол и сядешь.
Василий Косой заправил крест под рубаху, откинул с широкого лба русую прядь и решился:
— Хорошо... Только как же я узнаю, что князь поверил мне?
— Гонца от меня жди. А сейчас идти мне нужно. Как бы Василий Васильевич недоброе не учуял.
Стражи вывели князя из шатра, подвели к нему коня и заторопились обратно.
— А подсаживать кто будет?! — осерчал можайский князь.
Знали рынды — не положено князю, как мужику дворовому, влезать в седло, стопы его плечи холопов подпирать должны. Но у них свой князь — Василий Юрьевич! Обругать бы можайского князя матерно, пожаловаться на него Василию Юрьевичу, однако и по-другому обернуться может. Сейчас Иван с их князем сговаривались о чём-то.
— Становись на моё плечо, — согнулся дюжий молодец, — да не поскользнись, князь! Плечо у меня крутое.
Поддал князь стременами в бок коню и был таков.
Всё было готово к сражению, однако неспокойно на душе у московского князя.
— Государь... видишь пыль на дороге, никак, гонец к нам скачет, полотнищем белым машет, — сказал Иван Можайский.
Пригляделся Василий Васильевич. Узкая лента дороги светлой полосой делила бор на две неровные половины. Дорога стремилась вырваться из плена сосен, которые огромными корневищами держали её с боков, а величавые кроны укрывали густой тенью. Действительно, у самого леса Василий разглядел всадника. Гонец торопился так, словно бор пугал его криками кикимор и уханьем леших. И сейчас, вырвавшись на простор и увидев дружину московского князя, он во спасение махнул белым полотнищем, призывая воинов помочь супротив нечистой силы.
— Вижу, — угрюмо отозвался Василий.
— Никак ли от князя Васьки Косого. Может, подождёшь выступать, Василий Васильевич, послушаем, что князь сказать хочет.
Лихо спешился перед великим князем гонец. Пал в ноги, в самую пыль.
— Письмо тебе везу, великий князь, от Василия Юрьевича. Замирения до утра просит, оказал бы ты ему такую милость, — взмолился гонец, протягивая тугой свёрток.
Потянулся было Василий Васильевич к нагайке, чтобы отхлестать холопа, посмевшего советовать великому князю, однако в разговор вступил Иван Можайский:
— Великий князь Василий Васильевич. Может, Васька Косой образумился? Может, тебя старшим братом признает? Авось до брани и не дойдёт. Обещал ведь подумать...
Василий Васильевич помешкал малость, а потом засунул плеть глубоко за голенище. Гонец не спешил разгибаться, так и стоял с повинной головой. Вот если бы так перед ним Василий Юрьевич согнулся. Простил бы!
— Замирение, говоришь, просит до утра?.. Ладно, так и быть! Скачи к своему князю и скажи, что будет ему замирение до утра. Но не более! Если надумает помириться совсем... пусть приходит утром, всё прощу. Так и передай Ваське, только один может быть господином, остальные все младшие братья.
Гонец сел на коня и поскакал обратно, скоро пыль скрыла его от глаз великого князя.
Полки разошлись каждый в свою сторону. Главный полк вернулся в город, полк, занимавший правую позицию, ушёл к реке, левый — встал на дороге, рать Ивана Можайского распустили по посадам.
Ничто в эту ночь не предвещало беды.
Безмятежно, как в далёком отрочестве, уснул Василий Васильевич. Снилось ему розовое утро, когда солнце только поднимается из-за леса, чтобы опалить алым светом сугробы, зажечь их разноцветными огнями и подарить искрящуюся радость малым ребятишкам.
— Князь Василий, просыпайся! Беда пришла! — Верный Прошка не мог разбудить московского князя. — Василий Косой договор нарушил, сюда идёт!
Открыл глаза Василий Васильевич и не мог понять, что за беда. Жёлтым пламенем горела свеча и казалась продолжением сна, и от её ласкового свечения в шатре было уютно и спокойно. Только испуганный голос Прошки нарушал безмятежность:
— Васька Косой заставы побил, сейчас здесь будет!
— Как?! — князь вскочил с ложа. Травинки запутались в волосах, но он не замечал этого.
— А вот так! Только один отрок и уцелел. На коня вскочил и через лес к тебе прискакал.
— Да как же он посмел?! — Великий князь спешно натягивал сапоги.
— А вот и посмел, великий князь. Как только ты полки распустил, он на тебя и пошёл. Знает, шельма, что не одолеть нас в открытом поле, он на хитрость и решился. Сонного тебя хотел полонить.
— Вятичи это всё! Они его надоумили договор нарушить! Не мог меня Василий обмануть! Не мог!
Князьям возражать всегда трудно, только хмыкнул Прохор в бороду и выбежал вслед за государем.
— Где гонец?! Сам хочу услышать!
— Здесь он, государь. Эй, Никита, поди сюда! — прокричал Прохор.
Навстречу из темноты шагнул отрок. Изрядно тощий, в рваной рубахе, он вылупил на князя глаза и с перепугу забормотал:
—Поторапливайся, государь, Васька Косой с полками сейчас из леса покажется.
Полки московского князя отдыхали. Воины сидели у костров, неторопливо вели беседу, попивали из кружек брагу. Костры, потрескивая, догорали.
— Трубач! Трубач где?! — надрывался московский князь. — Боевую тревогу пусть трубит! Полки Василия Косого к городу подходят!
Дружина стряхнула с себя хмель. Заорали сотники, забегали воеводы, ржали кони, ахнула пушка.
— Трубач где?! Найдите трубача! — орал Василий.
Трубач, паренёк лет семнадцати, до смерти перепуганный, спешил на крик. Запутавшись в полах кафтана, он растянулся прямо перед великим князем.
— Дай сюда! — вырвал трубу у него великий князь.
Первые звуки боевой тревоги пронеслись над полем.
Из леса выступила рать Василия Косого. И схлестнулись полки не на жизнь, а на смерть. Бились воины до рассвета. Вместе со всеми рубился и Василий Косой: рядом падали, сражённые стрелами, ратники, а он, не ведая усталости, отбивался от наседавших всадников.
Возможно, ушёл бы Василий Косой с остатками своей дружины, да споткнулся верный конь и, ломая ноги, рухнул на землю.
Василия Косого схватили. Повязали ему верёвками руки и подвели пред светлые очи Василия Васильевича.
— Так кто же из нас старший брат? — усмехнулся московский князь. — Первым хотел быть, на московском столе хотел сидеть. Будет тебе место на Москве! Но только в яме. Посидишь, ума наберёшься, а там посмотрим, как с тобой далее быть.
— А не много ли ты себе позволяешь, князь? Одного брата в Коломне в заточении держишь и другого в яму решил посадить. Уж не придушить ли ты нас тайком хочешь?
Нахмурился Василий Васильевич. Горькие слова говорит Василий Косой, не успокоится, злыдень, пока жив будет. Может, дать ему испить чашу с ядом, на том и спор закончить?
— Меня коришь, а за собой греха видеть не хочешь? Для чего же ты полки собирал? Разве не для того, чтобы со мной и с матушкой моей разделаться? Вот возьму и лишу тебя за это живота!
— Не посмеешь, князюшка, на брата руку поднять, — засмеялся Василий Юрьевич. — Всеми проклят будешь. Отвернутся от тебя не только ближние бояре, но и собственные холопы. От церкви причастия не получишь. Народ тебя Окаянным назовёт, и уйдёшь с этим грехом в могилу, — зашептал Васька Косой.
И от этого проклятия московский князь похолодел.
— Не убью я тебя. Но стеречь крепко стану. — И, повернувшись к стражникам, сказал: — Караулить князя пуще глаза. Пускай до Москвы пешком идёт, а если не пожелает, так копьями под седалище подтолкните.
Подошёл тысяцкий и сообщил князю, что пропал воевода Брюхатый. Осмотрели всё поле, но не нашли его среди убитых. А на следующий день великий московский князь узнал: воевода Брюхатый попал в полон к вятичам. Цену за выкуп знатного воеводы назначили огромную, только в Москве и можно сыскать такие деньги. «Ладно, — решил Василий Васильевич, — доберусь до Москвы, а там и выкуп за воеводу отдам».
В Москву Василий Васильевич въезжал победителем. Торжественно приветствовали великого князя басовитые колокола. Василий Юрьевич входил в Москву пленником: был без шапки и бос, руки позорно стянуты за спиной верёвкой. Великокняжеские бармы у Василия сняли, а на груди, поверх рубахи, тяжёлый нательный крест висит.
Москва помнила дмитровского князя другим — Василий Юрьевич въезжал в Кремль на сером жеребце, был хмельной и весёлый, а конь широкой грудью пробивал ему в толпе дорогу к самому дворцу.
Теперь московиты увидели другого человека, униженного и побеждённого. Но глаза дмитровского князя, бесовские, как и прежде, смотрели вокруг дерзко. Василий Косой напоминал волка, припёртого рогатинами в самый угол амбара. Шерсть дыбом, хвост поджат, но стоит ослабить внимание, как жёлтые клыки мгновенно сомкнутся на горле обидчика. И стало ясно московитам, что воля дмитровского князя не сломлена. Стоит отпустить Василия Косого с миром, как соберётся он с силушкой и вновь заявит своё право на старшинство.
Не удивить Москву ничем. Видели московиты Василия Косого стольным князем, теперь привыкнут и к пленнику.
Василий Косой на миг задержался, оглянулся, словно хотел рассмотреть в толпе знакомое лицо. А Прошка, горделиво восседающий на статном аргамаке, в нетерпении ткнул замешкавшегося князя в спину:
— Ну, чего встал, дурья башка?! Сказано тебе, вперёд идти!
Поглазели московиты на необычное зрелище, и стало им ясно, что участь Василия Юрьевича решена. Не отпустит его Василий Васильевич из Москвы, а если и надумает дать свободу, то за городские стены выйдет после принятия пострига.
Вечером от вятичей прибыл гонец, который требовал выкуп за боярина Брюхатого. Теперь просили на шапку серебра больше. Подумал князь и решил дать деньги, но вечером стало известно, что князя Брюхатого порешили и обезглавленное тело привязали к столбу и выставили в поле. Часу не прошло, исклевало изуродованного боярина воронье.
Жаль было Василию Васильевичу умного боярина. И против литовцев воевода постоять умел, и ордынцы за храбрость его ценили, кто же мог подумать, что погибнуть ему придётся от руки русича.
— Вот оно как! И деньги забрали и боярина живота лишили! — лютовал великий князь. — Ладно, расправлюсь я с ними ещё! Попомнят меня вятичи! Как они к нам, так и мы к ним. Привести ко мне Ваську дмитровского!
Стража привела Василия Юрьевича. Лохмы нечёсаны и спадают на потный лоб, босые ноги избиты в кровь, а кафтан изорван. Глаз сильно косил, и от того взгляд его казался ещё более дерзким.
— Что? Боярина твоего убили? — зло спросил Василий Косой. Выходило, князь не боялся позора, не стыдился разутых ног, был прежним Васькой Косым: дерзким на язык, с крутым характером.
— А хочешь, ты за ним пойдёшь? — спокойно спросил Василий Васильевич.
И тон, каким были произнесены эти слова, подействовал, дмитровский князь понял: угрозу князь осуществит.
— Не посмеешь!.. — с издёвкой сказал Василий Юрьевич. — Не по-христиански это, руку на брата поднимать. Прикажи своим стражам увести меня, лучше в яме сидеть, чем на лицо твоё поганое смотреть!
— Смотреть, говоришь... на лицо поганое... — угрожающе проговорил московский князь.
В войне побеждает не всегда тот, кто сильнее, а тот, кто беспощаднее. И нужно нанести Ваське Косому такой удар, от которого он уже никогда не оправится.
— Ты косой на один глаз, а я сделаю тебя кривым на оба. Стража! Выколоть ему глаза! Я хочу увидеть, как его бесстыжие очи упадут на пол!
Стража, стоявшая у входа с бердышами, переглянулась. Не бредит ли государь, видано ли, чтобы князей таким образом наказывать.
— Ну что застыли?! — взревел от ярости московский князь. — Выколоть Ваське Косому глаза!
Было от чего рындам опешить. Не каждый день князьям глаза приходится выдавливать.
Двое ухватили Василия Косого за плечи, повалили на пол, а Прошка Пришелец вытащил кинжал и попытался выколоть князю глаза. Василий Косой вырывался, орал истошно, ругал великого князя и призывал на его голову всяческие проклятия:
— Воздастся тебе за твои зверства! Слезами кровавыми сам будешь плакать, попомни мои слова! Ирод! Окаянный! Отпусти меня! Будь же ты проклят!
Василий Юрьевич бился косматой головой об пол, не давался в руки Прошке.
— Здесь колите! — кричал Василий. — Я хочу видеть всё!
Стражи сидели у Василия Косого на ногах и груди, один из них ткнул кинжалом в глаз. Лезвие рассекло щёку, обильно потекла кровь, заливая рубаху, но глаз смотрел по-прежнему яростно.
Василий Васильевич сердился всё более:
— Что?! Рука дрожит?! Или мне самому за дело взяться?!
Рында изловчился и сунул заточенный конец прямо в свирепое око и дважды повернул, вываливая на пол тягучую слизь.
— А-а-а! — орал Василий Юрьевич. — Господи! За что ты послал мне такие муки! За что же, Боже?!
Прошка выколол второй глаз. Василий вдруг обмяк, и больше не шевелился. Был он дмитровским князем, стал слепцом.
— Что с князем-то делать? — спросил Прохор, вытирая кровавый клинок о полы кафтана.
— Вышвырните его за ворота, и пускай идёт куда хочет!.. Впрочем, нет, отправьте слепца в Кострому. Там он с братцем своим Шемякой встретится, на пользу это будет Дмитрию. Он подумает крепко, прежде чем на государя руку поднять.
— А дальше что с ним делать?
— Отправьте в монастырь, там знают, что с ним делать. А я его более никогда не хочу видеть!
— Сделаем, государь, — отвечал Прохор Иванович и, поднимая слепца с пола, сказал: — Ну чего развалился?! Слышал, что государь повелел? Давай живее!
Дмитрия Шемяку держали в келье. Только раз после обедни молчаливый монах приносил князю квас и хлеб и так же без слов уходил.
Вот уже пошла вторая неделя заточения, а будто год минул. Каждый день казался длиной в целую жизнь — некому пожаловаться, не с кого спросить. Дмитрий Шемяка понимал, что его нынешнее положение зависит от того, как сложатся отношения между двумя Василиями. А если держат его взаперти, стало быть, московский князь не одолел дмитровского князя.
Дмитрий Юрьевич ждал освобождения и вместе с тем очень боялся: вдруг распахнётся дверь кельи и суровый монах проговорит: «Выходи, свободен, князь».
А это будет означать не что иное, как поражение старшего брата, и отныне властвовать на Москве Василию Васильевичу безраздельно.
То, чего так остерегался Дмитрий Юрьевич, случилось в середине второй недели. Широко открылась дверь, приглашая князя покинуть холодную обитель.
Князь поднял голову с лежанки и увидел монаха. Островерхий клобук напомнил шлем, а ряса походила на кольчугу.
— Чего тебе надо... ратник?
Монах усмехнулся:
— Что же ты, Божьего человека от дружинника отличить не можешь? Кончилась твоя тюрьма, князь, выходи во двор.
Монах заговорил впервые. Голос у него оказался густым и приятным.
Князь поднялся с лежанки и спустился во двор. Сразу у ворот Дмитрий увидел одинокого монаха, который неторопливо брёл вдоль стены, касаясь ладонью её шероховатой поверхности. Шаги монаха были неуверенными, и Дмитрий понял, что он слеп.
Его внешность князю показалась знакомой: фигура, поворот головы, длинные и сильные руки. Как он похож на Василия! И когда слепец повернулся, заслышав приближающиеся шаги, Дмитрий не поверил увиденному, повернулся к сопровождавшему его чернецу.
— Кто этот слепец? — спросил и не узнал своего голоса, боялся услышать ответ.
— Неужели не узнаешь? — обронил монах сурово. — Это брат твой старший, Василий Юрьевич. Ты уходишь, а он вместо тебя келью займёт. Келья небольшая, но слепцу много места и не надо. А я при нём буду, как и при тебе.
— Кто же его так? — прошептал князь.
— По приказу великого князя московского Василия Васильевича.
Хоть и бранились братья частенько, и походами ходили друг на друга, но такого не бывало ещё. Жалость сжала горло Дмитрия, когда увидел он слепого брата. Не было в нём прежней горделивости, достоинства, предстал перед ним жалкий слепец.
— Брат мой... — выговорил Дмитрий Юрьевич, и слёзы, горькие, горячие, потекли по щекам.
Тихо сказал князь, но Василий услышал, остановился и повернул кровавые пустые глазницы на голос.
— Ты ли это... Дмитрий?
— Я, брат, я. — Шемяка сделал шаг навстречу.
— Посмотри же, что со мной великий князь московский сотворил... Глаз лишил... в монахи постриг. Чем же он не Окаянный?
— Больно тебе, брат? — жалость с новой силой захлестнула Дмитрия.
— Не здесь болит, — безразлично махнул монах рукой, — а здесь вот, в самом сердце! — Кривой палец упёрся в грудь. — Темнота теперь вокруг меня. Всё слышу: птицы поют, чувствую, солнышко печёт лицо, а видеть ничего не могу. Сны мне стали часто сниться, не бывало со мной такого ранее, только, что бы и ни увидал, всё кровавыми красками заливает. А сегодня приснилось, будто я, отрок бесшабашный, бегу к реке по лугу. Вода в реке прозрачная, на дне камешки разноцветные, рыбки махонькие плавают, а потом всё это красным застилает, и уже нет ничего. Тьма одна!
Только на мгновение лицо Василия Юрьевича посветлело, сжатые губы тронула лёгкая улыбка. Именно таким Шемяка чаще всего вспоминал старшего брата: удалым и дерзким отроком в рубахе навыпуск. Однако горе вновь легло на лицо Василия Юрьевича, и щёки прорезали глубокие морщины.
— Всё... ничего уже нет... Ничего... Одна темнота да печаль мне теперь остались.
Только сейчас, глядя на беспомощного и ослепшего брата, Дмитрий понял, как дорог ему Василий. Обнял он его голову, прижал к своему лицу.
— Обещай мне, Дмитрий, что отплатишь за поругание, — требовал Василий.
— Обещаю, брат, обещаю.
Монах между тем уже запряг телегу, бросил на неё солому и нетерпеливо поторапливал князя:
— Князь Дмитрий Юрьевич, в дорогу пора. Великий московский князь дожидается.
— Ступай... ступай, братец, — дотронулся Василий до лица Дмитрия. — И ни слова обо мне московскому князю, побереги ненависть до времени. И храни тебя Господь! — поднял он руку в благословении.
Дмитрий сел на телегу. Закрылись ворота и навсегда упрятали дмитровского князя Василия Юрьевича. Мирская жизнь осталась позади, в монастырь пришёл старец Дорофей.
Лошадка оказалась хромой, она слегка припадала на переднюю ногу, и чернец, понукая её, повторял одно и то же:
— Недоглядел. Лошадь подковать надобно. Вот как доеду, так сразу и в кузницу.
Заводить беседу князю не было надобности, и он, укрывшись плащом, переживал увиденное. Потом укачало князя, и он тихо задремал.
Из дрёмы Дмитрия вывела чья-то ругань. Он открыл глаза и увидел, как четверо мужиков тащили девку, которая упиралась, бросалась на землю, руками цеплялась за траву, но они поднимали её и тащили дальше.
— Эй, мужики, остановитесь! Что вы делаете?! Куда девку тащите?!
— А ты кто такой?! — выступил вперёд задиристый, небольшого росточка мужичок. — Не обязаны мы перед тобой ответ держать, у нас свой господин имеется.
Мужик крепко держал девку за волосы, и жиденькая бородёнка его строптиво топорщилась.
— Кто я такой? Князь Дмитрий Юрьевич. — И с усмешкой добавил: — Или не слыхал?
— Князь Дмитрий Юрьевич? Шемяка? Как же не слыхать, наслышан.
Он отпустил девку, чтобы снять перед костромским князем шапку, а девка, почувствовав в князе неожиданного заступника, с надеждой смотрела на Дмитрия. Увидал её глазищи Дмитрий Шемяка да и обмер. Неужели Меланья?
— Почему девку силком тащите? — строго спросил Дмитрий Юрьевич.
— Так известное дело... ведьма! — просто отвечал всё тот же мужик.
И стоявшие рядом поддакнули:
— Как есть ведьма. Сами видели, как она в чёрта обращалась в полнолуние.
— А потом и над селом летала и чёртову траву собирала.
— Куда же вы её тогда тащите? — ужаснулся Дмитрий.
— Сруб мы на берегу поставили осиновый. Его нечистая сила боится. Вот со всей округи ведьм ловим и в этот сруб запираем. Эта ведьма последняя... двенадцатая. Потом сруб подожжём. Мор начался. Бывалые люди сказывают, что в этом наговоры ведьмины повинны.
— Отдайте мне её, — заступился за девку князь. — Я вам заплачу. Вот горсть серебра... за неё даю!
Мужики переглянулись, походило на то, что предложение князя их заинтересовало. Они чесали затылки, тихо переругивались, поглядывая на девку, а потом всё тот же мужичонка подошёл к князю и сказал:
— Ладно, князь Дмитрий, забирай девку-ведьмачку. Твоя она! Сыпь сюда серебро, — подставил он шапку. — А мы походим ещё по округе, другую поищем. В селе-то знают, что привести мы её должны, несподручно пустыми возвращаться. А ты этой девки оберегайся, князь, беду она принесёт. Посмотри, какие глазищи.
Мужики ушли, и долго ещё была слышна их брань — видно, никак не могли по справедливости поделить серебро, а Меланья стояла на обочине, не веря в своё неожиданное освобождение. А может, на этот раз помогли ей тёмные силы?
— Ну что стала? Садись на телегу, Меланья, дальше поедем. А меня ты помнишь? — спросил Шемяка, когда девка села рядом на солому.
— Помню, — смиренно отвечала колдунья. — И тебя помню, и братца твоего помню... Дмитрия Красного.
Разрумянились щёки у девки, видно, совсем оправилась от страха и прошлое вспомнила.
— Ну вот и ладно. К брату я сейчас еду, Дмитрию, может, возьмёт он тебя в дворню. Как же ты в колдуньи-то попала? — удивился Шемяка.
— После того как вы отъехали, выгнал меня хозяин. По дорогам ходила, милостыню просила. Потом в селе одном приютили, а там вдруг мор начался, вот меня и стали в этом винить, а я ни в чём не повинна.
За всё время чернец не проронил ни слова, сидел будто немой. Только сделался ещё угрюмее, думал своё: «Конечно, не по-христиански безвинную душу губить. Но и какой прок с собой брать? Не приживётся она. Это как ласточка из чужой стаи — каждая её клюнуть норовит. Трудно ей будет жить». И он в сердцах огрел лошадку кнутом. Животное обиженно фыркнуло и быстрее заработало ногами.
Князь тоже погрузился в свои мысли. Свадьба была расстроена: вместо веселья Василий Васильевич продержал его в яме. И не до праздника будет до тех пор, пока боль от обиды не уляжется.
Часть III ВЕЛИКИЙ УЛУ-МУХАММЕД
Улу-Мухаммед вышел в вечерний сад. Весна в этот год пришла ранняя, и персики распустились пышным ярко-розовым цветом. Их сладкий аромат пьянил. Было душно и жарко. Сад принадлежал его гарему, и наложницы любили сидеть в тенистых беседках, окутанных диким виноградом и плющом, который разросся во все стороны и укрывал девушек от чужих глаз.
Посредине сада был бассейн, выложенный красным мрамором, с огромным фонтаном, где в жаркие дни плескались прелестницы хана. Улу-Мухаммеду нравилось смотреть, как в тёплой прозрачной воде купались его жёны, а они, заметив присутствие своего господина, бесстыдно выставляли напоказ свои прелести, стараясь привлечь внимание хана. Раздавался смех, царило веселье. И эта нагота и красота могли соблазнить кого угодно, но только не Улу-Мухаммеда. Это всё принадлежало ему и давно перестало волновать.
Сейчас сад был пустынен, и только в беседке, которая пряталась далеко в зарослях кустарника, хан разглядел одинокую фигуру Гайши — девушки лет семнадцати. Наложница была высокой, с миндалевидными глазами. Улу-Мухаммед купил её в Кафе, но на невольничий рынок она попала из Индии. И ему пришлось отсыпать немало золота, прежде чем торговец решился расстаться с красивым товаром.
Улу-Мухаммед затаился в тени персикового дерева. Хан не смог объяснить даже себе, почему он так поступил: скорее всего, для того, чтобы втайне полюбоваться прекрасным приобретением. Улу-Мухаммед гордился своим гаремом, как всесильный эмир может гордиться завоёванными землями, восторгался им, как ювелир восторгается прекрасным блеском бриллианта. Возможно, его насторожило поведение девушки, которая отличалась весёлым и лёгким характером. А тут вдруг уединилась в самой глухой части сада, куда даже не заходят садовники-евнухи, чтобы подровнять ножницами разросшиеся кусты роз. Поэтому цветы и разрослись и выставляли свои ветки с шипами во все стороны.
Девушка сидела неподвижно и смотрела в одну точку. На её лице было такое волнение, что она показалась хану очень соблазнительной. Но что могло заинтересовать её в заброшенной части сада, где нет ничего, кроме стены, заросшей диким виноградом! Прошла не одна минута, прежде чем Улу-Мухаммед услышал какой-то шорох. Теперь он увидел: на стену взобрался человек. «Вор!» — была первая мысль, однако, услышав радостный возглас Гайши, он догадался, что здесь нечто иное, похоже, свидание. Хану стало понятно её терпеливое ожидание.
Незнакомец осторожно спустился со стены и бесстрашно прыгнул в кусты роз. Улу-Мухаммед с болью наблюдал за тем, как радостно навстречу мужчине выбежала Гайша, а он, расставив руки, спешил принять её в свои объятия.
Юноша был красив. Если и могла кого-то полюбить Гайша, то именно такого: он был высок, широкоплеч и тонок в талии, густые усы придавали его лицу мужественность. Хану хотелось выйти из своего укрытия и позвать стражу, которая тотчас расправится с соблазнителем его наложницы. Однако он медлил. Если это воин, жаль будет его терять. На такой поступок нужна больше чем смелость — безрассудство! Разве он сам способен на такой отчаянный шаг из-за любви к женщине?
Улу-Мухаммед видел, как затрепетала в объятиях мужчины Гайша, стала податливой, словно воск под лучами солнца. Юноша был опытным любовником, его руки проворно скользнули под халат, и девушка взволнованно задышала.
Хан вышел из укрытия.
— Кто ты? Назови себя, незнакомец! — громко сказал хан.
Гайша от ужаса вскрикнула, закрыла лицо руками и упала на колени.
— Повелитель, прости нас! Повелитель, прости! Аллах, сотвори чудо, сделай так, чтобы повелитель простил нас!
Даже слёзы отчаяния не портили красоту девушки. Улу-Мухаммед уже потерял интерес к Гайше, его занимал человек, посмевший отобрать то, что принадлежит только ему, хану. Жаль, что этот смелый юноша должен умереть. А что, если простить его и этим крепко держать в руках?
Юноша не испугался хана. Всё в нём было непочтительно: и вызывающая красота, и надменный поворот головы. Он чуть отстранился от красавицы Гайши и поклонился Улу-Мухаммеду.
— Я твой слуга, хан. Я должен буду умереть?
Юноша спросил это так, будто ему приходилось умирать по нескольку раз за день. Голос равнодушный, ни одной тревожной нотки. Если этот юноша слуга хана, значит, его жизнь принадлежит Улу-Мухаммеду, и он может наказать его, когда это будет нужно. Поэтому хан Золотой Орды долго не мог принять решения.
Улу-Мухаммед зорко оберегал свой гарем, но если было нужно, мог «угостить» красивой наложницей знатного гостя. Великодушный хан сейчас оказался обманутым господином, мужем, хозяином.
«Не хватало, чтобы надо мной потешались на восточных базарах все сплетники!» — раздражённо подумал Улу-Мухаммед.
Хан вытащил саблю, потом, подумав, вогнал её обратно в ножны. Нет, не может великий правитель убить этого соблазнителя даже из ревности.
— Стража! — крикнул Улу-Мухаммед.
На гневный голос хана вбежали несколько стражников.
— Куда вы смотрите?! Неужели не видите, что в мой гарем проник мужчина! Хватайте его и отрубите немедленно голову, иначе сами лишитесь собственной!
Евнухи, подгоняя мужчину остриём сабель, вытолкали его из сада. Напоследок незнакомец обернулся дерзко и рассмеялся.
— Ох и сладкие же у тебя наложницы, хан! Будет что вспоминать на том свете.
И долго его смех преследовал разгневанного хана.
Улу-Мухаммед подошёл к Гайше, девушка по-прежнему стояла на коленях, не поднимая головы. Хан хотел разглядеть в её глазах страх, но увидел только покорность. «Вот как обманывает меня красивейшая из наложниц, а ведь я хотел сделать её женой», — подумал Улу-Мухаммед.
Хан притронулся ладонью к её лицу, и когда она, в надежде лаской вырвать у господина прощение, потянулась к нему всем телом, разорвал на ней атласный халат. Хан смотрел на высокую девичью грудь, которую ласкал не только он один; видел губы, которые целовали чужие губы. В нём поднялось желание, тёмное и непреодолимое, он стал грубо шарить ладонями по её упругому животу, бёдрам, а когда под его ласками Гайша задышала тяжело и благодарно, овладел ею здесь же, в беседке.
Лунный свет падал на красивое утомлённое лицо девушки, под этим серебристым свечением она выглядела ещё прекраснее. Хан поднялся, запахнул свой халат и спросил:
— Как звали этого юношу?
Трудно было поверить, но в голосе его звучала печаль.
— Махмед, — отвечала девушка.
— Где ты с ним познакомилась? Тебе удалось подкупить одного из моих евнухов?
— Нет, мой повелитель, — отвечала красавица. Она улыбнулась, гроза прошла стороной — хан Золотой Орды простил её. — Ты же иногда отпускаешь нас на базар, чтобы мы могли сами выбрать для себя шелка и платья. Я покупала парчу в лавке его отца.
— И давно он... посещает мой гарем?
— Уже с полгода, — был печальный ответ.
— С полгода?! — поразился Улу-Мухаммед. — Завтра я прикажу казнить всех сторожей, охраняющих мой гарем. Это будет хорошим предупреждением тем евнухам, которые появятся позже.
Хану сделалось вдруг больно, а на лице красавицы Гайши уже играла лукавая улыбка.
— Ты ведь простил меня, повелитель?
Кому, как не господину, наказывать блудливую женщину. Страстный порыв в тёмной беседке был прощанием. Хан вытащил саблю и коротким взмахом отсёк Гайше голову. Он ещё успел разглядеть всплеск страха в её глазах. Гайша рухнула под ноги своему господину, словно всё ещё молила о прощении. Улу-Мухаммед перешагнул через её тело и пошёл во дворец.
— Узбек! — позвал он чёрного евнуха. И, когда тот предстал перед повелителем, спросил: — Чем занимаются жёны и наложницы в моё отсутствие?
— Они с нетерпением дожидаются твоего появления, повелитель, — был немедленный ответ.
— Перестань мне врать! — повысил голос хан. — Мне интересно знать всё! Кто с кем общается, о чём они говорят, в какие игры играют. Мне надо знать, даже о чём они думают! И самое главное, что наложницы говорят между собой обо мне! Ты не можешь не знать этого. Если ты ответишь на все эти вопросы честно, тогда я сохраню тебе жизнь.
— Хорошо, хан... Твоя милость не знает границ. Я начну с того, что твоим жёнам не с кем общаться, кроме евнухов, за исключением тех случаев, когда по твоему разрешению они покидают дворец и идут на базар, чтобы выбрать себе драгоценности и шелка для платьев. Но даже тогда их всюду сопровождает стража, и они находятся под наблюдением евнухов. Но разве можно уследить за этими плутовками! Прости меня, мой господин. Может быть, иногда их и посещают греховные мысли. Некоторые из твоих наложниц жили в Сарайчике. Изредка ты разрешаешь им видеться со своими родителями и родственниками. Не обижайся на меня, повелитель, но многие пережили любовь до тебя, и что может помешать им встречаться в отчем доме со своими прежними возлюбленными! Ты знаешь, что у нас произошёл такой случай, когда соблазнитель попытался проникнуть в ханский гарем, переодевшись в женские одежды, но обман сразу раскрыли, и евнухи немедленно изрубили его на части. Поверь мне, повелитель, мы делаем всё, чтобы уберечь твою честь.
— Чем жёны занимаются в моё отсутствие?
— Повелитель, Хавва — прародительница всех жён на грешной земле. Она была сотворена из ребра Адама, и, видимо, далеко не из лучшего. Если это не так, тогда зачем ей было поить Адама вином и заставлять вкушать запретный плод? Так и жёны твои, повелитель, сколько бы ты их ни ласкал, всё им кажется мало! Я часто вижу, как некоторые переодеваются в мужские одежды и ласкают твоих других жён.
— Хорошо... иди, — сказал хан. — И позови ко мне лекаря.
— Слушаюсь.
Правда, высказанная Узбеком, больно ранила Улу-Мухаммеда, но он сумел сохранить спокойствие. Тело его по-прежнему оставалось сильным, глаз, как и в молодости, зорок, однако он уже не ощущал того большого мужского влечения к женщинам, которое, он помнил, владело им с юношеских пор. Тогда достаточно было представить красивую девушку, чтобы почувствовать желание. До женитьбы было далековато, и его отец, великий Джеляль-Уддин, замечая в сыне томление, позволял ему пользоваться родительским гаремом.
— Пожалуйста, сынок, можешь заходить в этот заповедный сад. Дорога сюда для тебя всегда открыта. В жизни это не последнее дело, поверь мне, старику. Посмотри, что да как, чтобы во время брачной ночи не чувствовать себя глупцом, — громко хохотал Джеляль. — Помни, у тебя есть отец, который всегда сможет понять твои надобности, он-то уж никогда не закроет гарем для своего сына. Ну, а как женишься, так сможешь завести собственный гарем из молоденьких наложниц, тогда в спальные покои будешь пускать своего престарелого отца.
Джеляль-Уддин снова захохотал. Худое, загорелое до черноты лицо хана при смехе становилось похожим на печёное яблоко.
Улу-Мухаммед вдруг подумал, как могуч был его отец, если незадолго до смерти позволял себе размышлять о женской плоти. Мухаммед никогда не сможет забыть того дня, когда Джеляль-Уддин, поражённый смертельной болезнью, повелел привести евнухам свою любимую наложницу Гульнар.
— Пусть она разденется.
А когда Гульнар разделась донага, обессиленный правитель долго любовался её красивым телом, потом тихо произнёс:
— Уведите её... не хочу больше смотреть. Она меня волнует, хочу умереть спокойно.
С тем и почил старый воин.
Улу-Мухаммед всегда был желанным гостем в отцовском гареме. Страстные ласки красивого и стройного юноши хотели получить даже увядающие без мужских объятий многоопытные жёны. Кто, как не они, больше всего разбираются в любви. Это с возрастом Мухаммед стал засматриваться на молодость, а тогда его больше привлекала зрелость.
Перемену в себе Улу-Мухаммед обнаружил не сразу, и равнодушие к цветущему гарему он воспринимал как обычную усталость, находил радость в разговорах с сыновьями и в долгом общении с мурзами. Это потом пришло сомнение, а вместе с ним в нём поселилось и беспокойство.
Сейчас же Улу-Мухаммед обратился за помощью к придворному лекарю. Старый, высохший, словно кора дерева, лекарь, который поддерживал мужскую силу ещё у великого Тохтамыша, на всех во дворце одним только своим видом наводил страх.
Старик терпеливо выслушал господина и улыбнулся. Казалось, от его внимательных и умных карих глаз не способен укрыться даже ничтожный недуг.
— Я приготовлю тебе капли, повелитель. Это старый испытанный рецепт, настой из целебных трав и корня жизни. Он применяется с начала сотворения мира, и, мне думается, к нему прибегал даже Адам. Обещаю тебе, повелитель, ночь ты захочешь провести в гареме. Это снадобье помогало и твоему отцу, и до последнего дня он звал к себе в ложницу юных прелестниц. Грешно говорить, я, хоть и стар, как труха древнего дерева, однако и сам частенько прибегаю к этому средству. Не могу равнодушно проходить мимо молодости. Кто знает, может, поэтому я ещё и жив, что девушки дарят мне свою любовь. — Лекарь беззубо скалился. — Можешь не сомневаться, повелитель, я сумею сделать так, как нужно.
Старик управился в срок. В обед после молитвы он принёс в кувшине красную жидкость, густую и пахучую. Может, и вправду поможет снадобье? Тогда его нужно испить до дна, чтобы вновь ощутить себя, как и прежде, полным сил.
Улу-Мухаммед осушил кувшин до капли. Пил жадно, запрокинув голову, и тоненькая струйка стекала с его губ на белый шёлк воротника. Хан почувствовал на губах солоноватый привкус, совсем такой, какой бывает, когда слизываешь с ранки на пальце выступившую кровь.
Ночь Улу-Мухаммед провёл с одной из любимых жён и целый день ощущал радостное блаженство.
Через неделю Улу-Мухаммед позвал к себе старика вновь. Лекарь явился незамедлительно. Улу-Мухаммед подумал о том, что, сколько он себя помнит, лекарь всегда был старым и оттого казался бессмертным.
— Тебе не хватает красного снадобья? — удивился старик.
— Оно у меня ещё осталось. Но сегодня я хотел бы провести ночь в гареме не с одной наложницей, а с тремя! Здесь нужно более сильное средство.
— Понимаю. — Лекарь пытливо посмотрел на хана.
И снова Улу-Мухаммеду показалось, что старик сумел прочитать его сокровенные мысли. Ничто не могло укрыться от этих умных и проницательных глаз. Многое они видели, но старик оберегал не только его тайны, но и тайны его отца, уже давно умершего. Очень умён лекарь, если сумел дотянуть до глубокой старости, находясь вблизи от властителей.
—Я принесу тебе снадобье вечером.
Улу-Мухаммед хотел поторопить лекаря, но раздумал: кто посмеет обидеть старика, если никогда не знаешь, что забираешь из его рук — спасение... или отраву!
Ханский лекарь был точен и после вечернего намаза вошёл в покои Улу-Мухаммеда, сжимая в руках глиняную чашу.
— Здесь то, повелитель, что ты заказывал, — произнёс старик. Кожа лица его покрылась многочисленными морщинами — старик улыбался. — Оно поможет тебе.
Улу-Мухаммеду захотелось вдруг задержать лекаря и заставить его отведать приготовленное снадобье, но он раздумал. Не стоит обижать старика, для этой цели подойдут рабы.
Лекарство помогло. Совсем скоро хан почувствовал прежнее желание и велел евнуху готовить наложниц.
— Кого бы ты хотел видеть в эту ночь, мой повелитель? — спросил Узбек.
Хан чуть не сказал, чтобы к нему привели Гайшу, но вспомнил, как неделю назад расплатился с ней за измену.
— Приведёшь ко мне Фатиму, Ильсияр и Гульшат.
— Хорошо, мой повелитель.
— И позови ко мне мурзу Тегиню.
— Слушаюсь, — ещё ниже согнулся чёрный евнух. Он слегка поджал губы, только это и могло выдать его невольный страх.
Мурза Тегиня был не только молочным братом хана, он исполнял все его тайные приказания. И если из дворца кто-то исчезал или неожиданно умирал, то здесь не обходилось без жилистых рук мурзы Тегини. Эмиры поговаривали, что частенько он выполняет роль палача и в кармане кафтана носит длинный шёлковый шнур, который умело затягивает на шее обречённых. Евнух подумал, что с приходом Тегини может решиться и его собственная судьба, если он чем-то не угодил повелителю.
Разве способен хан простить измену?
Вошёл Тегиня. За последние два года он сильно пополнел, однако это обстоятельство только добавило ему важности. Мурза поклонился молочному брату и спросил:
— Ты звал меня, Мухаммед?
— Звал, — отвечал хан.
Улу-Мухаммед сидел на троне, по обе стороны которого пылали два факела. Огонь красными пятнами ложился на лицо хана, от чего он выглядел старше, на острых скулах залегли глубокие морщины.
— Тегиня, ты знаешь о том, что мне было нанесено оскорбление?
Как не знать, если об этом уже целую неделю говорил весь дворец, однако Тегиня отвечал сдержанно:
— Знаю, хан.
Мурза Тегиня хорошо изучил своего молочного брата. Не часто Улу-Мухаммед разговаривал с ним, сидя на троне. Чаще всего их беседа походила на разговор равных — право на это давали годы, проведённые вместе. А что может сблизить сильнее, чем вкус материнского молока. Но сейчас молочный брат возвышался над ним, и достать его он не смог бы, даже если и надумал бы подняться на несколько ступеней.
— И знаешь, кто нанёс мне оскорбление? Мои евнухи!.. Они посмели впустить в ханский сад чужака. Теперь все торговцы на базаре говорят о том, что ханский гарем — это колодец, из которого может напиться каждый желающий. Ты знаешь, брат, как нужно поступать с теми, кто посмел посягнуть на честь своего господина?
— Знаю, хан, — поклонился мурза.
— Ступай... Постой! — остановил хан мурзу у самой двери. — Пусть чёрный евнух останется жить!
— Слушаюсь, повелитель.
Чёрный евнух привёл к хану трёх наложниц. Фатима — крупная и рослая, с широкими пышными бёдрами и длинными чёрными до пят косами. Ильсияр — росточка небольшого, светловолосая и белолицая. Она досталась хану в подарок от турецкого султана. Гульшат была моложе всех остальных, ей едва исполнилось четырнадцать лет, но она уже успела побывать в гареме бухарского эмира. Юная прелестница в первую же ночь доказала хану, что за неё не зря он отсыпал целую шапку каменьев. Девушки были непохожи одна на другую и внешне и по характеру. Фатима, спокойная и немногословная, любила уединение и тишину. Ильсияр — игрива и весела, беспечна, как могут быть беззаботны только счастливые дети. С ней Улу-Мухаммед любил отдыхать, слушая её заливистый смех. Гульшат большую часть времени проводила в кругу подруг, видно, рассказывала о традициях бухарского двора. Хан поостыл к ней и почти не выделял среди прочих наложниц. Порой он бывал даже груб с ней. И девушка принимала это невнимание с покорностью любящей собаки. Но именно сегодня Мухаммеду хотелось первой отдать ей свои ласки.
Евнух ушёл, три наложницы скинули с себя покрывала и стояли перед повелителем нагие. Такими они предстанут перед высшим судом Аллаха. Ибо на земле не было для них более великого человека, чем их господин.
Хан решил провести одну ночь с тремя непохожими женщинами. Он, как гурман, заказал три разных деликатеса — три тонких, изысканных блюда.
— Подойдите ко мне ближе... жёны мои, — приказал Мухаммед. — Я хочу, чтобы вы ласкали меня втроём. Я так соскучился по вашим нежным пальцам. Я так жажду вашего сладостного прикосновения, как может ждать иссушенная земля обильного дождя. Воскресите меня, сделайте, как и прежде, юным!
Улу-Мухаммед изнывал в сладостной неге, когда со двора раздался приглушённый хрип. Это умирал один из евнухов хана. Тегиня лично исполнял приказ Улу-Мухаммеда. Евнухи умирали безропотно, словно куры, которые подставляют шеи под удар заточенного ножа.
Остался чёрный евнух. Он уже смирился с предстоящей участью и, закрыв глаза, нашёптывал молитву. Чёрный евнух подумал, как важно успеть прикрыть глаза, а быть может, закрыть их сразу, когда Тегиня захлестнёт шнурком горло. Узбеку хотелось умереть сразу и не видеть тех, кто будет отправлять его в мир иной.
— Теперь твоя очередь, — сказал Тегиня.
Стража обступила чёрного евнуха с двух сторон. Разве думал он, что придётся умирать в самом дальнем конце дворца, в тесной затхлой комнате, по соседству со скотным двором. Скорее всего, убитых не осмелится отпевать даже мулла, перетащат всех на телегу и отвезут далеко в степь на съедение изголодавшимся шакалам.
Чёрный евнух расстегнул кафтан, обнажив толстую шею.
— Так тебе будет удобнее, Тегиня. Не хочу утруждать господина, ты и так очень устал.
Евнух увидел, как в усмешке расползлись губы мурзы.
Тегиня посмотрел на шнур, который сжимал в руках, а потом спросил скопца:
— Страшно умирать?
— Когда настанет черёд умирать, мурза, тогда поймёшь, — пророчески усмехнулся чёрный евнух. — А теперь не задерживай меня больше, я спешу на встречу с Аллахом.
Однако Тегиня не торопился. Он размотал шнур, и на кулаках остались кровавые полосы. Евнух закрыл глаза и стал ждать. Когда живёшь рядом с ханом и знаешь все его тайны, то надо быть готовым к встрече со смертью. Но почему же он заставляет его ждать так долго! Или мурза хочет перед смертью сполна испытать его терпение? Но и оно не беспредельно!
— Ты можешь идти, евнух, — неожиданно услышал Узбек голос Тегини. — Мой брат добр и великодушен. Он решил простить тебя. Но знай, что и его доброта имеет границы! Посмотри на этих оступившихся и навсегда запомни лицо смерти.
Скоро к Улу-Мухаммеду вернулось прежнее настроение. И его смех то и дело раздавался в коридорах дворца. Хан веселился с наложницами, пил хмельной кумыс, ездил на соколиную охоту, бил в степи джейранов. А то вдруг на него нападал государственный зуд, и Мухам мёд выезжал в дальние и ближние улусы своего огромного царства. Вводил новые налоги, карал виноватых и прощал невинных. Иногда он останавливался в степи и подолгу не выходил из своего шатра, слушая сладостные звуки карная, и с восхищением наблюдал за танцами наложниц.
Собираясь в степь, Улу-Мухаммед брал с собой не только телохранителей. С ним ехала дюжина музыкантов, половина гарема, повара и даже придворный звездочёт, который указывал повелителю время наибольшего благоприятствования в пути. На арбах, вслед за воинством, спешили повозки с копчёной кониной, вином, свежими фруктами, шербетом, арахисом. Звуки громкоголосого карная ещё издалека предупреждали о приближении великого хана. Поэтому правители городов встречали Улу-Мухаммеда далеко в степи. В подарок ему пригоняли табуны лошадей и верблюдов, дарили красивых полонянок. Хан Золотой Орды принимал подношения, а эмиры в честь великого гостя закатывали шумные празднества.
Улу-Мухаммед не любил приближаться к границе с Литвой. Там его встречали закованные в железо всадники, воинственные и смелые. И даже тамошняя природа была для него чуждой: много лесов, болот. Другое дело Восток, с его цветущим миндалём, просторными степями, заросшими по весне яркими тюльпанами.
Нс любил хан и Север, который оставался для него по-прежнему загадкой. Мужики на одно лицо: все, как один, с широкими бородами, русоволосы, с хитринкой в светлых глазах. Кланяются до пояса и в речах почтительны, но никогда не знаешь, что прячут они под длинными рубахами: краюху хлеба или кистень. Неразумными Улу-Мухаммеду казались и русские князья с их вечным притязанием на старшинство. На Востоке всё делалось проще: нет человека — исчезает проблема.
Улу-Мухаммед часто вспоминал слова отца, сказанные ему перед смертью: «Ты старший и, вступив на престол, сразу избавься от остальных братьев!» Именно так и поступил Улу-Мухаммед, сев на стол в Сарайчике. Один его брат был отравлен собственным евнухом, другой бежал к бухарскому эмиру, где и был умерщвлён, младшего в покоях прикончил наёмный убийца, вонзив кинжал в хрупкое горло по самую рукоять.
Русские князья никогда не жили мирно, но он не помнил случая, чтобы они пожелали братьям смерти даже в речах. Они не посылали друг к другу наёмных убийц, не травили зельем, но жизнь их проходила в бесконечной войне за старшинство. У них дядя враждует с племянником, младший брат перечит старшему, но руки они не запятнали родной кровью, и если и находили судью, так это в Золотой Орде.
Улу-Мухаммед вспомнил разговор с галицким князем Юрием Дмитриевичем, когда тот приехал в Золотую Орду оспаривать престол у племянника.
— А почему бы тебе не убить Василия да и не занять московский престол? — откровенно спросил хан.
К его большому удивлению, Юрий Дмитриевич обиделся. Седые брови гневно дрогнули, и он заговорил, хмурясь:
— Это что же?! Ты меня за христопродавца принимаешь? За Каина? Впрочем, видать, не поймёшь ты этого, — князь махнул рукой. — Поднять меч на брата на Руси считается самым тяжким грехом. Никакого оправдания и во веки веков не сыщешь и не отмолишь.
— Но ведь воюют же между собой ваши дружины? — возразил хан, удивляясь.
— Дерутся, — не стал отрицать Юрий Дмитриевич. — Но ведь то холопы бьются, а не князья! А ежели пожелаешь смерти брата, так Окаянным прослывёшь. А церковь! А старцы святые! Разве они одобрят! Было на Руси однажды такое — Святополк братьев своих, Бориса и Глеба, порешил, а потом двадцать лет в Киеве правил. Народ же всё это время звал его не иначе как Святополк Окаянный. Не по мне это, хан. И Васька, думаю, моей смерти не пожелает.
Хан пожал плечами.
Возможно, эта мудрость и насторожила хана. Тогда он решил: «Лучше будет, если на великокняжеском столе сядет недозрелый отрок, чем многоопытный воин».
Эти русичи всегда непредсказуемы, даже их полонянки долго сопротивлялись ханским ласкам, не то что восточные горячие женщины.
Поэтому Улу-Мухаммед не любил свои северные границы, а всегда охотно посещал южные владения. Любил море и раскачивающиеся на волнах парусники, любил огромный базар в Кафе, который тянулся вдоль берега на многие вёрсты. Здесь же был и большой невольничий рынок, где можно выбрать сильного раба или пополнить гарем красивой рабыней. Молодые и красивые женщины стоят дорого — особенно белокурые и светловолосые.
Но сейчас хан повернул на север, и всё чаще на его пути встречались хутора. На дорогу выходили мужики, одетые в длинные рубахи и портки. Женщин хан видел реже, и, если свита Улу-Мухаммеда заставала их врасплох, они закрывали лица платками и торопились в дом. Чем дальше отходил он от Золотой Орды, тем чаще стали появляться на пути большие селения. Хан узнавал их издалека по церквушкам, которые обычно забирались на пригорки, и по колокольному звону, оповещающему народ о приближении татар.
День был тихий, стояла жара. Негромко жужжали осы и оводы. Арба и многочисленные повозки, груженные разным скарбом, неторопливо шли через пшеничное поле, оставляя после себя две узкие полоски смятой пшеницы.
Два мужика — пожилой и старый — застыли на краю поля и взглядами провожали Улу-Мухаммеда. Стояли, терпеливо дожидаясь, когда хан скроется из виду, а то, не приведи Господь, и осерчать может — возьмёт, басурман, да саблей по шее полоснёт!
И когда всадники отъехали подальше, мужик, тот, что был постарше, распрямил спину и сказал зло:
— Будто другой дорогой ехать не мог, смотри, как пшеницу помял! Подождите, басурманы, найдём на вас управу. — На самый лоб напялил шапку и добавил: — Зови баб наших, нечего им по кустам разлёживаться, уехали ордынцы. Пшеницу жать надо.
Уже год прошёл, как Улу-Мухаммед расправился с главным своим врагом князем Идиге — разбил его рать неподалёку от Сарайчика, а самого — бритого и раздетого — привязал на болоте к одинокому дереву, где его за ночь сожрали комары. Однако оставались ещё его сыновья, среди которых наиболее опасным был старший — Гыяз-Эддин.
Гыяз-Эддин сумел скрыться и, как поговаривали эмиры, ушёл с небольшим отрядом на север. Вот его-то и искал Улу-Мухаммед, понимая, пока существует Гыяз-Эддин, его положение на престоле Золотой Орды — шаткое. Улу-Мухаммед опасался, что Гыяз-Эддин может вернуться с Руси с большой ратью, поэтому важно убедить Василия, московского князя, отказать претенденту на великий стол в помощи. Улу-Мухаммед дважды посылал к великому князю своих послов, и оба раза они возвращались с одним ответом — Гыяз не приходил. А может, сгинул где-нибудь этот Гыяз-Эддин, и могила его уже давно заросла сорной травой. Может, и могилы нет. Возможно, грифы исклевали его паршивое тело или разорвали шакалы. Исчез, как в своё время великий Мамай — ни могилы, ни следа не осталось. Но Улу-Мухаммед допускал и другое: Гыяз-Эддин мог затаиться в одном из пограничных городков с Русью. Здесь можно собрать силу и налететь беркутом на стан Улу-Мухаммеда. Если кто и мог помочь Гыяз-Эддину, так это Галицкий князь Юрий Дмитриевич. Но он никогда не сделает этого, потому что не сможет забыть обиды, которую нанёс ему хан, разрешив спор в пользу его братича. Наверное, и решение спора оказалось для него не неожиданным. Куда позорнее было другое — когда хан повелел князю Юрию вести под уздцы коня племянника.
Теперь Улу-Мухаммед отправил вместе с хитроумным Тегиней послов к Юрию Дмитриевичу в Галич и, заняв пограничный город, дожидался вестей. Не сиделось хану в Сарае. Тесен был город, и где, если не в дороге, осознаешь величие завоёванных территорий. В какую сторону ни поедешь, всюду твоя земля. В больших городах и совсем крошечных селениях тебя величают Великим Мухаммедом. Подданные в почтении падают ниц. Его владения огромны, так беспредельно может быть только небо.
Тегиня прибыл ночью.
Улу-Мухаммед услышал его громкий голос. Тегиня велел слугам напоить коня и поинтересовался, где хан. Улу-Мухаммед почувствовал, что мурза чем-то сильно встревожен: без причины накричал на стражу, пригрозил кому-то плетью, потом велел евнухам подготовить наложницу. С возвращением молочного брата лагерь проснулся: где бы ни появлялся Тегиня, сразу всё приходило в движение. Тегиня громко распоряжался, велел усилить заставы, а отряд всадников отправил в дозор. Улу-Мухаммед знал, что сейчас мурза войдёт к нему в шатёр. В Тегине не было рабской покорности, которой отличались все остальные. Как всегда, он уверенно откинет полог шатра и на правах молочного брата коснётся щекой его плеча. Мурзу не смущало даже присутствие наложниц: он мог присесть на край ложа и заговорить о строптивости эмиров и непочтительном поведении русских князей к послам великого хана. И Улу-Мухаммед с лёгкостью прощал вольности молочному брату, потому что ничто он не ценил так высоко, как преданность.
Улу-Мухаммед провёл эту ночь с Гульшат. Сейчас она отдыхала от жарких ласк своего повелителя — спала, подложив под голову маленькую ладошку. Ему сегодня было хорошо с маленькой наложницей, и будить её не хотелось. Не часто и ей выпадала ханская милость. Некоторое время он любовался правильными чертами лица, а потом ладонью притронулся к розовым соскам. Девушка мгновенно проснулась и поняла это нежное прикосновение как продолжение любовной игры. Видно, повелитель пожелал её снова, и наложница прильнула лицом к его плечу.
— Гульшат, иди к себе.
— Ты не желаешь меня, повелитель?
— Это другое, сейчас ко мне явится мурза Тегиня.
Гульшат поднялась с мягкого ложа и, едва прикрыв наготу покрывалом, ушла на женскую половину.
Улу-Мухаммед услышал быстрые шаги молочного брата, полог распахнулся, и перед ханом предстал взволнованный Тегиня.
— Да продлит Аллах твою жизнь до тысячи лет, чтобы ты никогда не знал ни горя, ни печали, — приветствовал хана Тегиня.
— Что случилось, брат? — Мухаммед приподнялся с мягких подушек.
— Дурные новости, хан.
— Гыяз-Эддин?
— Да.
Улу-Мухаммед по-прежнему лежал среди подушек, он только опёрся на локоть, чтобы лучше рассмотреть Тегиню. Покрывало сползло с плеч, и на груди у хана Тегиня увидел большой шрам, который разрывал правый сосок и уходил под самое горло.
Улу-Мухаммед по праву занимал ханский престол. Трудно было назвать воина, который владел бы саблей лучше, чем хан Золотой Орды. Даже оружие у Мухаммеда было особенным, и обычный лук ломался в его крепких руках, подобно сухой хворостине. Привыкший с детства к опасностям, Улу-Мухаммед часто создавал их себе искусственно, слишком безмятежной для него была роль хана Золотой Орды. Он первым врывался в ворота захваченного города; врезался в самую гущу противников и, зажав в каждой руке по сабле, наносил удары направо и налево. И конь, такой же сильный и смелый, как и хозяин, топтал копытами тела упавших воинов.
Багровый шрам, который наискось рассекал грудь Улу-Мухаммеда, напомнил Тегине о недавней потехе хана. Попал к нему в плен мятежный черкесский князь Мустафа. Впервые они вблизи посмотрели друг другу в глаза. Один полон ненависти, другой сохранил великодушие победителя.
— Жить хочешь? — спросил хан. — Я отпущу тебя... если ты убьёшь меня в поединке. Дайте ему саблю! — распорядился Улу-Мухаммед. — Все слышали мои слова? Если во время боя я упаду замертво, значит, я недостоин быть ханом Золотой Орды. Вы себе отыщете нового хана, а Мустафа пускай возвращается в свои горы.
Всякий уговор имеет свои правила, не задушил хан князя тайно и не оставил его связанным в степи на съедение голодным волкам. А если и суждено черкесскому князю быть убитым, то донесёт молва до его родных гор, что погиб он с саблей в руках, сражаясь с самим ханом Золотой Орды.
Мустафа был опытным воином. Он не давал сбить себя с седла, хитро уворачивался от ударов, и когда хан неосторожно открыл грудь, князь рассёк Мухаммеду кафтан. Но уже следующим взмахом Улу-Мухаммед обезглавил черкесского князя.
Мухаммед Великий решил оставаться великодушным до конца. Можно было бросить тело князя в степи без погребения, отдать на растерзание грифам; или, кинув изрубленные куски в грязный мешок, свезти к сородичам. Но Улу-Мухаммед распорядился по-иному:
— Князя похоронить с почестями. Он честно и храбро бился. Мне будет его не хватать теперь. Слишком долго я враждовал с ним, чтобы просто так забыть. Жаль, хороший погиб воин!
И этот шрам на груди хана остался в память о давнем недруге...
— Говори.
— Скоро Гыяз-Эддин будет здесь. Ты же знаешь, в обиде на тебя остался эмир Юрий. Он дал Гыяз-Эддину своих ратников.
— Вот оно как! Что ж, мы встретим его, а потом я доберусь и до эмира Юрия!
Хан сбросил с себя покрывало. Неслышно вошёл евнух и протянул Улу-Мухаммеду кафтан.
— Их слишком много, чтобы воевать с ними. Но мы не сможем и уйти, у нас слишком большой скарб. Здесь наши жёны и наложницы. Мы не оставим их в степи!
Улу-Мухаммед уже надел кафтан. Евнух помог застегнуть ремни, прицепил саблю.
— Значит, умрём вместе с нашими жёнами. Пусть трубач зовёт к сбору. У нас ещё достаточно времени для утренней молитвы.
Медленно наступал рассвет. Сначала восток окрасился светло-розовой полосой, она поднималась всё выше над кронами деревьев, постепенно оттесняя мрак, и вдруг брызнули лучи солнца, осветив каждую травинку, каждый листик. И когда солнце встало высоко над лесом, Улу-Мухаммед увидел ровные ряды конников эмира Гыяза.
Они окружили шатры Улу-Мухаммеда тесным полукругом. Хан различал лицо каждого воина. На концах копий трепыхались от ветра конские хвосты. Безмолвие казалось жутким: ни ржания коней, ни брани, только застывшие, напряжённые лица. Для многих татар Мухаммед по-прежнему был ханом Золотой Орды, прямым потомком великого Тохтамыша, за которым стоит сильный род. Не смогут сородичи простить и забыть убийство хана. А сам Улу-Мухаммед беспощадно карает всякое неповиновение, может, сейчас самое время, повинившись, перейти на сторону хана? Другое дело — урусы, им всё равно, с кем воевать: с ханом Улу-Мухаммедом или с эмиром Гыязом. И те и другие для них враги. Они не собираются вникать в сложности родственных отношений. И сейчас плотнее прилаживали кольчуги, застёгивали шлемы и дожидались приказа воеводы с копьём наперевес ворваться в лагерь Улу-Мухаммеда к богатой поживе. И это неторопливое приготовление урусов к предстоящей схватке удерживало одних от поспешного решения, другим придавало уверенность.
Было ясно: сечи не избежать. Скорее всего, она будет кровавой, а безвыходность положения Улу-Мухаммеда только прибавит его воинам храбрости, и ещё неизвестно, кто выйдет победителем.
Улу-Мухаммед увидел и эмира, который стоял в окружении вельмож на соседней сопке и оставался недосягаемым для стрел. Гыяз подал знак, и стража вынесла из шатра огромный трон. Видно, решил остаться здесь надолго. Солнце палило, и двое стражей эмира спрятали повелителя под тень широких опахал. Улу-Мухаммед внимательно следил за руками эмира. Вот сейчас Гыяз сделает знак, и вся армада бросится на его лагерь. Хан почувствовал, как напряглось тело, а рука крепче сжала эфес сабли. И, подчиняясь какому-то внутреннему повелению, он ударил коня шпорами и выехал вперёд своего войска.
— Эмир, тебе нужно было убить нас спящими, резал бы нас тогда, как баранов! Впрочем, ты и сейчас можешь это сделать. Вот я стою перед тобой. Сумеешь ли ты выйти против меня?.. Если не желаешь сам, выстави одного из своих батыров! Если твой батыр убьёт меня, можешь забирать всё моё воинство и всё моё ханство! — Хан Улу-Мухаммед понимал: сейчас, быть может, единственная возможность выжить — обратиться к самому эмиру, поэтому с волнением ожидал ответных слов.
— Хорошо, — наконец согласился Гыяз. Будущий повелитель Золотой Орды должен быть не только сильным, но и великодушным. Ничто так долго не сохраняется в памяти поколений, как доброе имя. — Ты убедил меня. С тобой будет драться мой батыр. Но что ты попросишь взамен, если победишь его? О твоей доблести по всей степи гуляют легенды.
— Поверь мне, эмир, на то они и легенды и не всегда соответствуют истине. Но если мне удастся убить твоего батыра, тогда я прошу тебя отпустить моих людей без боя! Сам я уже давно ничего не боюсь, но с нами жёны, наложницы, дети. Мы встретились не в лучшее время. И ещё... в этом случае я признаю за тобой Сарайчик и все земли Итили, за мной пусть же останется Бахчисарай.
Гыяз-Эддин размышлял недолго. Даже сейчас, когда Улу-Мухаммед почти находился в его руках, он не мог сказать с уверенностью, что хитрый хан, подобно ящерице, умеющей зарываться в песок, не ускользнёт от него. И сам Улу-Мухаммед не так беспомощен, как может показаться. Каждый из его воинов будет сражаться до тех пор, пока не упадёт бездыханным. И ещё неизвестно, к кому в это утро Аллах окажется благосклоннее.
— Хорошо, — сказал Гыяз-Эддин, — я принимаю твои условия.
Кто знает, может, Всевышний окажется милостив к его страданиям и дарует ему победу.
— Ахмат! — подозвал эмир к себе высокого сильного юношу. — В твоих руках моя судьба... и твоя собственная. Если сейчас ты убьёшь Улу-Мухаммеда, я женю тебя на одной из своих дочерей и объявлю наследником, если нет... и Улу-Мухаммед убьёт тебя, лежать твоему телу в степи... непогребённым. Ты понял меня, Ахмат?
Юноша улыбнулся — большего подарка ему никто не сулил. Он прижался щекой к сапогу повелителя и поблагодарил:
— Спасибо за честь, великий эмир!
— Я пока ещё не великий, но с твоей помощью я надеюсь стать им.
Ахмат приходился дальним родственником эмиру, находился в его доме больше из милости, чем по зову крови. Позже, обратив внимание на его силу и ловкость, эмир поставил Ахмата во главе своей личной охраны. Юноша действительно был очень силён и вынослив, и трудно сыскать среди воинов Гыяза другого такого же.
Ахмат терпеливо дожидался, когда же Аллах услышит его многочисленные молитвы и подарит наконец удачу. Кажется, этот час наступил. Гыяз-Эддин не имел сыновей. Кто из повелителей, будь он даже самым великим, не знает, как непрочна его власть на земле, если у него нет наследника. Дочери не опора — не жить им в родном гнезде, и сейчас Гыяз невольно раскрыл перед Ахматом своё сокровенное желание — видеть Ахмата не приёмным, а родным сыном.
— Береги себя!
Юноша ловко вскочил в седло, жеребец поднял голову высоко вверх, фыркнул, словно слышал разговор с эмиром и уже нёс возможного наследника Золотой Орды в центр поля навстречу Улу-Мухаммеду.
Ударили барабаны. Зазвучали трубы.
Ахмат с Мухаммедом сходились медленно, осторожно, присматривались друг к другу. Ахмат был силён, и крепкое тело совсем не чувствовало тяжести снаряжения. Юноша легко поворачивался в седле и играючи управлял послушным жеребцом. Мухаммед усмехнулся. Крупен! Что ж, легче будет нападать. И когда наконец они решили начать поединок, с криком, с гиканьем, с копьями наперевес погнали коней навстречу друг другу.
Улу-Мухаммед уже близко видел чёрные глаза юноши, широкие брови, сходящиеся к узкой переносице, ровные зубы, обнажённые в крике, и, приподняв копьё, бросил его прямо в открытый рот. Ахмат успел подставить щит, но удар был так силён, что с хрустом расщепил дерево, и заточенный наконечник застрял в груди Ахмата. Юноша обхватил копьё руками, пытался вырвать его, но руки не слушались, а конь, почувствовав, что хозяин больше им не управляет, остановился, и Ахмат, повернувшись к эмиру, успел прошептать:
— Прости... повелитель... — И огромное тело джигита сползло на землю.
Лицо эмира оставалось бесстрастным: не дрогнули губы, не появилась грусть в глазах, и только слова, произнесённые тихо, выдали тоску повелителя:
— Видно, наследовать мой трон племянникам. Пусть Улу-Мухаммед уезжает, и чтобы никто не смел вставать на его пути до самого Бахчисарая.
Молчал и Улу-Мухаммед. Уезжал великим властителем Золотой Орды, возвращался только правителем Бахчисарая. А ведь тесно ему будет на Крымской земле. Привык Улу-Мухаммед к бескрайности своих степей, но ведь таков был уговор перед поединком. И свои далеко идущие планы никому не хотел выдавать хан.
Улу-Мухаммед оглянулся назад только тогда, когда затихли барабаны, не раздавался больше зов труб. Степь навсегда развела двух правителей.
Тегиня, как всегда, находился рядом. Мурза умел оказываться с повелителем, когда ему было хорошо, и всегда держался рядом, когда хану приходилось нелегко. Так ведёт себя преданная собака, которая чувствует беду, — вот оттого и трётся у ног хозяина, ищет ласки. Но вместо дружеского похлопывания частенько получает удар нагайки: отбежит обиженный пёс, залижет рану и простит хозяина. Видно, уж такова судьба каждой верной собаки — брать на себя хозяйскую боль.
— Пошёл прочь! — прикрикнул на Тегиню Улу-Мухаммед.
Мурза только пожал плечами, но от хана не отошёл.
— Хан, ты зря сердишься на меня. Я всегда был самым преданным из твоих людей. Я знаю, что ты не в себе и поэтому зол на всех. И твои обидные слова не дошли до моего сердца.
— Прости меня, брат, я сам не знаю, что говорю. Да, я потерял половину своей Орды, но я мог потерять всё! Мне нужно было отдать ему половину земель, чтобы собраться с силами и вернуть себе остальное.
— Эмира нужно убить! — сказал Тегиня. — Он доверяет своим людям и ближайшему окружению. Он часто разъезжает по своим землям без большого сопровождения, мы можем напасть на него и убить. Ты только прикажи. Его, так же как и тебя, не устроит половина Орды, и он захочет забрать остальное.
Улу-Мухаммед нахмурился.
— Ты прав, так оно и будет. Но для этого не самое лучшее время. Убивать эмира в открытую не выход. То, что Гыяз доверчив, — правда... Ему бы быть муллой, а не правителем Орды. Но его окружение куда бдительнее, чем он сам. Здесь нужно действовать похитрее. Как ты думаешь, Тегиня, может, в подарок эмиру и в залог нашей дружбы следует преподнести халат, пропитанный ядами?
Тегиня отрицательно покачал головой.
— Он не будет носить этого халата. Его люди даже не дадут эмиру притронуться к нему.
— Может, следует пригласить его к себе в гости и убить где-нибудь на охоте?
— Он может отказаться от встречи. Мир не наступает на следующий день после окончания войны. Я знаю, как нам нужно поступить. Эмир держит подле себя лекаря, который очень падок на золото. Гыяз доверяет ему. Я думаю, за деньги лекарь мог бы подсыпать своему господину ядовитое зелье в пищу.
Улу-Мухаммед молча кивнул. Хорошо иметь рядом с собой умного советника, тогда часть твоих личных забот становится и его собственными.
Проехав полверсты, хан наконец произнёс:
— Я всецело доверяю тебе, брат. Сделай так, чтобы эмира не стало. Меня не интересует, как это будет исполнено, главное, чтобы он не помешал мне больше стать ханом Золотой Орды! — И, хлестнув коня, Улу-Мухаммед вырвался далеко вперёд, оставив Тегиню в одиночестве.
Не всегда Аллах милосерден к своим рабам, видно, каждому из них он воздаёт за меру содеянного.
И года не прошло с тех пор, как Гыяз-Эддин стал ханом Орды, а тяжкий недуг успел иссушить его сильное тело. Гыяз превращался в ветхого старика, кожа на его лице обвисла и потемнела, напоминая иссушенную в зной землю — была такой же безжизненной и серой. Уже не привлекал его гарем, и всё чаще Гыяз проводил ночи в одиночестве. Во дворце перестал звучать его громкий смех, а по длинным коридорам ступала, наводя суеверный ужас на окружающих, тень некогда могущественного эмира. То, что для мурз уже давно стало очевидным, Гыязом не признавалось, и он с упорством одержимого пытался переломить недуг. Гыяз-Эддин по-прежнему призывал к себе любимого лекаря, следовал его советам и пил зловонный и мутный настой. Иногда ему и вправду становилось легче, и однажды ночью он пожелал, чтобы евнухи привели к нему в спальню любимую жену. Эмир продержал женщину до самого рассвета, но через день дряблое лицо покрылось гнойной коростой, и Гыяз слёг совсем.
Мурзы, считавшие своего господина едва ли не наместником Аллаха на земле, не отходили от его ложа ни на миг. Эмир не оставил после себя наследников, и каждый из приближённых понимал, что со смертью господина решается и его собственная судьба. Гыяз имел немало врагов, однако могущество его было подобно прочной крепости, и вот сейчас это сооружение грозило рухнуть и похоронить под обломками своих творцов. Мурзам уже никогда не найти такого сильного покровителя, слишком высоко поднялся Гыяз-Эддин и выделялся среди других правителей, как огромная гора среди низких холмов с чахлыми кустарниками.
Только бы Гыяз-Эддин выжил!
Эмир почти покидал бренную землю, только иногда просыпался, усилием воли стряхивал с себя сон и, благодарно улыбнувшись дежурившим у постели мурзам, опять впадал в забытье.
У престола Аллаха растёт дерево, на листьях которого начертаны имена смертных. Жизнь каждого из них заканчивается в тот миг, когда лист с его именем пожухнет и, лишённый питательных соков, сорвётся с ветки.
Гыяз умер тихо, совсем незаметно для окружавших его мурз. Аллах забрал его исстрадавшуюся душу, оставив высохшее тело людям. Впервые на утренней молитве мулла не упомянул имени эмира: он больше не числился в живых. А немного позже в Сарайчик въехал Кичи-Мухаммед. Походило, что в Сарайчик он приехал навсегда: следом за ним двигались повозки со скарбом; горделиво поглядывая по сторонам, ехала стража и, уже в хвосте колонны, в окружении молчаливых евнухов, тащились арбы с наложницами и жёнами Кичи.
Кичи-Мухаммед помолился в одиночестве у могилы своего дяди. И трудно было понять, что вымаливает будущий хан Большой Орды: счастливого правления, которое Аллах уготовил только избранным, или благодарил Всевышнего за удачу, что Гыяз-Эддин умер, не оставив после себя наследника.
Наконец Кичи-Мухаммед встал и строго посмотрел на мурз, которые ещё вчера были подданными эмира Гыяза.
— Я хочу услышать от вас объяснение, почему умер мой дядя? Он был ещё молод и полон жизни!
Вперёд вышел астролог и начал убеждать нового господина:
— Всё на этой древней земле делается по воле звёзд и ничего не случается без ведома Аллаха!
Лицо Кичи-Мухаммеда оставалось бесстрастным. Сухая кожа обтягивала острые скулы.
— Значит, ты говоришь, что всё на этой земле предопределено Аллахом?.. Ты прав, старик, это мудрое замечание. Вот что я тебе отвечу: и Аллах, и звёзды желают того, чтобы ты вместе с остальными мурзами отправился вслед за своим господином. Ты будешь удостоен чести умереть первым и укажешь остальным путь на небо!
— Прости, повелитель, но я только передаю волю звёзд! — упал На колени старик.
Кичи-Мухаммед задумался. Он едва прибыл на эту землю, а его уже зовут повелителем. Это добрый знак!
— Хорошо, можешь жить! Остальные пусть умрут на рассвете. Это воля Аллаха… и моя воля, — совсем неожиданно заключил он, поставив себя рядом с Всевышним. — На рассвете я приду проститься с вами.
Всем было ясно, что отбирать жизнь для молодого повелителя так же просто, как и дарить её.
— Я не вижу лекаря, который лечил моего дядю. Где он? Пусть его немедленно разыщут и приведут сюда!
Стража приволокла лекаря. Было видно, что почивший повелитель почитал своего лекаря не менее, чем знатных мурз. На нём был парчовый халат, туфли, шитые золотом, и сам он держался степенно, словно в своих тощих руках держал жизнь каждого из присутствующих.
— Ты звал меня, Мухаммед? — лекарь нарочно опустил слово «повелитель».
Он не пленник, поэтому не склонил головы перед племянником эмира и спокойно смотрел в его тёмные глаза. Ещё неизвестно, быть ли этому выскочке эмиром. Разве Кичи-Мухаммед единственный наследник Гыяза? Нужно помнить и об Улу-Мухаммеде. Он ни за что не отдаст Сарайчик этому самоуверенному мальчишке, возомнившему себя пророком Аллаха на этой благословенной земле. Есть ещё и мурзы прежнего повелителя, за каждым из которых стоит сильный род. Неужели он захочет сделаться врагом многих и разорвать Большую Орду в междоусобице?
Молчал и Кичи-Мухаммед, и лекарь невольно склонил голову, упёршись взглядом в носки туфель. Сейчас перед ним уже был не мальчишка, гонявший по степи необъезженную лошадь и подсматривающий из-за кустов за наложницами своего дяди, купающимися в пруду. Это был преемник, достойный уважения, человек, который сознавал свою силу. Голова лекаря склонялась всё ниже и ниже, ещё миг — и взгляд Кичи-Мухаммеда заставит старика рухнуть на колени.
Кичи-Мухаммед выхватил из ножен саблю и отсёк голову лекарю. Кровь брызнула на свежую могилу, а голова со стуком откатилась под ноги стоявшим мурзам. Она была совершенно лишена волос и напоминала камень, отполированный волнами.
Кичи-Мухаммед притронулся носком туфли к лысому черепу.
— Ты спас дядю от болезни, отправив его в могилу, я в благодарность за это дарю тебе место в раю. Уберите эту паршивую голову подальше от святого места, и пусть она не оскверняет своим зловонием могилу хана Большой Орды.
Кичи-Мухаммед сдержал обещание: на рассвете он пришёл к мурзам. Если и известно будущему хану Большой Орды сострадание, то оно выразилось в пожелании лёгкой смерти своим врагам.
— Путь к Аллаху для вас будет коротким, — с улыбкой утешал он. — Мне бы тоже очень хотелось иметь рядом таких слуг, какими долгое время были вы для моего дяди. Но я очень сожалею, у собаки не может быть двух хозяев. И единственное доброе дело, какое я способен сотворить для вас, даровать вам лёгкую смерть. Я не опозорю ваши тела, никто из вас не лишится головы. Душить шёлковым платком вас будет лучший палач в Орде. А сейчас прощайте, меня ждут дела, и благодарите меня в последней молитве за столь лёгкую для вас кончину.
Улу-Мухаммед скучал в Бахчисарае, разве можно привыкнуть к улусу, если совсем недавно управлял половиной мира. Большая Орда чахла, страдала от междоусобиц, слабела, и это уже чувствовали соседи. Черкесские племена за последний год дважды подходили к Сарайчику, становились под городом большим лагерем и, едва хан собирал своё войско, чтобы обрушиться на строптивого соседа, тотчас уходили в степь. Тюркские племена тоже немало досаждали Улу-Мухаммеду — врывались в ордынские земли с опустошающей силой и, разорив окраины, возвращались обратно. Новый хозяин Сарайчика мира не нарушал, однако всё пристальнее присматривался к ближайшему соседу и цепко держал в своих руках часть Золотой Орды. За короткий срок он успел доказать, что умеет не только хорошо управлять лошадью и побеждать в поединках, но рождён для ханского правления.
Для своих нынешних соседей Улу-Мухаммед оставался неудачником, и поэтому эмиры охотнее искали союза с хозяином Сарайчика, чем с некогда могущественным ханом Золотой Орды. Для всех Улу-Мухаммед был как вызревший плод, порченный червями, лежать ему под стволом дерева и гнить до тех пор, пока не сопреет совсем. И тогда его земля — жирный и лакомый кусок — будет проглочена более удачливым соседом.
Улу-Мухаммед не отвечал на назойливые набеги ещё и потому, что хотел сохранить силу для главного удара. Так весной копит силу зерно, брошенное в землю, чтобы с теплом прорасти всепобеждающим ростком, пробить землю и прорваться навстречу свету.
Ох, рано же вы забыли Улу-Мухаммеда, он и с тысячью всадников будет неукротим. Ещё не выродились на степных просторах джигиты, что сочтут за честь постоять за обиду хана. Ему даже не придётся искать союзников — московский князь Василий Васильевич его должник и поможет отобрать земли, которые принадлежат хану по праву.
И Улу-Мухаммед терпеливо дожидался того дня (пренебрегая нанесёнными обидами, не замечая снисходительных взглядов послов из Сарайчика и Самарканда), когда можно будет заявить о себе как о великом хане Большой Орды. Его слава задиристого и великого воина не умерла, она чуть потускнела, как, бывает, от времени меркнет блеск монеты, но стоит потереть её песком, и она снова начинает сиять.
Улу-Мухаммед ждал смерти Гыяз-Эддина. Вот тогда можно будет, презрев прежний договор, ворваться в чужие степи и досыта испить воды из арыка эмира. Впрочем, почему чужие степи? Всё это некогда принадлежало одному человеку — Мухаммеду Великому.
И вот этот день наступил.
Новость о смерти Гыяз-Эддина привёз во дворец безбородый юноша. Он приехал раньше послов, которые задержались в дороге у гостеприимных эмиров. Им некуда было спешить — впереди ждала неизвестность, возможно, и недовольство хана, которое каждому из них может стоить жизни. А если вместо наказания их дожидается награда? Впрочем, никогда не знаешь, что можно ждать от Улу-Мухаммеда.
Юноша упал на колени — он видел перед собой хана Большой Орды, а с его вестью могущество Улу-Мухаммеда увеличится ровно на столько, сколько земель покорил себе мятежный Сарайчик.
— Великий хан, Гыяз-Эддина больше нет! Он умбр десять дней тому назад.
Юноша улыбнулся, понимая, что эта новость должна доставить повелителю радость. Он бы и не спешил, если бы твёрдо не был уверен, что Улу-Мухаммед расплатится с ним щедро. Может, Мухаммед Великий отсыплет ему много серебра, и он станет богатым, или подарит ему одну из своих наложниц, и это тоже приблизит его к хану.
— Чему ты радуешься, презренный? — сделался суровым хан. — Я враждовал с Гыязом, но кто посмеет упрекнуть меня в том, что я желал ему смерти? Стража! Взять этого нечестивца и бросить его в зиндан!
— Повелитель! Мухаммед Великий! — цеплялся юноша руками за край ковра. — Прости меня! Я был не прав! — А стража нетерпеливо тянула за полы кафтана юношу к дверям.
Казалось, под Бахчисараем собрались воины всей земли. На многие вёрсты протянулись пёстрые шатры, луга были вытоптаны, становилось тесно от скопления людей и животных, а в город продолжали прибывать всё новые отряды. И приходилось лишь удивляться, почему земля не разверзнется в этом месте и не поглотит кричащее, мычащее, орущее племя. На помощь Улу-Мухаммеду прибыли даже закованные в железо рыцари из Ливонии; подневольные эмиры и мурзы спешили высказать хану своё почтение и снаряжали юношей, отдавали дорогих легконогих жеребцов. Из Средней Азии прибывали караваны верблюдов, груженные тюками с саблями и боевыми топорами, даже султан Оттоманской империи решил выказать своё расположение Улу-Мухаммеду и направил к хану отряд из тысячи янычар.
Улу-Мухаммед ожидал, когда наконец звёзды позволят ему сняться с места и огромной армией двигаться на Сарайчик. Но звёзды молчали. Старик звездочёт терпеливо колдовал над гороскопом, в полнолуние выходил в степь и, задрав голову к ночному безмолвию, что-то горячо шептал в небо. Со стороны казалось, он ведёт беседу с самим Аллахом, и воины, стоявшие неподалёку, замирали в суеверном страхе, даже кони в эти минуты, казалось, ржали тише обычного.
Улу-Мухаммед не торопил звездочёта, опасаясь, что своей нетерпеливостью он может прогневить Аллаха и звёзды тогда сыграют с ним дурную шутку. Хан видел нетерпение мурз, замечал неудовольствие всадников, всем казалось, что долгому ожиданию не будет конца, однако он решил терпеливо дожидаться знака свыше.
Наконец в его шатёр вошёл звездочёт. Старик расправил перед господином пергамент и, показывая пальцем в замысловатые точки и значки, проговорил:
— Повелитель, время для похода выбрано неудачно.
— Так... продолжай...
— Видишь, здесь Сатурн подходит к Марсу, — чертил старик пальцем по ветхой коже, — а рядом вот это пятно — созвездие Рака. Сатурн — это ты, Марс — победитель в войнах, это — преемник Гыяза.
— Но ханский трон пуст! — возразил Улу-Мухаммед.
— Да, он пуст, повелитель, — поспешно согласился звездочёт. — Но я совсем не удивлюсь, если через неделю вернутся наши послы и сообщат тебе, что стол уже занят. Однако я сказал ещё не всё... Вот созвездие Рака. Видишь, здесь множество точек, они говорят, что преемник Гыяз-Эддина не останется в одиночестве. У него объявятся сильные союзники, с которыми тебе придётся считаться.
— Что ещё указывают мне звёзды?
— Звёзды показывают, что лучше распустить сейчас всех людей и признать преемника Гыяз-Эддина законным наследником.
Улу-Мухаммед внимательно посмотрел на звездочёта. А вдруг старик куплен этим самым таинственным преемником Гыяз-Эддина так же, как он подкупил лекаря хана Сарайчика, чтобы отправить его на тот свет? Но Улу-Мухаммед тут же отказался от этой мысли. Дворцового звездочёта он знал всегда. Хан помнил его рядом со своим отцом, теперь звездочёт занял место рядом с Мухаммедом Великим. Звездочёт слишком стар, чтобы лукавить, ведь Аллах может забрать его к себе каждый день.
— Ты хочешь, чтобы я обидел всех этих людей и не принял их помощи?! — разозлился вдруг Мухаммед. — Вот тогда Аллах действительно прогневается на меня!
Звездочёт пожал острыми плечами и отвечал:
— Я не добавил от себя ни слова. За меня говорили звёзды. Я твой скромный проводник среди множества небесных светил.
— Я выступаю в Сарайчик завтра же! Эй, Тегиня! — окликнул хан молочного брата и, когда тот вошёл, распорядился: — Оповести всё моё воинство, что мы выступаем завтра после утренней молитвы.
Армия Улу-Мухаммеда растянулась на многие вёрсты. Впереди, указывая дорогу, двигался личный отряд хана. В лёгких доспехах, вооружённые копьями и луками, всадники вырывались далеко вперёд и возвращались снова, оповещая, что путь впереди свободен. Следом, гарцуя на горячих скакунах, личная охрана Улу-Мухаммеда, которая не признавала никого, кроме своего повелителя. Сам хан ехал в арбе, спрятавшись под навесом от солнечного зноя. А уже позади двигалась вереница из телег и повозок.
И если бы не звон железа, который разносился далеко по степи, молено было бы подумать, что, бросая обжитые места, люди ищут спасения от Великого потопа.
Сам Улу-Мухаммед не считал себя завоевателем. Он шёл как хозяин, который должен забрать у должника своё. Эти земли не один век подчинялись только воле хана, так почему сейчас он должен позволить растаскивать их на части? Одной лепёшкой может утолить голод один человек, но нельзя ею накормить сотню голодных. Орда была единой всегда: и в годы правления первых наследников Чингисхана и год назад тоже. Даже поражение от Темир-Аксака не раздробило её земли на улусы. И в худшие годы в Орде оставался один хозяин. Так почему нужно делить то, что передано наследникам как единое целое!
Улу-Мухаммед ехал не воевать, он хотел показать силу, которую способен собрать настоящий наследник Золотой Орды. Это была демонстрация мощи не только возможному претенденту на престол в Сарайчике, но и несговорчивым соседям, которые всё назойливее покусывали окраины Большой Орды.
Из задумчивости Улу-Мухаммеда вывел голос Тегини:
— Повелитель, прибыл один из послов, он хотел бы увидеть тебя.
— Что ж, приведи его ко мне. Интересно услышать, что он скажет в своё оправдание, — невесело улыбнулся Мухаммед Великий.
Задержался посол. Ему бы после кончины Гыяз-Эддина поторопиться в Бахчисарай, но задержал любвеобильного мурзу гарем почившего эмира, который состоял из молоденьких наложниц. Гарем поделили между собой многочисленные родственники умершего повелителя, и в знак особого расположения послу Улу-Мухаммеда достались две женщины. Хан уже знал об этом, и, когда посол предстал перед ним, Улу-Мухаммед поинтересовался с ехидством:
— Как ласки твоих новых наложниц? Хороши ли они?
Посол был молод, и, видно, ему были небезразличны ласки опытных наложниц бывшего правителя Сарайчика.
— Женщины прекрасны, хан! — восторженно отвечал посол, не заметив надвигающейся грозы.
— Что ты ещё хотел сказать мне?
— Повелитель, я хочу попросить тебя: не сердись на меня. В Сарайчике я задержался для того, чтобы узнать, кто из родственников Гыяз-Эддина хочет занять опустевший трон.
— И кто же осмелится сделать это?
— Уже осмелился... Это сделал Кичи-Мухаммед.
— Кичи-Мухаммед? Этот мальчишка? — не сумел сдержать удивления хан.
Кичи-Мухаммед был внуком Тимура Кутлу. Два великих рода вот уже которое десятилетие пытались безуспешно поделить ханский стол. И если бы не прихоть властолюбивого Темир-Аксака, род Тимура Кутлу до сих пор целовал бы туфли отпрыскам Тохтамыша.
Вот оно, знамение! Прав был звездочёт. Что же его ждёт дальше? Разве он не убедился однажды в том, что путь от величия до бесчестия очень короткий. Он бывает таким стремительным, напоминает полёт падающей звезды.
Кичи — так прозвали Мухаммеда в народе за малый рост. Маленький Мухаммед — под этим именем его и знали все. И не иначе это козни самого Аллаха, ведь Маленький Мухаммед бросил вызов Улу-Мухаммеду, Мухаммеду Большому. Эта новость стоила того, чтобы оставить послу жизнь.
— Ступай, ты мне больше не нужен, — махнул рукой хан.
— Что нам делать дальше, хан? — спросил Тегиня у молочного брата.
— Мы идём дальше! Скажи воинам, чтобы они готовились к бою, — обронил Мухаммед. — Поехали! — приказал он вознице.
Посол продолжал стоять на коленях, видимо, он так и не понял, что был всего лишь в шаге от смерти.
Над двигающейся колонной раздавались звуки труб, и их басовитый голос долгим эхом отдавался среди крымских ущелий. Это воины Улу-Мухаммеда подбадривали себя перед предстоящим сражением. А на третий день пути Улу-Мухаммеда догнала ещё одна дурная весть: давний его враг, эмир Хайдар овладел Бахчисараем.
Услышав про вероломство Хайдара, хан Улу-Мухаммед хотел было повернуть обратно, но, поразмыслив, решил идти дальше на Сарайчик. Если Кичи-Мухаммед будет разбит, хан останется в столице навсегда и уже оттуда выступит с войском против новоявленного эмира Если же Аллах отвернётся от него и в этот раз... то Бахчисарай его не примет. Мурзы всегда признают только сильнейшего.
Всё выходило именно так, как предсказывали звёзды: долгий спор между династиями подходил к своему завершению, в нём более удачливыми окажутся отпрыски Тимура Кутлу.
Улу-Мухаммед теперь часто останавливался и подолгу молился вместе с воинством, а потом под звуки труб и бой барабанов армия двигалась дальше на Сарайчик.
Улу-Мухаммед походил на медведя, которого более сильный собрат вытеснил из тёплой берлоги, и сейчас он, неприкаянный, искал пристанища. Но ведь он ещё полон сил и может соперничать с самыми могущественными противниками. В Бахчисарае эмир Хайдар, в Сарайчике — Кичи-Мухаммед, и оба ждут момента, когда можно будет рвать и кромсать когтями его сильное, закалённое в долгих переходах тело. Ведь и бесстрашный зверь теряется перед сворой бродячих псов. Это в одиночестве они поджимают хвосты, а когда голод сбивает их в стаю, то собаки чувствуют себя куда более уверенно.
Рать Кичи Улу-Мухаммед встретил на полпути к Сарайчику. Она растянулась по всему горизонту, заслоняя восходящее солнце. Сколько же раз Улу-Мухаммеду приходилось вести своих воинов в бой? В последний раз это случилось с Гыяз-Эддином. Тогда он отстаивал не только Орду, но и собственную честь. И если сейчас он надумает вызвать на бой батыра из враждующей рати, то даже в случае победы в спину ему полетят стрелы. Памятный поединок с Ахматом, больше походивший на безрассудство, возможен был только с Гыязом, которого даже спесивые ливонцы прозвали «рыцарем степей». Кичи-Мухаммед безжалостен, эту черту он унаследовал от своего отца.
И в первый раз за многие годы Улу-Мухаммеда постигло сомнение. Вправе ли он втягивать своих подданных в безнадёжное дело? Как ни велика рать Улу-Мухаммеда, но она значительно уступала воинству Кичи-Мухаммеда. И людей у него побольше, и вооружение лучше, и кони свежее. Может, потому и не встретил Кичи Улу-Мухаммеда в открытой степи, а подпустил его почти к своим владениям, чтобы измотать людей и лошадей в долгих переходах. И если Маленькому Мухаммеду не разбить Улу-Мухаммеда, то это наверняка довершит эмир Хайдар, который, скорее всего, уже вышел из Бахчисарая и находится за спиной хана, где-нибудь в двух днях пути.
Так простояли войска Малого Мухаммеда и Большого Мухаммеда друг против друга ровно сутки. Ветер игриво трепал знамёна, молчали барабаны. А на вторые сутки вечером в лагере Кичи-Мухаммеда началось оживление — оттуда доносилось конское ржание, отрывистые приказания, обрывки молитв. Стало ясно: Кичи-Мухаммед готовит нападение на бывшего хана Золотой Орды на рассвете, когда огонь в кострах погаснет, горизонт заалеет, а ветер высушит белёсую росу на обильной зелёной траве.
Улу-Мухаммед вышел из шатра. Неподалёку на полосатом коврике молился юноша. Молился истово, словно делал это в последний раз. Улу-Мухаммед догадался, что он готовится умереть с рассветом.
До хана донеслись звуки флейты, и он пошёл туда, откуда звучала музыка. Играл янычар, крепкие короткие пальцы его сжимали тонкую, как хворостинка, флейту. Он обращался с ней так бережно, как мать лелеет на руках родившееся дитя. Трудно было поверить, что этот воин со шрамами на руках и лице способен извлекать прекрасные звуки из бездушного дерева. Звучание флейты завораживало, хотелось слушать его бесконечно, и янычар, видно уловив настроение слушателей, играл вдохновенно. Голос флейты напоминал пение птиц, журчание ручья, шелест деревьев в лесу, и не верилось, что с рассветом тишину нарушат совсем другие звуки.
Улу-Мухаммед ходил между кострами и понимал, что большинство своих людей он видит в последний раз — лежать им завтра бездыханными с пробитой грудью далеко от родного улуса. И только воронье восторжествует, слетится отовсюду на богатую поживу.
Рядом неотступно следовал Тегиня, он тоже словно проникся мыслями своего господина, сделался молчаливым.
Сейчас каждый из людей хана готовился к встрече со смертью, возможно, для того, чтобы перехитрить её и жить дальше, но только немногим Аллах подарит это право. Сколько раз Улу-Мухаммед умирал вместе со всеми, однако этот страх перед вечным покоем не сделал его слабее, наоборот, он чувствовал себя сейчас, как никогда, сильным. Он уже не был ханом Золотой Орды, Бахчисарай тоже отступился от него, но у Мухаммеда хватало сил держать в повиновении огромное войско. Сейчас он был хозяином без дома, а ведь совсем недавно все эти просторы принадлежали ему. И тут Улу-Мухаммед опять вспомнил предостережение старого звездочёта. Да, действительно, он покинул город не в лучший для себя час: он лишился Бахчисарая, воины ослабели после длительного перехода, многие из них уже не верят в завтрашнюю победу, впереди ждёт рать Кичи-Мухаммеда, а следом движутся полки эмира Хайдара.
Улу-Мухаммед многое терял в своей жизни: лишился Золотой Орды, союзников, Бахчисарая, но он никогда не терпел такого поражения, как Мамай, разбитый Дмитрием Донским. Проиграть главное сражение — значит стать изгоем не только на чужой земле, но и на собственной. Как же сложилась судьба Мамая? Великого мурзу прокляли матери павших воинов, от него отвернулся отец, а братья стали кровными врагами, выслеживали его по всей Золотой Орде. А когда Мамай, обесчещенный и проклятый, казалось, нашёл приют у бухарского эмира, то был убит странником-дервишем на базарной площади. С бывшего господина Золотой Орды, перед могуществом которого пасовали многие, содрали кожу, набили старой соломой и выставили чучело на позор у городских ворот.
«Нужно уйти из степи если не победителем, то уж не побеждённым», — решил Улу-Мухаммед.
— Тегиня, собери всех мурз, темников, уланов, я хочу поговорить с ними! — приказал хан.
— Хорошо, повелитель, я позову всех, — сказал Тегиня, и в свете огня Улу-Мухаммед увидел порченые зубы молочного брата.
Улу-Мухаммед вышел из своего шатра, когда все военачальники были в сборе. Совсем неслышно распахнулся полог, будто ветер подул, и тотчас к мурзам явился хан.
Каждый из них думал об одном: сколько раз выходил хан к своим воинам перед боем, чтобы своим присутствием и добрым словом взбодрить собравшихся. Многим из них суждено быть похороненными без обычных почестей и отпевания муллы, просто зароют в степи, как павших за веру, и пойдут дальше своей дорогой. И всякий раз подобная встреча напоминала прощание.
Но на этот раз хан заговорил о другом:
— Слуги мои, вчера мне приснился сон. Сам Аллах вызвал меня к себе на суд и спросил: «Что ты хочешь делать с моими рабами?» Я упал Всевышнему в ноги и сказал: «Повелитель мой, я собрал воинов для того, чтобы вернуть Сарайчик, который у меня отняли». Тогда Аллах задал мне ещё вопрос: «А как же ты собираешься это сделать без моей помощи? Что обо всём этом говорят звёзды?» Я ответил Аллаху, что звездочёт сказал мне, будто звёзды отвернулись от меня и мне не стоило отправляться в долгую дорогу. И это правда, тогда бы я не потерял Бахчисарая. Аллах приказал мне не проливать кровь единоверцев и уходить с миром. Это сражение уже проиграно мною. Так вот что я вам скажу: все вы были для меня верными помощниками и добрыми слугами, ни одного из вас я не смог бы упрекнуть в трусости, я преклоняюсь перед вашей доблестью. Нас связывает не только пролитая кровь наших собратьев, которая щедро пропитала эти степи, но и наши победы. Я не хочу вас больше неволить. Сражения не будет! Так повелевают звёзды. Каждый из вас теперь хозяин своей судьбы, если желаете, возвращайтесь в свои земли. Кто хочет, может уходить в Бахчисарай. Вы вправе искать расположение более сильного хозяина, каким является сейчас Кичи-Мухаммед. На все эти вопросы вы должны будете дать себе ответ до рассвета. Утром здесь не должно быть никого! Слышите, как стучат барабаны Кичи-Мухаммеда? Его войско нападёт на нас сразу после утренней молитвы, когда имамы отпустят все прегрешения воинам. Мне жаль расставаться с вами, мы провели в походах много лет. Может, кто-нибудь из вас хочет что-то сказать?
Вперёд вышел сотник личной охраны Улу-Мухаммеда:
— Повелитель, ты забыл о тех, кто желает разделить с тобой судьбу!
Видно, ему, как и самому Улу-Мухаммеду, не было места на этой земле.
— Кто хочет быть со мной даже в случае смерти... может остаться! Я не обещаю лучшей доли. Я не знаю, что меня ждёт даже сегодня вечером. Видно, мне придётся отправляться в поисках лучшей доли и начинать всё сначала! А теперь решайте, у нас нет времени. Барабаны торопят!
Костры погасли, уже никто не подбрасывал в них сухую траву, и они вспыхивали красноватыми звёздочками. Только раз вспыхнувшее жёлтое пламя осветило лицо хана. Оно совершенно не изменилось, как и прежде, Улу-Мухаммед был уверен в себе, и, глядя на него, можно было подумать, что ему по-прежнему подчиняется Золотая Орда.
Улу-Мухаммед скрылся в шатре. А если они уйдут все и он останется один в степи? Он да его жёны! Будет ему с кем воевать.
— Аллах, ты и так отобрал у меня всё, не допусти худшего! Если посмеют уйти все, то даже дервиши начнут показывать на меня пальцами. На просторах Золотой Орды не останется и клочка моей земли, и тогда каждый сможет в мою сторону бросить камень.
Улу-Мухаммед стоял на коленях и молился, выпрашивая у Аллаха сохранить остатки своего былого величия. Он не хотел, не мог оставаться в одиночестве. Он слышал, как били барабаны в лагере Кичи-Мухаммеда, как призывно звучали трубы. Скоро всё должно стихнуть. Сначала прозвучит голос муэдзина, зовущий правоверных на молитву, потом наступит полная тишина, и затем мулла будет воздавать хвалу Всевышнему, а вот после этого будет бой!
Лагерь Улу-Мухаммеда ожил: беспокойно заржали кони, послышалась бранная речь. Что же ещё не могли поделить его слуги? Хан отдал им всё! И теперь каждый из них вправе распоряжаться собственной судьбой. И тут Улу-Мухаммед осознал, что у него было много врагов, родственники убитых недругов находятся и в его войске. Сейчас наступил самый удачный момент, чтобы расправиться с обидчиком и бывшим ханом. Разве достоин сожаления человек, упустивший из своих рук власть? Власть — это хрупкий сосуд, его всегда нужно умело держать в руках, вот он выскользнул из ладоней и разбился на множество осколков, каждый из которых порой ранит смертельно.
Улу-Мухаммед завершил молитву и выжидательно посмотрел на вход в шатёр — ветер потихоньку теребил полог. Некогда всесильный правитель подумал, что, если бы его сейчас пришли убивать, он не оказал бы сопротивления. Положил бы голову на молельный коврик и смирился с предстоящим концом.
Полог дрогнул. Но это был не ветер — вошёл Тегиня. Хан едва взглянул на него. «Ну, конечно, этим человеком должен быть именно Тегиня! Предают всегда самые близкие, — подумал хан. — Он честолюбив и, видно, не забыл того, что я порой пренебрегал его советами, был с ним неласков, груб. Вспомнить даже хотя бы тот спор в Золотой Орде между Василием Московским и Дмитрием Галицким. Над Тегиней тогда посмеивались все мурзы. Не простил!»
Улу-Мухаммед почувствовал, как замер за спиной Тегиня. «Как же он собирается убить меня: вонзить кинжал в шею или задушить шёлковым шнурком; это он умеет делать. — Хан уловил тяжёлое дыхание, слышал слабый шорох. — Ну скорее же! Я не сделаю ни малейшей попытки, чтобы спасти свою жизнь».
Но Тегиня опустился рядом на колени и произнёс:
— Господин и брат мой, все, кто хочет быть с тобой даже в смерти, остались! Мы ждём тебя... Веди нас дальше.
Улу-Мухаммед поднялся. Значит, молитвы дошли до Аллаха. Только вот куда — дальше? Его путь на этой земле как будто уже закончен.
— Сколько вас осталось?
—Нас триста всадников.
— Вот как?! Я думал, будет значительно меньше. — Хан не сумел сдержать радости. — С такими батырами мы сможем покорить любое ханство. А теперь в путь! До рассвета осталось совсем немного.
И странное дело, лишённый престола и власти, сейчас Улу-Мухаммед чувствовал себя куда более уверенно, чем несколько дней назад. Это неожиданное освобождение от тягот власти дало свободу. И Улу-Мухаммед, увлекая уланов, скакал по степи, как мальчишка. В его распоряжении оставался небольшой отряд, но в каждом всаднике он был уверен. Каждый из батыров стоил двух, а значит, его воинство увеличивается вдвое. Алмаз не заиграет до тех пор, пока искусная рука ювелира не притронется к его поверхности и не превратит в бриллиант. Так и эти воины прошли с ним долгий путь, прежде чем общие испытания не закалили их дух и тело. Разве Кичи-Мухаммед может похвастаться таким воинством? Он не верит мурзам, не доверяет собственному окружению, и пища, прежде чем попадёт к нему на стол, проверяется его слугой. Под длинным халатом Маленький Мухаммед всегда носит кольчугу, с которой не расстаётся даже на брачном ложе, даже тогда, когда отдыхает в саду в окружении наложниц.
Улу-Мухаммед верил тем, кто с ним остался, общая судьба сблизила господина и слуг. Каждый из них теперь не имел дома и тащил за собой небогатый скарб, женатые — вели жён и детей. Улу-Мухаммед уже распрощался с половиной своего гарема, раздарил жён и наложниц воинам, такой поступок связывал его с ними сильнее, чем родственные связи. Улу-Мухаммед ходил среди своего воинства в длинном просторном халате без шлема и кольчуги. Он ел с батырами из одного котла, пил из одной чаши. Хан не боялся быть убитым или отравленным — теперь он зависел от них, а они от него.
Никто не спрашивал Улу-Мухаммеда, куда они едут шестые сутки подряд, истомив лошадей и измучившись сами. Каждый по-прежнему верил в счастливую судьбу своего господина, чья звезда закатилась только на миг, чтобы потом воссиять ещё более ярким, ещё более ослепительным светом. Нужно только немного переждать, и тогда Аллах воздаст им за долготерпение.
Наконец Улу-Мухаммед решил нарушить затянувшееся молчание.
— Братья мои, — сказал Улу-Мухаммед, так великий Чингисхан обращался к своим воинам перед тем, как отправить на смерть. — Мы идём на север к московскому князю Василию. Вы знаете, что у меня было всё: огромные земли, которые нельзя объехать даже за месяц, мраморные дворцы с фонтанами, красивейшие наложницы, которым не было счета. Сейчас я лишился всего. Я устал! Я устал от роскоши и богатства, я устал даже от власти, и единственное, о чём я сейчас прошу Аллаха, так это получить небольшой улус, где бы я мог спокойно доживать остаток своих дней. Вы можете спросить меня, почему я иду к московскому князю? Вы имеете на это право! Когда-то князя Василия я предпочёл его дяде Юрию и поставил малолетнего батыра на московский стол. Думаю, он не забыл моего добра и отплатит мне тем же. Я согласен быть его сторожевым псом, чтобы охранять южные окраины от моих сородичей. Я спрашиваю вас ещё раз... согласны ли вы разделить мою судьбу и идти дальше в русские земли? Теперь я для вас не господин. Возможно, там ожидает нас не лучший приём, и тогда, куда идти, ведает только Аллах!
Вперёд вышел Тегиня:
— Брат мой, мы уже сделали свой выбор и останемся с тобой до самого конца.
— Если это так... тогда седлайте коней!
Скоро кончилась степь, а дальше все леса, леса. С них-то и начиналась Русская земля. Первый на пути Улу-Мухаммеда был город Белев. И хан подумал, что мог бы остаться здесь навсегда. На той земле, которую покинул, он не был ни для кого господином. Здесь же для всех он оставался важным правителем Золотой Орды, и каждый встречный мужик спешил оказать ему почтение. Видно, сложилось так в городе Белёве, что приходилось горожанам кланяться не только своим князьям, но и заезжим татарам, это помогало уберечься от беды. Согнёшься лишний раз, зато голову на плечах удержишь. Премудр город Белев, стоявший на самом краешке Русской земли. Сколько пожаров он пережил, сколько войн прошло через него, знал только один Господь. Старики, бывало, пробовали считать шамкающими ртами, но всякий раз сбивались и только махали рукой, приговаривали:
— Что и говорить! Настрадался город Белев. То татарове его сожгут, а то свои хуже супостата. Не ладят меж собой князья. Даже года не было, чтобы сюда, на окраину, чужой не заявился.
Хан Улу-Мухаммед решил остаться здесь навсегда. Много ли теперь ему надо! Провести остаток жизни в городке, таком, как Белев, охраняя его покой от своих же ненасытных сородичей.
Скоро к Улу-Мухаммеду в городе начали привыкать. Не он первый, не он последний из татарских ханов занимал город. Горожане уже с любопытством посматривали на бывшего хана Золотой Орды, волей судеб занесённого в русские земли. Он был похож на многих татар, наезжавших в Белев, правда, отличался огромным ростом и гордой осанкой, которая могла принадлежать только настоящему господину. И вёл себя Улу-Мухаммед не как завоеватель, а, скорее, как гость. Вот оттого и ломали перед опальным ханом Золотой Орды князья и бояре шапки, признавая его господином, и оставляли за ним непременное право повелевать здешним миром. И незаметно для самого Улу-Мухаммеда эта окраина Русской земли превратилась в его юрт. Ещё не стала она землёй татарской, но и Русской землёй назвать её тоже уже было нельзя, и князья, склонив шеи, шли за советом и разрешением к бывшему хану.
Больше оставаться незваным гостем Улу-Мухаммед не мог и решил отписать великому князю Василию Васильевичу письмо. Он долго думал, как следует обратиться к бывшему слуге, и решил назвать князя братом. «Брат мой, эмир Василий, только Аллах знает дороги, которые нам предстоит пройти. Разве подозревал я, когда сидел во дворце в Сарайчике и когда земли мои были необозримы, что мне придётся обращаться к тебе за помощью? Я изгнан братьями с родных земель и, как пёс, прогнанный со двора, должен скитаться по степи. Сделай мне милость, дай мне приют в твоём юрте. Брат мой, клянусь, я буду верным слугой и стану охранять твою землю от собственных сородичей, которые и мне причинили немалое зло. Поверь мне, эмир Василий, лучшего пса для южных границ тебе и не найти. Только позволь мне спокойно умереть на этой земле. А в знак того, что я говорю правду, готов отдать в заложники своего старшего сына».
Ответ от Василия Васильевича задерживался, а бояре видели уже в хане будущего господина — ходили к нему с прошениями и подносили дорогие дары.
С большим опозданием от московского двора возвратился мурза Тегиня. Не допустил ордынского вельможу Василий Васильевич пред свои очи, так и продержал на татарском подворье с прочими мурзами. Разве так принимали послов Улу-Мухаммеда, когда он был ханом Золотой Орды? Под ноги гостям стелили ковры, в их честь устраивали роскошные пиры, брали на великокняжеские забавы и организовывали соколиную охоту. А затем отпускали в Орду с большими дарами и в сопровождении дружины.
Изменилось всё!
Нахмурился Улу-Мухаммед и приготовился слушать Тегиню дальше. Мурза чуток помедлил и продолжил:
— От друзей наших из Сарайчика я узнал, что князь Василий Васильевич получил от Кичи-Мухаммеда письмо, в котором тот требовал, чтобы Василий признал его своим господином. И чтобы платил ему дань, как это было при прежних ханах. Ещё он писал о тебе, великий хан... Он требует от Василия изгнать тебя с русских земель. Если же он не сделает этого, тогда Кичи-Мухаммед пойдёт на него войной... Прости меня, повелитель, но я не стал больше дожидаться встречи с Василием и выехал к тебе. Мне нужно было прийти раньше, чем его дружины.
— Ты поступил правильно, брат. У нас есть ещё достаточно времени, чтобы достойно встретить рать Василия Васильевича.
Рано пришли морозы в этот год. Снега не было, и земля трескалась, поверхность её напоминала лицо старца, изрезанное множеством глубоких морщин. Сухие стебли, будто седые волосы старика, топорщились и гнулись к земле на сильном ветру. А потом густо и хлопьями повалил снег, и тотчас лицо земли преобразилось: ни портящих её лик трещин, ни сухих стеблей — засыпало всё! И морщинистая кожа побелела, будто испила живой воды.
Снег шёл неделю и похоронил под собой излучину реки, овраги, чернеющий лес. Ни пройти уже, ни проехать. Занесло и дороги.
Ночью Улу-Мухаммед ждал гостя. Вчера вечером от литовского князя прибыл гонец, который и сообщил, что в полночь прибудет его господин.
Князь Протасьев прошёл в дом шумно, стуча сапожищами о тёсаные половицы, его медвежья фигура появилась в проёме двери, и он громко поздоровался с ханом:
— Будь здоров, Улу-Мухаммед!
Было время, когда Улу-Мухаммед встречал гостей на золотом троне и для целования протягивал гостям туфлю, обшитую бисером, а сейчас поднялся навстречу мценскому воеводе и обнял за плечи.
— Проходи, дорогой эмир! Проходи. Улу-Мухаммед гостям всегда рад.
Усмехнулся мрачно воевода, хотелось напомнить татарину, как однажды дожидался в Орде Мухаммеда трое суток, потчуя хитроглазых мурз хмельным зельем и раздавая богатые дары эмирам. Велик и неприступен был хан, как одинокая гора, выросшая посредине степи. Сейчас у Мухаммеда Великого не было дворца, взамен — невысокий терем с закопчённым потолком.
— Господин мой, великий литовский князь Свидригайло, в обиде на Василия Московского, — заговорил князь Протасьев. — Не может он забыть того, что князя Юрия с престола спихнул, — эти слова прозвучали укором Улу-Мухаммеду, ведь это он, когда был на вершине власти, когда мог карать и миловать целые народы, Ваську на стол московский посадил, без него не укрепился бы он на Москве. — Пришло время расквитаться.
— Так у вас же с Василием есть союз о мире.
— Есть, — охотно отозвался князь, — только это для вида, служить ему мы не собираемся. Ночью он нам велел на тебя выступать, но мы его дружине в спину ударим, а ты со своим воинством с фланга бей. В хвост и в гриву его разобьём. Ну, а теперь идти мне надо, кони озябли и выступаем рано. Будь здоров, хан! — И, повернувшись широкой спиной к Мухаммеду, воевода вышел, на миг заслонив проем двери.
Рать Дмитрия Юрьевича продвигалась к Белёву медленно, мешал глубокий снег. Да и в дороге задержались: останавливались у местных князей, веселились на пирах да лапали без разбору девок. Дружина своевольничала, норовила свернуть в деревню, прихватить харчи и наказать нерадивых. И, глядя на мародёрство Дмитриевой рати, крестьяне понимали, что те мало чем отличаются от татар. Мужики спешили свезти добро на заимки, а сами хоронились в лесу. Не ровен час, в посошную рать заберут!
Город Белев предстал перед дружиной Дмитрия неожиданно. Сначала увидели они колокольню, а потом терема да избы. По всему было видно, что дальний городишко на Руси не из последних: красив и богат, искусные мастера украшали его церквами и шатровыми башнями.
Пьяно и весело шла рать к городу. Уже и теплом дохнуло от жилья и потянуло дымом. Разбрелось пьяное воинство. Возницы бестолково гнали сани по заснеженному полю, и кони по грудь зарывались в рыхлый снег.
Отряд ордынцев появился неожиданно — словно возник из преисподней, раскручивая плети, они гнали коней прямо на Дмитриеву рать.
— Алла! Алла!!
Передовой полк не успел развернуться в боевой строй, и снег окрасился первой кровью.
— Дави их, нехристей! — истошно орал Дмитрий Юрьевич.
Конь князя, увязнув глубоко в снегу, остановился. А он, подгоняя его нагайкой, матерился. Поднялся конь на дыбы и скинул Дмитрия Шемяку в нетронутый снег. И когда наконец, разгребая руками рыхлый сугроб, князь сумел выбраться, то увидел, что конница Улу-Мухаммеда, расколов его рать надвое, ушла в лес.
— Куда мы теперь, хан? — спросил Тегиня, когда город остался далеко позади.
Мухаммед долго не отвечал. Если бы он знал это сам! А потом, махнув рукой, неопределённо сказал:
— Туда. За Итиль!
Улу-Мухаммеду хотелось быстрее оставить негостеприимные русские земли, где он так и не сумел найти для себя дом. Всюду бывший хан был незваным гостем, и как ни велика земля, не было для него на ней места.
— Мы возвращаемся в Золотую Орду? — опасливо спросил мурза Тегиня.
— Возвращаемся, нам просто некуда больше идти. Если нас не приняла Русская земля, пойдём в Золотую Орду и будем надеяться на лучший приём.
Али-Галиму, эмиру Иски-Казани, в эту ночь снился дурной сон: его ужалила змея. Он ощутил её ледяное прикосновение почти физически, успел увидеть холодный, непроницаемый взгляд гадины, а вслед за этим почувствовал и слабый укол. Остаток ночи эмир не спал и гадал, к чему бы это. Рядом, прислонившись к его плечу, спала младшая жена. Вокруг по-прежнему всё было безмятежно. «Надо будет спросить у шамана, к какой очередной пакости этот знак», — подумал эмир.
Осторожно освободившись от объятий младшей жены, Али-Галим поднялся и набросил на себя халат. Он решил спуститься вниз помолиться, ему хотелось очиститься от ночной скверны. У дверей с саблями в руках стояла стража. Они удивились столь раннему пробуждению своего господина и склонили головы, чтобы не видеть его лида, а потом удивлённо смотрели ему в спину.
— Господин, — остановил эмира чей-то голос.
Али-Галим обернулся. Это был мурза Рашид, начальник дворцовой стражи. По его взволнованному голосу и по тому, что тот посмел обратиться к нему перед утренней молитвой, эмир понял: произошло что-то важное.
— Что случилось, Рашид?
— Я не хотел будить тебя, господин, и ждал здесь у двери, когда ты выйдешь на утреннюю молитву. Только такое важное дело заставляет беспокоить тебя в этот час...
—Так что случилось? — нетерпеливо спросил эмир.
— К нам ночью в город приехал Улу-Мухаммед.
— Ты посмел пустить его в город?! — невольно вскрикнул Али-Галим.
— Да. Я вынужден был сделать это. Улу-Мухаммед прибыл с отрядом всадников, и, если бы я отказался принять его, они взяли бы город штурмом.
Али-Галим молчал: теперь понятно, почему этой ночью его мучили кошмары. Приснившаяся змея, видно, и есть Улу-Мухаммед. Разве он должен допускать к себе всеми изгнанного Улу-Мухаммеда? Теперь, несмотря даже на свой рост, он не кажется большим. А может, всё дело в том, что он бывший хан Золотой Орды? Но как на это гостеприимство посмотрит нынешний хозяин Сарайчика?
Отца Али-Галима звали Воитель. Он заслужил это прозвище, когда принял сторону нижегородского князя и со всем своим войском далеко забирался на русские просторы. Вооружённая армада Воителя видела золотоглавый Владимир. Даже независимые тверичи признавали за ним силу и не однажды привлекали его на свою сторону против московского князя Василия Дмитриевича. Отблеск славы отца упал и на его сына, эмира Али-Галима. Для соседей он тоже оставался Воителем, хотя очень редко покидал границы Булгарского ханства, если кого и наказывал, так это непокорные племена черемисов. И вот сейчас, возможно, судьба подарила ему возможность оправдать прозвище, оставленное отцом в наследство.
— Пусть стража немедленно вышвырнет его из города! А голову Мухаммеда Великого пусть принесут мне в покои на золочёном блюде. Ты понял меня?!
— Понял, господин! — отвечал начальник стражи.
— Ну, что ты медлишь?! Теперь иди и без головы Улу-Мухаммеда не смей возвращаться! Иначе лишишься собственной!
Начальник стражи ушёл так же неслышно, просто растаял в полумраке длинного коридора, только его быстрые шаги ещё некоторое время эхом отдавались в глубине дворца, потом стихли и они.
Али-Галиму ждать пришлось недолго: сначала послышался звон сабель, потом раздались крики, и скоро всё затихло.
Вот сейчас можно и помолиться в тишине в память об умерших. Али-Галим прошёл в мечеть, снял со стены молельный коврик, и едва он опустился на колени, как дверь распахнулась.
Это был Улу-Мухаммед!
Эмир Али-Галим узнал его сразу, хан почти не изменился с того самого времени, когда был хозяином Золотой Орды. Только кожа его сделалась темнее, а выражение глаз жёстче.
— Что же ты не встречаешь меня, Али? — с обидой в голосе спросил бывший хан Золотой Орды. — Я проехал через всю Орду, чтобы погостить у тебя. Мне всегда казалось, у тебя я мог рассчитывать на добрый приём. Разве я не оказывал тебе почтение, когда был ханом Золотой Орды? Разве мы не пили с тобой кумыс из одной пиалы? Ты всегда сидел рядом со мной, как почётный гость. Я дарил тебе своих наложниц. Я вправе рассчитывать на подобный приём! Почему же ты молчишь?
— Я слушаю тебя, господин. — Али-Галим продолжал стоять на коленях.
— Однако неласково ты меня встречаешь, почтенный эмир Али-Галим. Эй, стражник, подойди ко мне!
— Я слушаю тебя, великий господин, — наклонил голову начальник стражи.
— Так, значит, ты говоришь, твой хозяин велел отрубить мне голову и на золочёном подносе принести в его покои?
— Именно так, господин, — согнулся нукер ещё ниже.
Улу-Мухаммед смеялся. Смеялся так долго, как могут веселиться великие владыки, не обременённые заботами обычных смертных. И Али-Галим понял: Улу-Мухаммед не изменился — так он хохотал в Золотой Орде, так он заливается и сейчас.
— Ну и рассмешил ты меня, почтенный Али-Галим, давно я так не веселился. Что же ты хотел делать с моей головой? Неужели решил поставить её в своих покоях вместо украшения? А может, тебе взбрело в голову плевать в мои мёртвые глаза?! — Улу-Мухаммед оборвал смех. — Так почему же мёртвому? Ты можешь сделать это сейчас мне, живому!
Али поднялся с колен. Видно, утренней молитвы не получится. Всевышний будет рассержен, и после полуденной молитвы придётся замолить этот грех обильным подношением.
— Этот мерзкий раб лжёт, — сказал Али-Галим. — Неужели ты думаешь, что я посмел бы поднять руку на своего великого господина?!
— Выходит, ты готов умереть ради своего повелителя?
— Я?..
— Да, ты, Али. Или ты совсем онемел от счастья? Сделай для меня это. — Улу-Мухаммед протянул Али кинжал. — Ну что же ты? Ты меня разочаровываешь. Может быть, тебе нужна помощь? Ты всегда был хорошим слугой и никогда не огорчал меня. Ладно... теперь мне уже всё равно. Двоим здесь будет тесно. Значит, кто-то из нас должен умереть. Эй, нукер, убей своего господина.
— Я давно это хотел сделать! Я только дожидался удобного случая. Когда я видел его спину, то всякий раз сдерживал себя, чтобы не вонзить нож между его лопатками. Я всегда служил только одному господину, тебе, Улу-Мухаммед.
Начальник стражи подошёл к Али-Галиму и всадил саблю ему в живот. Клинок вошёл так, что он долго не мог вытащить её из чрева своего повелителя, а когда наконец справился, Улу-Мухаммед сказал:
— Отрубить ему голову и выставить на блюде. Пусть каждый сможет увидеть открытые глаза своего бывшего господина.
— Слушаюсь, мой повелитель!
Утром в Иски-Казани узнали, что эмира Али-Галима больше нет. Всадники Улу-Мухаммеда разъезжали по улицам города, и глашатай, следовавший впереди, во всё горло орал:
— Вашего господина Али-Галима больше нет! Отныне у вас только один повелитель, Великий Мухаммед! Али-Галима больше нет!
И в подтверждение его слов на арбе, запряжённой старой лошадью, раскачивалась на блюде из стороны в сторону посиневшая голова бывшего правителя Иски-Казани.
— С сегодняшнего дня все жители Иски-Казани Мухаммеда Великого должны называть ханом! Мурзы и эмиры должны почитать его как своего единственного господина! Муллы с сегодняшнего дня должны упоминать хана в молитвах и воздавать ему должную хвалу. Да продлит Аллах на земле дни нашего господина Мухаммеда Великого! И пусть звезда его, ярчайшая из всех светил, никогда не погаснет на небосводе! Пусть сияние всегда освещает нам путь!
Но разве может удовлетвориться великий правитель небольшим улусом, если привык распоряжаться целым миром? Следующим летом Мухаммед подошёл к Москве. Десять дней стоял под её стенами, напоминая князю о нанесённом оскорблении и о возрастающем могуществе нового государства. А потом, спалив посады, ушёл в нижегородские земли, которые уже успели склонить головы перед могуществом нового хана.
Этим же летом тяжело заболел Дмитрий Красный. Тяжкий недуг надломил, словно тонкую хворостину, его стройное тело и преждевременными морщинами обезобразил красивое лицо. Оглох князь, ссутулился и стал походить на старца. Дмитрий Младший едва поднимался с постели и, опираясь на плечи бояр, выходил на красное крыльцо, а потом возвращался в светлицу. Иногда он что-то шептал, бояре силились разобрать, о чём хочет поведать князь, но до их слуха доходило только неясное бормотание. Наконец постельничий боярин Дементий всплеснул руками:
— Что же это мы, окаянные! Князь-то исповедаться в грехах хочет! — И уже с печалью, перекрестив лоб, добавил: — Видно, смертушку свою чует князь, вот от того и беспокоится. Чистым уйти желает.
Поддерживаемый боярами, князь Дмитрий Красный вступил в домовую церковь. Священник Иосия терпеливо дожидался, пока Дмитрий Красный сделает к нему оставшихся три шага, чтобы втайне поведать о своих грехах. А его долг — отпустить их.
Задержал Дмитрий Красный взгляд на скорбящих лицах святых, поднял руку, чтобы перекрестить грешный лоб, а из ноздрей брызнула кровь.
— Причасти князя! Причасти, святой отец! — напористо шептал постельничий Дементий.
Растерялся отец Иосия, глядя на окровавленное лицо князя.
— Как же я его причащать буду, ежели из него кровь брызжет? Вы уж, бояре, возьмите под руки князя да на паперть выведите! Авось там ему и полегчает.
Князю не полегчало, тело его обмякло, лицо побелело и выглядело безжизненным, и, если бы не свет его ясных глаз, можно было бы подумать, что душа оставила тело. Но Дмитрий жил, и только иногда губы шевелились, и Дементий угадывал:
— Причастия князь просит! Причастия! Боже, ты... что же делать-то? Кровь не унять!
Боярин вынул платок, разодрал его и воткнул в ноздри князю. Кровь унялась.
— Ну а теперь, бояре, в светлицу князя ведите. Отлежится Дмитрий Юрьевич малость, авось и отойдёт болезнь.
Хоть и княжеские покои, а убого в них. Сквозь тёмное окошко еле свет пробивается, постель смята, по углам паутина.
Священник дотемна пробыл в покоях князя в надежде дать причастие, но Дмитрий Красный проспал до вечера. В полночь ему захотелось ушицы. Он привстал со своей постели, опираясь слабеющей рукой об изголовье, и попросил:
— Осетринки бы... да с наваром!
— Будет сейчас, князь! Будет! Эй, девки! — позвал постельничий. — Ушицы князю несите, да поживее!
Князь уху ел не спеша, отпивая с глубокой ложки сытный навар, потом утёр бороду ладонью и пожелал:
— Вина бы чарку!
Подали князю и чарку вина. Выпил Дмитрий Красный до капли и, охмелев, сказал боярам, которые неподвижно застыли у ложа господина:
— Пошли бы вы вон отсюда! Дайте мне покой, уснуть хочу!
В покоях стало пусто — остались князь да постельничий его, Дементий.
— Наказывает меня Господь, — заговорил князь. — Грешен я, Дементий. А Бог-то, он всё видит. И ни в чём спуску не даёт.
— В чём же ты повинен, князь? Более безвинную душу я и не встречал. На бояр своих и то прикрикнуть не можешь. И с братьями своими всегда в ладу был, волю великого князя выполнял исправно и Дмитрию Шемяке не перечил, Васька Косой и тот тебя любил.
— Не о том говоришь, боярин. Девка у меня была... красивая больно, и душа моя к ней прикипела, да так, что жёнку свою забыл. Знаешь ты, детей у меня нет, жена померла в одночасье, и сам я отхожу в одиночестве... Девка эта понесла от меня дитё. Видел я его, на меня похоже. Не мог же я его к себе взять, приказал эту девку со двора гнать, как сучку последнюю. А совсем недавно, когда к Дмитрию Большому ехал, на дороге бабу повстречал среди нищих. Баба та меня за ногу дёргает и кричит: «Не узнаешь меня, княже?! Не узнаешь?!» Рынды её отпихнули, а она всё кричит истошно: «Не узнаешь меня, княже?!» Думаю, видно, совсем баба рассудка лишилась, ведь не признал её поначалу. Знавал-то я её юной, а передо мной жёнка седая! И тут она мне кричит: «Сыночка-то нашего нет уже!.. Помер он!» Прозрел я здесь, признал свою зазнобу. Не сказал ничего, дальше поехал, а только с того дня стала меня хворь точить. Видно, наказал меня Господь... Был бы у меня сын, оставил бы ему удел, а так Галич Васька московский заберёт! Поначалу у отца удел отнял, а теперь вот и ко мне подобрался. Эх, Дементий, отговорился я с тобой, как на исповеди, и полегчало малость. А теперь иди, спать я буду.
Князь уснул скоро, а Дементий долго маялся в углу на жёсткой лавке. Проснулся боярин от крика. Князь задыхался, лицо его сделалось синим, и душа, того и гляди, отлетит от тела.
— Князь! Князь! Да проснись ты! — тряс постельничий за плечо своего господина. — Проснись Христа ради!
Быть может, смерть уже подступила к Дмитрию Красному, заглянула в его лицо, которое от этого покрылось холодной испариной. Князь разлепил веки и узнал боярина.
— Это ты, Дементий?
Лёгкое прикосновение живого человека к умирающему князю, видно, отпугнуло смерть, но она не ушла, а только спряталась у изголовья, чтобы потом наверняка вцепиться костистой рукой в Дмитрия и уже не отпускать его до последнего вдоха.
— Помираю... Зови священника и бояр, последнее слово хочу молвить.
Выскочил боярин из горницы и тут вспомнил, что забыл взять шапку. «Ну и Бог с ней!» — махнул он в сердцах рукой и побежал кликать бояр.
Бояре, увидев князя умирающим, суеверно крестились, жались у порога, а потом, словно боясь потревожить, один за другим расселись по лавкам.
— Отходит князь, отходит, — шептали бояре.
Князь умер так же тихо, как и жил.
Отец Иосия возвёл глаза к небу, перекрестился на сводчатый потолок и, положив ладонь на лицо князя, закрыл ему очи.
— Вот, кажись, и всё... отмаялся князь.
Бояре плакали, не в силах скрыть печаль. Вместе со смертью Дмитрия уходили и прежние вольности. А каково сейчас менять одного господина на другого? Ладно сына бы князь оставил, ему бы послужили. Теперь придёт Василий Васильевич и заберёт Углич, присоединит к своей вотчине. Затрут их московские бояре, затопчут. И судьба каждого из них повернётся неизвестно как, только и останется плечи подставлять под ноги великому московскому князю, когда он надумает выезжать на соколиную охоту.
Более других горевал Дементий. Мёду хмельного он не пил, а лил горькие слёзы у ложа почившего. Бояре в пьяных речах хвалили умершего князя, материли Василия. А затем, обессилевшие, здесь же на широких лавках улеглись спать.
Не ложился спать только Дементий, из своего угла он поглядывал на умершего князя, и, если бы не бледное, застывшее лицо Дмитрия, могло показаться, что он просто прилёг отдохнуть.
Сон скоро стал забирать боярина. Видно, изрядно подустал постельничий — ему вдруг показалось, что рука князя дрогнула, а пальцы сжались в кулак.
— Свят! Свят! Свят! — начал креститься постельничий и глазами, полными ужаса, пялился на Дмитрия Красного.
И тут Дементий увидел, как у князя шевельнулась другая рука, затем он уверенно откинул одеяло в сторону, опёрся ладонью об изголовье и сел.
Дементий, цепенея от ужаса, смотрел и гадал, что это: мёртвый пробудился от храпа бояр или объятия смерти были не так крепки. Вывернулся из них князь да и ожил! А Дмитрий Красный, не размыкая век, пробормотал:
— Пётр же, познав его... яко Господь есть...
Что это, чудесное пробуждение или Господь, восстав против смерти, не согласился принять князя без святого причастия?
Неожиданно Дмитрий сильным голосом затянул псалом, как если бы он сделался простым певчим. Дементий совладал со страхом и подтянул громко, подлаживаясь под пение галицкого князя:
— Миром Господу помолимся. О свышнем мире и о спасении душ наших Господу помолимся.
И когда бояре пробудились от хмельного сна, то увидели, как князь с постельничим слаженно тянули на два голоса. Дмитрий Младший пел самозабвенно, глаза его при этом оставались закрытыми. Постельничий Дементий, взобравшись на лавку с ногами, с высоты «алтаря» пытался вторить князю сочным басом. Бояре не удивились чудесному пробуждению князя, видно решив, что это им всё чудится с похмелья, пошмыгали носами, повертели нечёсаными головами и подтянули поющим.
Никто из них не заметил, как в горницу вошёл священник, который явился для того, чтобы прочитать Псалтырь над почившим князем да проводить его в дальнюю дорогу с миром.
— Уж не бес ли здесь правит? — усомнился священник, глядя на образа, перед которыми горела лампадка. — Свят, свят! — Он начал креститься. — Бояре, опомнитесь!..
Дмитрий Красный открыл глаза, разглядев среди бояр отца Иосия, проговорил:
— Не мог я, святой отец, без причастия уйти. С того света явился, чтобы из твоих рук отпущение грехов получить. А после причастия, как Бог пожелает, заберёт к себе или жить оставит...
— Самое время, князь, причаститься.
— Вот скажи мне, отец Иосия, голос у меня есть али пропал? — усомнился Дмитрий. — Пою, а голоса своего не слышу. Вижу, бояре рты пораскрывали и вроде бы тоже поют, а как ни напрягаюсь, ничего услышать не могу.
— А ты пой, батюшка, душе всё равно очищение.
Не разобрал ничего князь и, оборотясь к постельничему, сказал:
— И ты здесь, Дементий... Жалко мне от вас уходить. Скорбь большая, да Господь призывает. — И князь снова запел.
По Угличу прокатился слух, будто Дмитрий Красный воскрес из мёртвых, и под окнами княжеского дворца собралась толпа зевак и нищих, чтобы поглазеть на чудо. Юродивые вопили, что сие пение чудодейственное: глухие от него начинают слышать, а незрячие видеть, и преображение то действует благотворно на баб пустоутробных. И ко двору князя валом спешили сироты и калеки, которые здесь же, у красного крыльца, подхватывали пение во здравие князя.
Князь Дмитрий Юрьевич Красный умер на заре.
Он просто перестал петь, и бояре, удивлённые его долгим молчанием, неловко переглядывались, а потом Дементий, заглянув в очи князю, понял, что дух его покинул тело.
— Кажись, отошёл, благовернейший... — произнёс, крестясь, отец Иосия.
— Что делать-то теперь будем? — сиротливо озирался Дементий. — Не так давно Юрия Дмитриевича хоронили, а теперь вот... сына его любимого.
— Великому князю весть нужно послать о кончине его двоюродного брата.
— Пошлём, — согласились остальные бояре. — У Дмитрия Красного характер покладистый был. Василий Васильевич на него зла не держит, может, и поскорбит вместе с нами.
— А ещё за Дмитрием Шемякой послать надо. Вот кто от братовой смерти опечалится! Хоть и не ладили порой они между собой, а любил его старший брат.
— Да, всем хорош Дмитрий Красный был. Когда Васька Косой и Дмитрий Шемяка боярина Морозова убили, то Юрий Дмитриевич за это на сыновей осерчал. А Дмитрий Красный отцову сторону принял. На старших сыновей князь опалу наложил, а про Красного сказал, что Божий человек он и зло на него держать грешное дело.
Князя обрядили в белые одежды, вставили в руки погребальную свечу и отнесли в церковь Святого Леонтия, в которой так любил молиться князь при жизни.
На восьмые сутки пришёл Дмитрий Шемяка. Всё такой же, как и прежде, стремительный, дерзкий. Он не взглянул на согнувшихся бояр и, обратясь к отцу Иосии, спросил:
— Где брат лежит? Взглянуть хочу!
Бояре не разгибали спины, зная крутой характер среднего брата Дмитрия Младшего. Лучше голову ниже склонить, чем совсем без неё остаться. Что им, этим мятежным братьям, станется, если они на самого великого князя руку поднимают! Может, и другого опасались увидеть бояре — немой укор.
— В церкви Святого Леонтия он лежит, — отвечал Иосия за всех разом. — Вот уже осьмой день пошёл, а его и тлен не тронул. Как жил святым, так святым и помер. Царствие ему небесное...
— Отведи меня к нему.
— Пойдём, князь.
Дмитрий лежал у алтаря. В изголовье горели свечи, у ног плачущая юродивая.
— Милый мой князь! Дитятко ты моё родимое, как же я без тебя далее буду? Ушёл и со мной не простился.
— Кто такая? — спросил Дмитрий Шемяка. — Почему из храма не выгоните?
— Сидит здесь который день и жалится. Всё миленьким князя величает, а сама по себе пропашка!.. Юродивая. Говорит, что якобы дитё от него понесла. — И уже осторожно: — Чего только не болтают! Хотели мы её гнать, да она такой шум подняла, что мы сдались. — И, оборотясь к юродивой, отец Иосия сказал: — Шла бы ты отседова, пока князь Дмитрий Большой с братцем со своим простится.
Отошла блаженная на шаг, отстранённая рукой Иосия, но уходить совсем не собиралась и ревниво, со стороны, наблюдала за тем, как Шемяка наклонился над братом и целовал его в безмолвные уста. Она смотрела на Дмитрия Красного любовно и ласково и в то же время готова была броситься к нему, чтобы оградить от опасности.
Не долго братец пожил, так и ушёл сразу вслед за отцом. Словно существовала между ними какая-то духовная связь, которая не оборвалась и после смерти Юрия Дмитриевича, вот и утянул батянька в могилу своего любимого сына.
— До Москвы на руках донесём, а там в церкви Архангела Михаила и похороним. При жизни Дмитрий Младшой ближе всех к отцу стоял, пускай же и после смерти они рядом останутся.
На следующий день, под печальный звон колоколов Успенского собора, покойного князя вынесли из церкви и неторопливо понесли на плечах. Далёк путь до Москвы! Впереди процессии спешили гонцы с печальной вестью, и усопший князь, под звон колокола, вступал в деревню, где его на плечи принимали молчаливые мужики, чтобы пронести до следующей церкви, там его бережно поднимут на руки другие, пока почивший князь не прибудет к месту своего последнего упокоения.
Дружно в этот год поднялась трава, едва солнце припекло, а первые ростки мать-и-мачехи уже жёлтыми солнышками лихо взбирались на косогор, ютились в низинах, около дорог и крепостных стен. Только в глубоких оврагах местами оставался слежавшийся снег.
А солнце, словно искупая свою вину за долгое зимнее бездействие, палило сильнее, плавило последний снег. И недели не пройдёт, как неприглядную черноту вытеснят разноцветные медуницы, а потом опушки леса станут белыми от распустившихся ландышей.
Москва жила тихо. Казалось, и раны её понемногу затягивались после междоусобиц братьев, и новгородские мастеровые, приглашённые великим князем, латали разрушенные крепостные стены.
Дел хватало на всех: мастеровые строили через Москву-реку мост. Обветшал он, того и гляди, рухнут вековые сваи в прозрачную гладь и сметут небольшой базарчик, который разместился на его дощатом хребте и где бойко шла торговля. А на прошлой неделе обвалились перила, и в Москву-реку попадала бесшабашная кричащая торговая публика. Насилу всех выловили.
Был Великий пост. Но, несмотря на все напасти, базары в Москве не потеряли своей живости, всюду торговали бараниной, парной говядиной и постной свининой, торговые ряды ломились от квашеной капусты, солёных грибов и всякой всячины.
Брод против обычного казался оживлённым, и на богомолье с посадов в Успенский собор сходился народ, чтобы постоять перед образами на коленях и поставить свечу за упокой или во здравие.
На гонца, который легко скакал по Нижегородской дороге, мало кто обратил внимание. Его конь уверенно топтал головки мать-и-мачехи, и комья земли весело разлетались во все стороны.
— Дорогу! Дорогу! — орал он, когда ему навстречу попадалась небольшая группа нищих с котомками на плечах. — Дорогу гонцу великого князя!
Нищие охотно расступались и, сняв с голов дырявые шапки, смотрели вслед. Не дай Бог, ещё и плетью угостит. Пусть себе скачет.
— Дорогу! — орал гонец, когда конь ступил на мост и, цокая подковами по свежетёсаным доскам, поспешил дальше.
Мастеровые пропускали лихого гонца, а потом, как и прежде, сноровисто работали топорами. Гонец обогнал старух, спешащих на богомолье, обдал грязью нарядную девку, идущую по воду, и выехал к китай-городской стене.
Великого князя гонец заприметил сразу. Василий стрелял из лука в чучело, ряженное в татарский кафтан. Три стрелы торчали из горла, четвёртая, пущенная менее удачно, воткнулась в плечо. Молодой рында стоял подле государя и подавал ему стрелы. Гонец попридержал коня, посмотрел, как великий князь, прищурясь, целится. Пальцы Василия разжались, и стрела, весело запев, воткнулась в глаз «басурману».
— Государь, князь великий! — упал на колени гонец. — С Нижнего Новгорода я, воеводой Оболенским прислан. Сыновья Улу-Мухаммеда в окраину русскую вошли, по всему видать, к самой Москве спешат!
Василий Васильевич посмотрел на чучело. Стрела пробила голову, выдернув с обратной стороны пук соломы. А ведь татарин так стоять не станет. На поле боя кто первый пустит стрелу, тот и прав! Покудова русич один раз стрелу выпускает, татарин уже четвёртую готовит. В чём же хитрость? Быть может, в том, что татарин за дугу тянет, а русич привык тетиву натягивать?
Василий Васильевич не однажды наблюдал, как татары стреляли из лука. Их быстрота и точность всегда поражали его. Одним движением, не выпуская тетивы из пальцев, они доставали из колчана стрелу, прикладывали её к дуге, и мгновенно она уже летела в цель. И русским надо воевать так же, однако традиции на Руси совсем иные. Но не было в стрелах, пущенных татарами, той мощи и силы, которой отличались стрелы русичей, способные пробить даже крепкий панцирь.
Призадумался Василий: опять Улу-Мухаммед.
Василий помнил его огромным, шумным. Хан охотно откликался на шутки своих мурз, и его громкий голос беспрестанно сотрясал своды дворца. И кто мог подумать, что пройдёт совсем немного времени — и его власть в Сарайчике завершится бесславным изгнанием. Но не таков Улу-Мухаммед, чтобы сносить обиды. Он уже оторвал от Орды огромный кусок и стал ханом. На востоке создал государство, которое сейчас угрожало Московии.
Видно, сама судьба сталкивала их, чтобы они посмотрели друг на друга через много лет.
— Что ж... встретим мы хана. Прошка! — позвал великий князь верного слугу. — Распорядись, пусть бояре ко мне явятся!
Прошка за последний год изменился. Не было уже того щуплого отрока, который стремглав бросался выполнять любой наказ московского князя. Теперь он приосанился, плечи налились силой, а лицо заросло рыжеватой бородой. И только в глазах по-прежнему горели весёлые искорки, которые выдавали его разудалый, бесшабашный нрав.
Стремглав разъехались во все стороны гонцы, чтобы отдать распоряжения великого князя. А уже через несколько дней по Тверской, Ярославской, Владимирской дорогам потянулись дружины на подмогу великому князю Василию.
В город Юрьев, на поклон к государю, прискакали нижегородские воеводы Фёдор Долголядов да Юшка Драница.
Фёдор Долголядов вышел вперёд, смахнул рукой прилипшую к одежде грязь и с печалью в голосе сказал:
— Оставили мы Нижний Новгород, государь. Не суди слишком строго. Татар под городом такая тьма собралась, что даже из башни горизонта не видать. Припасы все поели, народ стал от голода пухнуть. Вот мы город запалили и с силой через татар пробивались на твой суд.
— Не в чем вас винить, воеводы. Видно, так то и должно было случиться. Не время больше медлить. Прошка! Скажи воеводам, пусть собираются к Суздалю.
Передовой полк Василий Васильевич остановил на реке Каменке. Зазвучала труба, и тысяцкий, махнув рукой, распорядился:
— Здесь будем татар ждать! Так государь распорядился.
Берег походил на высокую крепостную стену, которая начиналась у самой кромки воды и круто поднималась вверх. Каменистый берег, неудобный. Взять его от воды трудно, разве что обойти тайно. Но дозоры великий князь выставил усиленные, и сотники объезжали войско посмотреть, как несут караул воины.
Василий Васильевич занял сопку, у подножия которой раскинулось поле, — именно отсюда и поджидали воеводы татар. Сверху и атаковать лучше, ежели что, и оборону держать.
Река Каменка прозрачная, казалось, не затронуло её весенним паводком, когда половодье подтачивает крутой берег и несёт размытую глину вниз по течению. Вода в реке чистая, как в стоячем колодце, и, если бы не быстрые водовороты, можно было бы смотреться в неё, как в зеркало. Ничто не тревожило покой реки. Разве что небольшие рыбацкие судёнышки, уверенно скользившие по гладкой поверхности.
Хоть и тихоней выглядела Каменка, а видела она и грозную сечу, когда схлёстывалась татарва с дружиной князя. Мутнели тогда воды от пролитой крови. Река служила последней преградой, отделяющей степь от государства Московского. Именно сюда, по наказу великих князей, съезжались князья удельные, чтобы в единстве противостоять татарской тьме.
В последние годы на востоке незаметно окреп сосед, который тревожил московские заставы своими набегами. Ворвётся тёмным смерчем на окраины, обожжёт стрелами Русскую землю, словно огненными молниями, заберёт в полон людей и так же стремительно уходит за Волгу. И эту назойливость восточного соседа Василий Васильевич ощущал в последнее время особенно сильно. С жалобами подъезжали воеводы: «Посады палят, батюшка... Девок уводят... Крепости жгут». Наверно, наступил тот самый час, когда стоило собраться с силами и проучить воинственного соседа. Думал Василий Васильевич и о другом, что наказывает его Бог за кичливость: посмел отказать в приёме Улу-Мухаммеду. Не было бы тогда разорённых окраин, пленённых хлебопашцев, держал бы бывшего хана у своих ног, как пса верного.
Раскололась Золотая Орда на уделы и уже никогда не соберётся в одно целое, как не склеить черепки разбитого горшка. Каждый из чингисидов видит себя наследником великого Батыя, и невдомёк им, что выглядят они трухлявыми грибами на стволе срубленного дерева. Незаметно для отпрысков чингисидов на Средней Волге родилось сильное государство, имя которому Казанское ханство!
Из Казани Улу-Мухаммед отправил к своему «крестнику» гонцов с наказом: пусть платит Василий дань хану, как это было заведено и прежде. Улу-Мухаммед бесстыдно напоминал о том, как великие московские князья со времён Чингисхана ходили на поклон в Золотую Орду выпрашивать ярлык на великое княжение. Напоминал, из чьих рук Василий Васильевич получил московский стол. «И дети твои к моим пойдут, — писал казанский хан, — и внуки твои от моих внуков великое княжение получать станут!»
Василий Васильевич сошёл с коня и глянул вниз, где, шурша галькой, Каменка несла свои воды. Из-под ног великого князя сорвался ком земли и с сильным плеском ушёл под воду. Жеребец испуганно повёл ушами, долго прислушивался к тишине, затем вновь склонился к сочной траве. Разговор с ордынцами — это переход по шаткому мостику, неверно истолкованное слово — и рухнешь вниз в мутную пучину. Вот поэтому больше приходится кланяться, чем говорить. Поначалу подарки, а потом уже только дело. Если бы эта речушка и это поле стали местом, где пришёл бы конец татарскому игу! Ведь были на Руси Александр Невский и Дмитрий Донской, так почему бы не быть Василию Каменскому? Только для твоих ли плеч эта ноша? Если бы братья заодно были, тогда и скинули бы с себя ордынский хомут, а так каждый из них великокняжескую шапку силится примерить. Только шапка-то на одну голову сшита!
Василий Васильевич решил выступать после полудня, когда со своими дружинами подойдут двоюродные братья Михаил и Иван Андреевичи. У самой Нерли к воинству князя Василия Васильевича должен пристать ещё один брат — Василий Ярославович.
Как ни близок Василий с братьями, но только один стол на Руси может быть первым — московский. Невольно, а порой и намеренно Василий Васильевич показывал, что именно он является хозяином земли Русской. И от этого неосторожного напоминания хмурился Василий Ярославович, становился неразговорчивым Михаил Андреевич, и только младший брат Иван оставался беспечно весёлым. Понимал Василий Васильевич грусть удельных князей — каждый за свою вотчину ратует и видит себя не младшим братом, а равным! Не время сейчас делить единое, и канула в небытие пора, когда Русь состояла из множества княжеств, где всякий князь на своём дворе голова. Русь, поделённая на многие лоскуты, должна превратиться в твёрдую державу. Да такую, чтобы меч басурманов обломился об неё, а стрелы отскакивали!
Нет уже соперничества между Москвой и Тверью, остался на Руси только один главный город — Москва!
В нём один князь может быть хозяином. Хмурятся двоюродные братья, но почитают московского князя за старшего. Не было случая, чтобы отказали они Василию в помощи. Только Шемяка всегда держится особняком, не забыл, бес, что отец и брат сидели на московском великом столе. Вот и сейчас, когда ордынцы сожгли Нижний Новгород и тучей налетели на Русь, ждал он от Шемяки помощи, посылая к нему одного гонца за другим. Молчал Шемяка. Василий Васильевич догадывался, что втайне Дмитрий Юрьевич желает его поражения, вот тогда и взберётся на московский стол! А не далее как вчера донесли великому князю, что Дмитрий Шемяка связывался с ханом Сарайчика, обещал ему большие дары, если поможет согнать с престола Василия Васильевича. Рассердился тогда великий московский князь, но гнева своего не показал. Издавна повелось на Руси, что только великие московские князья могут сноситься с Ордой — им ответ за Русь держать, им и ясак со своих земель собирать. Ещё Дмитрий Юрьевич отговаривал служивых татар вступаться за Василия, верные люди сказывают, что из казны углицкой за измену обещал платить золотом.
Скоро от мурзы пришло хитрое письмо, дескать, подойдёт он со своими всадниками, но только через десять дней. Хитрый татарин ссылался на то, что обижают его сородичи и хочет он навести порядок в своём улусе. Василий хмыкнул, услышав эту новость от гонца: только будет ли он необходим через десять дней, если Улу-Мухаммед на вторые сутки к Москве пожалует?
Более всего тяготила Василия Васильевича измена Дмитрия Шемяки. Это был вызов старшему брату, на который нужно ответить. А значит, вновь война и, как прежде, разделится Русь надвое, где невозможно выявить правого и виноватого. Москва стольным городом не будет, если удельные князья задираться начнут! Хоть Дмитрий Шемяка и брат, однако вреднее любого татарина. Ордынец на великокняжеский стол не позарится, от него золотом откупиться можно, а Дмитрию Юрьевичу непременно Москву подавай!
В тревожном ожидании прошёл и следующий день. Великий князь собрал дружину, вышел в поле, а потом вернулся в стан. Воинство его, как и прежде, было послушным — побряцали оружием, поупражнялись в метании копий и стали готовиться к вечерней молитве. Для многих этот вечер, возможно, станет последним.
— Пусть этой ночью дружинники веселятся, — распорядился великий князь. — Пусть пьют и едят столько, сколько вместят их утробы.
Воеводы объявили волю великого князя. Отроки одобрительно загудели, предвкушая обильное возлияние.
— Сотникам и десятникам следить за порядком, — предупреждали воеводы, — Кто меч на товарища поднимет, тот будет лишён живота сам!
Об этой традиции — сытно кормить и поить своих воинов перед боем — знали все. Немного перед смертью надо: поесть вдоволь, попить послаще. Бабу бы вот ещё обнять... Да где тут, все попрятались!
— Сколько я с Василием Васильевичем хожу, так он ни разу хмельного зелья для своей дружины не пожалел, — говорил лохматый десятник, опрокидывая содержимое огромного ковша к себе в нутро. — А за такого и умереть не жалко, — добавлял он охмелевшим голосом. — Как выйдем поутру, так и схлестнёмся с татарами!
Великий князь московский не пожалел угощения для всех, не осталась без хмельного и посошная рать. Многие упились и завалились спать здесь же, у костров, и, когда ужин был в самом разгаре, кто-то в центре стана, близ княжеского шатра, затянул голосистую песню. Отрок пел про молодого удальца и девицу-красу да про отчима-лиходея, что посмел взглянуть на молодую невестушку и отобрать её по праву старшего. И каждому, кто слышал слова этой песни, на миг взгрустнулось. В молодом голосе чувствовалась тоска, да такая, что многим подумалось, уж не у него ли отчим отбил жену. Вместе со всеми заслушался и князь: отдёрнул полог шатра, да так и стоял, дивясь голосу, а потом, когда певец умолк, Василий Васильевич поманил к себе Прошку и спросил:
— Что это за отрок? Почему я его раньше не слышал?
— В дороге подобрали, князь. Может, сказать ему, чтобы ещё что-нибудь спел? — предложил Прохор.
— Не надо, — подумав, отказался Василий. — Лучше прежнего не споёт. А певца наказываю беречь! Пусть во время сечи в обозе находится!
Бояре уже заждались великого князя. Сидели подле стола, не решаясь без него начать пир, черпать ковшами вино, а когда он наконец переступил порог шатра, в волнении подвинулись к дубовой бочке.
— Угощайтесь, бояре! Угощайтесь! — махнул рукой великий князь.
И бояре не спеша, помня о своём достоинстве, один за другим черпали ковшами хмельное, мутноватое зелье.
Великий князь пил вместе со всеми, не отставал, почти не хмелел, всё подмечал, всё видел.
Пили до поздней ночи, бояре вставали с чашами, наполненными вином до самых краёв, и, желая великому князю доброго здравия, выпивали всё до капли.
Дошла очередь и до Прошки Пришельца.
— Ну-ка, Митяй, — подозвал он боярского сына, — налей до краёв! — И когда вино закапало через край на ковры, поспешно остановил: — Хватит! Куда же ты льёшь?! Не видишь, что ли, дурья башка! Полно уже!
Осмотрелся Прохор по сторонам. Бояре осовели, казалось, ничто не напоминало скорого сражения. Он долго взирал на пьяное застолье. Нехорошее предчувствие мучило боярина.
— Говори, Пришелец, что ж ты замер? — подбодрил любимца московский князь.
Уже никто из бояр не помнил, что Прошка из пришлых, что явился его отец из-за моря да и остался на Русской земле. А как простился с белым светом, кроме драного кафтана оставил сыну множество рассказов, которые способны удивить любого слушателя. Видно, этим и приглянулся Прохор великому князю, оттого и приблизил его к себе, потом боярством пожаловал. Так устроена Русская земля: кто попробовал сдобного хлеба с её полей, тот прикипает к ней уже всем сердцем. Прошка Пришелец не чувствовал в себе чужой крови, он вырос на этой земле, стал её частью давно и вместе со всеми готовился сегодня к завтрашней битве, а сейчас праздновал последний мирный день.
— Выпьем же за то, чтобы одолеть басурман меньшей силой, — начал Прохор. — И чтобы как можно меньше крови русской утекло в поле. А где прольётся кровь, хлеба там встанут высокими. Каждый, кто надломит краюху, пусть вспомнит всех, сложивших голову в этой сече. Мы бились за землю Русскую и погибли не зря.
Бояре и князья пили всю ночь, а раннее утро сморило и воевод, и дружину. Не спали только заставы, и слышно было, как перекликаются между собой дозорные и иной раз в приветствие прозвучит и труба.
Татары не появились и на следующий день. Не было их и через неделю. Рать великого князя, устав от долгого ожидания, понемногу начала роптать. Зашептались между собой и удельные князья.
— Василий-то нас подле себя держит, как холопов каких-то. А татар всё нет! Может, они обратно к себе в Казань вернулись? Тогда зачем ему мы? — говорил Михаил Андреевич, поглядывая на брата.
Иван Андреевич в сердцах поддел пылающий уголёк палкой, и он, отлетев в сторону, брызнул яркими искрами. Каждый из братьев по отдельности не смел перечить великому князю, но если случалось им быть вместе, перед их силой отступал и он.
— У великого московского князя свои дружины, а у нас свои, — поддержал брата Иван Можайский. — Если татар нет, так чего зазря отроков морить! Если бы казанцы сечи хотели, так давно бы Нерль перешли. Надо о нашей воле великому князю сказать, пускай подле себя зря не держит! Дома дел полно!
Воеводы пришли к московскому князю смиренно, но за этой покорностью Василий Васильевич угадал злое сопротивление его воле. И чем ниже склонялись головы князей, тем больше неудовольствия зрело против великого государя. И деревья гнутся в ураган, только и он не вечен: пошумел и утих, а лес как рос, так и будет расти далее, цепляясь ветками за небо. Так и князь московский всегда первый среди младших братьев, что бы они ни говорили.
— Государь, московский князь великий, — вышел вперёд Иван Андреевич, — ты не серчай на нас шибко, только ведь мы не холопы твои. Каждый из нас в своём уделе хозяин! Вот мы у тебя и спросить хотим: ежели татары не пришли, так чего нам здесь без толку томиться? По домам пора разъезжаться!
Государь сидел в самом углу шатра, на скуластое лицо падала тень. Может, нарочно так сел, чтобы глаз не было видно. Не дрогнул государь, будто и не слышал Ивана Можайского, только руки потянулись к поясу.
Иван Андреевич исподлобья наблюдал за великим князем, ждал ответа на свои слова.
— Что ж... вы люди вольные, — вымолвил князь, — поезжайте себе. А я со своей дружиной ещё задержусь.
Иван Андреевич не ожидал такого быстрого решения от государя.
— Если бы татары были, то уж давно бы объявились здесь. А так, видать, совсем с наших земель подались, — пытался он оправдаться.
Московский князь хотел напомнить, что ордынцы умеют прятаться, как никто: пробираются оврагами и низинами, подолгу могут сидеть в лесу, а потом появляются словно из-под земли и внезапно уходят. Добыча их всегда обильная, как жатва в урожайную годину. Промолчал Василий Васильевич.
Подумав, Иван Андреевич добавил:
— Мы далеко не пойдём. Поставим здесь в двадцати вёрстах заставы, а ежели действительно ворог нагрянет, так ты, Василий Васильевич, дай нам знать.
— Хорошо, — кивнул головой великий князь. — Ступайте себе. Дайте мне помолиться.
Утро ещё только занималось, а великий князь встретил его на ногах. Отстоял заутреню, испил кваску. В эту ночь он не спал, хоть и не долог был разговор с князьями, а ранил сердце. Каждый удельный князь на своей земле хозяин. Если наказал великий князь явиться к стану, то любой из братьев может обидеть его отказом. А всё Шемяка! От него одного смута идёт, а на Дмитрия и другие князья засматриваются. Василий Васильевич видел, как слаба его власть, а удельные князья больше обращают внимание на силу, чем на великокняжеские московские бармы. Новгород всё более вольницу показывает, посадник так и говорит:
— У нас, новгородцев, земли поболее будет, чем у московского князя.
И новгородские купцы с московскими знаться не желают, всё на Ливонию засматриваются. Русь для них чужой становится. Видно, судьба Москвы такова, что воевать ей с собственными союзниками. Василий Дмитриевич оставил сыну не только великокняжеский престол, но и передал мудрые заветы московских князей. Василий Васильевич часто вспоминал слова отца:
«Русь — это пирог. Великому московскому князю от дележа всегда достаётся побольше и послаще, а то что остаётся, нарезают удельным князьям. Набивай живот впрок, чтобы потом не голодать. И помни, Василий, ты на Руси первый! Ты медведь, а прочие князья псы! Только псы могут сбиваться в стаю, а медведь всегда бродит один и не признает с собой рядом никого. А объединяются они всегда против воли старшего брата. Ты же не допускай этого. И если пришла нужда, так рви их поодиночке. Удельные князья должны быть при тебе, что вороны при медведе. Пусть им всегда достаются объедки от трапезы великого московского князя. Будь хитрым, сын! Не гордись зазря, для дела и поклониться можно. Но не забывай одного — ты старший брат!»
После заутрени князь почувствовал, как навалилась на него усталость, казалось, и сил-то осталось ровно настолько, чтобы добраться до шатра и растянуться на твёрдом ложе.
— Государь! Василий Васильевич! — вбежал в шатёр Прошка. — Гонец прибыл, татары Нерль перешли! Через час здесь будут! Что делать прикажешь?
Хоть и не спал всю ночь государь, а сна как не бывало.
— Собрать всех, кто есть, и к переправе! Задержите татар!
— Да собирать-то было бы что! Распустил ведь ты всех, Василий Васильевич! Князья ещё вчера ушли. Только и осталось, что полторы тысячи всадников!
— Пусть гонцы скачут к Михаилу Андреевичу и Ивану Андреевичу, авось поспеют братья к сече!
В этот день утро было особенно светлым: ни обычного тумана, ни облачка на небе, даже роса быстро успела высохнуть под лучами солнца.
Утром страха не ощущаешь, и, возможно, в этом повинна предрассветная прохлада, остужающая разгорячённые головы. А может, следует винить воздух, который в ранний час, как никогда, опьяняюще сладок. Утром у воинов нет того страха и волнения, испытываемого ими ночью перед грядущим сражением.
Василий Васильевич вышел с дружиной на берег Нерли. Кони, отдохнувшие за ночь, терпеливо ждали.
Две рати стояли друг против друга, и ветер трепал хоругви и татарские бунчуки.
Прошка повернулся к государю:
— Мало нас, Василий Васильевич, басурман раза в три поболее будет.
— От Ивана Можайского гонец прибыл?
— Нет, государь. Вернулся гонец от Михаила Андреевича. Князь велел передать, что скоро здесь будет.
— Не сказал, почему задерживается?
— Беда в том, что воинство своё распустил провизию собирать.
Рать великого князя стояла подле Евфимиева монастыря, и кони, прядая ушами, жались упругими боками к бревенчатым стенам. Игумен, приоткрыв ворота, выпустил на волю десятка два молодцов в схимном одеянии.
— Копья для монахов найдутся? — спрашивал старик.
— Найдутся, отец, как не найтись, — отвечал великий князь. — Копья будут, но вот брони не обещаю, в обозе вся осталась.
— Ничего. Всё в руках Господа нашего. Если суждено отрокам погибнуть, значит, предстанут на небесах перед Богом нашим и всеми святыми, а схима им саваном останется, — был грустный ответ. — Я бы и сам с тобой пошёл, Василий Васильевич, да стар больно. Ноги едва держат! С дедом мы твоим, Дмитрием Донским, на Куликовом поле ордынцев держали... Смотрю вот, только мало вас, боюсь, побьют татары.
— А ты молись за нас, старец.
— Хорошо, буду, — пообещал игумен.
Утром поверить в смерть особенно трудно. Разве захочешь умирать, когда восторженно заливается в лесу соловей, когда небо высокое и голубое. Однако смерть стояла совсем рядом, и её можно было увидеть в хитрых глазах татар, которые, щурясь, поглядывали на небольшую рать великого князя. Смерть сидела на концах копий, украшенных конскими хвостами, покоилась в кожаном колчане со стрелами, смерть лежала и под копытами лошадей — напуганные и разгорячённые сечей, они втопчут упавших и раненых в землю.
Смерть была многолика.
Полки стояли друг против друга совсем не для того, чтобы всмотреться в лицо своей смерти, а затем, чтобы помолиться своему Богу. Каждый перед сражением обращался к небу, откуда незримо должен был созерцать происходящее Бог, который присутствовал здесь, но не был виден. Каждый хотел от своего Бога спасения, и каждый знал, что это невозможно — ведь кому-то суждено пасть на поле боя.
Вот татары помолились, изготовили бунчуки наперевес, конский волос нежно гладил высокую траву.
— Алла! — закричал Тегиня и первый погнал коня на ровный строй дружинников, увлекая за собой орущую тьму.
— За Христа! За веру!
— Бей басурманов! — орали полки.
Вместе со всеми кричал и Василий Васильевич, совсем не узнавая своего голоса. Справа от него, с перекошенным от злобы ртом, мчался Прошка. Он бешено нахлёстывал коня, и жеребец, явно обиженный непривычным обращением хозяина, протяжно заржал. Слева, пытаясь не отстать от государя, погонял коня молоденький рында. Великий князь уже выбрал себе татарина — рослого подвижного детину, длинное копьё в его крепких руках казалось безобидной хворостиной. Василий Васильевич отыскал его среди прочих татар, повинуясь какому-то внутреннему порыву. Видимо, нечто похожее почувствовал и татарин. Он пробирался к Василию через толпу басурман, умело управляя конём.
— Алла! — орал татарин. — А-а-а-а!
— За Христа! — кричал князь. — Смерть басурманам!
Битва подобно крепкому вину мутила рассудки сражающихся.
Василий Васильевич разглядел на скуластом лице татарина у самого глаза большую бородавку, заросшую чёрными волосами. Он старался угодить копьём прямо в эту чёрную отметину. А когда расстояние между ними сократилось, князь с силой бросил копьё в татарина, вложив в удар всю ненависть к врагу. Ордынец успел подставить щит, но острый наконечник пробил щит, разломив его на две неравные части, и опрокинул всадника на землю вместе с лошадью.
— Руби его, государь! — орал справа Прошка.
И Василий Васильевич, лихо взмахнув саблей, уложил татарина на мягкую траву. Великий князь даже не обернулся на поверженного врага, он пробирался в самую гущу сечи, а на него уже наседали два улана. Конь вертелся под татарином волчком, и всадник всё норовил распороть князю бок. Василий отбивался саблей, а татарин копьём цеплялся за кафтан, пытаясь повалить великого князя. Василий сильным ударом отбил древко и с размаху рубанул татарина по шее, и тот, высоко вскинув руки, свалился с широкой спины жеребца. Видать, в ладонях у поверженного врага ещё оставались силы, и князь видел, как он пытался уцепиться пальцами за траву, а потом, обессилев, разжал руку.
Второго улана взял на себя Прошка, нанёс смертельный укол сулицей в широкую грудь и, повернувшись к государю, заорал:
— Князь! Андреевичи идут!
Великий князь увидел, как с крутого косогора, от стен Евфимиева монастыря, пешие и конные воины спешили на подмогу московской дружине.
—Теперь потесним татар!
Татары тоже почувствовали перелом: всё реже раздавался крик «Алла», всё настойчивее слышалось: «За веру, за Христа!»
Течение реки бывает медленным до тех пор, пока в неё не вольются множество ручьёв и не дадут ей желанной силы, так и сеча не набрала своей мощи, пока в неё не влились дружины Ивана и Михаила Андреевичей. И под натиском русских дружин татары шаг за шагом стали отходить к лесу, теряя убитых, оставляя раненых, молящих о пощаде.
Великий князь по-прежнему сражался в самой гуще боя. Он не заметил, как ему сбили шлем, не почувствовал, что на руке выступила кровь. Рядом бился вертлявый Прошка и, стиснув зубы, яростно рубил направо и налево.
В пылу битвы князь не заметил, как на сопке, на той стороне, где был татарский лагерь, появился всадник. Его фигура даже на огромном расстоянии выглядела внушительной. Всадник неторопливо въехал на самую вершину сопки и застыл, наблюдая за боем.
— Князь, гляди, Улу-Мухаммед! — крикнул Прошка, первым увидев всадника.
Василий развернул коня, стараясь пробиться к косогору, но татары стеной стояли на его пути, и, не окажись рядом верного Прошки, лежать бы Василию с отрубленной головой на земле. Подставил боярин под удар копьё, и сабля, звякнув о наконечник, выпала из рук татарина.
Василий увидел, как хан поднял руку, и, подчиняясь этому знаку, татарское войско отступило. Они уходили всё дальше к лесу, увлекая за собой дружину московского князя. Победа казалась лёгкой. Разве это те татары, что предпочитали быть зарубленными на поле брани, чем отступить? Знал Василий и о том, что до сих пор в Орде господствует правило, когда убивают каждого десятого воина, покинувшего сражение. Значит, быть им убитыми в своём стане.
Не заметили русские ратники, как плавно изогнулся строй татар, пуская вглубь дружину князя, а потом из леса с криком «Алла!» выскочил отряд татар, чтобы окружить княжескую дружину, отрезать ей все пути к отступлению.
— Назад! Назад! — закричал великий князь, увидев манёвр Улу-Мухаммеда. — Поворачивайте обратно! — Но жеребец Василия, разгорячённый погоней, врезался в строй татар, продолжая увлекать дружину князя вперёд.
Рухнул под Прошкой конь, а точно брошенный аркан стянул ему шею, и он, хрипя, крикнул:
— Держись, князь! Держись!
Рядом с Василием рубился Иван Андреевич, зажатый со всех сторон татарами, но после каждого его удара на землю падал кто-нибудь из нападавших. Конь под ним вдруг пал на передние ноги, а Иван, путаясь в стременах, пытался подняться на ноги, и, не окажись рядом расторопного рынды, недосчитались бы русские ещё одного князя.
— Сапог! Сапог! — вертелся князь вокруг вскочившей лошади, пытаясь выдернуть из стремени застрявшую обувь. И, махнув рукой, босым вскочил в седло.
Увидел Василий, что с князя Михаила уже снимали аркан, крепко стянули за спиной руки и повели к лагерю, а он, истошно матерясь, поносил татарву. Только на миг засмотрелся Василий Васильевич и почувствовал, как острая боль ожгла плечо. Глянул государь на руку, а вместо кисти — кровавый обрубок. Превозмогая боль, перехватил князь булаву здоровой рукой, стал отмахиваться от наседавших татар. А потом конь упал под ударами сабель, подминая всадника под себя. Поднялся великий князь, осмотрелся. Гибли рядом последние рынды, пытаясь спасти государя от полона. Лишь один молодой телохранитель с окровавленным лицом сумел пробраться к Василию, соскочил с коня.
— Спеши, государь! Спеши! — кричал рында.
Жеребец вырывался, напуганный звоном железа и отчаянными криками, а рында упрямо тащил его к великому князю.
— Садись скорее, государь! — подставлял рында спину.
До коня путь недалёк, да кругом татары путь преграждают.
Здоровой рукой князь ухватил поводья, потянул к себе, ласково поглаживая жеребца. Рында вдруг споткнулся и, неловко пятясь, завалился на бок — из его спины торчала стрела.
— Спеши, государь... — только и промолвил он.
Напутанный конь вздёрнул голову, вырвав поводья из слабеющих пальцев князя, и поскакал в открытое поле.
Оглянулся великий князь, а рядом татарин в мохнатой шапке занёс руку с саблей над его головой. Прикрыл князь глаза, чтобы достойно принять смерть. Видно, степняк разглядел, что перед ним не простой воин, и в последний момент опустил саблю.
Кто-то грузный навалился на князя, крепко обхватил его руками, и Василий, не в силах сбросить с себя ношу, упал на стоптанную траву. Он успел лишь разглядеть среди лошадиных ног весёлый синий глаз василька, тот словно подмигивал ему: скрывался, а потом вдруг появлялся, потревоженный дуновением ветра.
И князя поглотила тьма.
Часть IV ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИЙ ПЛЕННИК
Когда Василий очнулся и открыл глаза, то увидел прямо над головой низкие своды, которые, казалось, грозили раздавить его, прижать к жёсткому ложу. Он удивился, что не было около ни коня, ни Прошки Пришельца. Тишь одна. Потолок давил на него всё сильнее, Василий почти почувствовал, как балки навалились на грудь, выдавливая из горла жалкий стон. И опять великий князь потерял сознание, провалился глубоко, в самую преисподнюю.
В себя Василий пришёл только через три дня, глянул государь на ладонь, а вместо пальцев жалкие обрубки, такие, что и трость теперь не удержать. Рядом женщина в белом, лица не видать — повязана платком. Наклонилась она над князем, и Василий разглядел её карие глаза. «Молодая девка, — подумал он. — Эдак годков осьмнадцать будет».
И тут государь вспомнил эти глаза. Выходит, это был не бред. Он помнил, как она приподнимала его отяжелевшую от долгой болезни голову своей хрупкой ладошкой и поила из кувшина каким-то мутным и горьким зельем. Такие глаза не могут присниться, их можно встретить только наяву.
— Лицо открой, — попросил Василий. — Я хочу посмотреть на тебя!
Девушка что-то произнесла по-татарски, а у самого изголовья раздался вдруг весёлый смех.
— Ай да Василий! Ай да князь! Узнаю, узнаю своего крестника!.. Так, кажется, это у вас на Руси называется? Едва на тот свет не отправился, а как воскрес, так девку соблазнять стал. Понравилась? Ладно, успеешь ещё, уступлю я тебе её. Поправляйся только.
Василий приподнял голову и увидел Улу-Мухаммеда. Казалось, хан не изменился совсем, может, только поседел чуток, а лицо сделалось как будто суше. Всё такой же большой и громогласный.
— Кто она такая, хан?
— Она из моего гарема и хорошая знахарка. Вот она тебя и выходила. Не будь её рядом, беседовать бы тебе сейчас с вашим Богом Христом.
— Где мои полки? Они разбиты? — спросил князь тихо.
Улу-Мухаммед развёл руками: походило на то, что он искренне сожалел о случившемся.
— Да, князь, разбиты...
— Выходит... я в плену?
— Ну что ты! Что ты, князь! — возмутился казанский хан. — Ты мой гость! Ты когда-то был моим гостем в Сарайчике в Золотой Орде, останешься им и сейчас. Я рад тебя видеть.
— Если я твой гость, хан, тогда пусти меня с миром.
— Иди, — просто отозвался хан.
Василий Васильевич попытался подняться, опёрся локтями о твёрдое ложе, но силы вдруг оставили его, и он упал на мохнатую подстилку.
Улу-Мухаммед смеялся, но его смех был беззлобным, так мог радоваться человек только с чистой совестью.
— Не печалься, князь, — утешал по-отечески Мухаммед. — Я не стану задерживать тебя долго. Как только ты поправишься, так тотчас можешь отправляться к себе. Сколько же мы с тобой не виделись, Василий? Десять лет? Одиннадцать?
— Двенадцать лет, хан...
— Двенадцать лет! А кажется, это было совсем недавно. Я помню тебя совсем мальчишкой, когда ты пришёл защищать московский стол от своего дяди Юрия. Теперь уже нет эмира Юрия, и тот мальчишка давно вырос. Сейчас передо мной воин! Знает Аллах, я часто вспоминал тебя! — И трудно было понять, что кроется за этими словами. — Хотя, поверь мне, Василий, у меня был повод, чтобы обижаться на тебя. Но я всё простил! Я просто рад видеть тебя в своём доме!
— А не лукавишь ли ты, хан? Твой ли это дом? — спросил великий князь. — Я узнаю эти места, мы находимся в Нижнем Новгороде, и келья, где ты сейчас сидишь, монашеская!
— Нет, ты не прав, князь! — мягко возразил Мухаммед. — Твои дружины оставили Нижний Новгород, и мне ничего не оставалось, как войти в него.
— Так же ты заходишь без приглашения и на окраинные русские земли.
— Оставим взаимные упрёки, князь, — слегка нахмурился Улу-Мухаммед. — Они ни к чему не приведут. Твои дружины тоже частенько нарушали мой покой. Ты укреплял моих врагов своими дружинами, когда я, как загнанный пёс, бегал от них по всей Орде, пытаясь отыскать хоть какое-нибудь пристанище! Помнишь, князь, я обращался и к тебе! — на мгновение в его глазах вспыхнула ярость, но хан тотчас улыбнулся, и снова Василий Васильевич увидел перед собой гостеприимного хозяина. — Оставим этот разговор, думаю, мы вернёмся к нему, когда ты поправишься совсем.
— Что стало с моими братьями?
Улу-Мухаммед опять улыбнулся.
— Они все мои гости! Только вот твой брат Иван отказался от моего гостеприимства и удрал от моих батыров босым на быстром скакуне. — Хан посмотрел на Василия, и князь разглядел в глазах Мухаммеда сожаление. — Очень жаль, что мы встретились здесь. Нам бы быть союзниками, а мы враждуем. Нам бы забавляться вместе на соколиных охотах, а мы друг друга упрёками обижаем. — И уже весело: — Думаю, князь, у нас будет с тобой время, чтобы потравить зверя и птицу побить, отдыхай у меня столько, сколько тебе вздумается! И без женской ласки ты не останешься, у меня такие красавицы есть, у тебя дух захватит! — смеялся Улу-Мухаммед. — И ещё ты должен благодарить меня, что я спас тебя от смерти. Мои лекари залечили одиннадцать твоих ран, и всё время ты находился между жизнью и смертью.
— Лучше бы они не делали этого... — прошептал Василий Васильевич.
— Полно тебе горевать, князь, ты ещё молод, жизнь твоя только начинается, — успокаивал казанский хан. — Когда-нибудь я тебе напомню эти слова, и ты согласишься со мной, скажешь, что был не прав.
Василий Васильевич лежал без рубахи. Улу-Мухаммед говорил правду — на теле кровоточили раны. И тут великий князь вскрикнул:
— Где мой нательный крест?
Это был крест, подаренный Василию отцом. Крест, который он никогда не снимал с себя. Крест, который оберегал его от всякой беды и нечистой силы.
— Стоит ли тебе так волноваться, князь Василий? — покачал головой Улу-Мухаммед. — Крест твой целёхонек. Когда ты был в беспамятстве, этот крестик мы с тебя сняли и отправили его в Москву к твоей матери, великой княгине Софье, и жене твоей, Марии. Пусть же знают, что ты живой и гостишь у меня в ханстве.
Не поразил Господь супостатов, когда они снимали с шеи государя крест-нательник, не покрылись их ладони волдырями, когда нечестивыми пальцами касались они святыни. Видно, сорвала чья-то рука с его шеи золотую цепь и припрятала дорогой трофей у пояса.
— Плач пойдёт по Руси, — прохрипел от горя великий князь. — Не бывало ещё такого, чтобы великие московские князья в полоне томились.
Ачисан во главе большого отряда всадников подъезжал к Москве. Было время утренней молитвы, и чистый колокольный звон разносился над городом, заставляя просыпаться московские посады, которые скоро наполнились голосами, раздались скрипы отворяемых ворот, и пастух, пощёлкивая кнутом, гнал стада на луга.
Ачисан разжал ладонь, на которой лежал крестик с распятым Христом. Бог укорял своего стража. Сейчас он казался мурзе тихим, словно ладонь сумела укротить его. Куда страшнее Иисус Христос выглядел на поле брани, перед самым сражением, когда русские полки разворачивали стяги. С полотен он строго смотрел на вражескую сторону. Было в этих глазах что-то такое, что подавляло волю, вгоняло в трепет. Но рядом незримо присутствовал Аллах, который был всюду: на небе, на земле, на воде, он не давал расслабиться, оберегал от искушения.
Ачисан сильно сжал ладонь и почувствовал, как острое распятие впилось в мякоть. Видно, русский Бог хочет досадить своему недругу. Мурза разжал ладонь и увидел, что крест слегка погнулся. «Ладно, хватит с него, пусть полежит пока за поясом», — Ачисан запрятал распятие.
Это было первое серьёзное поручение, которое Улу-Мухаммед доверил Ачисану. Почти испытание. Мурза Ачисан был сыном Тегини, и хан считался его дядей. Привязанность, которую Мухаммед Великий испытывал к своему молочному брату, понемногу распространилась и на его сына. Ачисан видел завистливые взгляды мурз, когда Улу-Мухаммед поманил его из толпы и, протянув крест, сказал:
— Скажешь боярам великого московского князя, что Василий у меня в плену. Пусть мать, жена и бояре собирают со всех своих земель для моего ханства богатый выкуп. Если же не согласятся... вместо письма я пришлю им в мешке голову Василия!
Ачисан понял, что это было высшим доверием хана. Мурзы, на которых он ещё вчера взирал со скрытым трепетом, лежали теперь у его ног. Он сделался доверенным лицом хана и больше не нуждался в поддержке отца. А когда Ачисан покидал ханские покои, увидел, как перед ним склоняются головы придворных мурз, словно мимо них проходил сам хан.
Ачисан, поддав пятками в бока коню, подъехал к Москве-реке, и копыта жеребца дробно застучали по доскам моста.
Вместо великого князя Москва встречала посла казанского хана Улу-Мухаммеда.
Великая княжна Софья оставалась в Москве правительницей.
Позавчера прибыл в Москву израненный Иван Андреевич Можайский, говорил, что татары разбили великого князя и что сам он едва не попал в плен, да жеребец под ним резвый оказался.
— А как же великий князь московский?! Как же Василий?! Как сын мой?! — в ужасе шептала великая княгиня, но этот шёпот напоминал скорее отчаянный крик, и Иван невольно поёжился.
— Не углядел, государыня! Видел только, что всех рынд его татары побили. Я к нему пробиваться стал, а моего коня татарин рубанул. Я успел заприметить напоследок, как он булавой отчаянно отбивался. Он да ещё Прошка Пришелец там был!
А теперь в Москву приехали послы Улу-Мухаммеда. Первое, что пришло на ум великой княгине: схватить супостатов, заковать да бросить в темницу. Но, подумав, Софья Витовтовна поостыла в своём гневе и соизволила выслушать послов.
Ачисан в сопровождении нескольких мурз явился сразу.
— Это крест твоего сына эмира Василия. — Ачисан разжал ладонь, и великая княгиня увидела золотую цепь с крестом-нательником, который принадлежал её сыну. Цепь была длинная, свешивалась с руки, и Ачисан намотал её на кривые пальцы. Крест, словно в такт биению её сердца, стал мерно раскачиваться.
Бояре молчали.
— Что вы желаете за этот крест? — спокойно спросила великая княгиня.
— Ничего, — просто отвечал Ачисан. — Это крест твоего сына, и Улу-Мухаммед, наш великий хан, возвращает его обратно. Ещё Улу-Мухаммед послал нас сказать, что твой сын Василий его пленник.
— Дай мне сюда крест! — потребовала великая княгиня.
Ачисан сделал шаг навстречу женщине и протянул ей золотую цепь. Софья Витовтовна взяла крест бережно и держала его будто хрупкий предмет. Она сразу заметила, что крест слегка погнут, может быть, это след от татарской сабли, которая сбила её сына с коня. Ещё совсем недавно золотая цепь обнимала шею её сына, а сейчас нашла покой в мягких ладонях матери.
— Мы исполним любую волю Улу-Мухаммеда, только чтобы великий московский князь был опять с нами, — проговорила Софья Витовтовна.
Скоро о печальном известии узнала вся Москва, а затем весть на чёрных крыльях разлетелась на все стороны. И через день о пленённом великом князе знали в Суздале, в Ярославле, в Великом Новгороде.
Случалось великим князьям проигрывать битву, бывало, спасались бегством, но чтобы московский князь попал в полон — произошло впервые. Московские колокола надрывались в великой скорби. Плач прошёл по Руси. Осиротела разом Русская земля. Хоть и раздирали её междоусобицы, но стоило беде перешагнуть ворота, как всякий почувствовал, что печаль вошла и в его дом. Лились слёзы на папертях и в церквах, во дворах и дворцах. А базары в эти дни сделались молчаливее и угрюмее — никто громогласно не звал к своему лотку, не выкрикивал приветствия, а милостыню в этот день нищие собирали большую, чем в обычные дни.
Пьяненько было в Москве и погано.
Великие княгини, Софья и Мария, молились неустанно в Успенском соборе и выпрашивали у Спасителя освобождение для своего господина.
Не умеет беда приходить в одиночку. И недели не прошло после пленения Василия, как вспыхнул в Москве двор боярина Семёнова. Пламя красным петухом высоко взметнулось к небу и прорвало чёрную бездну ночи. Огонь легко пожирал близлежащие строения, разбрасывал во все стороны колючие, жалящие искры. Затем, спалив высокий забор, вырвался на простор.
Улицы наполнились криками, мольбой о помощи. В свете пламени в боярских хоромах мелькнул тёмный силуэт, который тотчас скрыли клубы дыма.
— Боярин это! — орала челядь. — Боярин это! Видать, совсем очумел!
Так и сгинул боярин в чаду, а огонь, не унимаясь, прокладывал себе дорогу всё дальше к Кремлю. Скоро сгорела церковь Вознесения, огонь безжалостно расправился с монастырём Покрова-на-крови, едва не погубив сонных монахов. Огонь спалил в монастыре всё, не оставив ни деревца, только мурованая церковь, почерневшая от копоти и дыма, продолжала стоять.
— Монахи-то погорели! — сокрушался чёрный люд. — Святые старцы там были, идти не могли. Немощные. Видать, все в полыме сгинули!
Пожар не унимался два дня. Яростно, хищным зверем кидался на всё, что ещё не удалось вывезти. Закопчённые стены и груды камней остались на том месте, где ещё два дня назад высились величественные соборы.
Сгорела княжеская казна, уцелела только шкатулка Владимира Мономаха с Евангелием. Великая княгиня пришла на пепелище сгоревшей сокровищницы и, глядя на угли, обронила:
— Вот и всё... Теперь хоть по миру иди.
По миру великая княгиня не пошла: собрала внучат, кликнула невестку Марию и уехала из сожжённого города в Ростов Великий, где её должны были приветить палаты архиерея[42].
Москва выглядела сиротой, как мать, оставленная сыном, старая, обгорелая, без помощи и надежды на воскресение. Город умирал, и похоже было, что не сыщется той силы, которая смогла бы возродить уже умерший город.
Московиты, почерневшие от копоти и свалившегося горя, передавали друг другу слова великой княгини Софьи Витовтовны:
— В Ростов Великий, говорит, поеду. Там сына дожидаться стану. Неужто Ростову Великому первым городом на Руси быть? — обиде горожан не было границ. — Возвернуть её нужно было бы обратно, пускай себе в Москве сидит!
— Дмитрий-то Шемяка пробовал поворотить великую княгиню, так она его супостатом назвала и велела прочь с дороги убираться.
Палило солнце. Пахло дымом. Всюду валялась падаль, на которую в огромном количестве слетались стаи мух. Боялись, что может начаться мор.
Опустел город. Не стало прежних многоголосых базаров, и в то место, где ещё недавно весело гудела ярмарка, стаскивали истлевшие трупы, чтобы потом захоронить в Убогой яме.
Из бояр в Москве остались только Семёновы, всем семейством они ютились в неглубоком погребе, стащив туда и ценную рухлядь, которую успели спасти.
Москва пала сама, в один день, так гибнет в одночасье сильный зверь, сражённый охотником, или сгорает вековой дуб, подожжённый молнией. И вместо крепкого города стояли обугленные, почерневшие развалины.
Из стольного города Москва грозила превратиться в обычный удел. Не было в нём Василия Васильевича; спасаясь от пожара, выехали в Ростов Великий жена и мать великого князя, а Дмитрий Юрьевич Шемяка уже не мечтал о стольном посохе — отсиживался в своей вотчине. Чернь и та уходила от пепелища далеко за посады, где и строила избы.
Боярин Семёнов, поднявшись из погреба, который теперь служил ему домом, не узнавал прежнего великолепия: ни соборов, ни палат мурованых, горожане напоминали нищих — кафтаны на всех драные, а из прорех проглядывала почерневшая плоть.
— Захочешь восстановить стольную, так руки не послушаются, — выговорил он тихо. — Что же теперь дальше делать? Без государя мы остались, государыня уехала, а город теперь — яма помойная.
— А ты не стоял бы, боярин, — дерзко возразил мужчина в залатанном кафтане. Было видно, что он из мастеровых и не особенно привык ломать шапку перед знатью. Сам себе голова! Наступившая беда уровняла всех: господина и холопа. — Град надо строить заново.
Вот возвернутся татарове и то, что не сгорело, пограбят.
Боярин усмехнулся:
— Неужто ещё что-то не сгорело?
Мастеровой уже не слушал и, поравнявшись с мужиками, которые бестолково топтались около порушенных домов, озорно прокричал:
— Ну что, православные, совокупляться[43] нужно, чтобы град отстроить! Татарин у порога.
Было в его голосе что-то такое, что заставило прислушаться всех, даже боярин Семёнов завертел башкой.
— Что делать-то?
— Что делать, спрашиваешь? Сперва ворота нужно ставить, без них не бывать городу.
Выходило, мужики только и ждали этой команды — засуетились, усиленно заскребли пальцами затылки и повалили гурьбой за мастеровым. Он не оглядывался, знал: московиты поспешают за ним, опасаясь приотстать хоть на шаг.
Не прошло и часа, как из посадов повезли на подводах брёвна, застучали топоры, запели пилы, и мужики, напрягаясь, прилаживали сколоченные ворота к городским стенам.
— Как тебя звать-то? — спросил боярин мастерового.
— А тебе-то чего, боярин?.. Ладно, кличь Иваном. Рукавища-то закатал бы, пообдерёшь здесь, а одежонка у тебя дорогая.
И, уже забыв про боярина, взялся за топор, который с весёлым шумом снял с шершавого бревна вихрастую стружку. А рядом мужики крепили брёвна скобами и прикрепляли деревянные щиты к порушенным пробоинами зияющим стенам.
Был в этой общей работе такой азарт, который сумел вмиг сплотить всех. Город оживал. Видно, так понемногу воскресает человек после долгой и мучительной болезни. Сначала шевелит пальцами, потом делает попытку привстать с ложа, и вот уже первые нерешительные шаги. Москва разогнулась.
Казалось, не будет сил, чтобы вновь отстроить разрушенные соборы и стены. Слишком обезлюдели улицы сожжённого города. Чернь, пытавшуюся бросить раненый город, вылавливали, заковывали в железо, били нещадно кнутами.
Не прошло и полугода, как Москва зажила прежней жизнью.
Дмитрий Шемяка не выезжал из Углича. Прибыл гонец из Нижнего Новгорода, который сообщил, что казанский хан шлёт к нему своего посла мурзу Ачисана, и Шемяка, набравшись терпения, дожидался его в своей вотчине. Может, он везёт для него ярлык на великое княжение? Долго же пришлось ждать заветного плода, когда он наконец вызреет и упадёт. Москву уже, видно, не поднять, как чернь ни силится. Сам Господь велит Угличу быть стольным градом.
Было раннее утро, и солнце робко пробивалось через мутный мусковит в покои князя. Рядом сопела дворовая девка Настасья. Повстречал Дмитрий её неделю назад. Накатила на князя слабость, защемило сердце, когда увидел в реке стройное белое девичье тело. Ведь и княгиня когда-то была такой, а после рождения первенца разнесло её словно на дрожжах. Девка плескалась голышом, совсем не стыдясь своей наготы. Она и не догадывалась, с каким вниманием наблюдал за ней князь со своими рындами. И когда девка, словно русалка, вышла на берег и стала отжимать длинные косы, князь распорядился:
— Привести ко мне девку, хочу спросить — кто такая?
Девушка не успела и опомниться, как её, нагую, подхватили на руки двое дюжих молодцев и, весело гогоча и тиская, поставили перед князем. Дмитрий Юрьевич сидел на коне, подумав, решил спешиться перед красой и сделал шаг навстречу. Девка онемела от страха и стыда, заливалась краской и не пыталась даже вырваться. А князь-охальник, налюбовавшись на неё всласть, спросил хмуро:
— Кто ты?
— Девка я дворовая князя Ивана Андреевича Можайского.
— Хм... не дурна! А как здесь оказалась? Брат-то мой в уделе своём сидит.
— Боярин его меня в дорогу выпросил, вот с ним к тебе и едем.
— Стало быть, боярин Ваньки Можайского тебя при себе держит? — бесстыдно выпытывал князь, млея от сладостного желания и разглядывая её обнажённые и слегка полноватые ноги.
— Держит, — неохотно призналась князю девка.
Была она совсем молоденькая, глазищи огромные, синие, воззрилась на князя, и трудно было понять, что в них больше — страха или любопытства.
Девка была и в самом деле красива: через прозрачную кожу князь видел на руках тоненькие вены, а ноги длинные и крепкие. Она напоминала лёгкую быструю лань. Подстрелил, стало быть, её боярин.
И тут девка, видно, почувствовала свою власть над князем, перестала краснеть и стояла такая, как есть.
Князь вспомнил, что жена в сопровождении бояр и мамок уехала на богомолье и супружеская постель остыла. Насмотревшись вволю, он вяло обронил:
— Сорочку накинь. Во дворец ко мне поедешь... со мной будешь, пока жена с богомолья не вернётся.
За всю дорогу князь не обернулся ни разу, знал Дмитрий: младший из рынд, уступив красавице рыжего коня, шёл рядом, сжимая в руках повод. И, когда приехали на княжеский двор, а рынды расторопно подставляли под ноги скамейку, чтобы он мог спуститься, Дмитрий глянул на девку: «А хороша! Ой как хороша девка! Надо будет ей бусы подарить».
Князь протянул руки, и девка, доверчиво утонув в его объятиях, спустилась с коня.
О невинных забавах Дмитрия Юрьевича Большого знали все дворовые, не могло это укрыться и от княгини. Кто знает, очевидно, она и уехала на богомолье, чтобы замаливать мужнины грехи. Чтобы не жил он окаянным, самому-то ему недосуг!
— В покои мои пойдём, хозяйкой пока будешь. Эй, слуги! Налить мне вина и... Как тебя величать?
— Настасьей меня кличут, — стыдливо опустила глаза красавица.
— И для гостьи моей, для Настасьи.
Когда вино затуманило голову, князь подошёл к Настасье и стал медленно снимать с неё сарафан. Дмитрий ощущал, как под его руками трепетало, словно сердце перепуганной птицы, молодое упругое тело, томящееся от желания. Дмитрий видел девичью грудь с вишнёвыми сосками, длинную гибкую шею, а потом поднял девушку на руки и положил на супружеское ложе.
Князь тешился с Настасьей, забыв про то, что уже утро, а в сенях спозаранку его ожидают бояре. Постельничий только шипел, если кто начинал выказывать нетерпение:
— Негоже тревожить, пусть милуется.
Дмитрий давал себе короткий отдых и вновь любился с Настасьей. Страсть в нём вспыхивала тотчас, как только он видел её юное лицо, чувствовал под своими пальцами её ровную гладкую кожу. И она с закрытыми глазами благодарно отдавалась княжеской ласке. Ему хотелось ласкать её бесконечно, утомить в своих объятиях, прижаться губами к её груди, но вместо этого он слегка тронул её рукой и сказал:
— Подымайся, краса... Супружница моя с богомолья в спальню должна прийти. Хочешь у меня комнатной девкой быть? Постель тебе разрешу мне стелить.
Настя уже открыла глаза и, не стыдясь, отвечала:
— Хочу. Рядом хочу с тобой быть!
«Эх, ежели жёнка была бы поласковее да такая же щедрая на любовь, как этот несмышлёныш», — подумалось Шемяке. И он вдруг испытал к ней чувство, похожее на нежность:
— Ладно, поди во двор. В пристрое жить станешь.
Ачисан в сопровождении свиты уверенно пересёк княжеский двор и взошёл на красное крыльцо. Его приход был неожиданным для Шемяки, который ожидал мурзу только в полдень на следующий день. Князь не знал, что Ачисан, промучившись ночь от бессонницы, велел собираться в путь и уже к утру был в Угличе. Может быть, поэтому красное крыльцо оставалось пустым. Никто не встречал посла казанского хана с караваем хлеба, не гнули бояре шеи в сенях, выказывая тем самым своё почтение, не бегали по горницам озороватые девки, а по углам был сложен мусор.
Стража, стоявшая у крыльца, недоумённо переглянулась, а потом один из них, выставив вперёд бердыш, уверенно пробасил:
— Не велено беспокоить, мурза... как там тебя? Князь почивать изволит.
— А ну пошёл прочь! — раздался за спиной рынды властный голос, и на крыльцо выступил Дмитрий Юрьевич. — Кто так гостя встречает?! Ачисан, дорогой, друг мой любезный, проходи! Рад тебя видеть! Какой большой гость в Углич пожаловал! Чего стоишь?! — прикрикнул князь на оторопевшего стража, застывшего с бердышом на плече. — Шкуру медвежью под ноги князю! Негоже, чтобы такой большой гость свои ичиги о нашу дворовую грязь марал!
Молодец расторопно скрылся в тереме и скоро выбежал оттуда с огромной рыжей шкурой.
— Ступай, мурза! — бросил он её под ноги Ачисану.
Голова зверя, как живая: пасть оскалена, глаза-угольки злобно поглядывают на мурзу. Ачисан не спешил делать первый шаг. Русь — тот же медведь, повержена и сейчас лежит у ног хана, и пасть у неё так же раскрыта. Может быть, для того, чтобы ухватить покрепче! Мурза после некоторого раздумья ступил ичигами на мягкую шерсть зверя. Не укусил, только голова медведя, словно от явного неудовольствия, качнулась.
— Проходи, проходи, мурза! Самым дорогим гостем будешь.
Ачисан уверенно вошёл в хоромы князя.
— И ни слова о делах. Сначала я тебя накормлю, потом напою, потом девки мои для тебя спляшут. А может, ты развлечься желаешь? — лукаво подмигнул Дмитрий мурзе. — Так мы мигом! Я ведь не забыл, как ты меня в Орде принимал.
Это было год назад, Шемяка, не спросясь дозволения московского князя, выехал в Казань, где был принят Улу-Мухаммедом. Вот тогда и сошёлся с Ачисаном, а в знак особого расположения мурза разрешил гостю пользоваться гаремом.
— А хочешь, Ачисан, мы тебя здесь оженим? — весело продолжал князь. — Детишек заведёшь. Земли мы тебе дадим. Вон какие у нас просторы!
Но мурза повернулся и сказал:
— У Казани земли большие. Москва теперь улус хана.
Запнулся Дмитрий Юрьевич и, зыркнув зло на рынд, гаркнул:
— Ну чего стоите, рты пораззявили?! Кличьте дворовых девок, пусть столы наряжают!
Угощение было богатым. Мурза, охмелевший от обильного питья, облокотился на мягкие подушки, а девки, признав в молодом ордынце важного гостя, хихикали, прикрывая ладошками рот.
Дмитрий Шемяка, разомлев от выпитой медовухи, обнимал плечи Ачисана и хмельным голосом говорил:
— Выбирай девку, мурза! Выбирай быстрее! Ничего для гостя не пожалею!
— Вон ту! — ткнул пальцем Ачисан в Настю, которая расставляла блюда с мясом.
Поперхнулся князь, словно проглотил большой кусок, который так и остался в глотке, но через миг, уже совладев с собой, решил:
— Хорошо, Ачисан! Быть по-твоему. Девку в твои покои пошлю.
Желание князя Настя приняла покорно, так безропотно собака сносит побои хозяина.
— На любовь не скупись, — напоследок напутствовал Дмитрий. — Мурза — нужный для меня человек. От него зависит и великое московское княжение. А ежели что... не обижу!
Настасья, сняв перед дверью мурзы кокошник, простоволосая и босая, вошла в покои. Дмитрий перекрестился и сказал в раздумье:
— Прости мой окаянный грех. Господь, что девку на поругание ордынцу отдаю. Для великого княжения это надобно.
Мурза Ачисан гостил у князя недолго. Шемяка был неистощим: он устраивал для гостя всевозможные игрища, таскал с собой на соколиную охоту. Особенно по душе пришлась Ачисану забава с медведями, когда рассерженного зверя выпускали во двор с ловчими, вооружёнными одними ножами. Мурза визжал от удовольствия, когда зверь подминал под себя то одного, то другого охотника, норовил порвать сеть, отделявшую его от крикливой толпы.
— Медведей-то где ловите? — спрашивал мурза. — В Казань приеду, такую забаву устрою.
— В медвежьих местах кадки с медовухой выставляем, — рассказывал князь. — Зверь как налакается, так тут же спать ложится, ловчие его стерегут, а потом к терему на цепях ведут. А уже затем и к забавам готовят, — похвастался Дмитрий.
Вдруг лицо мурзы выразило озабоченность, и князь догадался, что сейчас Ачисан забыл о девках, которых бояре с избытком приводили в его покои, забыл и о медвежьих забавах. Шемяка догадался: разговор сейчас пойдёт о главном, из-за чего и прибыл ханский посол.
— Казанский хан, великий Улу-Мухаммед, желает видеть тебя великим князем, — наконец произнёс он.
Шемяка ничем не выдал своего волнения. Кажись, свершилось, вот он и великий стол! Только где теперь быть первому граду? Москва-то после пожара совсем обветшала. А может быть, в Угличе? Пригласить мастеровых из Пскова и Великого Новгорода, пусть выстроят мурованый дворец, стены вокруг детинца каменные поставят.
Мурза внимательно посмотрел на князя, ожидая увидеть в его лице перемену, и, заметив лёгкий румянец на скулах, с улыбкой продолжал:
— Но взамен ты должен будешь чтить Улу-Мухаммеда, казанского хана, как своего господина. И платить ему дань, как это было заведено ещё при Золотой Орде.
— Согласен, — прохрипел Шемяка. Во рту сделалось совсем сухо, и он, прикрикнув на девку, проходившую мимо, потребовал: — Вина подай! — И, когда девка протянула ему кувшин, полный до самых краёв, прильнул губами и долго не мог оторваться. А потом, бесстыдно хлопнув её по пышному заду, отправил прочь: — Крепкое вино. Ладно, ступай, толстозадая! — И, повернувшись к мурзе, добродушно оскалился в улыбке: — Да я для Улу-Мухаммеда всё, что угодно сделаю, только бы он не отступился он своих милостей! Ты, мурза, шепни своему хану, пусть придушит моего братца Василия где-нибудь у себя в тёмном углу. — Мурза поднял на князя удивлённые глаза, и Шемяка, догадавшись, что хватил лишку, добавил: — Сделали бы так, чтобы он на Москву не вернулся. Не было на Руси такого позора, чтобы великие московские князья в полоне томились.
Улу-Мухаммед смелый хан, но разве он посмеет отважиться лишить жизни Василия Васильевича? Если случится это, то забудутся на время на Руси прежние обиды, объединятся князья перед лицом общей беды, и кто знает, сумеет ли выстоять казанский хан.
Взгляды мурзы и князя встретились, каждый из них в эту минуту подумал об одном, и, стараясь сгладить собственную неловкость, Шемяка продолжал всё так же заговорщицки:
— Ачисан, но ведь великий князь и в дороге помереть может... Скажем, хворь на него какая-нибудь нападёт. А то запрятали бы его подалее да стерегли бы! Пока жив будет Васька, смута не иссякнет. И татар он не любит. Вспомни же, мурза, как Улу-Мухаммед просил приюта у Василия, когда был изгнан братьями? И что же ответил московский князь? Стал травить его по степи дружинами, как бездомного и безродного! А если бы хан ему в руки попался, думаешь, пожалел бы? Шкуру бы снял с живого!
Мурза не возражал. В словах князя одна правда. Впрочем, он только слуга Улу-Мухаммеда, и решать будет хан.
— Будешь любить Улу-Мухаммеда, он тебя отблагодарит, — обещал Ачисан, — и великое княжение тебе пожалует. Ладно, загостился я у тебя, завтра в Казань еду, — неожиданно решил Ачисан, — Ещё бы погостил, девки у тебя добрые и мягкие, да вот хан ждёт!
Дмитрий попробовал задержать князя ещё на день, на два, но тот только отмахивался:
— Нет, князь, ехать нужно.
И тогда Шемяка решил сказать главное, из-за чего так долго и старательно опекал важного мурзу, понимая, что щедрое гостеприимство должно быть отплачено сторицей.
— Мурза, я с тобой своего посла пошлю, дьяка Дубенского. Пускай он поклон от меня передаст хану Улу-Мухаммеду. Ну и ты бы за него постоял, Ачисан, а я в должниках оставаться не привык.
— Пускай едет.
— Эй, Яков! — позвал князь рынду. — Чего зенки вылупил?! Неси шапку с серебром, что я заготовил, подарок это мой мурзе Ачисану.
— Слушаюсь, князь.
Верзила затворил за собой дверь и воротился с большой шапкой, доверху наполненной серебром.
После таких подношений обещается особенно легко. Мурза утопил широкую ладонь в серебре, которое под его пальцами сладко зашуршало, и сказал:
— Расскажу я о твоей просьбе великому хану.
— Ещё, мурза, скажи, что рабом его стану, не пожалеет он о моей службе.
Когда мурза ушёл на татарский двор, Шемяка позвал к себе дьяка Дубенского.
— Скажешь хану: если он мне великое княжение московское передаст, то любую дань платить ему стану. Если девки ему нужны — будут! Таких доставим, каких он и не видывал! Сам будет тешиться, и мурзы его тоже. Скажи хану, что служить ему стану верно и кровь татарову никогда не пролью. Только пусть избавит меня от Василия! Если пожелает, могу клятву на кресте дать. Ноги Спасителю целовать буду в том, что слова своего не нарушу. Грамоту тебе писать не буду, так запомнишь.
Боюсь, в чужие руки попасть может, тогда сам погибнешь и мне печали лишней прибавишь.
Утром, с рассветом, Ачисан уезжал в Казань, а в обозе, удобно разместившись на свежем сене, ехал дьяк Дубенский.
— Привык я к тебе, Василий, ой как привык! — говорил Улу-Мухаммед. — Вот отпущу я тебя в Москву, так заскучаю сразу. Привязался я к тебе, словно к сыну. От своих детей совсем не отличаю. — Хан стиснул огромной рукой плечи Василия и продолжал: — А то оставайся у меня совсем, что тебе Москва?! Да и сгорела она! Мои послы говорят, и дома целого не осталось, даже камень рассыпался.
— Не впервой Москве сгорать, — угрюмо отвечал Василий. — Вновь построим.
Трапезная была пуста: только хан Мухаммед да его гость, великий князь московский. Они сидели рядом, как добрые старые друзья. Мухаммед умело играл роль хозяина и потчевал своего гостя кумысом.
— Ты пей, князь, — говорил хан Василию. — Пей, это наше хлебное вино. Ты не смотри, что оно из молока. Как напьёшься, так и подняться не сможешь.
Василий сделал несколько глотков и действительно почувствовал, как тело его налилось хмельной радостью. Великий князь спрашивал:
— Когда меня в Москву отпустишь, хан? Или надумал всю жизнь при себе держать?
Улу-Мухаммед внимательно посмотрел в хмельные глаза князя и отвечал:
— Разве тебе плохо у меня, Василий? Или я тебя обидел чем? Ты мой гость! И ни в чём не знаешь отказа. Может, тебя плохо кормят мои слуги? Или женщины, которые тебя ласкают, не так красивы?
— Мне не в чем тебя упрекнуть, Мухаммед, кроме одного — я не свободен! — возражал Василий. — Я не могу уйти к себе в отчину. А потом ты отправил посла к Шемяке. Или ты думаешь, что я так глуп и не узнаю об этом?
— Значит, ты уже знаешь? — Хан задумался. — Что ж, буду с тобой откровенен, Василий. Да, я действительно отправил одного из своих мурз в Углич. Для меня важно знать, кто из вас будет служить мне преданнее. Если Дмитрий сумеет убедить меня в этом, — Улу-Мухаммед развёл руками, — несмотря на нашу давнюю с тобой дружбу, великим князем будет он! Ты однажды разочаровал меня, Василий, и у меня есть серьёзный повод сомневаться. Но посол уже давно должен вернуться, а его всё ещё нет, и это меня очень тревожит. Возможно, твой двоюродный брат убил моего Ачисана для того, чтобы я расправился с тобой. Русские ведь любят убивать чужими руками, поднять руку на брата для них тяжкий грех, не так ли? — Мухаммед внимательно посмотрел в глаза князю. Даже не моргнул Василий, оставался спокойным. — Но я не поступлю так. Разве я смогу причинить зло моему гостю и другу? Ты останешься великим московским князем, только обещай мне, что за это ты окажешь мне маленькую услугу.
— Обещаю, — подумав, согласился Василий.
— Ты дашь мне выкуп в двести тысяч рублей! — сказал хан и замолчал, рассматривая лицо князя, которое вдруг сделалось суровым.
Двести тысяч рублей...
Никогда Москва не платила такой дани, не было такого разорения даже при Чингисхане. Если он безжалостно сжигал строптивые города и Русь всё более нищала, то другие правители действовали благоразумнее, понимая, что подъём Руси отразится и на их собственном благополучии. Разве сделается господин богаче, если отнимет у своего крестьянина плуг? Пусть он держит хозяйство, пусть оно крепнет, а потом можно и пощипывать, вот тогда и собственные запасы пополнятся.
А ведь кроме казанской дани остался ещё и ордынский выход. Не сбросила с себя Русь опеку чингисидов после того, как подставила голову под новое ярмо. Может, отказаться от великого княжения, стать простым князем, а Дмитрию Шемяке отдать великое московское княжение? Видно, так самому Господу угодно, что московские князья перед угличскими шапку ломают.
Но Василий Васильевич произнёс иное:
— Ты хочешь, хан, получить весь выкуп сразу?
— Ну что ты, князь Василий! Разве рубят дерево, которое должно принести вкусные и сочные плоды? — возразил Мухаммед. — Совсем нет, этот выкуп я согласен получать в течение двадцати лет. Но ты поклянись по своей вере, что Москва будет выплачивать дань, даже если тебя не станет!
— Крест-то мой твои послы забрали, — упрекнул хана Василий, распахивая ворот рубахи. — Грудь без креста погана!
— Хорошо, князь, будет тебе крест. Эй, ички! — позвал хан. И, когда в покои вошла стража, скомандовал: — Принесите мне голубой ларец, что стоит в спальной палате.
— Слушаюсь, господин, — не жалея спин, согнулись слуги.
Слуги вернулись через минуту, один из них держал в руках голубой ларец. Князь залюбовался: тонкая работа, тонкие плиточки бирюзы походили на кусочки неба.
— Достань оттуда крест.
Слуга осторожно, словно боялся пораниться о крышку, вытащил за золотую цепь распятие. На его лице отразилось презрение. Он словно боялся уколоться о края креста, как если бы они были начинены ядом.
Улу-Мухаммед смело взял крест и протянул распятие Василию.
— Тебе подойдёт этот крест?
— Чей он? — поинтересовался Василий.
Улу-Мухаммед понимающе закачал головой.
— Я знал, что ты спросишь меня об этом. Этот крест носил великий тверской князь Михаил, убитый вместе с братом в Золотой Орде. Вот смотри, — перевернул хан распятие. — На другой стороне выбито имя великого князя.
Действительно, это был крест великого князя Михаила. Вернулся к Василию крест из прошлого времени, как упрёк московским князьям. Нужно было пролежать ему столько лет в сокровищнице Золотой Орды, чтобы оказаться теперь на ладони московского князя. А разве не по жалобе московского князя Юрия убит князь тверской и великий князь владимирский Михаил Ярославович! И сейчас Василий Васильевич даст на кресте убитого клятву, которая прозвучит запоздалым раскаянием московских государей.
Но как же сняли этот крест ордынцы с тверского князя? Может, рука басурмана сорвала его с шеи князя Михаила, когда он лежал бездыханный, с пробитой грудью? Или, предчувствуя скорую кончину, снял крест сам, чтобы не запачкать его мученической кровью? А может, было всё иначе: крест в любовной страсти сняла с него одна из наложниц хана. Хан Узбек любил перед казнью князей присылать им женщин. Возможно, Михаил и сам оставил этот крест какой-нибудь юной прелестнице, чтобы она подольше не забывала его поцелуев, и уж только потом он перекочевал в ханскую сокровищницу?
Василий хотел спросить об этом у казанского хана, но сумел сдержаться.
Василий Васильевич взял крест, но не так брезгливо, как это делал ханский слуга, вытаскивая его из ларца, и не так безразлично, как держал его Улу-Мухаммед. Великий князь принял крест с должным почтением, ведь так следовало относиться к праху великомучеников, и так же заботливо, как отец берёт на руки своего первенца.
— Я готов дать клятву. — Великий князь надел крест на шею.
Вот так случилось, что крест примирил земли, которым через много лет суждено было стать единым великокняжеским государством. Кто знает, может, и мудр был Юрий, когда вёл спор с сильной Тверью за великое княжение, подчиняя своей власти князей послабее. И женился он на сестре хана Узбека только потому, чтобы обрести ещё большую власть. Смерть его от Дмитрия Тверского в Золотой Орде восприняли многие как освобождение. Непонятен был князь соседям: лопочет по-татарски; пьёт кумыс, как басурманин; не стыдился надевать татарский халат; ханских послов привечает, что братьев родных, а татарам отдаёт лучшие земли в кормление, вытесняя своих на худые поля.
«А разве сам ты теперь не похож на Юрия Даниловича? — думал Василий. — Дань обещаешь непосильную для Русской земли. Татар приведёшь за собой. Ну чем не супостат!»
Василий сжал подарок в руке, звенья цепочки разошлись, и крест мягко упал на ковёр.
Улу-Мухаммед поднял крест. Посмотрел на него, словно проверял: остался ли цел? И с улыбкой протянул его князю. Василий подметил, что не было теперь в его жестах той пренебрежительности, которая поначалу покоробила князя; держал хан теперь крест с суеверным почтением.
— Ты неосторожен, Василий, твой Бог тебе этого может не простить.
Василий взял крест и долго смотрел на распятого Христа. Бог скорбел и был печален. На концах перекладины слезинками блестели алмазы. Кажется, простил Христос своего раба. Василий аккуратно прикрепил крест к цепочке и повесил на шею, теперь-то уж он его не снимет.
Улу-Мухаммед терпеливо ждал. Ему не хотелось торопить великого князя: пусть эта клятва выйдет из сердца.
— Клянусь выплатить тебе выкуп в двести тысяч рублей и на том целую крест, — Василий уже поднёс крест, чтобы губами коснуться стоп Спаса, когда его остановило лёгкое прикосновение прохладных пальцев хана.
— Ещё не всё, князь... не торопись. С собой на Русь ты возьмёшь моих мурз, которые будут служить тебе при дворе, а старшему из моих сыновей, Касиму, отдашь в кормление город.
Губы Василия сжались, вот сейчас он отринет от себя крест и скажет: «Нет!» Но князь разомкнул уста, обещав и это:
— Клянусь исполнить всё в точности. Если же я нарушу клятву, гореть мне тогда во веки веков в геенне огненной. И призываю в свидетели моего Бога Иисуса Христа.
Потом он вытер губы рукавом, поцеловал крест и приложил его ко лбу, а потом к правому и левому глазу.
Рано в этот год наступила осень. Не пришла, а нагрянула! Была она столь же быстротечна, как и скороспелая весна. Не успел ветер ободрать с деревьев омертвелые листья, а уж и снег повалил хлопьями, и к Покрову Богородицы земля стала белой, что простыня под брачной ночью. Провожать великого князя вышел сам Улу-Мухаммед, его фигура возвышалась среди приближённых мурз. Он подошёл к Василию, обнял его за плечи. Хан прощался искренне и провожал не пленника, а дорогого гостя.
— Привык я к тебе, Василий, так и держал бы тебя здесь подле себя. Однако не могу, великое княжение тебя ждёт. Да и жена твоя тоскует!
— Да, хан, ждут меня в Москве.
— И ещё я тебе хочу сказать, Василий: от своих мурз я узнал, что великого княжения Шемяка будет добиваться. И на грамоты мои смотреть не станет. Многие князья и бояре его сторону примут.
Князь открыл рот, чтобы произнести слова благодарности, но застряли они в горле комом. Едва смог выдавить из себя:
— Прощай, хан... Дай Бог, не свидеться... — И поднёс беспалую ладонь ко лбу, трижды перекрестился.
Второй раз возвращался Василий Васильевич от Улу-Мухаммеда великим князем.
Лошади запряжены, возницы в который уже раз осматривали подпруги, заглядывали под телеги, проверяя оси перед дальней дорогой. А князь всё не возвращался, словно не хотел расставаться с землёй, на которой он стал пленником. Наконец Василий повернулся к Михаилу Андреевичу и сказал:
— Едем, князь... домой.
Кто уезжал не без грусти, так это князь Михаил Андреевич. Зацепила его за сердце юная татарка, с которой он проводил время в полоне. И сейчас, наблюдая в стороне за отъездом князя, она спрятала лицо, опасаясь показать слёзы, жгучие, горькие, подступившие к глазам.
Великий князь был отпущен с боярами, воинами и челядью. В знак особого расположения к своему гостю Улу-Мухаммед велел сопровождать князя доверенным мурзам. Татары ехали молча и держались по обе стороны от Василия. И эта ненавязчивость казанских уланов только напоминала ему, что он по-прежнему пленник.
— Эй, мурза, как там тебя? — окликнул Василий Васильевич улана. — Шёл бы ты со своими людьми обратно. Здесь меня никто не тронет, через день пути — Московия!
Улан Галям посмотрел на князя. Он не любил Василия, и куда радостнее для него было бы повстречать князя где-нибудь на поле брани, чем сопровождать его до самой Москвы. Но улан исполнял волю хана, которая для него священна, и потому неотступно ехал рядом, готовый ценой собственной жизни уберечь от беды великого князя. И в то же время Улу-Мухаммед велел исполнять волю Василия, как если бы это было сказано самим ханом. Ещё некоторое время он колебался, а потом, повернувшись к всадникам, прокричал:
— Едем обратно... в Казань! Князь Василий просит не тревожить его, до Москвы он доедет сам.
Улан даже не попрощался с князем — ударил стременами в бока жеребцу и, обдав Василия липкой грязью, поскакал в обратную дорогу.
— Тьфу ты, нечисть! — Василий Васильевич смахнул с лица комья грязи.
И долго ещё потом князь не мог отделаться от ощущения налипшей на лицо грязи — она, как смердящий плевок, который не вытравить и благовонным ладаном.
Михаил Андреевич, подгоняя коня, ехал впереди великого князя, повсюду сообщал благую весть об освобождении Василия Васильевича. Колокола радостно бились, встречая московского хозяина. Михаил спешил в Москву к великим княгиням, ненадолго останавливался, чтобы поменять коней, и, забывая про сон, ехал дальше. Под Дудимным монастырём Михаил Андреевич решил остановиться. Он не хотел беспокоить святых старцев и потому лагерь разбил под стенами.
С утра было морозно, замёрзли лужицы, тонкий ледок хрустел под ногами. Однако днём солнышко припекло, растопило лёд, и его капли крупными бриллиантами поблескивали на солнце. Шатёр у Михаила просторный.
крепкие обручи стягивали сукно, и порывы ветра разбивались о плотную ткань. Шатёр поставили на самом берегу, и он напоминал величавый струг, который резал серую, потемневшую по осени воду, а на высоком стержне трепетало знамя.
Внутри уже было прибрано: в углу иконка, под ней сундук, на который небрежно брошен великокняжеский дар — шуба бобровая. Князь Михаил подозвал боярского сына и, плюхнувшись на сундук, сунул под нос кожаный сапог, повелел строго:
— Снимай! Отоспаться хочу!
— Князь! — переступил порог шатра дьяк Иннокентий, вертлявый, словно маленькая собачонка, мужичок. — У монастыря дьяк Дубенский с Ачисаном!
Михаил Андреевич встрепенулся и, отстранившись от боярского сына, привстал:
— Чего они хотят? Спросил, что им надобно?
— Да по всему видать, от Дмитрия Шемяки к Улу-Мухаммеду торопятся.
— Татар-то много с ними?
— Малость! Может, всех и положим? А ежели что, монахи нам помогут.
— Ачисана не трогать, пускай едет в свою басурманову Орду. Покажи ему печать Улу-Мухаммеда, что Василий, как и прежде, великий князь московский. А дьяка Дубенского вязать и в шатёр ко мне! Да чтоб ни один татарин или наш обратно не повернул! Будут дерзить... мечом рубите!
Михаил Андреевич едва успел ополоснуть с дороги лицо, поменять рубаху, как рынды втолкнули в шатёр дьяка Дубенского. Он не желал идти, упирался, матерился нещадно, проклиная насильников, а стражи, взяв его за шиворот, лихо впихивали в шатёр. Губы дьяка были разбиты, из носа сочилась кровь.
— Кланяйся князю, негодник! Кланяйся! — как маленькая собачонка, гавкал рядом Иннокентий.
Дьяк рукавом размазал по лицу липкую кровь, и оттого лицо его показалось ещё более дерзким.
— Не холоп я твоему князю! У меня свой господин имеется, великий князь Дмитрий Юрьевич!
Рынды налегли на плечи непокорному дьяку, заставляя его склониться в ноги Михаилу. Довольно хмыкнув, князь велел поднять непокорного. Кровь смешалась с землёй и пуще перепачкала дьяка.
— Ответишь за самоуправство!.. — дерзко блеснул глазами дьяк. — Сполна ответишь, что слугу самого Дмитрия Юрьевича позоришь!
— Ушёл кто-нибудь? — поинтересовался Михаил.
— Один... В лес утёк. По всему видать, дворовый малый. Прыткий больно оказался, пока его вязали, двух наших успел заколоть. Погоню за ним отправили, да, наверное, уйдёт. Конь у него больно резвый!
Теперь понятно, почему Дубенский дерзок. Только ведь на Руси один московский князь — Василий Васильевич.
— Бить дьяка кнутом до тех пор, пока не скажет, с чем к Улу-Мухаммеду ехал! И отведите подалее от монастыря, орать будет. Мне да святым покой нужен.
С дьяка Дубенского сорвали портки, задрали до самой головы рубаху и привязали к бревну. Дьяк плакал от обиды и позора, глухо матерился, просил прикрыть наготу, пожалеть его и отпустить, но рынды оставались угрюмо молчаливыми.
— Поначалу я ударю! — взял у рынды кнут Иннокентий и, повертев его в руках, словно хотел убедиться, а достаточно ли крепко орудие для дьяковой спины, нанёс первый удар.
Ремень со свистом разрезал воздух и звонко опустился на обнажённую спину.
— Будешь говорить, сучье отродье?! Зачем к басурману в Орду ехал? Будешь говорить, проклятый, на что хана склонить хотел?! Будешь!.. Будешь!..
— Ведь запорешь же... Насмерть же запорешь, — выплёвывал кровавую слюну дьяк.
— Будешь говорить?! — в который раз поднимал руку с кнутом Иннокентий.
И от ударов кнутом кровь с исполосованной спины брызгала в разные стороны, пачкая кафтаны стоявших рядом стряпчих.
— Скажу... князь Дмитрий Юрьевич великого княжения московского просил... у хана Мухаммеда. Старшим братом на Руси хотел быть...
— Чего ещё желал Шемяка?! — орал Иннокентий в самое ухо страдальца. — Чего хотел?!
— Просил у Ачисана убить... великого князя в Орде. — Лицо дьяка посинело. По ногам пробежала судорога — Дубенский дёрнулся ещё раз и затих. Жизнь оставила его тело, которое ещё несколько минут назад было сильным.
— Помер, поди, — безразлично отметил Иннокентий, вытирая окровавленный кнут о траву. — Божья воля свершилась. Ежели угодил бы Христу, он бы его пожалел. Поделом! Вот как великого князя обманывать!
Иннокентий не заметил, что подошёл монах. Ряса на нём была ветхая, через её прорехи виднелось потемневшее тело. Чернец тронул за локоть дьяка и произнёс:
— Христианин ведь... Похоронить надобно. Ты иди, дьяк, а мы его отпоём и в землю уложим.
Вот наконец и Переяславль. Василий Васильевич подошёл к городу ночью. Спал город. Не слышно колокольного звона, не брехали в посаде злобные цепные псы. Великий князь показался себе чужаком в родной вотчине. Чем не тать, который пришёл на чужой двор под покровом ночи. Отсюда и до Москвы недалеко. В Переяславле Василия Васильевича должны ждать великие княгини да бояре.
Василий велел вознице остановиться, спрыгнул на схваченную ночным морозцем землю и долго смотрел на уснувший город. Вот когда и перекреститься можно. Это не басурмановы минареты. Вместо пальцев у князя теперь торчали короткие обрубки, и он свёл их вместе, насколько это было возможно, приложил к прохладному лбу.
— Спас ты меня, Господи... теперь убереги от ненависти.
Рынды скромно стояли в стороне, не решаясь прервать беседу великого князя с Богом. Они сопровождали князя всюду: на поле брани и в плену, были свидетелями его падения, когда, казалось, ничто не может поднять его из бездны. Однако отроки видели и расположение хана к своему пленнику. Улу-Мухаммед обращался с Василием как с равным. И вот сейчас они стали невольными свидетелями его слабости: князь крестился на купола и боялся ступить в родную вотчину.
Василий был молчалив и печален. Он не знал, как примет его народ, которого он вверг в ещё одну беду. Возможно, завтра никто не захочет снять перед ним шапку, а юродивые начнут тыкать в него перстами и вопить: «Царь-ирод вернулся! Царь-ирод вернулся!»
Ночь показалась Василию особенно зловещей — предтечей[44] к ещё большей беде.
Но когда Василий повернулся, рынды признали в нём прежнего великого князя — посуровело его лицо.
— Мы останемся здесь до утра, я не желаю тревожить город.
Переглянулись отроки: с каких это пор великий князь стал таким застенчивым. Прошка Пришелец (постаревший и осунувшийся в плену) разглядел в нерешительности князя нечто иное, прикрикнул на зазевавшихся рынд:
— Ну чего рты пораззявили?! Не слышали, что князь повелел?
Побросали овчинные тулупы отроки на телеги да спать завалились.
Утренняя служба была ранёхонько. Едва рассвело, а колокола уже торопили день, звонили радостно и настойчиво. Гости застучали в ворота. Заскрежетала цепь, и медленно, сдаваясь под усилиями стражей, поползла вверх чугунная решётка.
Дружина уже выстроилась в колонны и ожидала последнего слова великого князя, а он всё медлил и продолжал стоять у родных стен. Наконец он собрался, махнул рукой и проговорил:
— С Богом! Домой пора!
Тронулись телеги, заскрипели колеса, задвигались оси, а потом дружной дробью простучали по мосту.
— Кто такие?! — грозно окликнул въезжавших вратник.
И Прошка, отыгрываясь за долгое ожидание, обругал его и завопил:
— Неужто стяг княжеский не разглядел?! Великий князь Василий Васильевич домой возвращается! Покажет он ещё тебе!
— Мать честная! — охнул наверху, на башне, мужик и уже стыдливо, явно выпрашивая прощение, заговорил: — Да разве в темноте-то различишь, кто свой, кто чужой? Мы ворота охранять поставлены, вот и спрашиваем всякого. А вдруг тати какие наведаются, а то и татарва. — И, посмотрев на ордынцев, сопровождавших Василия Васильевича, добавил: — Мало ли!
— Ладно, — смилостивился Прошка. — Пошли с доброй вестью к великим княгиням. Скажи, Василий Васильевич вернулся!
Великую княгиню Софью Витовтовну и жену свою Марию Василий увидел сходящими с Красного крыльца. На матушке был белый платок и парчовое платье, Мария — в длинном сарафане, поверх надет короткий красный тулупчик, а на голове шапка меховая. Лестница была высокая, и матушка, поддерживаемая под руки боярынями, осторожно, носком сапожка, искала следующую ступень. А затем чередом степенно ступали бояре, словно на ветру раскачивались бобровые шапки.
— Пустите меня, — запротестовала матушка, — дайте же мне к сыну подойти.
Боярыни послушно, отступили в сторону, и Софья, обретя свободу, сделала самостоятельно шаг к Василию Васильевичу.
Сколько же раз он представлял эту встречу. Вспоминал Василий и дом-дворец, снилась Мария, но особенно щемила сердце дума о матушке, он видел её лицо: белый лоб, прорезанный морщинками, немного заострённый нос, круглый подбородок. Наверное, для дворни и бояр матушка была строгой, но Василий знал её ласковой и всегда всё прощающей.
— Василёк!.. Вернулся... — великая княгиня прижалась к груди сына, и Василий, позабыв о боли, гладил пальцами-обрубками её состарившееся лицо. Сейчас он был не великим князем московским, а мальчишкой, которому, для того чтобы укрыться от беды, нужно прикосновение ласковых материнских рук.
И, стараясь не задерживать взгляда на страшных ранах сына, великая княгиня утешала:
— Ничего, Василёк, ничего! Всё образуется, заступится за нас Господь. Главное, ты с нами. Иди... жёнушку обними, истосковалась она без тебя.
Хоть нелегка была любовь Василия, хоть и будоражила иной раз память о той первой, незабываемой ночке, проведённой с дочерью боярина Всеволожского, но думал князь о Марии всегда с теплотой. Хрупка жёнка, а вот сумела родить двух сыновей. Обнял Василий великую княгиню за плечи и тут же устыдился своей слабости — бояре ведь рядом!
— В дом иди... иди, Мария. Мне ещё с боярами поздороваться нужно.
— Здравствуйте, бояре-государи, — произнёс князь, когда великая княгиня покорно и гордо в сопровождении множества боярышень стала подниматься на Красное крыльцо.
В ответ услышал нестройное и радостное:
— Здравствуй, государь! Здравствуй, великий князь, с возвращением тебя!
Сказано это было так, словно вернулся Василий не из долгого плена, а пришёл с соколиной охоты, на которую отправился прошлым вечером.
— Москва-то как после пожара? Мне говорили, что всё сгорело.
— Что и говорить, беда! Строим, государь, всё сызнова строим. Стольная горела так, что каменья посыпались. В Москву приедешь, так ты её не узнаешь.
Устав от долгих речей, Василий Васильевич поднялся в хоромины, и бояре, сгрудившись у дверей, не решались переступить порог опочивальни, а так хотелось пойти с государем да посидеть рядком. Но Прошка Пришелец, бестия эдакая, тут как тут.
— Не видите, что ли? Устал государь! Покой ему нужен!
Ничего не берёт злыдня: великий князь в ранах весь, а ему только слегка рожу ободрало, да отощал малость, и всё такой же горластый, как и прежде. Повернулись бояре и пошли прочь.
Колокола отзвонили, кончилась заутреня, а великий князь всё молился и клал поклоны, будто наложил на себя епитимью. Он не услышал, как приоткрылась дверь и так же, тихо скрипя, затворилась. От раздумий его оторвал голос, который укорял:
— Скажи, князь, правду говорят, ты нашу землю татарам продал? Сколько же она стоит? Тридцать сребреников?
Оглянулся князь и словно совесть свою увидел: монах в длинной чёрной рясе стоит, под клобуком шальные глаза прячет. Бояр-то и на порог не пустила стража, а чернец аж в молельню ступил.
— Нет, не угадал, — отвечал великий князь, обернувшись к чернецу, и не хотелось подниматься с колен: разве с совестью разговаривают стоя: — Видит Бог, я не мог поступить иначе.
— Если бы ты остался только князем, тогда татары не пришли бы на нашу землю.
— Я не мог быть просто князем, когда и прадед, и дед, и отец мой — все были великими князьями. Москва первый город, почему же я должен быть вторым?! Мне бы никогда не простили этого греха мои дети и внуки мои. Я хотел для Москвы только добра, видит Бог!
А совесть не отступала, укоряла дальше:
— Москва не простит тебе, если ты не покаешься!
— Но я великий князь! Я могу каяться только перед Богом!
— Прежде всего ты раб Божий! Ты должен вернуться в Москву босым, сняв с себя шапку. И не пробирайся в город ночью, как это делают тати. Иди днём, чтобы каждый мог рассмотреть твоё страдание.
— Я князь великий!
— А ты думаешь, легко даётся раскаяние?! Умерь гордыню, вспомни Евангелие, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим на осле. Ты же всего лишь князь! — Это кричала совесть, и Василий зажал уши, чтобы не слышать её.
— Нет!
Чернец надвинул на самые глаза клобук и проговорил строго:
— Я-то добра тебе желаю. Вот поэтому хочу сказать, что в Москве зреет бунт! Если не сумеешь покаяться, не простит тебя народ!
— Стало быть, гонец перехвачен? — ещё сомневался Дмитрий Шемяка.
— Перехвачен, государь, — подхватил боярин Иван Ушатый. — Пороли его до тех пор, пока ябеду на тебя не вытянули. Не забудет тебе Васька такого, злопамятен очень.
Боярин Иван Ушатый был из угличских бояр. Детина огромного роста, с большими подвижными ушами. Казалось, они существовали сами по себе, отдельно от хозяина. Росли на голове эдакими неухоженными лопухами. Растёт этот сорняк на огородах, устремляясь ввысь и вширь, иссушивая культуры, посеянные рядом, и они по сравнению с ним кажутся почти карликовыми. Так и голова у Ивана Ушатого была маленькая, со злыми хитрющими глазёнками, которые, казалось, видели человека до самого нутра. Вот за эти уши и прозвали Ивана Шувалова Ушатым. В молодости его считали первым забиякой, и не было ему равных в кулачных боях. Кулаки как молот; грудь — наковальня, не каждый и выдерживал поединков с ним, удивлял Ушатый своих сверстников недюжинной силой, а суеверных старух вводил в страх. Нет-нет да и перекрестится иная нищенка, сидя у церкви, глядя на широченную спину детины.
Разве молено не заметить такого мужа? А если он ко всему и речист и в застолье весел? Вот и приблизил Шемяка Ушатого к себе, из окольничих в бояре вывел.
Призадумался Дмитрий.
— А что делать посоветуешь?
— Народ скликать нужно. Звать против воли великого князя. Так и сказать им: если он нас татарам продал, не место ему на московском столе.
— Что ж, так тому и случиться.
Дмитрий Шемяка уснул не сразу. Поначалу позвал в трапезную гусельников, а когда пресытился томными голосами старцев, захотелось быстрого веселья — и трапезная наполнилась плясунами, которые неистово вертелись перед князем под удары бубна и барабанов. Но Дмитрий не пьянел, как голь уличная неистовствовал вместе с разудалыми скоморохами — водил хоровод, кувыркался через голову, скакал козлом по комнате. И когда наконец хмель сумел взять своё — тело расслабилось, и веки сами собой стали смыкаться. Шемяка сделал над собой усилие — разогнал всех и лёг на сундук. Но едва прилёг князь, как сундук заскользил по палатам, потом вдруг мелко застучал коваными краями о дощатый пол и, подобно необъезженному скакуну, подпрыгнул вверх, скидывая на пол своего именитого наездника.
— Ну и перебрал же я нынче, — почёсывал Дмитрий Юрьевич ушибленный лоб и, бросив овчину на крышку сундука, скоро забылся в сладостном сне.
Утро князь проспал. Наверняка не поднялся бы и к полудню, если бы боярин Ушатый не растолкал своего господина:
— Князь Дмитрий, вставай! Знамение было!
— Что за знамение? — буркнул князь, явно не желая просыпаться.
— Земля нынче ночью тряслась! Церковь Богоявления порушилась, а на Успенском соборе трещины по всем стенам. Это Господь даёт нам знать, чтобы не принимали мы Ваську в Москву, а гнали бы его, супостата, обратно к татарам.
Дмитрий уже пробудился совсем, застегнул кафтан, надел на голову шапку. Вот как! Значит, не приснился прыгающий сундук. Прыгал, стало быть, он!
— Сундук к стене подвинь! — ткнул пальцем на своё ложе Дмитрий и вышел из горницы.
Ещё пахло в городе свежеструганым деревом от только что отстроенных домов и лабазов, а базар по-прежнему был говорлив и богат. Новость, что в Москву едет великий князь московский, растревожила всех, и народ разноголосо гудел, проклиная пленение великого князя.
— Пусть назад убирается, супостат! — задорно орали купцы. — Теперь ещё и казанцы с нас дань запросят!
Даже холопы великого князя, люди вольные, понимали, что огромная дань задавит их.
— Девок татарове захотят с каждого двора! Мало им полона!
А тут ещё и князь Дмитрий Юрьевич к людям вышел. Проклинал Василия, псом его называл смердящим. Народ бунтовал, и выходило, что стольный город принадлежит Дмитрию Юрьевичу, а не его старшему брату.
Дмитрий, встав на бочку, орал прямо в толпу:
— Продал нас великий князь! Продал, как дворовых людишек! А мы люди вольные! Землю нашу Василий отдал татарам и в Москву их зовёт! Мещёрским городком сын казанского хана управлять будет! А сам Улу-Мухаммед в Москве сядет! Мало того, что татарове дань непосильную для нас просят, так им ещё и земли подавай! Люди, неужели вы такого князя пожелаете?!
— Не хотим!
— Тебя хотим, Дмитрий Юрьевич! Тебя хотим видеть на московском столе!
— Не пустим Василия в город. Пускай назад к татарам возвращается!
— Нечего ему было из полона уходить, пускай себе там и остаётся! — подхватывали другие.
— Братья! — срывающимся басом кричал Дмитрий. — То не я говорю, то Господь за меня молвит!.. Ночью сегодня земля тряслась, и она, родимая, не хочет Василия-супостата принимать! То сигнал нам Божий был! Знамение! Если мы Василия на Москву примем, то останемся без веры, Господь все церкви повалит, негде будет замаливать грехи. Неужели вы этого желаете, православные?!
— Запрём ворота и не пустим царя-ирода!
— Наш князь Дмитрий Юрьевич! — надрывались в толпе. — На московский стол хотим Дмитрия Большого!
Только за торговыми рядами кто-то пытался защитить Василия Васильевича:
— Не служили мы галицким и угличским князьям! Мы люди великого московского князя! Только перед ним нам и ответ держать!
— Взашей его! Взашей этого смутьяна с базара! — заорали вокруг.
Так и вытолкали строптивого с базарной площади, откуда голоса его поганого и не услыхать.
Дмитрий Шемяка ушёл, а боярин Ушатый ещё долго бродил в толпе и науськивал на великого князя:
— Золотоордынцам дань даём? Даём! А теперь Васька вернётся, так ещё и казанцам дань платить станем! Неужели этого хотите, православные? Если великого князя принять не захотим, глядишь, на одно ярмо меньше тянуть станем. А там и ордынцам хребет перебьём!
Мужики дружно поддакивали, но думали о другом: не было ещё в стольном граде такого, чтобы московиты своего князя не приняли. Приходил он с победой — его ждали и встречали праздничным трезвоном, возвращался с поля брани битый — колокола печально звонили. Москва была его вотчиной, в которую он возвращался для того, чтобы отлежаться, как это делает затравленный псами медведь; да ещё для того, чтобы собрать рать вновь и дать обидчику сдачи. Москва — это не своевольный Господин Великий Новгород, которому и сам московский князь не указ. Захотели новгородцы — приняли на княжение, захотели — выперли из города. А этот сход больше напоминал новгородское вече, которое вынесло князю суровый приговор.
Первый раз такое было — вошёл московский князь в город, а колокола стыдливо молчали. И не потому, что московиты затаили на государя обиду, просто не смогли узнать его среди многих нищих, которые, как и обычно, к обедне приходили из посадов к Благовещенскому собору.
Василий Васильевич шёл без шапки, с растрёпанными волосами, босой, поднимая избитыми о камни ногами серую дорожную пыль. Шёл смиренно, с покорностью, на какую способен только схимник или большой грешник. «Если хочешь быть великим, то должен пройти и через унижение, — вспоминал князь слова монаха. — Если сам Иисус Христос в Иерусалим въезжал на осле, так почему великому князю не войти в город пешком?»
За великим князем ступали бояре, некогда горделивые, а теперь побитые и униженные, как и сам князь. На лицах ни спеси, ни злобы — боль одна да раскаяние!
— Князь это великий! Василий Васильевич! — зашептались вокруг.
— Епитимью на себя наложил за плен басурманов!
Город ждал князя-иуду, а встретил князя-страдальца.
Великий князь шапку никогда не снимал, а сейчас, позоря свою голову, повинным входил в Кремль.
— Князь великий! Василий Васильевич! — толпа расступалась перед ним.
Василий шёл через людской коридор к своему дворцу.
— Что рты пораззявили?! В ноги князю! В ноги кланяйтесь! — закричал юродивый.
И народ, словно пробудившись ото сна, упал на колени, не смея посмотреть государю в глаза. Если великий князь идёт босиком, то почему черни стоять в рост? Так и прошёл Василий до своих палат, не встретившись ни с кем взглядом.
Колокола зазвонили, приветствуя великого князя, и долго ещё звонарь тревожил Кремль радостным перезвоном — великий князь вернулся!
Зима. Зябко. Студёный ветер пробирал до костей. Бесстыдно залезал под овчинный тулуп, бросал колючие комья снега за шиворот и морозил, морозил.
Боярин Ушатый поднял воротник, уткнул нос в бараний мех. И надо же было в такую студёную погоду выезжать! Да кто мог знать! Кажись, ещё утром теплее было, даже солнышко вышло, и на тебе, пурга какая!
Боярин постучал по замерзшим бокам рукавицами, стараясь разогнать кровь, повозился в санях, и полозья, словно прося пощады, заскрипели под его тяжёлым телом.
Возничему мороз был нипочём: он весело управлял возком, лихо погонял вороного жеребца, с разгорячённой спины которого шёл клубами пар, и всю долгую дорогу напевал под нос какую-то воровскую песню. Ушатый терялся в догадках — что это? Завывание ветра или очередная песнь удалого возничего?
Боярин Иван Ушатый торопился к Борису Тверскому, и до Твери оставалось ещё добрых вёрст двадцать, когда ось с хрустом надломилась и, царапая слежавшийся снег, острой пикой упёрлась в сугроб, опрокидывая на снег возок.
— Тьфу ты! — отплёвывался от снега Иван Ушатый. — Что ты, дура, на дорогу не мог посмотреть! Вот вернёмся, розог получишь! — щедро пообещал он.
— Руку! Руку, боярин, подай, — виновато просил возничий, пытаясь вытащить Ушатого из сугроба.
Боярин Ушатый барахтался, пробовал выползти на дорогу, но увязал ещё глубже. «Грамота! — И рука мгновенно юркнула за пазуху. — Фу-ты, нечистая сила! Кажись, целёхонька. Было бы тогда от князя».
— Вот смотри ты у меня! — опять начал сердиться Ушатый. — До дома только доберёмся, а там непременно розог отведаешь!
Боярин чувствовал, как попавший за шиворот снег растаял и холодными, липкими струйками сбегал по спине, добирался до живота.
— Всю морду из-за тебя ободрал! — ругался боярин, а возничий виновато топтался на снегу, пытаясь ухватить Ушатого половчее за широкий ворот. Шапка боярина отлетела далеко в сторону и была похожа на ведро, торчащее из-под снега.
Наконец Иван Ушатый выбрался на утоптанный снег, а возница суетливо бегал подле, стряхивая с него белые комья:
— Ты уж постой, батюшка, постой! Я с тебя снег спахну. — И нежно, будто поглаживал холёную лошадку, сбивал налипший снег с сытой задницы своего господина. — Шапчонка-то твоя не помялась, как есть новая, — бережно подал он бобровую шапку.
— Как теперь? Не доедешь ведь! — ворчал боярин. — Пешком, что ли, до Твери топать?
— Почему же пешком, боярин? Лошадка вон стоит, дожидается. Ты верхом, а я уж как-нибудь доберусь. Эка невидаль, двадцать вёрст! Доберусь! От свата, помню, добирался, двадцать пять вёрст шёл.
— Околеешь ведь. Вон стужа какая! Ладно, ко мне коня, отсюдова недалече деревенька есть, сани попросим, а потом и дальше в путь.
— Хорошо, боярин. Хорошо, я мигом! — весело суетился возница. — Ступай на спину. Ничего, я удержу, это я с виду такой хлипкий, а сам я крепок!
Боярин, подобрав шубу, осторожно наступил на узкую спину возницы, словно пробуя её на крепость, как рыбак пробует дно лодки, стоящей в воде, а потом закинул ногу на вороного.
— Коня держи, коня! Уйдёт ведь! — серчал Ушатый.
— А я держу, боярин, он подле меня, шагу не ступит!
— Тьфу ты, чёрт! В сугроб опять едва не опрокинул! Ладно, поспешай давай!
Иван Ушатый легонько пнул коня, и вороной, как танцор перед девками, осторожно и грациозно поднял ногу, решаясь на первый шаг.
— А я поспешаю, боярин, поспешаю! — глубоко проваливаясь в рыхлый снег, говорил возница.
Деревенька с чёрными закопчёнными трубами оказалась неподалёку — версту проехать. Ушатый остановил жеребца около крепкого сруба с большим двором и крепкими воротами. Стукнув кулаком в дверь, заорал:
—Эй, хозяин! Гостей встречай!
Забрехала хрипло собака и враз умолкла, пристыженная громким окриком. Кто-то уверенно распоряжался во дворе:
— Ну, что пасть раззявил?! Иди открывай! Не слышишь, гость к нам!
Вслед за этим брякнул засов, нарушив ржавым скрежетом морозную тишь, и дверь отворилась.
— Мать моя! — хлопнул рукавицами молоденький паренёк. — Никак ли боярин к нам! Батя, боярин к нам! Проходь, боярин, проходь. Застыл небось на морозе?
Из-за спины парня выплыл мужик с широченной, в полгруди, бородой.
— Чей холоп? — ступил во двор боярин.
Мужик поклонился боярину, в густой бороде искрились снежинки, которые тотчас растаяли, превратившись в блестящие капельки.
— А мы не холопы, — достойно отвечал мужик, — мы люди великого князя. Ему и служим. Что встал?! — крикнул мужик на отрока, который, очевидно, приходился ему сыном. — Прими шубейку у боярина.
Ушатый с возницей вошли в сени. В доме было натоплено, по всему видать, хозяин дров не жалел, в просторной горнице уютно потрескивала лучина.
— Прошу, батюшка, проходи, — в самые ноги поклонилась боярину хозяйка — баба лет тридцати пяти.
— Хлеб на стол и молоко, — уверенно распоряжался хозяин дома. Было видно, что здесь его слово — закон.
Стол быстро накрыли: поставили щи, пироги, в блюдах квашеную капусту, в крынках — молоко, сметану.
Боярин почувствовал, что в дороге проголодался изрядно и, благословясь, взял ложку, не спеша стал хлебать наваристые щи.
— Как тебя звать-то? — спросил боярин, слизывая с губ приставшую капусту.
— Георгием.
— А по отчеству как величать?
— Иванович... — крякнул от удовольствия мужик.
— Баба твоя вкусные щи готовит, Георгий Иванович. — Боярин отправил в рот очередную ложку горячих щей.
— На то она мастерица, — заулыбался Георгий Иванович. — Бабу-то, как коня, выбирать нужно. Присмотришься поначалу, какая она хозяйка. Ежели хорошо готовит, выходит, и хозяйкой доброй будет.
— А князя своего любишь? — вдруг неожиданно поинтересовался Иван Ушатый, макая ломоть хлеба в густую сметану.
— Князя-то... Василия Васильевича? — переспросил Георгий Иванович и замолчал, глубоко задумавшись: было видно, что вопрос этот для него не праздный и требовал сосредоточенности. — Господин он мне. Мы чернь, — что псы, своему хозяину должны быть верны. А любовь — это дело бабье!
Ушатый доел щи, совсем по-мужицки облизал ложку и бросил её на стол. Она радостно заплясала и успокоилась под ласковой ладонью хозяйки. Боярин взял стакан кислого вина и выпил его до донышка.
Разговор получался любопытный. Мужик не из простых, с хитрецой, тем интереснее с ним беседовать.
— А воевать-то за великого князя пожелаешь?
— Пойдёшь, куда денешься, — вздохнул мужик. — Только это не от большой любви, оторвут от сохи — и в дружину. Здесь у нас всюду поговаривают, будто бы великий князь всю Русь татарам отдал. Хану казанскому — Москву! И не припомнить ведь такого, чтобы великий князь в полоне был. Может, он там и басурманову веру принял? А кто знает! И теперь уже трудно сказать, чьи же мы холопы — великого князя или басурмана казанского. И ладно бы только эта беда, так ведь князья норовят и между собой побраниться. А ведь братья! В народе как говорят? Если брата любишь, то и Бога любишь. Стало быть, не чтят князья Бога, ежели друг на дружку войной идут.
Боярин Ушатый хмыкнул, трудно было возражать этой мужицкой правде, и не только потому, что состояла она из простых и понятных слов, подогнана и прочна, как брёвна в добротном срубе, но ещё и потому, что вёз он князю тверскому от Дмитрия Шемяки послание. И быть может, завтра этому мужику предстоит встать под знамёна.
А мужик меж тем продолжал:
— И я, бывает, бранюсь с братьями. Старший я среди них. Шестеро нас. Бывало, по молодости и лупили друг дружку. Что поделаешь, у каждого своя правда. Но чтобы вот так, как князья, друг на друга с оружием... ни в жисть! Вот хоромины я выстроил. Кто мне помогал? Братья! И я, конечно, чем смогу, тем и отплачу за добро. А у князей всё по-иному выходит — чем больше один другому досадил, тем и радость полнее.
— Может, ты и прав, — неожиданно для себя согласился с мужиком Ушатый.
Вот ведь как бывает — знакомы едва и неровня совсем, а слова мужика пришлись по сердцу.
Боярин Ушатый достал кошелёк, положил на стол две полтины и сказал:
— Вот тебе за обед... лошадь купишь. Только у меня просьба к тебе есть.
—Какая, боярин?
— Сани нам нужны, а наши в версте отсюда поломанными остались. Потом приволокёшь, починишь и себе забрать можешь.
Мужик весело подкинул на ладони монеты. Подарок его не удивил, было видно, что деньги у него водились.
— Хоть десяток подвод могу дать, боярин. Эй, дурень, где ты там? — позвал он сына, который тотчас высунул белобрысую башку на отцовский окрик. — Помоги боярину со двора выехать.
Пурга ослабла, и выпавший снег тихо поскрипывал под сапогами Ушатого.
Возница и хозяйский сын суетливо запрягали боярину коня.
— Ось посмотри, — махнул рукой боярин, — не разлетелась бы.
— Сейчас, батюшка, — отозвался возница.
Хозяин только хмыкнул:
— У меня не разлетится... А тебе чего надо? — прикрикнул он на жену, которая, кутаясь в платок, вышла вслед за мужем. — В дом иди! Избу выстудишь.
Как ни коротка дорога до князя тверского, а боярин продрог изрядно, и, когда впереди показались хоромины князя, Ушатый облегчённо вздохнул:
— Ну и дорога! Едва живым добрался.
Никто не встречал боярина Ивана Ушатого на красном крыльце — гость он был обыкновенный.
Иван Ушатый сбил о крыльцо с сапог налипший снег и, толкнув тяжёлую дверь, гаркнул:
— Хозяин! Князь Борис! Где ты там?! Шубу с плеч примите. — Уверенно скинул он одежду на руки челяди и из сеней перешагнул в горницу.
Борис Тверской сидел подле окна. В горнице был полумрак, и глубокая тень легла на скулы князя. Сейчас Борис выглядел старше своих лет и походил на монаха в келье — та же скромность в княжеских покоях да и в одеянии самого князя.
Князь, видно, захворал — парил костистые ноги в глубокой шайке. Пар густо поднимался кверху, скрывая фигуру князя, и тогда казалось, что голова и ноги существовали сами по себе: вот чихнул князь, и из облака показалась правая рука и почесала левое колено. Потом князь вытащил ногу из воды и долго рассматривал жёлтую пятку.
Мокрая от обильного пара, рыхлозадая девка мяла пальцы князю и приговаривала:
— Застыла кровушка! Вот сейчас мы её по жилочкам и разгоним. Ой, тепло будет князю, — говорила она так, словно вела беседу не с князем, а с дитяткой-несмышлёнышем. Борис только улыбался, показывая свои крепкие зубы.
Ласка девки ему была приятна, и он щурился, словно кот на печи. А девка не жалела своих рук, норовила князю сделать поприятнее — мяла его пальцы в своих толстых ладонях, подливала в шайку горячей воды и снова растирала ступни.
Боярин Ушатый стоял в дверях, не решаясь оторвать дворовую девку от священнодействия, а она, видно чувствуя, что на время приобрела над князем власть, нежно ворковала:
— Ноженьку подними, князь. Вот так, а теперь мы ещё здесь попарим... Вот так, князь...
Наконец Борис соизволил заметить Ивана Ушатого.
— Чай, не к холопу заходишь. Шапку сними! Эй, стольники, примите у боярина шапку, — хмуро распорядился князь.
Нерасторопные были у тверского князя стольники, нехотя приняли шапку, отнесли в сени. Оно и понятно — не по чину им у чужих бояр шубы да шапки принимать, другое дело — князь! А так, боярин, да ещё угличский. Видали мы таких!
— Неласково ты принимаешь гостей, князь. Неласково, — потёр озябшие руки боярин.
— С чего мне ласковым быть? Поди, супостату служишь... Дмитрию Шемяке. Князь Василий Васильевич в полоне был, так он сразу стол московский занял и слезать с него не хотел. Великим князем московским себя видел, нам свои грамоты поганые посылал. Вздумал меня учить!
— Зря обижаешь Дмитрия, князь Борис. — Иван Ушатый понимал, что разговор не стоит начинать с ругани. Вот баба его сейчас подлечит, тогда он и отойдёт душой, сговорчивее сделается. — Если он и сел на Москву, то только потому, что Василий в плену был.
— Всех под себя подмять хочет, — не унимался Борис, не дошла до него ещё бабья ласка. — А нас, тверичей, вообще своими холопами считает. Два города на Руси всегда первыми были — Москва и Тверь!
Прорвалась в князе давняя обида: если бы не московские князья, был бы город Тверь стольным!
Иван Ушатый сел на лавку, она заскрипела под его тяжестью, вот сейчас-то самое время поговорить о главном.
— Я к тебе от Дмитрия Юрьевича с грамотой пришёл, прочти... А потом слово своё скажешь. — Ушатый засунул руку глубоко за рубаху, извлекая оттуда грамоту для князя.
Борис развернул свиток.
— Ишь ты! Понаписал! А говорили, будто бы Шемяка грамоте не обучен. Из чернецов кто помогал?
— Может, и из чернецов... Ты читай, князь, там про всё написано.
Борис скривил лицо, и от этого тени на скулах сделались ещё глубже. Читал князь внимательно, и боярин следил за его глазами, которые становились всё серьёзнее, а когда наконец Борис одолел грамоту, боярин Ушатый не выдержал, первый заговорил:
— Что скажешь, князь?
— Стало быть, и суздальские князья тоже за Дмитрием пошли?
Борис Александрович сразу спросил о главном: Суздаль — давний враг Москвы. Как не помнить, что Нижний Новгород поначалу был за Суздаль — и здесь Москва удельных князей обидела.
— Как им не вступиться за Дмитрия Юрьевича, если он суздальским князьям обратно старую вотчину передаёт, а кроме того, ещё Городец и Вятку.
— И всё даром? Не похоже это на Дмитрия, — хмыкнул князь тверской Борис.
— Почему же даром? Нет! — отвечал боярин. — Суздальские князья его старшим братом обещали звать. Соглашайся, Борис, один можешь остаться. Хоть ты и великий князь, но тверской! С московскими князьями тебе не тягаться. Подомнёт тебя Васька под себя, а Дмитрий Юрьевич прежние вольницы уделам обещает. Иван Андреевич Можайский и Михаил Андреевич Белозерский тоже нашу сторону приняли. — Ушатый помолчал немного, а потом продолжил: — До тебя я не сразу добрался — ось сломалась! Так вот, я к одному хозяину заехал, а он меня спрашивает: «Правду говорят, что Василий Васильевич казанскому хану Московское княжество отдал?» Вот такой слух по Руси бродит.
— И что же ты ему на это ответил?
— А что тут ответишь?! Разве не он привёл супостатов на нашу землю? Ходят по стольному граду в своих мохнатых шапках, как у себя в улусах! Отдал им Васька в кормление деревни наши, а Мещёрский Городок, где Александр Невский схоронен, ханскому сыну Касиму достался. Так в народе и стали его Касимовым величать. А где мощи Александра Невского покоились, теперь там мечеть стоит. Вот так-то, князь! Решайся, потом поздно будет. Вся земля теперь Русская за Дмитрием Юрьевичем. Да и как Василий может называться великим князем, если в полоне вражьем побывал.
Князь Борис вытащил из шайки ноги, которые покраснели от пара, и прогнал в сердцах девку:
— Иди! Сам обуюсь!
Сапоги князь надевал не спеша, заправляя портки в узкие голенища, накинул тёплый тулуп на плечи, а потом сказал:
— Ладно... так и быть! С вами я буду. Только крестного целования с меня не бери. Не дам! А теперь пойдём выпьем, устал ты с дороги и промёрз, видать.
Василий Васильевич теперь всё время проводил в молитвах. А то вдруг неожиданно собирался и уезжал из Москвы на богомолье в дальние монастыри. Дорогу чаще проходил пешком, накладывал на себя непосильную епитимью: совсем отказался от мяса, не пил вовсе вина и, простаивая по многу часов кряду на коленях, молился. В церкви он любил оставаться в одиночестве, ему казалось, что так его раскаяния достигнут цели.
Прошка Пришелец пробовал отвлечь государя от тяжёлых дум: приглашал во дворец скоморохов, шутов, заставлял баб водить хороводы, но государь прогонял его прочь.
— До веселья ли мне теперь! Не знаю, когда и грех-то свой замолю, — жаловался он. — Не тревожил бы ты меня, Прохор, не отвлекал от мыслей о Боге.
То, чего не замечал великий князь, видел Прохор Иванович и в который раз пробовал растрясти князя.
— Оглянись вокруг, государь, неужели ты не видишь, как братья супротив тебя сговариваются. А бояре, что раньше кланялись низенько, теперь нос воротят. Все они великим московским князем Шемяку видят!
— Неразумные речи твердишь, Прохор, — на миг оживал Василий Васильевич, — я великий князь, я им и останусь.
— Видно, мало тебя обманывали, если ты до сих пор слеп! Вчера Голованы гонца отправили к Дмитрию, за каждым шагом твоим следят. Когда ты на богомолье в Ростов Великий поехал, так за тобой в трёх вёрстах сотня воеводы Челядны волочилась. Все боятся, что ты с другими князьями свяжешься да замыслы их коварные прервёшь. А давеча к тебе дьяк с бумагой пришёл, письмо ты собрался писать, так одна из девок твоих сенных под дверьми слушала, о чём письмо. Я эту девку повелел на дворе выпороть, чтобы другим неповадно было.
— Не могут князья против меня пойти. Мы крестным целованием повязаны, — устало возражал Василий.
— Крестное целование... Ишь ты чего вспомнил. На криве они крест целовали! А князья суздальские, чем не вороги? То Дмитрия Шемяку поганым псом называют, а то вдруг дружбу с ним завели. Неспроста это! Дмитрий Шемяка к князьям всё пса своего верного посылает — боярина Ушатого! А ты к чернецам ещё присмотрись... В Данилов монастырь на богомолье поехал, так тебя игумен даже встречать не вышел. Больным сказался. Когда это ещё было, чтобы великого князя московского не встретили и колокола в его честь не били?! А за вратами сколько времени продержали? Нищего в монастырь впустят, а тут великий князь дожидается! А потом ещё не всяк чернец и поздоровается. Слугам твоим почтения не кажут. Вслед за мирскими тоже начали нос воротить. Будет худо, государь, ой, худо будет, попомнишь ещё моё слово, да поздно будет! Разогнать их всех нужно. Ты всё молился, государь, а я за чернецами неладное подмечал. Игумен нашептал что-то одному из схимников, так тот скоро и ускакал по Галицкой дороге. По всему видать, Шемяку извещал о твоём прибытии. Открой глаза, государь, в капкане ты! И власти прежней над князьями не имеешь.
— Не верю, Прохор! Крест мы целовали, чтобы в мире жить! — упрямо твердил князь. — Иди, Прохор, оставь меня, молиться мне надо.
— Я-то тебя оставлю, государь, но ты уверен, что один будешь? — В самые глаза заглядывал верный холоп. — Даже здесь за тобой следят!
— Иди, слушать тебя не хочу, распорядись, я завтра к Троице еду. Хочу в тиши помолиться.
В Троицкий монастырь Василий Васильевич выехал на рассвете. Скрипел под полозьями снег, солнце ещё не выбралось из-за леса, не позолотило кроны. Рядом, укрытые в овчинные шубы, дремали сыновья. Старший — Иван Васильевич шмыгнул носом и затих, Юрий — младшенький, с матушкиным иконописным лицом и слегка приподнятой губой, что-то вскрикнул во сне и тоже успокоился. «Видать, приснилось неладное», — подумал Василий Васильевич.
Сани ехали дальше, и Василий думал о своём.
Рассвет наступал быстро. Ещё час назад темень прочно брала в полон придорожный лес, который лапами, сучьями укрывал высокие сугробы, норовил прикрыть и великого князя, нашептать отрокам на ухо сказание да заманить в лес, а уже и мрак рассеялся, и весёлой музыкой казался скрип снега под полозьями, и кони даже как будто повеселели — бежали скорой рысцой по недавно выпавшему снегу.
Поездка к животворящей Троице не предвещала ничего худого, но рынды, грозно позванивая оружием, торопились следом.
Ничто так не утешало Василия Васильевича, как дорога: и не быстрая, какой она может быть, когда едешь по спешному делу или навстречу ворогу, и не медленной, как после тяжёлого похода, а вот такой, как сейчас, — неторопливой и безмятежной.
Василий Васильевич знал эту дорогу на память. Не однажды, по примеру отца Сергия, он проходил её пешком, пряча княжеский плащ под одеждами чернеца. В большие праздники спешил затеряться в толпе верующих, чтобы величием не оскорбить Бога, перед которым равны все. После богомолья в Троице Василий всегда чувствовал себя обновлённым, именно поэтому он и ехал сюда.
Дорога пересекла поле, разделив его на две неровные половины, и кривой дугой, зацепив опушку леса, шла вдоль дубрав. Лес стоял молчаливо, а деревья, что воины перед сечей, терпеливо дожидались приказа, покачивая на ветру голыми кронами.
Дорога могла показаться скучной и однообразной — слишком много вокруг навалило снега, и темень была ещё густа, — если бы воображение не рисовало то рать, выходящую из чащи, то дикого вепря, выбежавшего на дорогу. Сугробы напоминали головы богатырей из былин — вот разомкнутся сейчас уста и задует ветер, снося с дороги всадников да и повозку самого князя.
Несколько раз дорогу князю перебегали зайцы. Замрут косоглазые у самой обочины и наблюдают за подъезжающим отрядом, словно интересуются: кто же это в лес пожаловал? Простоять бы им так до тех пор, пока не утешит их любопытство метко пущенная стрела.
Однако стоило всадникам приблизиться, как зайцы стремглав скрывались среди деревьев.
Уже при подходе к самой Троице на дорогу вышел медведь. Всегда осторожный зверь сейчас потерял чувство опасности. Что-то заставило его вылезти из тёплого логова и идти навстречу людям. Медведь стоял не шелохнувшись, словно дьявольское видение. Великий князь перекрестился — не к добру всё, нагонит он лиха. А может, это всё им привиделось?
Медведь выделялся на снегу чёрным неподвижным пятном, а потом так же неторопливо, как и появился, скрылся в тёмной чаще.
— Фу-ты! — только и вымолвил Прошка Пришелец, который всё это время ехал рядом. И великий князь увидел, что в руках тот сжимал рогатину, здесь же оказались и рынды, готовые встать на его защиту.
— Примета плохая, — обронил хмуро десятник. — Быть скоро беде.
Василий только усмехнулся: если придёт беда настоящая, разве от неё топором отмахнёшься.
Вот и Троица.
Здесь всё оставалось так же, как было при первом игумене — Сергие Радонежском: посредине монастырского двора стоял Успенский собор, который хороводом обступали стены. Немного в стороне ютились кельи монахов, их крыши возвышались над крепостными стенами.
Ворота были распахнуты — игумен дожидался великого московского князя.
— Стало быть, Василия в Москве нет, — торжествовал Шемяка.
— Нет, государь, — охотно отвечал чернец. — К Троице поехал на богомолье, всё грех свой поганый никак замолить не может.
—Сколько он там пробудет?
— Видать, неделю. Игумен как узнал об том, так сразу за тобой велел ехать. Вся наша братия против великого князя вооружилась. А с нами и князья и бояре московские. Езжай, Дмитрий Юрьевич, в стольный град, ждём тебя, как отца родного!
Дмитрию Шемяке вскочить бы да бежать в Москву как есть в одних портках, однако он не торопится: помолчал малость, а потом ещё спросил:
— Великие княгини где? Тётка моя Софья и жена Василия?
— В Москве остались, — прошипел ало чернец. — Из терема своего и шага не желают ступить. Но то не помеха тебе, князь. Все мы, как один, за тебя живот положим!
Всё не торопится Дмитрий Юрьевич, чего-то ждёт.
— Ивану Андреевичу Можайскому отправили весть?
— Отправили, — живо отвечал чернец. — Я-то к тебе поехал, а схимник Григорий — к князю Ивану.
— Хорошо, — проговорил Дмитрий, как будто себя уговаривал. — Еду я!
Вот он, его час! Эх, кабы не упрямство батюшки (земля ему пухом!), давно сидел бы на великокняжеском столе. А Васька московский, как холоп дворовый, его слова бы дожидался. Видно, есть на земле правда. Вот сегодня он въедет з стольный город не князем угличским, а московским государем.
— Посох мне! — сказал Шемяка.
Тотчас рында исполнил его приказание.
Дмитрий не хотел въезжать в Москву с боевым топором, как золотоордынский мурза. Он вернётся в стольный город с княжеским жезлом в руках, как хозяин.
— Пускай приготовят мне серого жеребца и украсят его праздничной попоной! — распорядился князь. — Я выезжаю немедленно.
Дмитрий Шемяка поднялся со стула. Казалось, сейчас он стал выше ростом — час назад был ещё угличским князем, а поднялся государем московским. Плащ бы нацепить походный да застегнуть его золотой брошью, да уж ладно, не на сечу еду, а на великое княжение.
Рында уже подавал Дмитрию шапку и согнулся на сей раз ниже обычного, понимая, что клонится перед московским князем.
Хоть и прозван февраль вьюговеем, но в этот год он оказался как никогда безмятежным — в дикой сатанинской пляске не дует ветер, и метель не бросает в лицо колючие хлопья снега. Тихим был месяц в эту зиму и напоминал робкую невестку в доме сурового свёкра. Год выдался малоснежным, только едва присыпал смерзшие комья земли и на том успокоился. Но в этот день неожиданно пошёл снег, он валил так густо, что казался белой стеной. Видимо, чувствовал за собой вьюговей грех, вот от того и укрыл снегом поля, лес и крыши домов.
У Москвы-реки Шемяка увидел полынью, от которой по кривой и утоптанной тропинке, что гуси за вожаком, шли бабы с коромыслами и вёдрами, доверху наполненными студёной водой, которая выплёскивалась прямо на заснеженную тропу. «Примета хорошая», — улыбнулся князь.
И тут Шемяка остановился. А по себе ли шапку меришь? Быть может, она тяжела, пригнёт, не распрямит спину, а сделает её сутулой. Не лучше ли быть первым среди удельных князей, чем московским государем по мятежному хотению.
— Вперёд! — позвал за собой Шемяка, отметая в сторону последние сомнения.
«Чем ты хуже Васьки, — думал Дмитрий. — Разве в твоих жилах иная кровь, чем у остальных Рюриковичей?» И конь, понимая своего седока, галопом мчался к кремлёвским воротам.
— Мать твою, врата закрывают! — услышал князь голос боярина Ушатого. — Пускать не хотят!
Вскинул конь крупную голову, явно обиженный за седока, и застыл, закусив удила.
— Открывай! — что есть силы орал Ушатый. — Дмитрий Юрьевич к тётке своей пожаловал, к великой княгине Софье!
— Вот она и велела его взашей гнать! — ответил вратник, высунув голову. — Пусть в Углич свой едет, там ему место! И великий князь Василий Васильевич наказывал никого не впускать!
— Ты что, за басурман нас принимаешь? — грозно спросил Дмитрий Юрьевич. — Или не видишь, кто перед тобой?!
Вратник ерепенился:
— Чем же вы лучше басурман? На великого князя напраслину наводите.
Смолчать бы вратнику — князь перед ним! Да разве утерпится, если вся Москва на тебя смотрит.
Вырвал Дмитрий самострел у рынды и пустил стрелу в дерзкого. Острое жало пробило толстые пластины, попало в самое сердце.
— Открывайте врата! — кричал князь.
— Почему князя у ворот томите? — услышал Шемяка грозный голос тысяцкого. — Виданное ли дело, брата Василия Васильевича в дом не пущать! Открывай ворота, да пошире!
Великое княжение не выпрашивают с протянутой рукой, это не милостыня, его забирают по праву сильнейшего. Если Василий вернул себе великое княжение силой, то почему так же силой не отнять его!
Ворота отворились, и скрип их — словно вздох ус талой души, хотели бы они знать, кого впустили, гостя или хозяина московского.
Шемяку вышли встречать шумной толпой. Нет прежней гордыни в московских боярах, ломают перед угличским князем шапки, кланяются низко, показывая плешивые головы.
— Ждём тебя, князь. Жнём тебя, хозяин, — ласково говорили бояре. — Все глаза просмотрели.
— Почему тогда врата не открыли? — укорил Дмитрий. — Грех на себя взял, вратника убил.
Дмитрий подумал, что вечером придётся замаливать этот грех, невинную душу погубил. Авось смилуется Христос, отпустит и на этот раз ему нечаянное прегрешение.
— Замешкались, батюшка, — охотно винились бояре, — ты уж не серчай на нас, прости.
Много раз Шемяка проезжал по Арбату до Китай-города удельным вотчинником и вот сейчас ехал великим князем московским.
— Куда мы теперь, государь? — поинтересовался Иван Ушатый.
— Куда? — на мгновение задумался князь. — Во дворец к тётке едем. — Князь повернул коня к великокняжескому двору.
Впереди Дмитрия шли расторопные рынды. Они живо растолкали стражу, поотнимали у неё бердыши, и, когда путь во дворец был свободен, Дмитрий Шемяка гордо поднялся по парадной лестнице.
Дмитрий Юрьевич застал тётку в своих покоях. Не любила сиживать княгиня в одиночестве — вот и сейчас вокруг неё кружился целый ворох девок: меж собой играют, а госпоже смотреть в радость.
Дмитрий слегка поклонился великой княгине, зло зыркнул в сторону девиц, и они, заметив недобрый взгляд Шемяки, попытались упорхнуть в смежные покои.
— Куда! — прикрикнула на девок великая княгиня. И Дмитрий понял, что тётка по-прежнему сильна и не утратила с годами властной натуры. — Или вы забыли, что я великая княгиня? Дмитрий всего лишь гость угличский! — Застыли девки, ожидая распоряжения госпожи. Хоть и добра к ним государыня, но спина каждой из них помнит её тяжёлую княжескую руку. — А теперь прочь подите! Мне с племянником потолковать нужно. — Девки разбежались, а Софья Витовтовна продолжала: — Сын мой в матушкины покои стыдился заглядывать, а тут угличские князья стали шастать на женской половине, как у себя в сенях!
Шемяка усмехнулся:
— Только ведь, тётка Софья, не гость я угличский, а князем московским сюда вернулся.
— Один был князь московский на Руси, мой сын Василий. А теперь, стало быть, ещё один сыскался? Только ведь двоим на троне не усидеть.
— Верно, Софья Витовтовна, не усидеть, — охотно согласился Дмитрий Шемяка. — Вот поэтому я буду сидеть один.
— Значит, московским князем хочешь быть... Может, прикажешь мне встать перед тобой, в ноги поклониться и руку поцеловать, как своему государю? Не помнишь, как я тебя за уши драла, когда ты к дворовым девкам под платья ручищами лазил? — сурово спрашивала тётка.
Дмитрий нахмурился, задел его тёткин упрёк.
— Что было, то прошло, Софья Витовтовна, а только теперь я князь московский! А сейчас, тётка, с глаз моих долой! Эй, стража, где вы там запропастились?! Долго ли ещё вас князь московский дожидаться будет? Уведите великую княгиню!
На голос князя вошли рослые молодцы и, явно стыдясь своих громадных тел перед хрупкой великой княгиней, заговорили, словно извиняясь:
— Пойдём из палат, Софья Витовтовна. Место для тебя уже заготовлено.
— В монастырь её затолкать! — наказал Дмитрий. — Стеречь покрепче, чтобы смуту сеять не могла. Да позвать ко мне князя можайского!
Явился Иван Можайский. Он уже признал в Дмитрии Шемяке старшего брата и склонил непокрытую голову ниже обычного.
— Бунтуют бояре, — заговорил Иван. — На Ваську-ирода ссылаются, говорят, с дружиной он, дескать, явится.
— Явится, говорят? — нахмурился Шемяка. — Собрать всех бояр скопом да выпороть на московском дворе прилюдно. Чтоб дерзить неповадно было. Казну их забрать и на мой двор свезти. А ты, Иван, с верными людьми езжай в Троицу и перехвати Ваську с чадами... Не ровён час, и вправду с дружиной явится.
Троицкая лавра стояла в снегу.
Пушистые хлопья белым покрывалом укутали землю, запеленали в сверкающую накидку одиноко стоящие скирды, жалкие развалюхи-избы, крытые соломой, которые боком жались к монастырской стене. На башне, у ворот монастыря, сидел крупный ворон, он то и дело поднимал крылья и громко каркал, водил головой, стряхивая с себя снег. Потом снова надолго замолкал, погружаясь в свои невесёлые думы. Ворон жил уже триста лет, и ему было что вспомнить за долгую жизнь. Он помнил это место пустынным, тут когда-то рос густой дубравник, позже он был выкорчеван горсткой монахов-отшельников, облюбовавших этот край. А сейчас здесь стоял сильный монастырь, который своим могуществом подчинял себе всё больше земель в округе.
Снег шёл густо, доставляя птице беспокойство, подняться бы с места да лететь прочь, но мудрая старость подсказывала, что надо беречь силы, и ворон терпеливо пережидал снег.
С конька башенки видно версты за три: сначала поле было пустынным, за ним поднимался высокий лес, напоминая рать стройных витязей. Вдруг ворон сердито повёл головой, склонил её набок и скрипуче, как бражник в трапезной, прокричал. Так оно и есть — люди! У самого края поля появились сани, которые уверенно въехали на заснеженную равнину и заскользили в сторону монастыря. Подле саней шёл мужик в мохнатой шапке и огромных рукавицах. Он неторопливо подгонял коня, проваливаясь на каждом шагу в глубокий снег, тяжело вытаскивал ноги и снова увязал. За первыми санями показались ещё одни, потом ещё и ещё. И уже скоро поле пересекала длинная кривая вереница саней.
Ворон ещё некоторое время сидел на башне, а потом дважды обеспокоенно прокричал и, величаво взмахнув крылами, скрылся за куполами звонницы.
Василий слушал обедню, преклонив колена. И эта почти рабская покорность судьбе удивляла всех. Князь Василий изменился после плена, сделался задумчивым и с ближними сговорчивее. В другой жизни остались шумные молодецкие застолья, и много месяцев никто не слышал его смеха.
Прошка не раз подступал к государю, пытался устыдить его:
— Василий Васильевич, князь, да что же ты с собой делаешь? Лица на тебе нет, доведёшь ты себя до могилы. Приберёт тебя смертушка раньше сроку. Может быть, на соколиную охоту поедем? Помнишь, как бывало...
— Пошёл вон! — сердился Василий, и в этом крике угадывался прежний великий князь — властный и своенравный.
Василий стоял у алтаря, отсюда молитвы легче доходят до ушей Бога. И, не стыдясь своей назойливости, вымаливал прощение. Покорность Василия Васильевича была скорее лукавством — для ближних слуг он ведь оставался по-прежнему великим князем. А долгое стояние на коленях перед святыми образами напоминало затянувшуюся болезнь, после которой Василий Васильевич должен был выйти ещё более окрепшим.
— Государь, батюшка!
С шумом распахнулась дверь, и вместе с холодным ветром в церковь ворвался рязанец Бунко.
Василий Васильевич оглянулся на дверь и продолжал молиться. Ещё недавно Бунко служил великому московскому князю, был у него любимцем, но переманил Дмитрий Шемяка доброго слугу богатым жалованьем. Теперь он за Дмитрием колчан со стрелами носит. Ничего необычного в поступке Бунко не было: уходили бояре служить тому князю, кто жалование больше по-ложит и в кормление деревеньки даёт. Однако предательство Бунко больно ранило московского князя. Василий Васильевич выделял его среди многих, а на пиру давал чашу с вином из своих рук, хотя рядом сидели бояре и породовитее. Ценил великий князь Бунко за то, что в бою был сильным и храбрым, мог развеселить своего господина незатейливой шуткой: наденет маску скомороха и носится словно дьявол, выделывая коленца, а на шее бубенцы, словно у породистого жеребца.
— Государь, батюшка, время ли поклоны бить. Иван Можайский сюда с дружиной идёт, хочет тебя в полон забрать!
Выгнать бы пса смердящего из церкви, чтобы не смущал великого князя погаными речами, да милосерден стал Василий — отвечал устало:
— Лжёшь, холоп! Мы с братьями крест целовали. Не посмеют они войной пойти.
— Да как же они не посмеют, если их рать уже у монастырских врат! Я обманом их оставил и сюда побежал, чтобы тебя предупредить.
— Как я могу тебе верить, если ты уже предал меня однажды?
— Прости, государь, и вправду бес меня попутал. Только не могу я более Шемяке служить. Чёрен он, словно дьявол!
— Пошёл вон, пёс! — вдруг разозлился князь. — Выгнать холопа из церкви!
Монахи будто того и ждали: подхватили Бунко под руки и опрокинули несносного головой в снег. Бунко расцарапал всё лицо и, сплёвывая кровавую слюну в сугроб, выдавил:
— Ну и дурень же у вас князь, ежели правду от лжи отделить не может.
Кончилась обедня. Василий положил последний поклон, а потом, оборотясь к Прошке, наказал:
— Пошли отроков на гору к Радонежу, пусть посмотрят. Кто знает, может, и не врал Бунко.
Санный поезд растянулся на добрую версту и, подобно гигантскому аспиду, стал медленно взбираться на гору Радонеж. На белом снегу отпечатывалось его чёрное извивающееся тело.
Змея ползла неторопливо, крепко уверовав в свою силу. Так хладнокровно гадина подкрадывается к жертве, парализованной ужасом. Впереди был монастырь, который, подобно животному, заворожённому страхом, наблюдал за приближением чёрного аспида. Совсем немного оставалось до вершины горы, сейчас змея заползёт на вершину, свернётся в клубок, чтобы в следующий миг распрямиться в прыжке и вонзить ядовитые зубы в трепетное тело жертвы.
— Но! — подгонял кнутом замерзшую лошадь сотник.
Он и сам изрядно продрог. Снег то и дело попадал за высокие голенища, а в сапогах хлюпала холодная вода.
— Долго ещё? — раздался из саней голос.
— Рогожу-то натяни на дурную башку! — выругался сотник. — Не ровен час, стража Василия увидит. Вот тогда всех и порешат!.. Недолго ещё, потерпи!
Отрок опять укрылся рогожей и затих.
— Эко князю-то удивление будет, когда увидит, что рать перед ним. Это надо же было додуматься — ратников под рогожей прятать, — не то пожалел, не то похвалил великого князя возница.
— Эй, кто вы такие будете?! — выехали на сопку вестовые Василия. — Куда едете?
— В Троицу спешим, — отозвался тысяцкий. — Сено мы уже отвезли, а сейчас рогожу везём. Давеча игумен уплатил за всё, да не смогли сразу всё нагрузить, вот сейчас и гоним, — нашёлся тысяцкий. — А сами-то вы кто такие будете? Ратники, видать.
— Тебе-то что за дело!
Сани въехали на гору, поравнялись с группой стражей, и по отлогому спуску полозья заскользили дальше, увлекая за собой санный поезд.
— Стой! — окликнул головные сани страж. — Остановись, тебе говорят! Что ты под тулупом прячешь? Говоришь, в монастырь рогожу везёшь, а сам доспехи надел! Поворачивай сани! — орал отрок.
Страж не успел опомниться, как рогожа отлетела и с соседних саней два дюжих детины с боевыми топорами ринулись на разгневанного воина. Один из них размахнулся и, вкладывая в удар всю силу, опустил топорище на голову отрока.
— Вяжи их, мужи! Вяжи крепче! — орал тысяцкий.
Рогожи, ставшие ненужными, разлетались в разные стороны. И дюжина ратников, утопая в глубоком снегу, уже мчалась вдогонку за стражами. Снег мешал бежать им, и они, путаясь в длинных тулупах, вязли в глубоком снегу.
— Держи их! Не дайте им уйти! — орал тысяцкий, срывая на морозе голос.
Рядом с тысяцким Иван Можайский нетерпеливо поигрывал плетью, сбивая с сапог рыхлый снег. Иван Можайский видел, как один за другим вязли в глубоком снегу дозорные Василия Васильевича и, неловко барахтаясь, пытались выбраться на твёрдый наст, который обламывался под их тяжестью, и вновь они оказывались в прочном плену. Ратники Ивана Можайского без лишней суеты окружили стражей Василия Васильевича и после недолгой борьбы повязали их по рукам и ногам. А потом бесчувственных, изрядно помятых побросали в сани.
Плеть Ивана Можайского гибкой змейкой извивалась в воздухе, резала его со свистом и опускалась в глубокий снег.
Путь в Троицкий монастырь был свободен.
Иван Андреевич ещё медлил, понимал, что от его воли зависит не только судьба великого княжения, но и самой Москвы. А что, если повернуть против Шемяки? До чего додумался супостат — великих княгинь в холодных сенях держал, пока с боярами решал, как с московским князем поступить. Софья Витовтовна (горда шибко!) накидку соболиную брать не пожелала, так и простояла в одном сарафане на стуже. И Василий Васильевич ведь не чужой, а брат двоюродный! К кому первому он за помощью обращался, когда против ордынцев укреплялся? К Ивану Можайскому! С кем планами своими делился? И здесь Иван Андреевич. И даже с братом Шемякой мирил его можайский князь.
Гибкая плеть изрезала вокруг весь снег, неровные, извилистые линии глубокими шрамами оставались на белой поверхности. Вот удар пришёлся мимо цели, и кожаный ремень, крепко обвив голенище, причинил князю боль.
— Ну что ты стоишь?! — сжав зубы, простонал можайский князь. — Погоняй дружину скорее в Троицу! Вели князя брать! Не ровен час, уйдёт!
Тысяцкий, укоряя себя за медлительность, уже покрикивал на дружину, подгонял её к Троице.
Иван Можайский видел, как поле стало наполняться людьми, и ратники, облачённые в тяжёлые доспехи, терпеливо и уверенно направлялись по глубокому снегу к Троице.
Он ещё раза два хлестнул плетью снег, наказывая его за строптивость, а потом обломил древко о колено и с силой отшвырнул прочь.
— Государь, Василий Васильевич! — орал Прошка. — Шемяка у Троицы! За тобой приехал!
Василий Васильевич поднялся на стены и увидел, как к Троице, пробираясь через рыхлый снег, торопилась дружина.
— Как же это? Ведь на кресте клялись! — не верил князь своим глазам.
— Да что же ты, государь, стоишь? Бежать надо! — Прошка потащил великого князя к лестнице. — Успеешь уйти! Пока они через снег пройдут, время уйдёт, а ты другой стороной от монастыря ускачешь! Там путь накатан, всю неделю монахи хворост ко двору возили. Авось смилостивится Господь, убережёт! Скорее же, государь, на конюшенный двор!
Конюшенный боярин побитым псом увивался подле Василия.
— Да как же, батюшка, сам же не велел коней держать запряжёнными. Всё говорил, что крестное целование у тебя с братьями. Не посмеют они против Бога... Вот тебе и раз, кто же знал, что так обернётся!
Несмотря на мороз, конюшенный изрядно вспотел, и на лбу выступила обильная испарина. Длинные волосья свалялись и грязными сосульками спадали на ворот шубы. Для него Василий Васильевич ещё оставался московским князем.
Боярин пытался заглянуть в глаза великому князю, а поймав его взгляд, съёжился, словно получил сильный пинок.
Василий размашисто шёл по конюшне. В стойлах, неторопливо пожёвывая сено, стояли распряжённые лошади.
— Бери, государь, любую да скачи прочь от монастыря, — торопил Прохор. — Дружина Шемяки сейчас во врата стучать начнёт.
— Нет! — воспротивился вдруг Василий. — Чтобы я как тать убегал из святой обители на неподсёдланной лошади?! Это Московская земля, и я здесь хозяин! Если уезжать, так не вором, а на тройке, как подобает великому князю! Вели запрячь! — распорядился великий князь.
— Сейчас, государь! Это я мигом! — волчком закрутился конюшенный. — Челядь! Да куда же они все запропастились!
— Государь, Василий Васильевич, ворота ломают! Прятаться тебе нужно! — торопил Прохор.
Василий вышел с конюшенного двора. Челядь приуныла, шапки поскидали, как будто мимо покойника пронесли. А может, это последняя честь некогда великому московскому князю? Чернецы гуртом стояли подле собора, великого князя уже и не замечают. Стало быть, уже другого хозяина присмотрели. Ладно, хоть руки ещё не крутят!
— Батюшка, родимый ты наш! Прячься, авось укроют тебя троицкие стены. От татар они нас спасали, быть может, тебя от братьев укроют! — подался вперёд игумен.
— К Троицкой церкви, государь, беги! К Троицкой! — вопил пономарь. — Там стены мурованые. Пойдём, я тебя спрячу. Не пожалеет ведь Шемяка, порешит разом! Господи, что же это делается на земле нашей, если брат на брата опять идёт.
Василий продолжал стоять.
— Василий Васильевич, беги за мной, спасайся от смертного боя!
— От татар не прятался, а от братьев скрываться придётся? Неужели князья хуже татар будут?
Зазвонили колокола. И непонятно было, к чему этот звон: к печали горькой или радости великой. В ворота уже рассерженно стучали, и резкий басовитый голос распорядился:
— Открывай, братия! Чего затаились? Или гостям не рады? Князь к вам приехал!
Вратник-чернец отворять не хотел:
— Что же это вы, господа, в гости с оружием ходите? Сложили бы рогатины у врат да зашли бы в монастырь. Аль нас, чернецов, перепутались?
— А ну отворяй, Божий человек, кому сказано! Не любит князь у ворот топтаться! Мигом взломаем!
Вратник долго не мог совладать с засовом: он выскальзывал, обжигал холодом руки, и походило, намертво застыл на морозе. А когда щеколда наконец поддалась усилиям, руки были избиты в кровь.
Дзинькнуло на холоде железо, словно просило прощения, а следом заскрипела дверь, впуская в церковь великого князя.
— Не майся, государь! Здесь будешь! Церковь каменную не взломают силой. Я ухожу, а ты изнутри запрись.
— О сыновьях позаботься.
— Будет сделано, государь, позабочусь.
У алтаря горели свечи, и копоть тонкой струйкой тянулась к каменному своду, растекаясь по овальным углам, где и умирала, оставляя после себя тёмные разводы. Казалось, сам Христос проникся бедой Василия Васильевича и в этот час выглядел особенно скорбящим, и узкое чело глубоко прорезала продольная морщина.
— Спаси меня, Господи, не дай причинить зла, — просил государь. — Убереги от лиходеев, не дай свершиться худому. Не оставь малых деток без отца, а отчину без хозяина. Чтобы не попала она в худые руки, чтобы не предали её разорению и позору.
Христос скорбел вместе с государем. Василию показалось, что морщина становилась глубже, чем обычно, а у корней волос зародилась другая, едва уловимая полосочка.
Теперь Василий радовался, что в монастыре не было его сыновей — Ивана и Юрия. Вчера вечером они упросили его отъехать в село Боярово к князю Ивану Ряполовскому. Обещали вернуться к вечеру. А ведь отпускать не хотел и, если бы не Прошка, который был привязан к князьям особенно тепло, видно, придержал бы их подле себя.
Село Боярово славилось своими стариками, каждый из которых был кудесник и чудный сказатель, и приезжали сюда из окрестных пригородов князья, чтобы послушать удивительные истории. Особенно охоч был до дедовских притч старший из сыновей — Иван. Он мог часами слушать чудное житие мучеников и видел себя стойким отшельником, прославившимся своими пережитыми испытаниями.
Видно, скоротали сыновья ночь в долгих разговорах и сейчас торопятся обратно, чтобы вернуться к отцу в срок. Василий вдруг похолодел от мысли: они могут вернуться к полудню, когда здесь будет вражья дружина. Не посмотрит Шемяка, что отроки перед ним, смерти предать может.
Если выйти сейчас навстречу дружине — значит, попасть в плен, который пострашнее басурманова будет, но тем самым спасти сыновей. Ежели остаться — дружина начнёт искать великого князя и без него обратно не вернётся, но тогда вместо одного заберут троих.
Во дворе послышалось ржание, а затем раздался грубый окрик Никиты Константиновича, боярина Шемяки:
— Куда князя, пономарь, спрятал? Где он, етит твою! Говори, пока душу из тебя не вытряс!
Застучали копыта о каменный пол, видно, горячий конь вынес всадника на церковную паперть, и в следующий миг голос Никифора запротестовал:
— Да что же ты, поганец, делаешь?! Неужто на коне в церковь хочешь въехать?!
— Ты что, пёс, не узнаешь боярина московского князя?! — слышал Василий голос Никиты Константиновича.
— А вот ты пёс и есть! — твёрдо на своём стоял пономарь. — Нет у Василия Васильевича таких бояр!
— Дерзок ты больно, пономарь, видно, плеть по тебе плачет. Я боярин московского князя Дмитрия Юрьевича!
— Не бывало никогда такого московского князя на Руси, а был угличский князь Дмитрий!
— Где Василий?! Куда ты его запрятал?!
— Если ты сам иуда, так, думаешь, и я им стану? — дерзил пономарь.
— Эй, десятник, поди сюда! Подвесить этого Божьего человека за ноги. Пусть повисит до тех пор, пока не скажет, где Василий спрятался. Если и это не поможет, прости Господи, тогда взломаем ворота церкви. А там, быть может, Бог и простит нам этот грех. Первый наложу на себя строгую епитимью.
Василий Васильевич слышал, как яростно сопротивлялся пономарь, матерился, что тебе базарный мужик, позабыв про святость, проклинал мучителя погаными словами, а потом вдруг сдавленно замычал. «Видать, рот заткнули, — подумал государь и вновь обратил взор к немым образам. — Спаси и убереги честь мою!» — прикасался Василий Васильевич пальцами-обрубками к прохладному лбу.
— Что здесь происходит, Никита? Почему пономарь башкой вниз висит? Наказывал же я строго, чтобы бесчинства над святыми старцами не чинили!
Это был Иван Можайский, только ему одному мог принадлежать этот раскатистый бас. Князь продолжал:
— Пономарь, так где же брат мой, московский князь Василий Васильевич? Слово даю, что с ним ничего не случится.
Василий отпрянул от алтаря, коснулся руками домовины, в которой покоились святые мощи старца Сергия, словно хотел набраться от них силы, а потом, приникнув губами к двери, закричал:
— Иван, здесь я! Помилуй меня, брат, не тревожь ты мою грешную душу! Дай мне покой, зачем я тебе понадобился? Неужели жизни лишить меня хочешь? Неужели грех братоубийства желаешь на себя взять? Как же после этого жить будешь? Хочешь, я не выйду из этого монастыря и здесь же постриг приму!
— Брат Василий, — отвечал Иван, — неужели ты думаешь, я Каин? Вот тебе крест святой, что лиха тебе никакого не причиню. Выходи смело из церкви, дай же я посмотрю на тебя! Дай обниму наконец!
Василий посмотрел в лицо скорбящего Спаса. «Одобрил бы?» — подумалось князю. Потом взял с гроба икону святой Богородицы и зашагал к двери. Разве посмеют поднять на князя оружие, когда святая икона в руках?
Иван Можайский, увидев Василия с иконой, отстранился. Снял шапку, перекрестился на святой образ.
— С братом я целовал животворящий крест и вот эту икону перед гробом Сергия, что никакого лиха друг дружке чинить не будем. А теперь не знаю, что со мной будет. Неужто Шемяка нарушил клятву?
Иван поправил на лбу ржаную прядь и отвечал достойно:
— Василий Васильевич, неужели ты думаешь, что я пришёл бы сюда, если бы тебе грозила большая беда? Если мы хотим сделать тебе зло, так пусть это зло покарает и нас! Я прибыл к тебе по наказу нашего двоюродного брата Дмитрия Юрьевича. В Москве он теперь... бояре его встретили с почётом, как великого московского князя. Велел он привести тебя ко двору как гостя.
— Так почему же с дружиной пришли?
— Это мы делаем для христианства и для твоего откупа. Пусть татары, которые с тобой пришли, видят, что ты в полоне у брата своего, тогда и облегчат выход.
Спасла икона. Заступился Господь.
Василий поставил икону у гроба с мощами и опустился сам на колени. Слёзы душили его, и, закрывая лицо руками, великий князь зарыдал. Плакал тяжело, обрубками пальцев размазывал по щекам слёзы, которые казались горячими и жгли кожу, стекали по скулам и стыдливо прятались в густой рыжеватой бороде. Вместе с очищающими слезами пришёл и покой.
Раньше Василий не плакал никогда, он просто не умел этого делать. Он не плакал, когда Юрий не хотел признавать его права на великокняжеский стол и не считал своим старшим братом. Не было слёз и потом, когда Юрий занял Москву. А до слёз ли было в плену у Большого Мухаммеда? Был стыд, была боль, но не слёзы.
Он вдруг вспомнил себя пятнадцатилетним юношей, проехавшим на жеребце от ханского дворца до гостиного двора. И сам Юрий Дмитриевич вёл за поводья его коня. Тогда он был горд, но кто посмеет его упрекнуть за это. Только позже Василий понял, что причинил дяде боль, которую не сумеет залечить даже такой врачеватель, как время.
И теперь слёзы, накапливавшиеся в нём годами, подобно обильному дождю, очистили его душу. Слёзы стекали по кафтану, падали на икону Богородицы, и, казалось, она прослезилась вместе с великим князем.
В другом углу молился Иван, выбрав для своих откровений святого Николу. Иван Андреевич стоял к великому князю боком и видел его, упавшего ниц; его красивую голову, которая не склонялась ни перед татарскими стрелами, ни перед ханом Золотой Орды. Сейчас воспалённые уста князя целовали домовину святого Сергия. Острую жалость испытал Иван Можайский к Василию. Нахмурил чело, притронулся к нему ладонью, словно хотел разгладить его, потом рука медленно опустилась на грудь, на плечо.
— Прости меня, Господи, за моё лукавство. Не мог я поступить иначе. Рассуди нас по справедливости и заступись за Василия.
Иван отбил ещё несколько поклонов, потом вышел из церкви, бросив стоящему рядом Никите:
— Возьми его!.. И стеречь! Животом своим ответишь, если что!
Василий помолился. Встал. Вокруг никого. Неужто Сергий помог, сумел оградить от ворогов. И тут из тёмного угла вышел Никита. «Фу-ты! Вышел, словно чёрт из преисподней!» — подумал великий князь и тут же попросил у Господа прощение за греховное сравнение.
— А где же брат мой, князь Иван?
— Взят ты, Василий, великим московским князем Дмитрием Юрьевичем, — ответил Никита.
Тяжёлая рука ухватила за плечо Василия. Через плотный кафтан великий князь почувствовал крепкие пальцы Никиты. Видно, так цепко хищный ястреб держит свою жертву. И, не будь над головой высоченных сводов, взлетел бы вместе со своей драгоценной добычей в голубую бездну неба. Терзал бы жертву в одиночестве, наслаждаясь её криками.
— Пойдём, Василий, лошади уже застоялись.
— Да будет на это воля Божья... — смирился Василий и шагнул из церкви вслед за Никитой.
На дворе стояли бояре в одних рубахах, а отроки, красуясь друг перед другом, примеряли соболиные шубы с чужого плеча.
— Чем же вы лучше разбойников? — укорил Василий. — Почему с моих бояр шубы поснимали?
— Будешь попрекать, так мы с тебя и шапку снимем! — пригрозил Никита. — Что стоишь? К саням иди!
— К которым? — спросил государь.
— Аль не видишь? Думал, что Дмитрий Юрьевич велит для тебя тройку запрягать? Не велик чином и в холодных санях прокатишься. Эй, отрок, брось на сани сена.
— Может, для государя одеял подложить? — полюбопытствовал отрок.
— Да не для Васьки, дурная твоя башка, для чернеца, что рядом с ним поедет. Охранять его будет, не ровен час, и сбежать может.
Подошёл чернец огромного роста. По всему видать, схимник, ряса на нём старая и грубая, а под ней голое тело. Ветхая одежда не грела в мороз и парила на солнце. Кожа у монаха дублёная, привыкшая и к холоду, и к зною.
— Ты прости, государь, стеречь я тебя приставлен. Вины здесь моей нет. Что мне сказано, то я и делаю. Потому и схиму на себя взял. А ты меня не признаешь, князь?
— Нет, не признаю.
— Я тот чернец, что присоветовал тебе в Москву покаянным входить.
Присмотрелся Василий и узнал свою совесть.
— Чего уж теперь.
Монах швырнул охапку сена на снег.
— Если государю не пристало на мягком ехать, то мне-то зачем? Авось не замёрзну! Трогай, возница, государя Шемяка дожидается.
Никогда для московского князя Василия дорога не была такой длинной. Бывало, быстро добирался до Троицы и вёрст не замечал, а сейчас уже всё успел передумать, обо всём поразмыслить, а дороге и конца нет. Чернец сидел напротив и угрюмо молчал. Лёгкой позёмкой забросало рясу, а зад, казалось, на морозе пристал к саням. Сидел монах, не шелохнувшись, и тоже думал о чём-то своём: возможно, о похороненной мирской жизни, а может быть, готовил свою плоть к новым испытаниям. Василию подумалось: ведь ни Иван Можайский, ни Никита не вспомнили о его сыновьях. Не догадывались, что Иван и Юрий с отцом в монастырь поехали. Монахи строго стерегли государеву тайну, что ж, и на том спасибо.
Какой ни долгой была дорога, но Москва появилась внезапно. В эту ночь она показалась Василию Васильевичу чужой. Неласково встречала вотчина. Угрюмо вокруг, и башни выглядели темницами. Чернеца совсем не было видно во мраке, и только недобро светились глаза.
— Вот и приехали, князь. Ты уж не обессудь, что стражем при тебе был. А ведь это наша не вторая встреча. Коломну помнишь, когда Юрий тебя удела лишил?
— Как же такое забудешь.
— Так вот, я и там тебя сторожил...
— Кто у ворот? — послышался голос начальника караула.
— Князя везём, Василия, — был ответ. — Ко двору московского князя Дмитрия Юрьевича.
Ворота отворились, и возница, продрогший в дороге изрядно, прикрикнул нетерпеливо на лошадь:
— Что стала? Копыта примёрзли? Топай, давай!
Лошадка шумно выдохнула клубы пара и понуро поволокла сани великого князя в неволю.
Дмитрий Шемяка был на Поповкином дворе.
Михаил Алексеевич принимал Дмитрия как великого князя — кланялся до земли, целовал руку, а девкам своим велел прислуживать и глаза на князя беззастенчиво не пялить. Дочки у боярина Михаила Алексеевича удались на славу — одна краше другой! Обе высокие, толстые косы до самых пят. Лицом белые, а чернющие глаза словно угольки жгли.
Дмитрий пьянел всё более. Да и было от чего! Настойка у боярина сладкая, вино хмельное, а девки — одна краше другой. Скоморохи не давали скучать — прыгали через голову, задирали шутейно друг друга, тыча кулаками в бока, кричали петухами, носились по комнате и ржали жеребцами.
Дмитрию приглянулась старшая дочка Михаила Алексеевича — девка пышная, сдобная, мимо проходила как пава, походка плавная, бёдрами покачивает, грудь высокая, что тебе каравай хлеба.
На дворе уже была глубокая ночь, самое время идти в свои хоромы, но Дмитрий Юрьевич не торопился. Наклонилась девка, отвечая поклоном на похвалу князя, косы до полу упали.
— Боярин, — подозвал к себе Дмитрий Михаила Алексеевича, — домой к себе я не пойду. Поздно уже, думаю, ты меня не выставишь.
— Разве бывало такое, чтобы боярин выставлял великого князя!
— Земли-то у тебя много?
— Пять сёл, — гордо отвечал боярин. — Самое большое из них Клементьевское. Под Тверью все они. Я ведь из тверских бояр, государь.
— Не забыл. Хочешь, Михаил Алексеевич, две деревни в кормление получишь! И не где-нибудь, а под самой Москвой! Со стольными боярами в чине сравняешься.
— Как не хотеть! — опешил от такой милости Михаил Алексеевич, подливая в стакан князю белого вина.
— Дочка мне твоя старшая приглянулась... Кажется, её Настасьей звать.
— Настасьей.
«Стало быть, и эта Настасья, — подумалось Шемяке, — может быть, так же и в любви понимает».
— Пусть перину мне постелет, да помягче! Притомился я малость, спать хочу.
Видать, и вправду о Шемяке молва ходит, что до баб большой охотник.
— Куда льёшь, дурья башка! Не видишь, край уже, — укорил Дмитрий Юрьевич, смахивая с кафтана вино. — Ну так что скажешь, боярин? Или чести не рад? А может, ты московского князя отказом хочешь обидеть?
Последние слова прозвучали угрозой. О Дмитрии Шемяке говорили разное. В городе сказывали, что приглянулась ему как-то жена боярина Бобра, так он того к татарам в Большую Орду послом отправил. Там его живота и лишили. После чего к жене-красавице его заявился. Она окаянного отвергла и, простоволосая, через весь двор бежала, спасаясь. Догнал её Дмитрий и мечом посёк.
— Видать, ты от счастья совсем онемел, боярин. А может, не рад ты?
— Рад, государь! Конечно, рад! — Михаил Алексеевич старался не показать своего огорчения. — Вот только не знаю, как дочери об этой чести сказать.
— Ты отец, тебе и говорить. Хотя постой!.. Я и сам могу попросить Настасью перину постелить.
Шемяка поднялся с лавки и сделал шаг к женской половине дома.
— Постой же, государь! Постой, Дмитрий Юрьевич, — запротестовал боярин. — Я сам дочке об этой радости сообщу!
Михаил Алексеевич переступил порог девичьей.
— Пошли прочь! — прикрикнул в сердцах боярин на дворовых девок, которые тотчас разлетелись птахами в стороны. — Оставьте меня с дочерью... Прости меня, боярышня, прости, дочь, — упал Михаил Алексеевич перед девицей на колени. — Князь московский Дмитрий просит, чтобы ты ему перины стелила. Коли откажешь, погубит он весь наш род. А нас со двора выставит. Коли согласишься, в роскоши да богатстве заживём. Ещё два села в кормление отдаст, так я те сёла в приданое тебе отдам. Против такого богатства ни один парень не устоит!
Настасья неловко освободилась из батюшкиных объятий, поднялась. Видно, беда и вправду большая, если от неё не сумели заслонить даже отцовские руки. «Если бы матушка была жива, смогла бы что-нибудь присоветовать. Может, и обошлось бы», — вздохнула боярышня.
— Перину мне несите, князь Дмитрий Юрьевич отдыхать желает! — кликнула Настасья сенную девку.
Дмитрий Шемяка уже ждал Настасью и, когда она перешагнула порог, не мог скрыть восхищения. Сейчас, стоя перед ним в одной рубашке, она показалась ему ещё краше. Даже ростом сделалась выше, длинная сорочка едва касалась голых пяток, а белая холщовая ткань обтягивала округлые бёдра.
Настасья положила перину на сундук, умело подбила слежавшийся пух и, поклонившись государю, произнесла:
— Сделано, князь.
Дмитрий Юрьевич не сводил с девки взгляда.
— Знаешь, кто я? Князь московский! А Васька, брат мой, на дворе моём в сарае мёрзнет. Отца твоего теперь конюшенным сделаю. Дворец конюшенный стеречь станет и лошадок моих холить. Пусть помнит о чести. Ты поближе подойди. Настасья, чего в угол вжалась? Рубаху мне помоги снять... Да ты прижмись, прижмись ко мне покрепче, тогда и снимешь. Чего же ты меня сторонишься? Чай, я не прокажённый какой, а господин твой!
Настасья помогла Дмитрию снять рубаху, прохладные пальцы едва касались его плеч. Взглянув на его плотно сбитую фигуру, девка вдруг зарделась.
— Что? Мужниного тела не видывала? — спросил беззастенчиво Дмитрий Юрьевич. — Вона как загорелась!
Князь поднялся с лавки, взял из её рук рубаху и швырнул далеко в угол, потом бережно, словно пытался снять с девичьих плеч мотылька, развязал узенькие тесёмки. И сорочка белой лёгкой волной упала к её ногам.
— Вон ты какая! — выдохнул Дмитрий, увидав Настасью всю. — Хороша девка, ничего не скажешь!
Настасья перешагнула сорочку, словно освобождалась от плена, и сделала шаг навстречу московскому князю.
Дмитрий поднял боярышню на руки и положил на постель. Девка так и утонула в пуху.
— Стало быть, ты девка? — хмуро поинтересовался Дмитрий.
— Девка, — честно призналась Настасья, натягивая одеяло до самого подбородка.
Дмитрий отряхнул налипший сор со стоп, провалился в перину рядом с Настасьей и довольно хмыкнул:
— Давно у меня девок не было. Ты только ноги пошире раскинь и не ори! Не люблю я этого.
Несколькими часами позже, расслабленный и с приятной истомой в ногах, Дмитрий Юрьевич вышел во двор. После душной и жарко натопленной горницы мороз показался ему особенно крепким. Князь уткнул нос в густую овчину и спросил у боярина Ушатого:
— Уж не околел ли Васька в такой мороз?
— Не околел, — уверил боярин Ушатый, — час назад к нему забежал. В углу сидит и молится всё. Видно, грешил много, если до сих пор грехи замолить не может.
—Будет тебе! — одёрнул боярина князь.
На миг он почувствовал нечто похожее на жалость к брату — не хватало, чтобы холопы князей поучали. Дашь волю, так он и на московского князя голос повышать станет.
Василия Васильевича стерегла дюжина стражей. Они уже продрогли изрядно: толкали один другого в бока, прыгали и, казалось, совсем забыли о своём великокняжеском пленнике. Но стоило юродивому приблизиться к сараю, как тотчас раздался предостерегающий окрик:
— А ну пошёл отседова! Не видишь, что ли, нельзя тут ходить!
Это был Иосий-юродивый. Известный всей Москве своими прорицаниями и чудачеством. Однажды он предсказал ураган, который разрушит одну из церквей. Так и случилось. В другой раз предвещал, что загорятся посады, а в полыме сгинет множество народу. Сбылось и это. В народе с тех пор юродивого стали называть Иосий-кликуша. Юродивого боялись и обходили стороной, ко как обойти приближающуюся беду? Спастись от ненастья можно только под крышей. Или не знать о ней вовсе. Вот поэтому, заприметив Иоську-кликушу, люди крестились и бежали прочь.
— Это кто здесь на Иоську голос повышает? — вышел из темноты Дмитрий Юрьевич.
Позади князя двое бояр: Ушатый да Никита Константинович.
— Не признал я Иоську, — оробел отрок, — думал, тать какой крадётся. Василия отомкнуть хочет.
— Прости его, святой отец, — сказал Дмитрий и, взяв ладонь старика, притронулся к ней сухими губами.
— Знаю, зачем пришёл, — заговорил Иоська, — подумай, князь, только Господь Бог наш и может судить.
Иоська-юродивый говорил так, словно сумел проникнуть во все тайные думы князя, только взглянет — и прочитает все помыслы. Трудно понять, кто помогает кликуше: бес или Господь. И нужно ублажить обоих. Иоська смотрел проницательно и строго, как будто докопался до самых сокровенных мыслей Шемяки, видел то, о чём не догадывался и сам князь. Не находилось смельчака, который посмел бы прогнать Иоську-кликушу со двора. Дмитрий Юрьевич терпеливо ждал, когда юродивый насмотрится вволю. Но Иоська сгинул в ночи, наводя своим каркающим голосом суеверный ужас.
— Помни же, о чём я сказал, Дмитрий! Помни!
Ещё некоторое время все молчали: и охрана Василия Васильевича, и бояре. Сказанное испугало всех, а потом Дмитрий махнул рукой и чертыхнулся в сердцах:
— Принесло его! Чтоб ему!.. — не договорил Дмитрий, по всему видать, Божьей кары опасался. — Отопри сарай! Ваську хочу посмотреть.
— Сейчас, государь, это я мигом, — заспешил молоденький отрок, отворяя дверь.
Василий стоял в углу на коленях. Спина его, несмотря на лютый холод, оставалась открытой, а может, мороз не трогал князя, не мешал ему молиться. Василий обернулся на скрип отворяемой двери и в свете горящих факелов увидел Шемяку. Он поднялся, поклонился ему, как если бы приветствовал старшего брата, и произнёс:
— Здравствуй, брат, здравствуй, Дмитрий Юрьевич, любезный мой...
— Любезный! — закричал вдруг Дмитрий. — А что ты сделал для любезного брата?! Братья тебе нужны для того, чтобы водили за тобой коня, как это делал мой батюшка Юрий Дмитриевич в Орде! Ты этого хотел?! — Дмитрий подошёл к Василию совсем близко, ухватил рукой за подбородок и заорал в самое лицо: — Нет, ты скажи мне! Ты этого хотел?! А может, ты хотел, чтобы твой любезный брат подставлял тебе под ноги скамейку, подобно холопу, когда ты будешь залезать на коня?! Ответь же нам, православным, брат мой родимый, зачем ты привёл татар на нашу землю?! Зачем ты им Русь продал?! Зачем отдал им наши города в кормление?! — Шемяка вдруг умолк, вспомнилось предостережение Иоськи-кликуши, но оно тут же потонуло в гневе, подобно камню, брошенному в воду. — Татар ты любишь сверх меры, вот от того и речь их поганую изучил! Христа почто обижаешь?! Иуда ты! — выговаривал Дмитрий страшные слова. — Хотел ты меня отцовского удела лишить, так теперь сам без удела останешься!
Василий не смел возразить, слушал братову речь покорно.
— Поделом, поделом мне... — шептали его губы.
Отроки, сгрудившись тесно за спиной Дмитрия, не смели поднять на Василия глаза. Они помнили великого князя другим, когда он шёл впереди христианского воинства, гордым, неустрашимым и дерзким на слово. И даже обрубленные пальцы служили свидетельством того, что он не прятался за спины своих дружинников. Сейчас Василий предстал перед ними покорным, униженным. Им бы уйти и не смотреть на позор Василия Васильевича, но Дмитрий, обернувшись назад, закричал:
— Вот они все стоят! И спросить у тебя хотят, брат, за что ты нас всех обесчестил? И ещё я хочу спросить, — негромко произнёс Дмитрий. И этот переход от громкого крика до шёпота показался зловещим, и стоявшие рядом стражники поёжились. Бояре молча переглянулись — быть беде. — Почему ты брата моего старшего ослепил? Почто не позволил ему образа Божьего лицезреть! Эй, Никита! — окликнул Шемяка боярина, и тот быстрым шагом приблизился к Дмитрию. — Вели позвать чернеца Иннокентия. Он в таких делах мастер, думаю, возиться долго не станет.
Никита Константинович продолжал стоять. Он ещё надеялся, что сейчас Дмитрий отменит приказ. Вот отчитает Василия Васильевича да и выпустит с миром. Ну, может, постриг заставит принять. На том и порешат.
Но Дмитрий Юрьевич вдруг осерчал:
— Ну чего стоишь?! Раскорячился, как баба на сносях! Кому сказано, чернеца звать!
— Бегу, государь! — метнулся Никита Константинович к двери.
Минуты не прошло, как привёл он за собой высоченного монаха, того самого, что караулил Василия всю дорогу от Троицы до Москвы.
Иннокентий поклонился всем разом, потом задержал взгляд на Василии и сказал:
— Не думал, великий князь, что так скоро придётся свидеться. Вот какая четвёртая встреча получилась. — И, уже оборотясь к Дмитрию, спросил: — Зачем звал? Пострижение от князя Василия принять?
— Уж мы его пострижём... Держи его крепче! — приказал князь.
— Может, он по-доброму? — всё ещё не решался прикоснуться к великому князю монах.
— Держи его, монах, пусть твоими руками говорит воля Божия! Я поступлю с ним так, как он поступил с братом моим кровным. Я выколю ему глаза! Выколю своими собственными руками! — орал Дмитрий.
— Да что же ты, князь, делаешь, — ухватил за руки Дмитрия боярин Ушатый. — Неужто хочешь Дмитрием Окаянным прослыть?
Василий стоял не шелохнувшись, терпеливо дожидался приговора. Он отдал себя на волю Шемяки, а там будет так, как рассудит Господь.
Кинжал остановился у самого лица Василия. Если не боялся татаровых сабель, так чего же опасаться братова кинжала?
Шемяка размышлял. Ещё мгновение, и он отбросит кинжал и обнимет Василия.
— На, — протянул Дмитрий чернецу кинжал, — пусть твоими руками совершится Божий суд!
Монах попятился.
— То не Божья воля, то воля окаянная!
— Я и есть Божья воля! — кричал Шемяка. — Возьми кинжал!
Иннокентий смотрел на кинжал, и рубины на рукоятке казались каплями запёкшейся крови. Он перекрестился, взял из рук государя Дмитрия Юрьевича кинжал.
— Держите Василия! — прикрикнул он на отроков. — Крепко держите! А ты чего истуканом стоишь! — повернулся он к боярину Ушатому. — Заткни Ваське рот поясом, чтобы не орал!
Стражи заломили Василию руки, а Иван Ушатый глубоко в глотку затолкал пояс. Некоторое время монах молчал, произносил последние слова молитвы, а потом размашисто перекрестился.
— Да исполнится воля Божья, — и ковырнул остриём кинжала правый глаз Василия.
Иннокентий почувствовал, как по руке потекло что-то — липкое и скользкое. В свете полыхнувшего факела разглядел перекошенное от боли и страха лицо великого князя, увидел, с каким ужасом посмотрел на него левый глаз. После чего размашисто, стараясь попасть именно в чёрный зрачок, пырнул его остриём клинка. Василий затих, повиснув на руках стражников.
— Бросить Ваську в угол! — распорядился Дмитрий и, когда стражи положили бесчувственное тело Василия в угол, пригласил: — Пойдёмте, бояре, горькую пить.
Утром Шемяку разбудил звон Чудова монастыря. Это был призыв к заутрене, когда колокола захлёбывались в радостном звоне нового дня: весело и звонко. То гудел большой колокол, который мог плакать только по усопшим. И чем дольше звонил он, тем тревожнее становилось на душе Дмитрия. «Неужто Василий помер? Вот тогда уж точно Окаянным назовут!»
В окнах засветились свечи, от звона колоколов просыпалась челядь.
Постельничим у Шемяки был Иван Ушатый, и князь громко позвал боярина:
— Ивашка!.. Ивашка, пёс ты смердячий! Куда запропастился! Не слышишь, как государь тебя кличет!
В горницу заглянул заспанный боярин. Было видно, что вчерашнее застолье не прошло для Ушатого бесследно: глаз не видать, а лицо — что свёкла печёная.
— Звал, государь? — спросил боярин.
— Иди во двор, узнай, кого хоронят. И чтобы быстро! Вот ещё что... пива принеси, в горле першит.
Ушатый ушёл и вернулся с огромным, в виде утки, ковшом. Борода и усы мокрые, видать, приложился сам, прежде чем государю поднести. Ладно уж, вон как рожу скривило, авось поправится.
Великий князь пил долго, опасаясь пролить на белую сорочку хоть каплю. Кадык его судорожно двигался, когда делал большие глотки. Наконец насытился князь, глянул на Ушатого:
— Что там?
— Да как тебе сказать, государь... Монах-то, что Ваське глаза колол... помер!
— Вот как! — выдохнул Шемяка, холодея.
— В эту же ночь и прибрал его Господь. К заутрене его ждали, как обычно. А его нет, не случалось прежде такого. Игумен, сказывают, послал в келью к Иннокентию, а он за столом сидит, будто Божий образ созерцает. За плечо взяли, а тот на бок и завалился. Вот и бьют колокола по нём. На монастырском кладбище хоронят.
Иван Ушатый видел, как сошёл с великого князя хмель, лицо его сделалось пунцовым. «Неужто гнев Божий? Нет! За меня Бог! За правду Васька пострадал. Всех наказать. Бояр московских, что не пожелают мне клятву на верность дать, живота лишить! Княгиню Софью отослать в Чухлому. Дерзка не в меру. А Ваську с женой в Углич! Пусть в моей отчине у бояр под присмотром будет...»
За великой княгиней Софьей Витовтовной пришли рано утром. Бояре уверенно ступили в терем. Так и вошли все разом на женскую половину. Всем вместе гнев великой княгини выдерживать легче. Крутая Софья в речах.
— За тобой мы пришли, Софья Витовтовна. — Как ни дерзок был боярин Ушатый, но перед княгиней великой и он оробел. — Дмитрий Юрьевич, великий князь московский, в Чухлому в монастырь велел тебя доставить.
Вопреки ожиданию, Софья встретила гостей покорно — бояре не услышали бранных слов.
— Великой княгиней я была, великой княгиней и останусь. И в Чухлому в венце поеду.
Согласилась больно быстро княгиня, очевидно, строптивость для следующего раза приберегла.
— Хорошо, княгиня... великая, — за всех решил Иван Ушатый, — быть по-твоему.
— Сына я своего хочу повидать и государя моего, Василия Васильевича.
Так оно и есть, не покорилась княгиня. Стало ясно Ивану Ушатому, что не пойдёт со двора вдова, если не дать ей повидаться с сыном. Разве что силком повязать да на сани уложить. Но кто же станет воевать с великой княгиней? Кто срам на свою голову захочет принять?
Иван Ушатый согласился ещё раз:
— Будь по-твоему, государыня.
Великую княгиню отвели ко двору Шемяки, где под присмотром стражи томился печальник Василий. Он сидел в самом углу на слежавшейся охапке сена, ярко пылали свечи, но он их не видал. Василий Васильевич был слеп!
Великая княгиня Софья долго не могла в этом старце узнать своего сына. Василий сидел неподвижно, слегка склонив голову, казалось, он внимательно разглядывал носки своих сапог. А когда наконец материнское сердце подсказало ей, что страдалец, безучастно сидевший в углу, не кто иной, как её сын, она закричала в ужасе:
— Что ты с сыном моим сделал?! Будь ты проклят, Дмитрий! Увидит Господь ещё наши страдания! Покарает он тебя!
Василий Васильевич услышал голос матери и посмотрел на неё пустыми глазами.
— Матушка, где же ты? Дай мне дотронуться до одежд твоих. Дай мне силы вынести всё это!
Великая княгиня подошла к сыну, а Василий беспомощно, как это делал в раннем возрасте, сделал шажок, затем другой. Руки выставлены вперёд. Обрубки пальцев коснулись лица матери. На розовых, едва заросших рубцах остался влажный след, и Василий, как мог, утешал мать:
— Ничего, матушка, ничего... Ведь и так живут люди. Грешен я перед народом. Грешен я перед братьями моими, вот Господь и покарал меня. Братьев я не любил, а стало быть, и Бога не любил. За это и наказание получил. Ладно, матушка, не горюй. Схиму приму и до конца дней своих грехи замаливать стану.
Матери показалось: заплачет сейчас сын, и слёзы смоют со щёк запёкшуюся кровь, но глазницы были пусты.
— Потерпи, мой родимый, потерпи! Время пройдёт, легче будет. Оно всё лечит, — утешала великая княгиня. — Был бы жив Витовт, не дал бы внука в обиду. Обернётся твоя боль лихостью против злыдней! Поплачут они ещё кровавыми слезами!
Василий понял, как ему не хватало матушкиного тепла, ласковых её рук и нежного, будто журчанье ручья, голоса. Как давно это было. Деревянная колыбель, зацепленная за ржавый крюк в потолке, взволнованный голос матери, когда он в первый раз в жизни упал, рассёк себе лоб. Кривая белая полоска на его лице напоминала, что и князья сотканы из плоти. Потом шрамов на его лице и теле становилось всё больше: он падал с лошади, сражался на боевых мечах со своими сверстниками, а один раз стрела, пущенная дворовым отроком, порвала кафтан и острым жалом впилась в мякоть. В десять лет Василий сделался великим князем и с этой поры должен был в походах идти впереди своего воинства. Ран с той поры заметно прибавилось. А в память о последнем сражении и своём пленении у Василия остались пальцы-обрубки.
Василий рано стал великим князем. Он не успел наиграться игрушками, которые из пахучей липы резал ему дворовый берендеечник. Малолетний Василий любил возиться с ними подолгу, выставляя их в ряд. Среди них были воеводы и бояре, дворовая дружина и смерды. Стояли среди всех и золотоордынцы — с длинными узкими бородами, восседавшие на деревянных лошадках. Татары неизменно проигрывали в затеваемых Василием сражениях, однако не всегда так было в действительности. Василий благоговел перед игрушками так же трепетно, как его далёкие предки боготворили своих языческих богов, выставляя их на вершины холмов и принося в жертву живую плоть. Видно, эта любовь к резным фигурам не умерла, а передалась ему от его предков, сумевших донести до потомка всю магическую силу деревянных болванчиков. Наверно, эта любовь к резным идолам и заставила взять Василия в Большую Орду любимую резную игрушку: бородатого дружинника с мечом и щитом. Воин нападал, делая шаг вперёд: правая рука с мечом далеко выставлена, левая, в которой был щит, закрывала грудь. Полумаска скрывала лицо: видны только губы и подбородок, а бармица неровно спадала со шлема, прикрывая шею. Берендеечник был искусным мастером; даже складки одежды ратника, казалось, развевались при движении, а металлические пластины позвякивали. Василий просил тогда заступничества у этого дружинника, как когда-то его могучие предки-язычники выпрашивали победы у Перуна. Они ему приносили в жертву живое существо, а Василий обещал, что никогда не расстанется с ним, если великокняжеский престол перейдёт к нему.
Свой талисман Василий потерял перед самым сражением с Улу-Мухаммедом. Вместе с отроками он объездил все поля, обещал парадную кольчугу с позолотой тому, кто сумеет разыскать деревянного воина. Но его так и не сыскали. Со смутным предчувствием беды он выехал навстречу всадникам Улу-Мухаммеда.
Кто знает, быть может, его поражение было расплатой за нерадивое обращение со своим идолом?
И сейчас под тёплыми материнскими руками Василий вспоминал и потерянного болванчика, и позорное пленение казанским царём. Князь зарыдал. Пустые глазницы так и не наполнились слезами, но Василию стало легче.
Он уткнулся лицом в бурнус, и боль со стоном уходила из наболевшей души.
— Да что же мы стоим-то, бояре, — бестолково затоптался у входа Иван Ушатый. — Пусть уж простятся, думаю, Дмитрий Юрьевич против не будет.
И бояре один за другим покинули темницу великого князя.
— Пойдём, мой голубь, пойдём, — шептала Софья Витовтовна. — Пойдём из этой темницы на свет Божий.
Василий Васильевич крепко сжимал матушкину руку. Так он поступал всегда в детстве, когда опасался, что мать уйдёт навсегда, оставив его среди незнакомых людей: бояр и многочисленных мамок. Софья Витовтовна утешала его такими же словами, как и много лет назад:
— Я здесь, Василёк, здесь. Я никуда не ухожу... Осторожней, здесь ступенька, подними ноженьку.
Василий робко шёл вслед за матерью, теперь он не боялся, что разобьёт лоб, как это случалось в далёком детстве, — рядом была хранительница и заступница.
Морозный воздух захватил дыхание, и Василий спрятал лицо в материнские одежды.
— Жжёт, — признался Василий, — жжёт, как огонь!
— Рана твоя слишком свежа, вот оттого и печёт, — отвечала княгиня. — Времечко нужно, чтобы зажило. Ничего, Василёк, потерпи, пройдёт и эта беда.
— А что сейчас, солнышко или звёзды? — спросил великий князь.
— Солнышко, Василёк, солнышко.
Подошёл боярин Ушатый, потоптался неловко и, оборотись к великой княгине, промолвил:
— Софья Витовтовна, княжна великая, кони уже запряжены, тебя дожидаются. До Чухломы путь не близок, продрогнем все. И так я на себя грех взял, позволил тебе с Василием проститься. Прознает об этом Дмитрий Юрьевич, серчать будет.
Как ни крепки объятия матери с сыном, но и их приходится разжимать. Софья Витовтовна пригнула голову Василия и поцеловала прямо в кровоточащую рану.
— Теперь заживёт быстро, — пообещала великая княгиня. — Идти мне надо, Василёк, ничего, скоро встретимся.
Софья Витовтовна подобрала полы шубки, села в сани. Никто не поддержал великую княгиню под руки. Бояре, затаясь, смотрели на ту, которая была раньше великой княгиней.
Василий продолжал стоять, не решаясь сделать и шага. «Как же он дорогу сыщет? — горевала княгиня. — Один он теперь остался». Но кто-то из челяди подошёл к опальному князю и, взяв его под руку, осторожно повёл в горницу. Василий был без шапки, и злой февральский ветер трепал его волосы, лохматил их. Великокняжеские бармы сбились на сторону, кафтан задрался, и бордовые полы со следами крови трепетали на снегу.
— Ну что стоишь?! — яростно прикрикнула на возницу княгиня. — Сказано тебе, пошёл.
Словно разгневался Господь на вражду меж братьев и послал на Московскую землю в эту годину большой мор. А ко всему худому не собрали и урожай, то, что осталось на полях, побил град, больше не сгибались под тяжестью зёрен колосья, и сиротливо покачивались на ветру их сухие стебли.
Уже не хватало гробов, и умерших складывали в скудельницы[45], хоронили за оградой кладбища в наспех вырытых ямах. Хоронили без обычного отпевания, разве что оставшиеся в живых прочитают над почившими молитву и уходят с миром.
Мор расходился по Северной Руси, огромной костлявой ладонью накрывал города, и если заползал в дом, то не уходил до тех пор, пока не прибирал последнюю душу. Города опустели, сёла вымерли совсем, а дороги наполнились нищими и сиротами.
Поля заросли, не паханные, где и уродился хлеб, то некому было жать его, так и осыпалось перезревшее зерно в землю, чтобы на следующий год пробиться зелёным бесполезным ростком. Если и было кому раздолье, так это залётным стаям, которые чёрными тучами налетали на рожь и, отведав сытного зерна, тяжело поднимались в небо.
В неурожае и болезнях винили злые силы, и не было села, где бы не вспыхнул костёр, на котором не сожгли бы ведьму, нагнавшую на односельчан недород и мор.
Вонючие кострища верстовыми столбами чернели на дорогах. Пройдёт инок, плюнет на кострище и дальше спешит в благодатную обитель. Но было и по-другому: ведьм зарывали живыми вместе с их чадами, и долго тогда стоял стон и шевелилась земля над притоптанной могилой.
И что же за земля такая окаянная: если не братская междоусобица, так мор косит людей!
Прошка Пришелец пробирался в Москву тайком. На дорогах великий князь повелел выставить дозоры и воротить всякого, битого гнойными язвами, в свою волость. Но болезнь уже набрала силу и подступала к стольному граду. Это было видно по крестам на обочинах, кое-где кружило воронье — то незахороненные тела дожидались погребения.
В одном месте Прошка остановился: худой монах стаскивал трупы в яму. Были они уже истлевшие, испускали нестерпимый смрад, но монах, преодолев брезгливость, бережно клал на дно могилы усопших мучеников. Что-то в движениях монаха Прошке Пришельцу показалось знакомым. Он остановился, пытаясь разглядеть его, но монах, видно почувствовав на себе чужой взгляд, ещё глубже натянул клобук на самые глаза.
— Иван?! Князь можайский! — не сразу поверил своим глазам Прохор. — Неужто ты?!
— Ну я, — неохотно отвечал князь. — И что с того? Я тебя ещё у дальнего поворота заприметил, но не прятаться же мне, как злыдню, в глухом лесу. Я делом занят! А вот ты что по дорогам шастаешь?
— Не шастал бы я, если бы не твой брат Дмитрий Шемяка! Чтобы гореть ему в геенне огненной! Василию глаза выколол, а меня в железо заковал. Неужто не ведаешь?
— Ведаю, — отвечал просто князь, бережно укладывая на груди почившего руки. Глаза мертвеца смотрели открыто и безмятежно, и, подумав, Иван достал гривны и заложил ими оба глаза. — Оттого и спрашиваю. Часть бояр Дмитрию Юрьевичу на верность крест целовали, а другая в Твери укрылась. А тебя так он обещал первого живота лишить.
— Долго ему ждать придётся. Убежал я! Стражу подговорил и в Коломну ушёл. А там со многими людьми сошёлся, так мы сёла Шемяки пограбили, а потом в Литву пробрались. Да больно неуютно мне на той земле сделалось. Вера у них другая, иноземцы, одним словом. Ещё мыкался я в дружине князя серпуховского Василия Ярославина, да домой решил вернуться.
— И куда ты сейчас, Прохор Иванович?
— Сначала к князю Ряполовскому пойду. Чады у него Василия Васильевича. А там посмотрим.
— А не боишься, что дозорных кликну? — вдруг спросил Иван Андреевич. — Вон они стоят! Только знак дать, — показал он на отряд всадников, которые неторопливо выезжали из-за леса. — Обрадуется Дмитрий Юрьевич такому подарку.
— Не боюсь, — уверенно отвечал Прохор Иванович, — после того, что вижу, не поверю, будто сможешь ближнего своего предать.
— Не смогу, — печально согласился Иван. И трудно было понять, жалеет ли он об этом или то просто вздох обременённого заботами тела. — Душу я свою спасаю. Ведь ежели бы не моё супостатство, не выкололи бы Василию глаза. Обещал я великому князю, что не тронут его, а Шемяка глаз лишил Василия Васильевича. И с тех самых пор снится мне сон, будто сижу я в гостях у Иуды, а он для меня стол накрыл, вино выставил. Пей, говорит, теперь мы с тобой заодно. Я брата своего духовного предал, а ты брата кровного. Вот этот сон мне всю душу растравил! Иуда мне чашу в руки даёт, я смотрю на него, а выпить духу не хватает. Вот уже ко рту подношу, и сон мой на том кончается, будто сам Христос не позволяет мне совсем пасть. Что ты скажешь на это, Прохор Иванович?
Прохор задумался, видно, сон тоже потряс его. Ведь Василий действительно, подобно Христу, распят своими ближними.
— Что я могу сказать?.. Может, Господь и простит тебе этот грех. Ведь не каждый отважится людей, что гнойной язвой битые, в могилы складывать. Не ровен час, и самому живота можно лишиться.
— То-то око и удивительно, Прохор, — продолжал можайский князь, — вроде бы и не берегу я себя совсем, в самую болесть лезу и павших собираю, все вокруг мрут, а меня не берёт! Будто сам Господь за меня заступается. Я ведь и в доме своём прокажённых держу. У одних всё лицо повыело, с других мясо с лица кусками валится, так я им сам, вот этими руками, язвы промываю. Видишь, цел пока! Всё надеюсь, прощение Иисуса на меня снизойдёт. Ты уже, Прохор Иванович, про то, что меня здесь видел, не говори никому. Прошу тебя очень. Я ведь и одежду монашескую на себя надел, чтобы неузнанным быть, да вот ты меня сразу признал. Обещаешь?
— Хорошо, — буркнул Прохор. — Пусть по-твоему будет.
— В Москву, Прохор, не ходи, узнают тебя. У Дмитрия всюду свои люди. Он через нищих и бродячих монахов всю правду о себе знает. И ещё я хочу тебе сказать, Прохор Иванович, жалеет Дмитрий, что сыновья Васильевы на свободе. Поначалу он хотел дружину на Ряполовских послать, чтобы деток великого князя взять, да раздумал. Народного гнева испугался. Но он, ирод, опять что-нибудь надумает, не успокоится, пока их не добудет. Ты передай Ряполовским, пусть ни на какие уговоры не соглашаются и мальцов Шемяке не отдают.
— Хорошо, передам, — пообещал Прошка Пришелец. — А сам долго здесь ещё будешь?
— Я-то? Долго, брат, долго. Божье дело спешки не выносит. Ступай, я ещё страдальцев лапником укрою, и дай нам Бог не встретиться больше на поле брани супротив один другого!
Прохор махнул на прощание и не спеша пошёл дальше. Ему хотелось обернуться и посмотреть, как княжеские руки кладут на безымянных усопших ветви лапника. Видать, здорово его припекло, если он на такое решился. Не оглядываясь, Прошка пошёл дальше.
Дмитрий Шемяка с ростовским епископом не знался. Быть может, потому, что отец Иона был любимцем князя Василия, и, когда вдруг в его палаты шагнул посыльный московского князя Дмитрия, владыка не сдержал удивления, поморщился:
— Что за нужда такая приспела ко мне угличскому князю?
— Московский князь великий Дмитрий Юрьевич велит тебе, отец Иона, быть у него во дворе, — не хотел замечать посыльный обидных слов «угличский князь». Ему хотелось коснуться лидом ладони епископа, но он не смел этого сделать без разрешения старца.
И когда Иона подставил руку, отрок охотно приник к ней губами.
— Велит, стало быть... — хмыкнул владыка. Отец Иона хотел добавить, что мятежный князь ему не указ, дескать, есть у него господин — Василий Васильевич, да смолчал. — Что хочет великий князь? — нарочно упустил слово «московский» отец Иона.
— О том не ведаю, — развёл руками гонец. — Велел доставить.
Первый раз он видел владыку вблизи и, не стесняясь, во все глаза разглядывал его.
— Хорошо, буду, — согласился вдруг Иона. — А ты ступай на двор пока. Время мне нужно, чтобы облаченье праздничное надеть.
На двор Дмитрия Юрьевича отец Иона вошёл в сопровождении большого числа священников, дьяков, подьячих, что напоминало церковный ход, который величаво тянулся от самых Спасских ворот. Московиты издали заприметили Иону, падали ниц, просили благословения. Давно столицу не радовал своим посещением ростовский владыка. После смерти Фотия митрополичий двор оставался пуст. Ни один из епископов не осмелился сесть на митрополию во время братовой войны. А Москва без присмотра главного владыки казалась сиротой, даже службы в Благовещенском соборе проходили не такими праздничными, как бывало раньше. А тут диво эдакое — сам ростовский владыка Иона пожаловал!
Отец Иона не торопился, шёл размеренным шагом, подставлял руки для целования, благословлял младенцев и, несмотря на небольшой рост, был виден отовсюду.
Благая весть мгновенно разлетелась по Москве, заполнились народом улицы, а тут ещё набат ударил, приветствуя владыку. Ростовский епископ был растроган встречей и, как бы невзначай, прикрыл лицо епитрахилью, смахивая слезу-предательницу. И надо же ведь как бывает — по близким не всплакнёшь, а тут от чествования слёзы сами текут. Видать, нужен всё-таки владыка Москве, народ руками к одеянию тянется, благословения просит. Вроде бы и тесно вокруг, ступить негде, но расступился народ, пропуская вперёд отца Иону на Шемякин двор. Сам московский князь навстречу поспешил — оказал честь епископу. Поклонился Дмитрий до земли и не постеснялся показать собравшимся рыжих своих волос; застыл в поклоне, а следом бояре поскидали с нечёсаных голов шапки. По правую сторону от Шемяки сын его старший, а до толпы доходит сдержанный шёпот князя:
— Ниже голову опусти, дурная башка! Сам Иона в Москву прибыл.
Отрок, напуганный покорностью отца, склонял голову ещё ниже, едва не касаясь волосами пыльной земли.
— В дом тебя прошу, дорогой гость, — заговорил Дмитрий и по праву хозяина отступил в сторону, приглашая владыку на гладко тёсанные ступени Красного крыльца.
Не сразу разговор начал Дмитрий Юрьевич, поначалу велел, чтобы истопили для владыки баньку и чтоб жару поддали крепкого. И когда Иона, распаренный и красный, вошёл в покои великого князя, Дмитрий Юрьевич из собственных рук подал епископу прохладного квасу.
Грозен был великий князь московский Дмитрий. Бывало, заедет в иной монастырь, так игумен от страха и келью не решается покинуть, боится предстать перед Дмитрием, который и на духовный сан не посмотрит, плёткой огреет за непослушание. А не далее как неделю назад на своём дворе приказал выдрать чернеца за дерзость: достаточного смирения у монаха не заметил. Так по Дмитрию получается, что каждый чернец всякой бесстыжей голове кланяться должен. А тут владыку, как девку, обхаживает, даже квасок прохладный из собственных рук подаёт.
Владыка отпил. Квасок удался знатный. Был в меру сладок и на редкость крепок. Монастырское питьё послабее будет. Владыка отпил ещё. Поперхнулся. Передохнул малость, а потом, не отрывая рта от братины, допил всё.
— Ах, хорош! — крякнул Иона и, посмотрев хмельными глазами в плутоватое лицо Шемяки, спросил прямо: — Что хочешь от меня, Дмитрий? Видать, много просить будешь, если народ со всей Москвы да с окрест нагнал, чтобы меня с честью встречали. А потом уважил, на Красное крыльцо встречать вышел, баньку затопил, а теперь вот квас из своих великокняжеских рук подаёшь. Не много ли чести для одного владыки получается?
— Да о чём ты, отец Иона! — отмахнулся Дмитрий. — Тебя на Москве видеть, вот это честь великая!
— Вижу, юлишь ты, князь, словно сват перед сватьей. Говори, зачем звал, иначе обратно в Ростов Великий ворочусь.
— Ох, до чего же ты упрям, отец Иона! Погостил бы у меня. Отдохнул бы ещё, кваску попил. Неужели не по вкусу пришёлся?
— Квасок у тебя удался, князь. Только у меня в епископстве дел хватает. Земли монастырские нужно посмотреть. Наказ на праздник дать, — стал перечислять владыка, — а ещё по дорогам тати стали шалить. В народе поговаривают, что это монахи бродяжьи! И это нужно проверить. Да мало ли ещё чего, князь! Ты своё говори.
Отец Иона сидел напротив Дмитрия. Владыка ещё не отошёл от жару: лицо его оставалось красным, а на лбу крупными каплями выступил пот, нательный крест пристал к груди, и цепь плотной удавкой окутала шею.
— Так и быть, слушай, отец Иона, — хлопнул себя по колену Шемяка. — Хотел бы я, чтобы ты в Муром поехал и взял бы у князей Ряполовских детей Василия. Пожаловать их хочу.
— Пожаловать, стало быть, хочешь?.. — глянул на московского князя епископ. — Только стоит ли тебе верить, князь? Крут ты. Вон давеча рассказывали, что повелел священника с места спихнуть, насилу и выплыл, бедняга! А на дворе своём монахов розгами лупишь. А попов, что рать твою в походе сопровождать не пожелали, велел в темнице держать, пока не опомнятся! Божьего суда, Дмитрий, не боишься!
— Было всё это, — смиренно принял упрёк владыки Дмитрий Юрьевич. — Только ведь в том я уже покаялся. Почему же ты не говоришь ещё того, что пожертвования я на церковь немалые делаю и соборы мурованые на свои деньги ставлю? Я ведь священника поделом наказал, ругался матерно на дворе, хуже пса бродячего. Неужели эту малость мне Бог не простит?
— Сам уж ты больно чист! — возразил владыка ростовский.
— Ясное дело, грешен и поганен я, — охотно соглашался Дмитрий Юрьевич. — Только ведь я князь! С моих уст и бранное слово может невзначай слететь и поганым не покажется. А попу-то святость блюсти пристало! Но не об этом мы говорим, владыка, хочешь, крест поцелую, что детишек Василия не трону?
— Не надо целовать, поеду я к Ряполовским, передам, передам твой наказ, — согласился вдруг отец Иона. — А сейчас пусть квасу мне принесут, больно он у тебя приятен.
— Эй, квасу несите! — распорядился Шемяка. — Владыку сухота одолела. Если уважишь мою просьбу, отец Иона, на дворе московском митрополитом оставлю!
У Дмитрия Юрьевича епископ погостил ещё два дня: пил сладковатый квасок, парился в баньке, служил вечернюю службу в домовой церкви и тешился с великим князем в долгих разговорах, наставляя его на путь истины. Уж больно много нехорошего стали поговаривать о московском князе, а весть, что он выколол глаза брату, удивила даже чернь.
И Василия Васильевича, князя бедового, прозвали в народе Тёмным.
Дмитрий Юрьевич терпеливо выслушивал назидания отца Ионы: обещал в меру пить хмельное вино; девок обязался не портить; слова матерные говорить только по злобе, а не забавы ради; мяса в пост не есть; песен срамных не петь и плясками бесовскими не развлекаться.
Дмитрий Юрьевич смиренно сносил упрёки и терпеливо дожидался отъезда епископа, а когда возок владыки миновал Спасские ворота и пушка на прощание выстрелила, Дмитрий Юрьевич тотчас скинул с себя личину и, крикнув боярина Ушатого, повелел:
— Зови ко мне в горницу скоморохов да девок-шутих! И пусть хари наденут посрамнее, посмеяться хочу! Пусть до утра пляшут и песни поют. Скажи им, что пива будет вдоволь и вина белого! Ой, уморил меня владыка ростовский своими разговорами, надумал чернеца из меня вылепить! Но разве чёрта заставишь ладан вдыхать?
Тяжело расставался с Москвой ростовский владыка Иона. Вроде бы и немного пробыл, а привык. И размахом Москва пошире будет, и соборов понастроено поболее, чем в удельных городах, только там и должен быть митрополичий стол. Дорога развеяла грусть отца Ионы, и он с интересом посматривал по сторонам, узнавая знакомые места. Ещё три десятка лет назад, проезжая этой дорогой, он видел только дремучий лес, который сейчас поредел. В разных местах теперь можно рассмотреть засеянное поле, на котором уже пробивались зелёные ростки яровых. Раньше места эти были дикими, разве что иногда среди деревьев мелькнёт скит пустынника. Сейчас навстречу попадались крестьяне с возами дров, они во все глаза пялились на важного гостя, забывая порой и шапку-то снять.
В одном месте владыка увидел, как водили хоровод девки, песни пели. А рядом парни игры затеяли, видать, удаль молодецкую показывали. И сладко защемило в груди у Ионы — вспомнилась юность. Вот такой же он был бестолковый, когда впервые девку отведал — сграбастал её ручищами, а она, дурёха, глазёнками хлопает, под ласками вздрагивает и только раз из себя и выдавила:
— Не надо...
Да чего уж там! Есть что вспоминать, не всю жизнь кадило в руках держал. И поганым был, и грешил понемногу, только будто всё это в другой жизни происходило. И сам, задрав штаны, через огонь сатаной прыгал.
На пути попалось большое село, дворов эдак четыреста. Издалека виднелась церквушка; наверно, звонарь узнал владыку и ударил запоздало в колокола. Голос у колокола оказался басовитый, разнёсся звон над лесом, будоража Божью тварь.
В селе отец Иона не остановился, даже не вылез из повозки, слишком путь далёк, перекрестил издали толпу крестьян и поехал дальше. А за селом поле — гладенькое, словно ковёр тканый. Из зелени синие глаза васильков выглядывают. И уж совсем диковинное зрелище: на вспаханной полосе, подняв голову кверху, стоял тур. Зверь тревожным взглядом провожал повозку епископа. Тур был крупный, рога огромные, но, видно, и его не миновало зло — на мускулистой шее большой кривой шрам. Махнул бык хвостом и, наклонив тяжёлую голову, повернулся к лесу.
Дорога уводила отца Иону всё дальше и дальше к Мурому.
Князья Ряполовские встретили владыку с почтением: хозяйская дочь вышла с хлебом-солью, а сам Никита Ряполовский на подносе держал чашу с вином.
Отломил ломоть хлеба владыка, посолил его круто да и проглотил, не мешкая. От хмельного зелья тоже решил не отказываться — разговор предстоит долгий, и не следует его начинать с отказов. Запил он солёное сладким и по красному крыльцу поднялся в хоромы князя.
Ростовского владыку уже дожидались — в светлой горнице накрытый стол, на котором пироги да снедь разная. Ишь ты как оно получается, каждый его на свою сторону тянет. Только он всегда сам по себе. На то только и слуга Божий.
Расселись гости. Пили вина и квас, шестой раз сменили блюда, а о делах и слова не сказано. Наконец отодвинулся отец Иона от стола, ослабил пояс, который начинал стеснять распиравшее от обильного угощения брюхо, и заговорил о главном:
— Послан я к тебе, Никитушка, московским князем Дмитрием Юрьевичем... — Заметил отец Иона, как скривилось лицо князя, а лоб прорезала глубокая морщина.
— Слушаю тебя, владыка.
— Просит он дать на его попечение детей Василия Васильевича. Обещал их пожаловать, а великому князю Василию вотчину дать достаточную.
Мясо было постное и солёное, и владыка почувствовал, как горло одолела сухота, он взял со стола кувшин и выпил до капли.
Князь Ряполовский терпеливо дожидался, пока Иона утолял жажду, внимательно наблюдал, как двигается его острый кадык, проталкивая в бездонное брюхо епископа питьё.
— Не могу я так сразу дать ответ, отец Иона. Подумать нам надо, — засомневался князь.
Владыка поднялся из-за стола:
— Слово своё даю, что возьму детей на свою епитрахиль и беречь их стану. Завтра за ответом явлюсь.
— А разве не останешься у меня, владыка? Или обидел чем? В моих хоромах тебе перина постелена.
— Непривычно мне на перинах лежать, — возражал отец Иона. — Неужто запамятовал, что я монах? Келья мне нужна и лавка жёсткая.
Ушёл монах. Ряполовские остались одни, с ними Прошка Пришелец.
— Что делать-то будем? — спросил сразу у всех Никита и, повернувшись к Пришельцу, добавил: — Может, ты скажешь, Прохор Иванович? К Василию Васильевичу ты ближе всех стоял, хоть и не княжий чин имеешь.
— Не верю я Шемяке. Деток Василия Васильевича хочет получить, чтобы потом измываться дальше. На московском столе он укрепиться хочет, а сыновья государя для него только помехой будут.
— Так-то оно так, — несмело согласился Никита, — только ведь он епископа послал. Его слово что-то должно стоить.
— А вы что думаете, братья?
Младшие братья Василий Беда и Глеб Бобёр, такие же скуластые, с косматыми сросшимися бровями, как у самого хозяина дома, передёрнули плечами.
— Оба вы правы: и ждать нельзя, и отдавать надо. Епископ ростовский послан. Если не отдадим отроков, тогда вроде Церкви не доверяем. Выходит, правда где-то посерёдке. А вот где эта серёдка?
— Вот что я думаю, братья, — снова заговорил Никита. — Если мы сейчас епископа не послушаем, будет лишний повод у Шемяки, чтобы гнездо наше разорить. Дружина у нас здесь небольшая, сопротивления серьёзного не дадим. Тогда уже точно деток в полон захватит. Ионе мы скажем, пусть возьмёт в соборной церкви на свою епитрахиль. Если согласен, тогда и отдадим.
Едва заутреню отслужили, братья Ряполовские с Прошкой пришли в келью к епископу. Отец Иона выглядел необычно: на голове митра высокая, а на груди на тяжёлой цепи золотой крест висит. Епископ ходил всегда в простой рясе, отличаясь от остальных священнослужителей игуменским жезлом и большим крестом. Сейчас он казался особенно праздничным, даже ростом выше стал.
— Надумали мы, владыка, — отвечал за всех старший из братьев. — Твоими устами сам Бог велит отпустить детишек к Дмитрию. Но только позволь сказать тебе... Отпустим, если на свою епитрахиль отроков возьмёшь.
— Именно этого я и ждал от вас, — отвечал просто владыка. — Пелену Пречистой велел приготовить. Вот с неё и возьму на свою епитрахиль[46] отроков Василия Васильевича. А теперь, братья, на свет пойдёмте.
Рассвело уже.
Майский воздух был ещё прохладен, и бояре, стоявшие у церкви, поёживались. От ветра ли? Ведь детей великого князя Василия Тёмного в руки бесу отдавать приходится. А как тут не отдать, если сам епископ за ними прибыл!
Набились бояре в церковь, а когда епископ запел высоким голосом, восхваляя Богородицу, подхватили разноголосо.
Молебен больше напоминал заупокойное пение, слишком высоко взяли бояре, и голоса их то и дело срывались, словно от плача. Когда служба закончилась, епископ накрыл сыновей Василия епитрахилью, и они, как цыплята, прячущиеся от опасности под крылышком, прижались к святому отцу.
— Ты это... самое... отец Иона... Да что говорить! Бери малюток, — за всех высказался Никита.
Повозка тронулась, увозя сыновей великого князя, только после этого бояре неохотно разошлись.
В Переяславль Иона приехал как раз на Иова Горошинка.
Вдоль дорог лежали распаханные поля, и крестьяне, не скупясь, сеяли горох. Заприметив епископа, снимали шапки, смотрели вслед, а потом, словно досадуя на вынужденную остановку, понукали лошадей и шли дальше по борозде. Дута чернели от сажи, видно, на Ирину Рассадницу пожгли прошлогоднюю траву, а молодые зелёные побеги ещё не успели пробить не успевшую прогреться землю.
— Останови у ворот, — наказал вознице Иона. — Негоже сразу во град въезжать.
Возница в просторной белой рубахе, которая раздувалась у него на спине точно большой шар, натянул поводья, и кони встали.
Епископ отстранился от услужливых рук, отыскал глазами крест Успенского собора и перекрестился.
— Перед Богом я теперь в ответе. Не дай случиться греху. Господи, помилуй чад великого князя Василия Васильевича. Не искуси, сатана, Дмитрия Юрьевича, чтобы кровь невинных епитрахиль не испачкала.
Помогло чуток, отлегло от души. Иона уселся рядом с отроками, потрепал старшего за русый чуб и сказал детине:
— Трогай, Тимофей, а я в княжеские палаты пойду. Дмитрий Шемяка на богомолье в Переяславль приехал, дожидается нас.
Дмитрий Юрьевич мальчиков встретил ласково. Младшего, Юрия, взял на руки, долго носил по палатам.
— Глаза-то у тебя такие же, как у отца твоего Василия Васильевича, — и тут же осёкся, вспомнив, что глаз у Василия больше нет. — А ты не робей, Ванюша, — тискал он старшего княжича за плечи. — Ты за дядю держись и к городу присматривайся. Может быть, в кормление его тебе дам! Или ты всю землю Московскую хочешь? Ха-ха-ха! Сколько тебе сейчас?
— Семь годков.
— Семь, говоришь... Большой уже. В пятнадцать лет твой батька у моего отца стол московский в Золотой Орде отнимал, а великим московским князем он в десять лет стал. — Дмитрий Юрьевич всматривался в Ваню, который был похож на отца, вот только губы матушкины — сочные и по-девичьи робкие, такие губы бабы охотно целовать станут. Дмитрий посмотрел на отрока пристально, словно хотел угадать его будущее. «А не получится ли так, как когда-то вышло с Юрием Дмитриевичем? Не захочет ли он воспоследовать примеру своего двоюродного деда, чтобы отстоять московский стол? И прав у него на то более — Иван из московских князей, прямой потомок Даниловичей, а вот твои предки всё время Угличем да Галичем заправляли! Может, бросить чад в темницу и задавить там тайком, а ещё лучше зелья какого-нибудь в питьё подсыпать. Начнёт чахнуть Ванюша, покашляет, а потом и Богу душу отдаст. Можно ещё рубаху ядом пропитать, наденет княжеский отрок подарок, а он-то его как саваном и укроет. Прости меня, Господи, за грешные мысли. Не от злобы всё идёт, для земли Русской стараюсь. Только ведь власть не терпит двух хозяев, как не может быть у жены двух мужей. Второй-то всегда вор! Поганец!»
Короткие, заросшие жёстким чёрным волосом пальцы Дмитрия разглаживали чуб отрока, но вот ладонь ухватила непокорную прядь.
— Больно, дядя! — пожаловался Иван.
— Запомни, детка, так и мне больно было, когда отец твой против меня лихо держал и за старшего брата не почитал! Только не угличский я князь, а московский! И всегда им буду! Когда десять тебе исполнится, клятву мне на верность держать будешь, как отец твой поступил. Отходчив я, Ванюша, и доверчив чрезмерно, сколько бед через своего брата претерпел, а уже и не помню, будто этого и не было! Всё быльём поросло! Лукавством он силён. Я ему и удел дам. Пускай берёт город, какой захочет, ничего мне для брата не жалко. А сейчас сил в Угличе ему надо набираться. Я ведь у тебя, Ванюша, крёстным был, вот этими руками в купель окунал. Как же мне о крестнике своём не печься? Крестик-то мой не потерял? Вижу, не потерял, носишь! Этот крест когда-то я сыну своему хотел оставить, но разве ты для меня чужой? Такой же сын! Носи этот крест, пусть он тебя от беды хранит. Каменья разноцветные любишь? На, возьми! Жемчуг для себя берег, хотел кафтан расшить, да разве будешь жалеть для крестника! Из лука стреляешь?
— Стреляю, — отвечал Ваня, вспоминая, как ещё совсем недавно отец помогал ему править стрелы.
— На вот тебе этот лук. Тяжёл? Знаю. Когда научишься тетиву на нём растягивать, тогда и удел свой получишь! Так что расти, Ванюша, расти. Хорошие воины мне нужны. Мои сыны чуток помладше тебя будут, а уже вовсю тетиву тянут. Тебе их догонять придётся. Руки крепкие необходимы не только для того, чтобы баб тискать, а больше, чтобы власть держать. Холопов в дугу гнуть. Стоит только отпустить, как они к тебе на шею — прыг! А уж про бояр я не говорю, каждый почти князем московским себя мнит. Дали им волю по Руси-то бегать да служить разным князьям, которые больше по нраву, оттого и на язык они дерзкие. Всё словами погаными норовят обидеть. А их розгами сперва поучить! Тогда умишко у них прибавилось бы. Да чего уж там!.. Даст Бог, сам до всего дойдёшь, Ванюша.
Вечером Дмитрий в честь племянников устроил пиршество, на которое созвал всех бояр. Ванюша, не привыкший к такому чину, застенчиво жался к отцу Ионе, с ним он успел сдружиться. А святейший, наклонясь, на ухо мальчонке шептал:
— Ты гляди, Ваня, гляди на бояр, присматривайся. Может, не всегда так будет, может, среди слуг находишься.
Дмитрий Юрьевич покрикивал на бояр, слугам велел нести блюда, а когда на стол подали белое вино, распорядился:
— А почему моего главного гостя не потчуете? Почему вина Ванюше не налили? Он хоть и мал, а отведать вина должен.
Крякнул отец Иона, но перечить не стал.
Ваня взял стакан, встал из-за стола и, кланяясь в обе стороны гостям, поблагодарил за ласку великого князя, а затем пригубил вино.
Бояре переглянулись. Кто-то вспомнил Василия Васильевича: ведь так он и начинал, некогда великий московский князь. Сначала сам кланялся, а потом заставил строптивых головы низко к земле пригнуть.
В повороте головы и в жестах юного княжича Дмитрий узнавал своего брата. Глаза великого московского князя остались у старшего сына — смотрели по-прежнему дерзко и прямо. И стало ясно Дмитрию: не догнать его сыновьям Ивана, мал отрок, а держится с большим достоинством, будто и вправду московский князь. Хоть и лук растянуть не способен, однако нашлось смелости посмотреть боярам в лицо. И глядел так, будто холопов своих разглядывал. «Вот она, кровь, что делает! Васька своими погаными очами так же на братьев смотрел, покудова не выкололи их!»
Шуты и шутихи прыгали через голову, вертели хоровод, стараясь развеселить Дмитрия, но он всё более мрачнел. И вино уже не берёт, только взгляд от выпитого делается строже, а лицо наливается густым румянцем.
— Подите прочь! — вдруг громыхнул князь стаканом о стол.
Брызги весело разлетелись в разные стороны, заливая кафтаны бояр.
Шутихи и шуты смолкли на полуслове. Одна из них, маленькая, сгорбленная, сделалась ещё безобразнее от страха. Она втянула голову в плечи, словно боялась получить удар плетью, и, семеня кривыми ножками, потопала к выходу.
Веселье упорхнуло вспугнутой синицей, и бояре тяжело замолчали.
— А ты на нас не ори! — откликнулся со своего места Стёпка Плетень, самый дерзкий из бояр. — Мы тебе не холопы. Мы люди вольные! Кому хотим, тому и служим, а коли не любы стали, так мы себе другого хозяина поищем.
— Подите вон! А если ты, Степашка, надумаешь мне перечить, так всю харю твою о стол разобью!
И раньше случалось, князья бояр за бороды таскали, плетей им доставалось, и княжескими сапогами были топтаны. Жестокостью расплачивались московские князья за верную службу со своими подданными. Но то были московские князья, и ссоры эти походили на семейные перепалки. Сейчас перед боярами сидел Шемяка, который едва успел угличские бармы на московские великокняжеские поменять. А всё туда же! На московских государей и нравом походить желает.
Бояре дружно поднялись, грохнула об пол лавка. Кто-то рукавом охабня зацепил стакан, и он, дребезжа по гладким доскам и расплёскивая пиво, упал на колени князю.
— Иона, — окликнул великий князь епископа, который чинно поднялся из-за стола и пошёл вслед за боярами. — Ты вот что... Возьмёшь детей Василия и свезёшь их завтра в Углич. Представляется мне, там им спокойнее будет.
— Государь, Дмитрий Юрьевич! Да что же это такое! — взмолился владыка. — Обещал же ты мне, как только малюток привезу, сразу Василия из Углича отпустишь и удел ему в кормление дашь! А ты ещё и детей в заточение?!
— Хорошо тебе. Иона, на Москве? Митрополитом всея Руси стал... А может, тебе обратно в Ростов Великий хочется вернуться? Московская митрополия пустовать не станет, охотников мы живо разыщем.
— Я-то свезу, князь! Свезу детей, только ты совсем один остаться можешь. Вольных людей от себя отстранил, меня, митрополита, обидел, — укорял Иона, — а сейчас и слово своё не сдержал. Люди ведь не твари бессловесные, разнесут по Руси обиду. Одумаешься, Дмитрий, да поздно будет!
Забрал отец Иона чад Васильевых, перекрестил перед дорогой и повёз их к отцу в Углич в заточение. На душе было срамно. И есть от чего: надо же было додуматься великому князю — митрополита тюремщиком при отроках сделать. Всю дорогу отец Иона молился, а возница, удалой малый, не подозревая о тоске владыки, тянул скорбную песнь.
— Помолчал бы ты, братец, — попросил Иона. — И без того на душе тоскливо.
Затих возница, только одна плеть и пела свою песнь: «Вжик! Вжик!» И храпели разгорячённые кони. Было время, когда веселил Углич Иону звоном колоколов, ухоженными церквами, и сам он отроком обошёл эти места. Приходил сюда и с братией, собирая для монастыря подати, и никогда не думал, что этот путь станет для него безрадостным.
— Вон и матушка ваша, — очнулся от дум Иона, заметив у княжеских ворот великую княгиню. — Видать, из церкви вышла, обедня прошла.
Кони остановились.
— Матушка! — крикнул, выпрыгивая из возка, Иван.
— Здравствуй, государыня, — вслед за мальчиком ступил на землю Иона. — Как там князь наш... московский?
— Про князя спрашиваешь? А деток его в заточение привёз?! — укорила великая княгиня. — Кому теперь служишь, святой отец? Поганцу этому, что руку на брата посмел поднять? Каину! Иуде!
— Обидные слова говоришь, государыня! Только Господь Бог и есть мне господин.
— А митрополитом ты стал тоже по Божьей воле? Или Шемяка того захотел? Какую же ты сейчас ему услугу оказать можешь? А может, ты решил сам малюток на плаху отвезти, чтобы им так же, как и отцу, глаза повылавливали? Тогда веди, чего же ты ждёшь?! Весь род Даниловичей хочешь вывести?! Откуда же ты такой взялся, владыка?
— Не права ты, государыня, не права! — не нашёлся что и возразить митрополит.
— Пойдёмте, детки, батьку я вам покажу.
Так и остался стоять Иона один посреди княжеского двора. Подошла баба с младенцем и, протягивая дитя митрополиту, попросила благословения.
— Не могу я сейчас, — признался митрополит. — Грешен! Очиститься мне надо, а уж потом.
Не посмел дать своего благословения и, повернувшись спиной к озадаченной бабе, заковылял прочь.
Великая княгиня, взяв за руку сыновей, поднялась в мужнины покои. Князь сидел на высоком кресле, и руки его лежали на подлокотниках, веки были опущены, казалось, он спал, но, услышав шаги, встрепенулся, спросил:
— Это ты, Мария?
— Я, Вася... сыновей тебе привела. — И, подтолкнув старшего Ивана, произнесла: — Смотри, Ванюша, что ироды с твоим батькой сотворили! Зреть Божьих образов не может теперь. Силу у него отняли, а самого его под охрану а Углич отправили! Всё это ирод сделал, дядька твой, Дмитрий Юрьевич! Мало ему своего удела, так он на чужое позарился!
Василий поднялся с кресла и, шаря беспомощно впереди себя руками, стал искать голову сына. Ваня и раньше видел слепцов: они сидели у церквей и на базарах, ненавязчиво выпрашивая случайную милостыню. Иногда их собиралось много, и, выстроившись рядком, слепцы за вожаком-поводырём шли по сёлам, собирая в свои коробы скудные подаяния. Но всё это было в другом мире: в мире холопов и слуг. И он, выросший в великокняжеских палатах под присмотром мамок и владыки, не представлял, что эти беды могут коснуться его отца, их семьи. Сейчас горе перешагнуло порог великокняжеского двора и вступило в терем. Ваня почувствовал, как жёсткие пальцы отца дотронулись до его лица и бережно погладили лоб.
— Стало быть, и тебя, Ванюша, ирод не захотел пожалеть. Боится он нас! В заточении хоронит! — И уже спокойно продолжал: — Ничего, может, так и лучше. Вместе легче беду пережидать. Спасибо, что хоть живота не лишил. А мы ничего ещё, поживём! Я ещё с детишками твоими понянькаюсь, я хоть и слеп, но далеко вижу. Придёт ко мне ещё Дмитрий, прощения просить будет... А вот этого не надо, Ванятка, не реви! Большой уже. Мне десяток годков было, когда я великим московским князем сделался! А где же младшенький? Где Юрий? Ой, какой ты большой стал, князь! — нащупал обрубками пальцев голову младшего сына Василий. — С кем же вы прибыли?
— С отцом Ионой, — отвечал Ваня.
— Где же он сам? Почему в палаты не проходит?
— Грешен, говорит. Пошёл в церковь молиться.
— Видать, грязи в дороге достаточно поналипло, если в светлицу хочет покаянным зайти, — сказал великий князь. — Похоже, он стражем к великокняжеским отрокам приставлен. Не про него эта честь.
Отец Иона молился усердно, бился лбом о каменный пол, не уставал класть поклоны. И в пустой церкви над амвоном то и дело раздавался густой бас старца:
— Спаси и сохрани, помилуй меня! Не предавай анафеме, не прокляни за грех. Ибо то, что я делал, шло от добрых помыслов моих и от сердца покаянного, хотел, чтобы великие князья и отроки нашли мир и покой душевный. Господи, не осуди строго раба своего! Прости меня за то, что поддался искушению сатаны и пожелал величия вместо смирения. Прости, что презрел монашескую рясу и пожелал носить крест митрополичий. Отпусти мне грехи за то, что пожелал иметь свою паству, а себя видел пастырем, нёсшим свет Божий во тьме. Прости, что Василия обманул в его ожиданиях и сам стал стражем для чад его. Господи, сделай так, чтобы не прокляла меня паства, а поверила в искренность моих помыслов. Никогда не служил я Юрию Дмитриевичу, только один у меня господин, это ты, Господи!
Призвание служить Богу отец Иона обнаружил в себе ещё в ранней юности. Едва минуло двенадцать годков, как он сбежал из родительского дома и ушёл в обитель. Юный послушник удивлял братию своим усердием: он мог ночь напролёт молиться, подавляя в себе гордыню, исполнять любой наказ игумена, под жёсткой рясой всегда носил власяницу. Ел один хлеб, только в большие праздники мог отведать немножко сыра, пил родниковую воду. Малец совсем не носил обуви и мог в лютый мороз отправиться в лес за хворостом для братии. В пятнадцать лет Иона стал известен в округе своим подвижничеством, и за многие вёрсты в монастырь приходили крестьяне, чтобы посмотреть на удивительного отрока.
— Так он же совсем мальчишка! — удивлялись богомольцы. — Да... видать, недюжинную силу Господь вложил в это худое тело, если сумел над братией так возвыситься!
В монастыре Иона пробыл четыре года, а потом к нему в келью заявились монахи и вынесли свой приговор:
— Крестьяне к тебе ходят, а нас на дух не выносят, считают, живём мы в пьянстве и блуде! Если возражать пытаемся, все на тебя показывают, дескать, только так должен жить праведник. Возвыситься хочешь, отличиться от нас всех. Тёплую рясу зимой, к примеру, не носишь. Или хочешь сказать, что тебе не холодно совсем? А ведь окромя души плоть ещё есть. Она ведь болеть и страдать, как и душа, умеет. Устали мы за тобой тянуться, сил уже больше нет! Почему бы тебе не жить так же, как и мы? Оставайся тогда!
— Нет, — покачал Иона головой. Жить как все он не умел.
— Вот оно, стало быть, что! — грустно выдохнул монах. — Ярок ты больно, Иона, издалека виден. Ты нас так затмил, что и вблизи не разглядеть. А ведь мы тоже за людей молимся и грешные души их спасаем. Возможно, не столь усердно, но ведь Господь создал всех людей разными! — Иона смиренно слушал, и была в этой покорности та сила, какая бывает у капли, точащей камень. И в молчании Иона был дерзок. — Если не хочешь... ступай куда знаешь!
Иона ушёл, и долго на узкую спину уходящего отрока из окон кельи смотрели монахи.
Иона поселился в лесу, не принял его монастырь, и он решил стать отшельником. Для жилья выбрал огромное дупло. Липа была старой и благоговейно приняла в своё пропахшее сыростью нутро монаха. И Иона тихо засыпал под скрип раскачивающейся кроны.
Так он прожил год, питаясь ягодами, грибами, орехами. А на второй — у Ионы появились соседи. Они вели себя шумно: срубили в чаще просторную избу, разогнали зверя, и скоро отшельник понял, что это были недобрые люди. Свёл же Господь святого с убийцами! Иона прятался, стараясь ничем не выдать своего присутствия, но однажды, когда он лёг спать, услышал у дупла шаги.
— Придушить его надо, — говорил негромко хрипловатый голос. — Если донесёт на нас князю, тогда не жить! Князь большую награду обещал. Где-то здесь монах прячется. Я его сегодня утром видел.
— Может, он такой, как и мы? — произнёс второй.
Голос был моложе, звучал чуток мягче.
— Тогда тем более надо придушить! Два медведя в одной берлоге не живут. Только где он прячется? Не разглядеть в потёмках, может, ушёл куда?
— Ладно, пойдём отсюда, — проговорил второй. — Днём посмотрим, тогда и прибьём! А то где сейчас искать! Спугнуть можем, да и шею в такую темень, не ровен час, свернём.
Иона не спал всю ночь, выпрашивал у Господа чуда, а на следующее утро сам вышел к избушке. Распахнул дверь, предстал перед татями.
— Вы хотели видеть меня, братья? Вот он я... Я не собираюсь убегать от вас, вы сами у меня в гостях, живу я в дупле старой липы, так что милости прошу. Что я здесь делаю? — вопрошал спокойно отрок. — Ищу спасения для души своей, оттого и удалился от мирских забот в лес. Отсюда лучше молитвы доходят до Господа. Здесь душа моя обретает покой, а сам я становлюсь чище. — Взгляд у отрока прямой, открытый, но это не походило на дерзость, от него веяло силой.
— Садись, святой отец, — поднялся один из разбойников, приглашая Иону на скамью, в дом.
— Живите себе с миром, — откланялся Иона и вышел за порог.
Вроде бы и немного пробыл отшельник, ничего особенного не сказал и ростом не так чтоб велик, а вот сумел и этих людей покорить.
Иона уже давно ушёл, а разбойники продолжали молчать, и, когда впечатление от увиденного стало помалу исчезать, один из разбойников произнёс:
— Да... Силён монах! Малец ещё, а духом велик. Жаль, не туда пошёл, разбойник из него хороший бы вышел. Такие, как он, ни чёрта, ни Бога не страшатся. Знавал я одного такого атамана!
Стал соседствовать Иона с татями. И редкий день, когда к нему не заходил кто-нибудь из душегубцев послушать плавную и спокойную речь.
Через несколько месяцев, уже к самой зиме, разбойники пришли к Ионе все разом. Поснимали шапки, отвесили глубокие поклоны, и старший заговорил:
— Прости нас, святой отец, только не можем мы так жить, как раньше бывало. Видно, пришло наше время душу спасать, не спится ночами, всё кровушка снится, а её столько пролито было, что не приведи Господи! Вспоминать страшно, не то что рассказывать... И все невинные, а сколько среди них жён и чад, и не упомнишь. Но разве мы разбогатели на том? Всё прахом пошло! Ни детишек, ни жён у нас. Душа одна исковерканная и осталась, да вот ещё тело попорченное. Редкий кто из нас не пострадал. Кому кисть за воровство отрубили, кому руку. А разве после того ты уже работник?! Опять все в лес возвращаемся. Меня вот клеймили, — тать откинул русую чёлку со лба, и Иона увидел написанное: «ВОР». — А я вот к чему... Прости нас, Христа ради, святой отец. Видим мы, что ты хоть и мал летами, но рассуждать умеешь куда трезвее нашего, да так, что мы ягнятами себя чувствуем перед пастырем. Мы тут подумали... возьми нас к себе.
— Куда же я вас возьму, обители ведь нет, — возражал Иона.
— Так её построить можно. Вон сколько деревьев вокруг! Подле твоей липы и построим, а ты для нас с братией игуменом будешь.
— А хотите ли и сможете ли терпеть с братией голод, нужду, жажду? Сможете ли вы не щадить плоти за ради души? — вопрошал Иона.
— Хотим и можем, — отвечали разбойники.
— Тогда жизнь ваша будет большим трудом и многотерпением, — отвечал отшельник. — Готовьте себя для подвига духовного.
Недели не прошло, как на месте старой липы вырос крохотный монастырь.
Так шестнадцатилетний отрок сделался игуменом...
Отец Иона поднялся. Воспоминания навеяли грусть. К Дмитрию надо идти, к Шемяке. Так и сказать ему:
— Разве вольного сокола можно удержать в клети?
К обедне в Углич пришёл монах. Чёрный капюшон закрывал половину лица. Монах, казалось, был погружен в свои мысли, совсем не смотрел по сторонам и неторопливо шёл к Успенскому собору, где должна состояться служба. На чернеца никто не обращал внимания, он был один среди многих, кто в этот час подошёл к храму. Горожане крестились и заходили в церковь. На миг все оживились, когда в сопровождении двух стражей к храму подвели Василия.
— Даже слепого боятся, — выдохнул кто-то в толпе. — Шемяка совсем осатанел.
Василий остановился, перекрестился на колокольный звон и пошёл дальше, крепко держа за руку поводыря.
Монах слегка приподнял клобук и внимательно наблюдал, как Василий неуверенно переставлял ноги, направляясь к церкви. Один раз князь споткнулся, и, не окажись рядом поводыря, который подхватил слепца под руку, расшиб бы печальник лоб о камни.
— Прошка, да неужто ты? — выдохнул кто-то над самым ухом чернеца.
Монах вздрогнул и надвинул клобук на самый нос. Это был боярин Хвороста, некогда служивший у Дмитрия Красного.
— Как же ты попал сюда? — удивился боярин. — Не ровен час, и узнать могут! Вот тогда и ослепят, как хозяина твоего Василия Васильевича, а то и вовсе жизни лишат.
— Если ты орать не будешь, тогда всё и обойдётся, — хмуро заметил Прошка.
— Да ты не бойся меня, только клобук свой на самые уши натяни. Дмитрий-то тебя по всем дорогам ищет, а ты в отчине его. Вот подивился бы он, если бы узнал!
— Я слышал, ты Шемяке клятву на верность дал.
— Да как тут не дашь, — вздохнул боярин. — Дал я её для того, чтобы рядышком с Василием быть. Если б отказался, Шемяка меня живота лишил, чем бы я тогда был Василию полезен? А сейчас хоть подле него нахожусь.
— Может, и верно. Ты вот что, боярин, отведи как-нибудь сторожей от Василия. Мне послание велено передать ему.
— Они ведь, ироды, от Василия ни на шаг не отходят. Всюду его стерегут. Да уж ладно, придумаю что-нибудь.
Боярин подошёл к нищенке, которая вертелась здесь же рядом, и что-то шепнул ей на ухо, сунув в руку монету. Нищенка согласно кивнула головой и отошла в сторону. Боярин Хвороста вернулся к монаху и проговорил:
— Как только стража отойдёт от Василия, ты ему сразу говори, что хотел, и времени не теряй. Другого случая не будет.
Нищенка шла прямо на Василия, потом ухватила его за рукав и запричитала:
— Дай золотой, дай золотой, не поскупись для больной, дай золотой!
— Да отойди, мать! Неужели не видишь, что князь слепой! — заговорил поводырь.
Нищенка не отставала, ещё крепче ухватила князя за рукав и твердила своё:
— Дай золотой, дай денежку! Пожертвуй сироте! Вижу, человек ты богатый...
Боярин Хвороста бросил на землю монету.
— Пошла прочь! Неужели не видишь, что это князь великий перед тобой, Василий Васильевич! Эй стража, что стоите?! Гоните прочь нищенку, дайте князю в церковь пройти, помолиться.
Стража подхватила нищенку под руки и поволокла в сторону, а баба упирается и сыплет без умолку бранными словами:
— За что?! За что сироту обижаете?! Нет у меня ни батюшки, ни матушки, все в татаровом плену сгинули, а тут меня, сиротинушку, княжьи люди порешить хотят! Пожалейте несчастную, заступитесь за бедную!
— Эй, дядьки, что же вы юродивую обижаете?! Басурмане того не делают!
Стража не слышит, тащит юродивую от князя, а девка крепко держит его за полы и орёт во всю глотку:
— Князь, Божий человек, ты такой же юродивый, как и я, подай монетку, помоги сироте!
Василий пробовал освободиться от крепких пальцев нищенки, но она всё сильнее тянула его за полы. Наконец стражи отцепили юродивую, и князь, теряя равновесие, качнулся, и не будь рядом чернеца, который подхватил князя на руки, упал бы Василий оземь.
— Спасибо тебе, мил человек, спасибо, как тебя звать?
— Государь, это я — Прошка Пришелец, слуга твой, — зашептал горячо Прохор Иванович.
— Прохор? — насторожился Василий Васильевич.
— Прохор, государь, Прохор, только ты криком меня не выдавай, тайно я здесь, государь.
— Какой же я теперь государь, Прохор Иванович? — Василий опёрся о крепкое плечо слуги. — Ровня мы теперь. Да и ты для меня что брат. С ближними я так не жил, как с тобой, только ты один и мог меня понять.
— Я к тебе вот с чем пришёл, Василий Васильевич, — шептал монах в ухо князю, — не долго тебе ещё в темнице маяться. Народ против Дмитрия силищу собирает, ты только прими личину агнца. Кайся побольше и ни в чём Дмитрию не перечь, а то он, ирод, и живота лишить может. Будем мы в Угличе с воинством на Петров день. Вот тогда и освободим. Много нас: князья Ряполовские с дружиною, Иван Васильевич Оболенский, Степан Ощера, Юшка Драниц, да разве обо всех скажешь! А сейчас мне идти надо, Василий Васильевич, не ровен час, признает кто. Вон стража твоя возвращается.
— Ступай, Прохор, ступай, — шептал князь в спину удалявшемуся монаху.
— Стало быть, Ряполовские разбили мой отряд и ушли в Литву? — переспросил Шемяка.
— Так оно и было, государь, — отвечал боярин Иван Ушатый. — Князья Василия хотели освободить, к Угличу шли, да на отряд натолкнулись. А Семён Филимонов с дружиной к Москве подступает, с ним Русалка, Руно и многие дети боярские. А ещё Новгород против тебя подбивают, оттуда отряды идут, и скоро они всей ратью под Москвой будут. Что делать будем, князь? — басил боярин.
Дмитрий поднялся со стула, подошёл к горящей свече, взял её в руки и долго наблюдал за ровным желтоватым пламенем. В последние недели князь осунулся, лицо его стало худым, и серые тени залегли под глазами. И боярин вдруг подивился тому, как похожи двоюродные братья: у Василия те же острые скулы и тот же упрямый подбородок. И Василий когда-то смотрел так же дерзко и прямо. Характером-то они под стать друг другу: никто уступить не хочет... Дмитрий зажёг ещё свечи, и полумрак растаял, тени под глазами Дмитрия пропали, лицо разгладилось.
— За владыками послать надо, — решил двадцатишестилетний князь. — А там... решим, как быть далее. И ещё, пусть Иван Можайский с боярами прибудет. А то всё на хворь ссылается.
Владыки прибыли все разом к Ильину дню. Ехали через сжатые поля, где жницы, как невесту, украшали лентами первый сноп. Видать, в этот год у Ильи борода будет густой и длинной, урожай уродился на славу, и бабы, присев на сжатые снопы, ели хлеб: как же проехать и не отведать каравая из нового зерна, и девки в этот день приставучие и хмельные в ожидании предстоящих свадеб.
Шемяка на Ильин день отправился травить зверя. Так он поступал всегда в надежде заполучить удачу в следующем году. В прошлое лето он убил медведя, и это принесло ему удачу — который месяц он княжит в Москве, а Василий Васильевич — старше его на пять годков — называет Дмитрия старшим братом.
Сейчас Дмитрий Юрьевич не просто хотел загнать зверя, он желал добычи, достойной московского князя. Несколько раз пробегали мимо олени, князь велел придерживать собак и ждать случая, когда появится настоящий зверь. И ожидание не обмануло его — вдруг из леса навстречу всадникам вышел тур. Зверь был огромный, чёрной масти, только на самом животе шерсть рыжая и лохматая сосульками стелилась по траве. Бык легко нёс своё длинное красивое тело. Он не боялся великого князя — разве может он чего-то опасаться, если ему принадлежит целый лес! Тур гордо повернул голову, показывая кривые и величавые рога, и нагнулся к сочной траве. Дмитрию подумалось, что этого зверя не взять сразу, его нужно победить хитростью, как был побеждён Василий. Незаметно бы подкрасться к зверю и копьём распороть гортань, тогда он упадёт на колени, как это уже сделал Василий Васильевич. А тур не замечал опасности, склонившись к душистому клеверу.
— Я пойду один, — сказал Дмитрий. — Я сам хочу повалить его. Вы зайдите со стороны леса и гоните его на меня... и пусть произойдёт так, как угодно Господу.
Боярин Иван Ушатый согласно кивнул и, сделав знак отрокам, повёл их в лес, чтобы вспугнуть зверя звуками охотничьих рожков. Густая трава укрыла быка, и из-за неё виднелась только чёрная спина. Иногда зубр поднимал голову, смотрел в сторону Дмитрия, оставшегося в одиночестве, видно, князь не внушал зверю никаких опасений, и его голова тонула в многотравье.
Из леса раздался протяжный звук трубы. Зверь поднял голову и долго прислушивался к незнакомым звукам. Это была опасность, и тур неторопливо, словно не хотел уронить своей царственности, пошёл прочь с поля. Звук приблизился и теперь раздавался с той стороны поля, где намеревался укрыться тур. Бык остановился, поводил из стороны в сторону огромными рогами, а потом лёгкой трусцой поспешил в обратную сторону. Пение трубы становилось особенно громким — тур уже слышал, как к нему пробирались загонщики князя: ломались ветки, трещали сучья и мелко звенел бубен.
Оставался единственный путь — через поле! Туда, где стоял человек.
Князь спрыгнул с коня и приготовился к встрече, он смело шёл вперёд, и это бесстрашие насторожило зверя. Тур ускорил шаг, пытаясь избежать столкновения, но человек приближался: звучание труб становилось всё настойчивее и продолжало гнать его к человеку. И тур побежал прямо на князя. Он гордо поднял свою огромную голову, готовый к бою с этим маленьким существом. Дмитрий различил в густой тёмной шерсти крошечное белое пятно у основания шеи. Шемяка остановился, сжав в руках рогатину, терпеливо дожидался зверя, и, когда до тура оставалось несколько саженей, Дмитрий размахнулся и с силой, с диким криком метнул рогатину прямо в белое пятно. Калёный острый наконечник распорол толстую кожу, с хрустом, сокрушая позвонки, застрял в теле зверя. Зубр мотнул головой, пытаясь избавиться от рогатины, замер на мгновение, а потом завалился на бок.
Подъехал боярин Ушатый и, изумлённо разглядывая поверженного тура, пробасил:
— Хорошо бросаешь, князь. С первого раза одолел, а зверь-то огромный! Мы уже с самопалами стояли, вдруг на тебя кинется. Помнишь, как в прошлом месяце из дворни твоей Игнатку-загонщика на рога поднял? Этот самый и будет, я его по белому пятну на шее признал.
— Гонец из Кремля прибыл? — спросил как ни в чём не бывало князь.
— Прибыл, государь, — ответил Ушатый. — Старцы уже все собрались и тебя ждут.
— Хорошо. — И, отыскав глазами коня, который, потряхивая длинной гривой, пощипывал траву, свистнул. Конь, услышав хозяина, радостно заржал и рысью поскакал на зов.
Дмитрий Юрьевич собрал старцев в своих палатах. Рядом с собой посадил митрополита Иону. Прочим хватило места на лавках.
— Вот зачем я вас позвал, святые старцы. — Шемяка поднялся, не смея говорить сидя в присутствии старцев. — Знаете ли вы, сколько обид причинил мне Василий, младший брат? Но я зло на него не держу и отправил в Углич в свою вотчину. Слишком отходчив я и добр. — Он посмотрел на Иону. Старцы молчали. — Вот я позвал вас посоветоваться... отпустить Василия или придержать? Как вы решите здесь, так и будет. Не хочу, чтобы крепло его зло супротив меня, и не желаю воевать. Не хочу, чтобы он зарился на Москву, на мою отчину, которая принадлежит мне по праву, как старшему брату! Что вы скажете на это, святые отцы?
Поднялся Иона. Видом чернец, месяц назад он отказался от сакоса[47], и, если бы не митрополичий крест, не сказать, что владыка.
— Я тебе и раньше говорил, князь, что ты не по правде живёшь. Меня осрамил. Ведь обещал же ты князя выпустить, а сам деток его в Углич запрятал! Отпусти, отпусти их, князь! Ты же честное слово давал!
Поднялся игумен Симонова монастыря отец Савва. Князь знал его, помнил, как тот дёргал его в отрочестве за уши, уличая в проказах.
— Негоже, князь! Епитрахиль испачкал и нас всех во грех великий вогнал! Отпусти Василия. И мы с тобой пойдём, как один грех со своей души снимать.
Князь молчал, примолкли и старцы, и тут Дмитрий увидел на своём кафтане бурые пятна. «Откуда? — испугался князь. — А что, если старцы подумают, что это кровь Василия?!»
И Дмитрий, прикрывая рукавом на груди бурые пятна, сказал:
— А если Васька возомнит, как и прежде, себя старшим братом, что мне тогда ему ответить?
— Василий-то слепой! Какое зло тебе может причинить слепец, князь? Да ещё малые дети? Побойся Бога, князь Дмитрий, если не веришь, то возьми с него крестное целование, что не посмеет воевать супротив тебя. Да и мы его от греха отведём.
Дмитрий Юрьевич скрестил руки на груди, но ему всё равно казалось, что владыка видит пролитую кровь. Интересно, о чём они сейчас думают? И Дмитрий вспомнил, как по лицу Василия текла тягучая сукровица, а потом брызнула кровь, и братов голос, который заполнил собой весь двор:
«Дмитрий, будь ты проклят!»
Может, кровь на кафтане — это проклятие, которое послал ему Господь?
— Хорошо, старцы, я подумаю. Дайте мне время до Корнелия святого.
Однако князь размышлял недолго, и уже на Семёнов день он отправил гонцов в монастыри и к святым пустынникам с вестью, что готов отпустить Василия и даже дать ему вотчину в кормление.
На Рождество Богородицы в Москве собрались иерархи, покинув свои пустыни, в стольную явились старцы.
Москва давно не помнила такого торжества — владыки, заполнившие Успенский собор, были в золотых одеждах, звучало песнопение, торжественно гудели колокола. Народу перед собором собралось больше обычного — нищие протискивались вперёд, ожидая выхода князя и щедрого его подаяния, юродивые сидели на паперти, надеясь на снисхождение и внимание владык. И когда в дверях церкви показался князь, толпа возликовала. Дмитрий взял из короба горсть монет и высыпал их на головы собравшихся, потом швырнул в толпу ещё горсть и ещё.
— Еду я к брату своему Василию, — произнёс он, стоя на ступенях собора. — Прощения просить у него буду. И вы меня простите, люди московские, если что не так было. Не по злому умыслу поступал, а во благо.
Людское море, как волна, схлынуло, и князь ступил на землю. Следом за государем шёл митрополит Иона, архиереи, а уже затем длинной вереницей потянулись пустынники, священники. Не помнила Москва такого великолепия. Отвыкла от праздников. Ошалев от роскоши и золота, московиты нестройно тянули:
— Аллилуйя-а!
Исход из собора напоминал крестный ход, только у князя не было креста и в покаянии он тискал в руках шапку. Не прошла для Дмитрия ссора с братом бесследно, в густой чуб вкралась седая прядь. На щеках кривыми шрамами застыли морщины. Чёрные люди не смели смотреть на непокрытую голову князя и опускали глаза всё ниже, подставляя под его скорбный взор ссутуленные спины. Князь прошёл через ворота, посмотрел на купола, на звонницу Благовещенского собора, на звонаря в чёрной рясе, что бесновался под самой крышей, отзванивая прощальную, и, махнув рукой, пожелал:
— С Богом!
В Угличе Дмитрия Юрьевича уже ждали. Ребятишки весёлой толпой высыпали за ворота, юродивые и нищие сходились в город со всей округи в надежде занять лучшие места перед собором и в воротах. А навстречу князю в парадных доспехах выехал воевода с дружиной.
Василий в этот день в церковь не ходил, хотел сохранить силы для беседы с братом. С утра его нарядили в белую нарядную сорочку, сам он пожелал надеть красный охабень и стал ждать. Что же ещё такого надумал Дмитрий? Может, с Углича убрать хочет? Запрет где-нибудь в темнице да там и заморит тайно.
Мария бестолково суетилась по терему, и великий князь всё время слышал её назойливый шёпот:
— Спаси нас, Господи! Спаси...
Василий прикрикнул на жену, но тут же одёрнул себя: «Чего уж там! Намучилась она со слепцом, а ещё боязнь за детей, того и гляди, как цыплят, задушат! Только на милость Божию и приходится уповать».
Великий князь слышал, как звонят колокола, радостно и бестолково возвещая о том, что к Угличу подходит московский государь. За окном слышались восторженные крики.
Горько сделалось князю. «Вот так тебя совсем недавно встречали, когда был великим московским князем. Коротка людская память, года не прошло, а уже всеми забыт!»
Василий думал, как ему встретить брата: сидя за столом — слепому простится — или подняться и отвесить поклон?
Всё слышнее становились крики — Василий догадался, что Дмитрий шёл по городу.
— Детей приведи, — нашёл князь руку княгини, — пускай с дядей своим поздороваются.
— Хорошо, государь, — отвечала жена, высвобождая холодные пальцы из жаркой ладони Василия.
—Все здесь? — спросил князь.
— Привела, Василий. Ты подойди, Ванюша, к отцу, а Юрия я на руках подержу.
— Под иконой встанем, может быть, заступница Божья Матерь поможет нам. Авось помилует нас Дмитрий. Смирился ведь я! Так упал, что и не подняться.
Василий вспомнил про недавний приход Прошки Пришельца. Может быть, кто и дознался и Дмитрию Юрьевичу донёс. Вот он и явился в Углич с иерархами учинить Василию Васильевичу суд, что посмел против воли старшего брата пойти.
В горницу вбежал дворовый слуга и, дрожа от возбуждения и страха, предупредил:
— Дмитрий Юрьевич со старцами в палаты входит!.. Сейчас сюда пожалует!
Василий Васильевич степенно поднялся, крепко ухватил за плечо Ивана и терпеливо стал дожидаться Юрия. Вот если бы сразу всех порешил, а то ведь мучить начнёт. Ну и досталась же судьбинушка!
Услышал, как скрипела лестница под тяжестью идущих, и этот скрип с каждой минутой становился всё отчётливее.
Распахнулась дверь, Василий почувствовал это по лёгкому ветерку, и Мария испуганным голосом вскрикнула:
— Свечи загасило, примета плохая!
Затем князь услышал голос Дмитрия:
— Здравствуй... брат Василий. Чего молчишь? Или гостю не рад? Да и не один я к тебе пришёл, а с владыками. Что же ты нас в горницу не зовёшь и в дверях держишь?
— Это я у тебя в гостях, Дмитрий, — осевшим вдруг голосом произнёс Василий. — Проходите... что же вы у порога томитесь?
— Дай я на тебя посмотрю, брат. — Василий почувствовал, как крепкие ладони Дмитрия ухватили его за плечи, на щеках уловил его тёплое дыхание.
— Наказывать меня приехал, брат? — спросил Василий Васильевич.
— Нет, Василий, прощения я у тебя пришёл просить. Каюсь я о содеянном. Сон мне снился — и я в образе Каина, хочешь, я на колени перед тобой встану, только сделай милость, прости меня, Василий Васильевич!
— Ну что ты! Что ты, Дмитрий Юрьевич, — растрогался великий князь. — Ни к чему это.
Иерархи стояли за спиной, молчаливо внимая разговору князей, уйти бы им сейчас, но опасались, что могут нарушить беседу братьев.
— Как же я посмел лишить тебя счастья видеть образ Божий! — каялся Дмитрий. — Хотел я возвеличиться над братьями своими, стать старшим среди равных, а потому и на московский стол позарился. Казался он мне слаще любого пития и дороже золота! Простишь ли, брат, грех мой окаянный?
Василий обрубками пальцев шарил по лицу брата и вдруг почувствовал, что оно мокрое. Плачет, видать.
— Знаю, почему на тебе охабень красный, — продолжал Дмитрий. — Он кровью залит, что из очей твоих текла. Отпусти же мне этот грех, Василий Васильевич!
— Не надо, брат, не надо, — смилостивился великий князь. — Ещё и не так мне надо было пострадать за мои грехи перед тобой и всем народом. Разве это не я привёл татар на нашу землю? Разве это не я хотел погубить христиан? Всё вот этими руками содеяно! Большего наказания я достоин, брат мой! Смерти ты меня предать должен был. А ты милосердие своё показал. Это ты прости меня, Дмитрий Юрьевич.
Из пустых глазниц Василия текли слёзы и капали на рыжеватую бороду.
— Что ты! Что ты, брат! — обнял Шемяка Василия, дивясь его смирению. Вот ведь как его поломало! Расчувствовались и старцы, будто прячась от солнца, подносили рукава к глазам. — Вологду я тебе даю в отчину.
— Спасибо, Дмитрий Юрьевич, не оставил ты меня своей заботой.
Чуть нахмурился Дмитрий Шемяка — Василию ли благодарить за Вологду, когда он правил землёй Московской. Но пустые глазницы Василия были устремлены в никуда. Не увидел Дмитрий на лице брата лукавства.
— А как Иван подрастёт, так я ему городок в кормление пожалую, — пообещал Дмитрий Юрьевич. — Только слово ты мне дай, Василий, что не будешь более искать великого московского княжения!
— Даю, брат, даю! Ещё и крест поцелую!
— Грамотку бы написать об том, здесь и иерархи стоят, слова твоего ждут.
Не отболели ещё глаза Василия, и вместе со слезами на красный охабень закапал гной.
Василий вытер гной и позвал:
— Дьяк!
И этот голос, не сломленный даже страшными мучениями, напомнил Дмитрию, что перед ним прежний Василий. Подошёл дьяк, оробевший от присутствия множества иерархов и двух великих князей:
— Здесь я, господарь!
Хоть и не видел более Василий, а согнулся дьяк перед князем Василием так низко, что растрепался чуб, едва не касаясь пола.
— Пусть иерархи свидетелями будут... Обещаю пред Господом нашим Иисусом Христом, пред святителями и всем честным народом, что буду чтить всегда Дмитрия Юрьевича как своего старшего брата, как великого московского князя... Клянусь, никогда не буду добиваться великого московского княжения. Всё... старший брат мой. Дьяк, где ты? Икону подай и крест... целовать буду.
Дьяк сходил за иконой и бережно отдал её в руки Василия. Икона была старая, по всему видать, византийской работы, мелкая паутинка трещинок покрывала лик Спасителя, который тоже почернел. Вот и догадайся от чего: от времени или от грехов людских. А может быть, и от того и от другого. Василий поднял икону и дотронулся до неё сухими губами и почувствовал прохладу, исходившую от образа, она, казалось, тотчас разошлась по всему телу. Вместе с прохладой в Василия вселился покой.
— Обещаю тебе, Дмитрий Юрьевич, почитать как старшего брата и на московский престол не зариться.
— Хватит вам грызться, как псам бездомным, — услышал Василий голос Ионы. — Пусть же это будет началом большого мира. Что же вы стоите? Братину братьям несите! — на радостях вскричал Иона.
Священники охотно расступились, когда в горницу вошёл боярин, в руках он нёс медную братину, до самого верха наполненную белым вином и, стараясь не расплескать, протянул Дмитрию Юрьевичу.
— Брату поначалу, — сказал Шемяка.
Василий взял братину и стал пить, глотал жадно, слегка причмокивая губами. Пил так, словно хотел залить всё то зло, которое, подобно цепким сорнякам, разрослось между братьями. И, утолив жажду, отстранил от себя братину. Дмитрий бережно принял её из братовых рук. Он пил осторожно, словно опасаясь уронить даже самую малую каплю вина. Пил небольшими глотками, переводил дыхание и снова припадал к братине, а когда вино иссякло — посудина полетела на пол, весело позванивая, потом закатилась в угол и умолкла. Может, потому эта чаша и называется братиной, что переходит в застолье от одного брата к другому, связывая их судьбы воедино. И этот глоток вина — доверие между братьями, а если оно и будет испоганено ядом, то помирать братьям вместе. Этот глоток, что целование чудодейственной иконы.
Трезвон. Радостный, светлый.
— Давай, брат, обнимемся.
Шемяка, широко раскинув руки, двинулся к Василию, обнял за плечи и почувствовал, как исхудало его тело. И Василий, уже не в силах сдержать рыдания, заплакал на груди брата... и своего палача.
Вечерело. В воздухе стояла лёгкая прохлада, и он был особенно чист. Дыхание осени чувствовалось всюду: в пожелтевшей траве, в деревьях, чьи кроны в эту пору занялись багрянцем. Стояли последние тёплые денёчки. Природа насторожилась, чувствуя перемену, и даже маленький ветерок не тревожил благодатную тишь. Недели не пройдёт, как осенний ветер, злой и колючий, сорвёт одеяние с деревьев, оставив их бесстыдно голыми. Ветер взберётся на вершины крон, где насильником начнёт выкручивать ветви-пальцы, ломать хрупкие сучья, подобно палачу, который в темнице ломает кости несчастной жертвы, надеясь вырвать из её уст признание. Деревья заскрипят, и этот стон наполнит весь лес.
Шемяка был один. Пир, устроенный им в честь примирения с братом, теперь был в тягость. Выпил две чаши вина, голова закружилась, и, сославшись на усталость, великий князь пошёл в свои покои. Через темноватые окна он видел, как веселился во дворе народ. Чёрные люди поскидали шапки и, подперев ладонями бока, пустились в пляс. Мужик-берендей, потрясая бубном, потешал собравшуюся толпу, гримасничал, дразнил бояр. Люди ухмылялись в бороды и обиду не держали, праздник был общий, и потому потешаться можно безнаказанно.
Зажгли факелы. Жёлтый свет отодвинул темноту далеко за княжий двор, оставив перед палатами разодетую и разгорячённую выпитым вином толпу. Яркие блики весёлыми зайчиками прыгали на лицах собравшихся. Мужик-берендей скоморошничал: весело приставая к девкам, за рукава тянул их в круг, а те, стыдливо отмахиваясь руками, спешили спрятаться подальше, в толпу.
— Государь, — тихо окликнул Дмитрия чей-то голос.
Он вздрогнул и повернулся к двери. У порога стоял боярин Руно. Шемяка нахмурился, не хотелось сейчас вступать в разговоры, но спросил приветливо:
— Что хотел, Степан?
Боярин Степан Руно был из московских бояр, ещё дед его служил Дмитрию Донскому. Сам же он одним из первых принял сторону его внука, Дмитрия Юрьевича. Во многом этот поступок и определил выбор остальных боярских фамилий, которые тоже приняли сторону Шемяки.
— Пришёл я проститься с тобой, — тихо начал Степан. — Василий Васильевич сейчас вотчину получил, хотелось бы мне при нём служить. Дед мой служил его деду, я бы хотел послужить его старшему внуку.
Сдержался Дмитрий, напомнить хотел, что никто его не неволил, когда он переходил к нему на службу, подавив в себе раздражение, князь отвечал:
— Ты человек вольный, боярин! Кому хочешь, тому и служишь. Что я тебе могу сказать?.. Прощай!
Дмитрий отвернулся к окну и продолжал наблюдать за тем, как веселил народ берендей. Он уже скинул с себя рубаху и павой шёл по кругу, застенчиво, будто девица на выданье, прикрывал лицо. Народ падал со смеху, взирая на чудачества мужика, а он уже приосанился и степенной поступью стал походить на боярина, и дворовые люди, смеху ради, ломали перед шутом шапки. Неожиданно веселье оборвалось, и Дмитрий увидел, что бояре под руки выводили на двор Василия. Хоть и не мог он увидеть оказанных ему почестей, но головы слуг склонились до самой земли, и Шемяка понял, кто во дворе настоящий хозяин.
Степан Руно продолжал стоять. Не так он хотел проститься. По-людски бы! Обнял бы его князь напоследок, пожелал доброго пути, сказал слово ласковое, а теперь гляди в его спину. Руно неловко переминался с ноги на ногу, половицы протяжно заскрипели под ним, а Дмитрий, повернув злое лицо к боярину, прошептал:
— Пошёл прочь, ублюдок сраный, пока во дворе розгами тебя не отодрали!
— Спасибо за милость, князь, — не то съязвил, не то обрадовался боярин и, отворив дверь, ушёл в темноту.
И недели не прошло, как приехал Василий в Вологду, а весть о его прибытии уже разошлась по всем окраинам. Московские бояре били челом Василию Васильевичу и просили службы. Вологодский князь принимал всех, и скоро его двор стал напоминать боярскую московскую думу. Со стольного города в Вологду съезжались знатные вольные люди, чьи предки ещё служили Калите. Казалось, они только и ждали, когда Шемяка выделит Василию Васильевичу вотчину, чтобы съехать из Москвы и служить опальному великому князю. Василий принимал их ласково, не напоминая о предательстве.
Вологда строилась: бояре рубили терема, и лес отодвинулся далеко от городских стен. То там, то здесь раздавались звуки топоров и пил, и мастеровые правили степы, лихо оседлав брёвна, подгоняя их одно к другому. Походило на то, что Василий обосновался здесь надолго, и часто его можно было увидеть в сопровождении челяди, размеренно вышагивающего на утреннюю или вечернюю службу. Впереди всегда шёл старший сын, он был поводырём, и крепкая беспалая отцовская ладонь сжимала плечо Ивана. Великая княгиня Мария была на сносях, шла тяжело, поддерживаемая боярышнями и мамками под руки. Иногда она останавливалась, чтобы передохнуть, и бабы закрывали её платками, спасая чрево от дурного глаза.
Тихо было в Вологде. Прохладно. Только иногда эту тишь вдруг нарушал колокольный звон. Это значило, что в Вологду к Василию на службу ехал ещё один знатный боярин. Так князь вологодский отмечал победу над московским князем Дмитрием Юрьевичем, прозванным в народе Шемякой.
Василий Васильевич часто уходил на соколиный двор. Он мог подолгу сидеть здесь, слушая ровное клекотание гордых птиц. Конечно, он не выезжал теперь на соколиную охоту, как это бывало раньше, не мог порадовать себя метким выстрелом — глазницы князя были пусты. Но руки его оставались по-прежнему крепкими и помнили тепло убитой дичи. Василий просил принести ему сокола и, запустив обрубки пальцев в мягкий пух, ласкал птицу, как если бы это была желанная женщина.
Но однажды, придя на соколиный двор, Василий распорядился:
— Отпустить птиц на волю.
— Всех?! — в ужасе переспросил старший сокольничий, уставившись на ссутулившуюся фигуру князя, застывшую в дверном проёме.
— Всех! — коротко отвечал Василий. — Теперь я знаю, что такое неволя. В татарском плену повольнее себя чувствовал, нежели в братовой отчине.
Сокольничие вынесли соколов во двор, поснимали с голов колпаки и замахали руками. Птицы ошалели от обилия света. Хищно вращали маленькими головками, а потом нехотя взмывали в воздух, явно не спешили расставаться с неволей. Василий слышал тяжёлое хлопанье крыльев, которое постепенно стихало, растворяясь в воздухе. Соколы летали над полем, как и прежде, в надежде отыскать спрятавшуюся добычу. Но дворы были пусты. Птицы лениво помахивали крыльями, совершая над кремлём круг за кругом, а потом, уверовав в окончательное освобождение, улетели в лес.
— Все ли соколы улетели? — спросил Василий.
— Нет, государь, один всё ещё кружит.
— Это Монах? — спросил князь.
— Он самый, государь, словно и не хочет с тобой расставаться.
Этого сокола прозвали Монахом за тёмные перья у самой головы, которые делали его похожим на чернеца. Монахом птица было прозвана ещё и потому, что, подобно чернецам, держалась в стороне от самок. Откроет Монах клюв, поднимет угрожающе крылья, самочка и отодвинется. Сокольничих он тоже не жаловал: кого в руку клюнет, кому лицо когтями раздерёт. Только князя Василия он выделял среди прочих, позволял ему теребить ухоженные перья и осторожно, опасаясь изодрать ладонь, принимал мясо из его рук.
— Снижается, кажись, — зорко вглядывался в небо сокольничий.
Сокол шевельнул крылом, завалился набок и полетел вниз. Василий Васильевич услышал над собой хлопанье крыльев, почувствовал, как ветер остудил ему лицо, и в следующую секунду Монах сел князю на плечо.
— Ишь ты как вцепился, — заворчал князь, — словно потерять боится. — Он подставил руку, и сокол охотно перебрался на кожаную рукавицу. — Что ж, видно, и для птицы свобода неволей может быть. Эй, сокольничий, отведи меня в терем, а для Монаха клетку подготовь. Я его у себя оставлю.
Василий Васильевич затосковал в Вологде: неделя прошла, а он уже места себе не находит. И не то чтобы его не приняли горожане, наоборот, великого князя замечают издалека и, зная про его слепоту, кричат:
— Здравствуй, государь Василий Васильевич!
Просто великому князю захотелось помолиться в тишине, спрятавшись от посторонних глаз.
Он решил ехать в Кирилло-Белозерский монастырь, где игуменом был отец Трифон. Помолиться да ещё милостыню раздать.
Отец Трифон снискал себе славу настоятеля строгого. Порядки в Кирилло-Белозерском монастыре отличались особой суровостью. Там что ни монах, то схимник. Обитель жила богато, принимая подношения от бояр и князей, расширяя свои земли, которые по просторам не многим уступали вотчинам иных князей. На монастырских землях работали десятки тысяч крестьян, пополняя зерном подвалы монастыря, на пастбищах паслись табуны лошадей, овец и коров, которым не было счета. В стольный город крестьяне монастыря свозили масло, сметану, молоко.
И, зная про богатство Белозерского монастыря, Василий всякий раз удивлялся аскетизму монахов, которым на день хватало краюхи хлеба и ковша воды.
На вопрос Василия, а не чрезмерно ли скромно братия живёт, отец Трифон искренне удивлялся:
— А разве счастье в питье и еде? Тело тлен, а душа вечна! Вот о чистоте души мы и печёмся, да ещё о грешных молимся. Спастись им помогаем.
В округе не помнили случая, чтобы монахи отказали в милости просящему. Никто не уходил с монастырского двора, не отобедав и не испив кислого квасу. А в голодный год, когда ураган как налетевший татарин побил покосы, разметал по полю сжатую рожь, на монастырском дворе кормились одновременно до нескольких тысяч крестьян. И когда братия зароптала, увидев, что доедают последнее, и просила игумена прогнать нахлебников со двора, отец Трифон осерчал, урезал себе дневную долю хлеба и чем мог делился с нищими.
Вот к нему-то и направился Василий Васильевич.
Уже на подходе к монастырю услышал князь колокольный звон Кирилло-Белозерской обители. Василий встрепенулся и спросил у бояр:
— Кого же так величают?
—Тебя, государь.
Отвык от чести великий князь. Замолчал.
Дорога проходила через село, и толпы крестьян встречали князя.
— Батюшка наш едет! Батюшка! — раздавалось справа и слева.
Василий велел попридержать лошадей, вышел навстречу крестьянам и, не пряча обезображенного лица, заговорил:
— Да какой же я для вас батюшка? Двор мой — вологодский удел! Батюшка для вас Дмитрий Юрьевич!
— Ты был для нас государем московским, ты им и остаёшься, — услышал Василий в ответ.
Повернулся вологодский князь, словно хотел увидеть говорившего. Да где там. Мрак один! И потихоньку, поддерживаемый боярами под руки, снова сел в возок.
В воротах монастыря Василия встречал игумен Трифон.
— Здравствуй, государь московский, — прижал к груди Василия Васильевича старик.
Князь Василий обнял игумена.
— И ты о том же, отец Трифон? Ведь есть у нас московский государь Дмитрий Юрьевич.
— Ты для меня всегда был московским государем, им и останешься. Когда ты ещё мальцом был и в Золотую Орду ехал великое княжение просить, я знал, что Господь на твоей стороне окажется. Молился я за тебя, Василий, и братии своей молиться наказывал. Вот и дошли наши усердия до ушей Господа. Мы и сейчас молиться будем, вот московский стол к тебе и вернётся.
— Не за тем я сюда прибыл, святой отец... Братию накормить должен и милостыню раздать, — сказал Василий Васильевич и сам поверил в это.
— Ладно, государь, не будем об этом говорить прямо с порога. Сначала в баньку сходишь, накормим тебя, пиво отведаешь, а потом о делах поговорим.
Весть о том, что в Кирилло-Белозерский монастырь прибыл Василий Васильевич, сразу перекатилась через монастырские стены и быстрой волной разбежалась во все стороны. К монастырю приходили люди и подолгу стояли в надежде увидеть князя. На Руси путь к святости лежит через страдания, и слепой князь стал ближе и понятнее не только чернецам, приютившим его в своих стенах, но и крестьянам.
В Белозерский монастырь прибывали бояре. Они покидали Дмитрия Юрьевича и князя можайского Ивана Андреевича и со всем скарбом и с чадами спешили в услужение к Василию. Монастырь грозил превратиться в город, тесно в нём становилось от людского скопления.
Отец Трифон, оставаясь наедине с Василием, говорил:
— Смотри, князь, как народ тебя почитает, со всей Руси к тебе тянутся. Вчерась от Ивана Можайского ещё трое бояр пришло. Я уж им запретил в монастыре жить, и так там народу полно. Так знаешь, что они ответили?
— Что же, святой отец?
— Что им и не надобно. Будут, дескать, свои хоромы возводить, только чтобы подле тебя быть!
Прозорлив был игумен и говорил так, как того хотелось князю. Ведь не только милостыней своей хотел наградить братию, но и дожидался признания самого уважаемого старца.
Трифон меж тем продолжал:
— Я и в другие монастыри чернецов с вестию разослал, чтобы почитали тебя, Василия, как своего господина.
— Только господин ли я, если Дмитрий на столе московском сидит? — воззрился пустыми глазницами князь на говорившего. — Проклятые грамоты меня держат!
Вот и сказано то главное, из-за чего и прибыл Василий в монастырь, а теперь игумену решать, как дальше быть. И уже осторожно, опасаясь неловким обращением обидеть святого отца, спросил:
— Помоги мне, Трифон, снять проклятие этих грамот.
Молчал Трифон. Одно дело — считать Василия своим государем и совсем другое — проклятые грамоты на себя брать. Василий смиренно и терпеливо дожидался ответа, уложив на колени обезображенные ладони.
Хоть и слеп Василий, а дальше зрячих видит.
— Если сниму на себя проклятые грамоты, стало быть, опять война... — размышлял игумен.
— Война... — эхом отозвался Василий. — А разве правда не дороже пролитой крови? И разве не мои предки великими князьями на Москве были! Подобает ли мне, великому московскому князю, в Вологде сидеть, как дальнему родственнику? От неправды смута идёт, отец Трифон, — возражал Василий. — Если бы не возроптал Дмитрий, на Руси мир был бы.
Игумен и Василий сидели один против другого. Трифон за эти дни успел изучить обезображенное лицо князя, успел привыкнуть к пустым глазницам, и ему уже казалось, что ничто не сможет взволновать Василия. Но сейчас лицо князя покрылось румянцем. Он волновался, а руки его беспокойно двигались.
— В народе эти грамоты проклятыми зовутся. И знаешь почему? Кто нарушит их, на того Бог проклятия посылает, — степенно рассуждал старец. — Только если не нарушить их — значит неправду чинить и жить по кривде, а не по правде. Народ наш христолюбивый и тебя может не понять, князь, а если проклятие и падёт, то на мою голову. — Игумен замолчал.
Василий терпеливо дожидался продолжения разговора.
— Мне ли, монаху, бояться Божьей кары? За правду же и пострадать не жаль. — На лице игумена появилась улыбка.
Проклятия грамот с Василия были сняты в литургию. Дождливо было в этот день, и отец Трифон, ступая по слякоти монастырского двора, горбился, взвалив на себя проклятья. Он шлёпал босыми ногами по грязи, не разбирая дороги, шёл в свою келью, ряса его намокла и плотно пристала к телу, мешая идти. Кто-то из чернецов хотел укрыть Трифона плащом, но он, отстранив сердобольную руку, пошёл дальше. И чернецы с жалостью смотрели ему вслед, пока наконец он не скрылся.
Рано поутру в келью к отцу Трифону постучали. Игумен не спал в этот час и открыл сразу. Посыльный, совсем юный отрок, оробев от близкого присутствия самого почитаемого старца на Руси, заговорил:
— Князь Василий Васильевич послал к тебе. Мария рожает! Схватило её!
Опешил святой отец:
— Что за Мария, дурная башка, как следует объясни. Монастырь-то не женский!
— Великая княгиня Мария, жена Василия Васильевича!
Действительно, великая княгиня была на сносях, один раз он видел её, когда она осторожно переходила монастырский двор, опасаясь за своё раздутое чрево.
— За повитухами послали? — спросил Трифон.
— Да где же их сыскать, великий князь приказал к тебе идти, святой отец! — пояснил юноша.
Трифон нахмурился.
— Ладно, иди! — в сердцах буркнул он, ругая себя, беременную княгиню да заодно и самого князя. — Буду сейчас, икону святую принесу.
Скоро Трифон явился в покои князя Василия. Мария, закусив зубами краешек платка, сдерживала рвущийся стон. Василий сидел подле, дожидаясь прихода игумена, и, когда дверь заскрипела, сделал шаг навстречу.
— Ты, Трифон?
— Я, государь, — смутился вдруг игумен.
Есть От чего глаза потупить, сколько прожил, а вот роженицу впервые видел, да не где-нибудь, а в монастыре мужском. Трифон поставил икону Богородицы у изголовья, посадил на место Василия.
— Не знаю, что и делать, отец Трифон. — Игумен уловил дрожь в голосе князя. — Если бы зрячий был, так сам чадо на свои руки и принял. А теперь что же? И на помощь надеяться неоткуда. Где сейчас повитух сыщешь? Княгиня криком изошла, сейчас родить должна.
Игумен посмотрел на роженицу. Глаза у Марии расширены — не то от боли, не то от страха перед предстоящим. Возможно, от того и другого, как-никак в мужском монастыре рожать придётся.
— Только тебе и могу доверить, отец Трифон, руки у тебя святые, — сказал Василий.
«Вот оно что, — про себя усмехнулся Трифон. — Из игумена повитуху надумал сделать».
А Василий терпеливо настаивал:
— Понимаю я тебя, святой отец. Ушёл ты от мира на покой. И устав я знаю твой строгий, на девок и то нельзя смотреть, а здесь дело-то святое... чадо на руки принимать придётся! Но ведь, если откажешь, помрёт княгиня. Как принесли её сюда, так и пролежала, никак разродиться не может! Примешь дитя, святость твоя оттого только приумножится.
— Да чур тебя! — прикрикнул на князя вологодского Трифон. — Разве я о чистоте своей сейчас пекусь? Чадо спасать надо! Ой, Господь, каких только искушений да испытаний ты не посылаешь на мою седую голову.
Монах посмотрел на Марию, которая лежала на кровати, и живот бугром возвышался над нею.
— Она вся исстрадалась, так они её ещё и одеялом накрыли, как покойницу! — Игумен убрал с Марии покрывало. — Бабе-то дышать нужно. Так и уморить недолго.
Мария невольно попыталась прикрыться ладонями, да где уж там! Не дотянуться! И новые схватки заставили её закричать.
Князь замер, рука отыскала горячий лоб Марии, а женщина, ухватившись за обрубки пальцев, просила слёзно:
— Не оставляй меня, Васенька, не уходи. Как же я одна среди старцев-то? В монастыре мужском...
— Никуда я не уйду, Мария, — пообещал Василий. — Здесь останусь.
— Корнилий! — позвал игумен послушника.
— Здесь я, игумен! — В дверном проёме появилась голова будущего монаха.
— Зови монахов. Да куда ты! — вскричал игумен вслед исчезнувшему послушнику. — Не всех ведь сразу! Зови Нестера, и Захарий пусть будет. Да поспешай!
Подошли монахи. Лица бесстрастные. Разве существовало на свете что-то такое, что могло удивить их?
— Княгиня рожает, — объяснил игумен, — помочь ей надо. — Оборотившись к Марии, отец Трифон ласково продолжал: — А ты кричи, дитятко, кричи! Так оно легче будет, и нам тем поможешь.
Словно послушавшись старца, княгиня громко закричала, и совсем скоро игумен Трифон держал на руках ребёнка.
— Кто? — услышав писк, спросил Василий.
— С сыном тебя, государь! С сыном! — радостно отвечал Трифон. — Как назвать думаешь?
Василий размышлял только миг, а потом уверенно проговорил, нахмурив брови:
— Георгием.
Отец Трифон посмотрел на икону, где Георгий Победоносец убивал злого аспида копьём, и согласился:
— Ладное имя.
Монахи переглянулись, и Трифон понял, что каждый из них подумал об одном. Великий князь Дмитрия Шемяку вспомнил, змей он для князя. Младшего сына он видит таким же храбрым и смелым, чтобы мог всякую гадину на копьё поднять.
Мария, счастливая и успокоенная, лежала на кровати и, едва окрепнув от боли, попросила:
— Сына дайте мне подержать. Какой он?
Покои князя отец Трифон покидал, расправив плечи — словно не было на них тяжести, которую он взвалил на себя, сняв с Василия проклятье грамот. Может, это Господь вмешался и освободил его от груза за богоугодное дело. Остановился Трифон, вдохнул вольного воздуха (а хорошо!) и пошёл дальше.
Чернец выбрал место посуше, присел на потемневшую от времени высохшую корягу, которая, подобно диковинному чудовищу, раскинула свои длинные коренья-пальцы и, крепко вцепившись в землю, успокоилась. Хлеб и соль — вот и вся еда. «Водицы бы, — подумал монах. — Идти до неё далеко! Ладно, ничего, в дороге напьюсь».
Монах ел неторопливо, тщательно пережёвывая сухой хлеб, ломал ломоть на маленькие кусочки и отправлял в рот. Благодать. Вот и просидел бы так полжизни, да идти нужно, игумен велел.
В полверсте раскинулось большое село. Монах увидел девок в ярких сарафанах, разодетых словно на Пасху, рядом, собравшись в стайки, стояли парни и молодыми петушками хорохорились перед девушками. Видать, отроки готовились к вечеру. До монаха доносились шутки парней и весёлый смех девок. А едва стемнеет, молодёжь, прячась от пристального родительского глаза, уйдёт далеко за село в поле. Разведут костры, запоют песни.
Монах отломил ещё кусок, подержал его на ладони и бросил в траву: сам поел, пускай и Божья тварь отведает.
Коряга под его телом шелохнулась, будто тяжко стало лешему держать на себе человека. Монах бережно завернул остатки трапезы в узелок и положил на дно котомки.
Сороки уже заприметили брошенный кусок и осторожно, с любопытством наблюдали за монахом, ожидая, когда наконец тот уйдёт своей дорогой. Но вдруг они дружно снялись и разлетелись по сторонам, а скоро из леса показался отряд всадников.
Доспехи на всадниках были крепкими, да и потяжелее, чем у русских; сытые кони покрыты чепраками, вышитыми красными крестами. «Ливонцы, видать, — удивился монах. — Только откуда они здесь? — Но, разглядев поднятые впереди хоругви, успокоился. — Видать, дружина Василия Ярославича. Как великий князь в полон к Шемяке попал, так он сразу в Литву ушёл, а теперь, видать, в родную отчину возвращается. Только ведь просто так Дмитрий Юрьевич его не пропустит. Опять кровушке литься».
Монах поднялся и, пряча под низким клобуком глаза, стал всматриваться в молодые лица. «И ливонцев среди них немало. Подмогу взял Василий Ярославич супротив великого московского князя. Эх, бедняги, лежать вам на чужбине. Навалят на ваши потухшие очи землицы, а тело сожрут черви».
Дружина была большая. Она уже протянулась на добрых три версты, а конца ещё не видать. Копейщики и лучники шли вперемежку, на ходу перебрасываясь шутками. Видно было, что дружинники не торопятся, как не спешат люди, привыкшие к дальней дороге.
В парадных доспехах на сером жеребце впереди ехал воевода. Монах узнал Прошку — боярина Василия Васильевича. И он здесь! Кольчуга на боярине богатая: подол выложен длинными пластинами, а поверх брони зерцала, которые сверкали особенно ярко, заставляя монаха жмуриться.
— Эй, отец, пожелай нам победы и скорого возвращения! — крикнул Прошка, поигрывая саблей.
— Куда вы едете, добрые люди? — полюбопытствовал смиренно монах.
— Василия Васильевича едем из полона выручать.
— Как так?! — подивился монах. — Ведь Василий Васильевич уже месяц как на свободе! Шемяка к нему в Углич ездил, прощения у него просил, а потом Вологду в кормление отдал.
— Откуда ты это знаешь? Кто тебе сказал? — остановил Прошка коня.
— Он сам и сказал, — отвечал монах, — когда в нашем монастыре был на Белозерье. Братию он приезжал накормить.
— Вот как! — всё более дивился Прошка. — Стало быть, его в Угличе нет?
— Как же это вы пошли воевать, не зная кого? — в свою очередь удивился монах.
— Не было нас на Руси, а до Ливонии и благие вести не сразу доходят. Что ты знаешь ещё, старец?
— Всё, кажись. — И, подумав, добавил: — Бояре к нему со всей Руси съезжаются... А ещё жёнка его, великая княгиня Мария, у нас в монастыре рожала, так игумен повитухой был. Вот ведь как оно бывает... Василий тогда совсем растерялся, слепой ведь! А баб не доищешься.
— Как же она родила? Неужто монахи посмели её тела коснуться?
— Куда же денешься? Трифон сначала очистительную молитву прочитал, а потом и бабы посмел коснуться. Так и принял чадо на руки. Он же и крёстным отцом стал. Но только князь в монастыре не задержался, сразу в Тверь уехал, к великому князю Борису Александровичу, помощи просить против Дмитрия Юрьевича.
— Ведь не ладил же он с тверским князем?
— Не ладил, — согласился монах, — только Борис Александрович протянутую руку не отстранил, пожелал свою дочь видеть обручённой со старшим сыном Василия, тогда, говорит, и дружиной тебе помогу.
— А Василий что?
— Василий говорит, бери младшего, Юрия. А тверской князь не хочет: ты, говорит, дочь мою со старшим обручить должен, только тогда и поладим. А без моей помощи Дмитрия не одолеешь.
—А где сейчас Василий?
— В Твери, где же ему ещё быть?
— Спасибо тебе, монах. Гонцов в Тверь слать надо. Ну теперь Шемяке не устоять!
— Это тебе спасибо, — отозвался чернец. — За правое дело стоите.
— Боярин Прохор Иванович, — подскочил к Прошке разудалый рында. — Татары в двух вёрстах показались! Мы на сопку поднялись, а они клиньями по полю идут. Боярин, что делать?
— Татар-то много?
— Тьма! В нашу сторону идут!
— И неймётся им! — буркнул Прохор Иванович, чувствуя, как забурлила кровь перед сражением. — Чёрт бы их побрал. Веди! Где увидел? — И, поддав коню шпорами, поторопил рынду.
Монах ещё стоял на дороге. Ратники всё так же безмятежно следовали вперёд, не подозревая о близившейся беде. Кто-то из них высоким сильным голосом затянул песню, а затем, подхваченная многократно, она полетела над лесом. Оттуда, бренча саблями, показался пеший отряд воинов. Некоторое время чёрную рясу монаха можно было рассмотреть среди красных рубах отроков, потом пропала и она.
Прошка Пришелец приставил ладонь ко лбу, словно дозорный, пытаясь разглядеть татарские знамёна. Далеко. Не видать! Однако татары вели себя странно: не скрывались по лощинам и оврагам, чтобы не быть обнаруженными раньше времени, а шли полем, высоко в небо подняв бунчуки. Думали, видно, что прятаться им не от кого, а Василия Ярославича они не боялись совсем.
Но вот первые всадники, шедшие в голове колонны, замедлили ход, потом остановились вовсе, заприметив на косогоре русский дозор.
— Татары-то, никак, казанские! — удивился Прохор Иванович. — Насмотрелся я на них, в плену сидя. Видишь, на знамёнах дракон?
— Вижу, государь.
— Только они его и малюют. Однако как же они прошли через Нижний Новгород? Там дозор наш сильный стоит.
Татары не спешили уходить, сбились в круг, и до Прошки доносились отдельные слова.
— Ругают кого-то, только не похоже, что нас. Постой! Смотри, вон тот, в шапке лисьей, что с хвостом! — ткнул пальцем Прошка. — Да это, никак, чадо Улу-Мухаммеда? В Казани я с ним сошёлся, на гуслях учил его играть. Стало быть, это ханичи казанские к нам пожаловали! — заволновался вдруг Прошка. — Язви их! Уши им драть надо было бы, а не на гуслях учить играть, тогда и не встретились бы.
— Пустили мы нехристей на нашу землю, а теперь и не спровадить!
Подошла дружина Василия Ярославича, растянулась по всей сопке и застыла, ожидая указа.
— Боярин, — ткнул отрок Прошку в бок. — Никак, татарин к нам спешит?
Действительно, от группы татар отделился один всадник, тот самый, в рыжей шапке, и, размахивая копьём, к которому было привязано белое полотнище, поскакал к русским. Низкая лошадка весело перебирала короткими ногами и уверенно взбиралась на холм.
— Урус! Урус хорошо! — орал татарин, размахивая копьём, и полотнище яростно моталось на ветру.
Татарин был без оружия, и пустой колчан стучал о бедро всадника. Он ехал уверенно, словно заранее знал — не опрокинет на землю метко пущенная стрела. Только молодость так безрассудна, доверчиво полагая, что впереди у неё целая вечность. И дружинники догадались: всадник не из простых, кафтан его перетягивал пояс, вышитый серебряными нитями, золотую брошь украшали рубины. А держался он так, как не сумел бы сделать этого простой воин, — спина прямая, величавый поворот головы, словно ему уже подчиняются те, кто терпеливо дожидался его на холме. И в этой безумной выходке, которая сродни разве ребячьей забаве, чувствовалась сила и уверенность, что его минует даже смерть. Так мог поступать только хозяин, и эта удалая выходка татарина заворожила всю дружину.
А когда татарин подъехал ещё ближе, Прошка Пришелец понял, что не ошибся — это был Касим, младший сын Улу-Мухаммеда. Ханич унаследовал от отца настоящее лицо степняка — такие же острые скулы, вызывающий взгляд. От старших братьев он отличался светлыми волосами, которые неровными прядями выбивались из-под шапки, делая его по-ребячьи бесшабашным.
— Касим, да ведь я тебя и подстрелить мог! — не смог удержаться Прошка в восторге от поступка ханича. — Царь Улу-Мухаммед небось тебе наказывал, чтобы ты берёг себя и башку свою понапрасну не подставлял. Для этого у тебя холопы имеются.
Конь храпел, сбрасывая с удил белую пену. Хозяин похлопал его по шее, и тот постепенно успокоился от хозяйской ласки. Глядя в карие глаза Касима, Прошка с завистью подумал, что не смог бы вот так безрассудно, как этот отрок, пересечь вражье поле и осадить коня перед ощетинившимися пиками.
Если у них всё воинство такое, нелегко тогда с ними будет сладить. А Касим, поглядывая поверх голов, спрашивал у князя Василия Ярославина:
— Кто такие?
Василию Ярославину вспылить бы впору да отхлестать нечестивца нагайкой, а он смешался перед наглостью отпрыска хана, притронулся пальцами к бармам и отвечал покорно:
— Я князь серпуховской... Выехали мы с дружиной государя своего из заточения выручать, Василия Васильевича. Да, говорят, он уже отпущен Шемякой. А где он, пока неведомо. Может быть, в Твери, а может... да кто его знает! А вы кто такие? — овладел собой князь, придавая голосу должную строгость.
— Я ханич Касим. Прослышали мы от своих людей верных, что братья обидели эмира Василия. Глаз его лишили, в темнице держат. Вот отец послал нас за князя вступиться. Много он добра для нас сделал. Мне же на своей земле город в кормление отдал.
— Вот оно как вышло! — обрадовался серпуховской князь. — И мы за тем же собрались. Давай теперь заодно действовать. Вместе князя искать будем. Потеснится теперь Шемяка, если татары на него навалятся!
Касим сорвал с копья белую тряпку и бросил её на землю, а конь, пританцовывая, втоптал её в мягкую землю, и тотчас татарское войско снялось со своего места и двинулось навстречу полкам князя. Но совсем не так, как это бывает во время сечи — не с долгим и протяжным кличем да поднятыми наперевес пиками и бунчуками, а молчаливо, послушные воле своего повелителя. И князь вздрогнул, подумав — поднимет Касим палец, и сметёт эта тёмная орущая орда и его самого, и дружину.
Таких воинов хорошо держать в союзниках.
— Клятву дадим, что воевать друг с другом не станем, — предложил Василий Ярославич, обнаружив, что находится в окружении батыров. — Так и отец твой поступил, взяв с Василия крестное целование, когда он у него в полоне был.
Татарская тьма уже подошла к дружине Василия Ярославича, первые ряды смешались с русскими ратниками. Поднимет Касим второй палец, и рухнут наземь русские отроки, сражённые кривыми саблями татар. Вроде бы и немного их подъехало, да уж больно быстры — пока русский всадник поводьями шевельнёт, татарин вокруг дважды объедет.
Касим молчит, словно ожидает чего-то, а Василий Ярославич кашлянул и спросил:
— Так что скажешь, ханич? Договорились?
— Хорошо, — согласился Касим и притронулся кончиками пальцев к груди. — Беру Аллаха в свидетели, что не нарушу клятву, данную князю. Не буду воевать князя и вместе с русскими полками пойду искать Василия Васильевича.
— Крест целую, что клятву не нарушу, — обещал Василий Ярославич. — Воевать ни тебя, ни дружину твою не стану и буду делать всё заодно с тобой. А теперь поехали, чего время зря терять.
Первые вёрсты русские и татарские полки шли настороженно рядом, не доверяя друг другу — никто не решался выехать вперёд, чтобы не подставить спину. А потом долгая дорога притупила мало-помалу бдительность, полки смешались, и хоругви, не стесняясь близкого соседства с татарскими бунчуками, весело трепетали на ветру.
Серпуховской князь, прикрикнув на рынд, скомандовал:
— Куда выскочили?! Татары рядом!
Рынды, сомкнувшись, заслонили собой князя. Но и в сопровождении охраны Василий Ярославич чувствовал себя неуютно. Он всё время ожидал, что неожиданно острый наконечник копья, кромсая броню, войдёт ему между рёбер, и упадёт он на землю, харкая кровью. Нашёл в себе силы князь — не обернулся. А татар, видно, притомил неторопливый бег русских полков, и, ударив коней нагайками, тьма ханича Касима вырвалась далеко вперёд русских полков.
Ударили холода. И недели не прошло, как мороз заковал Москву-реку в ледовую броню, словно спасая от дурного взгляда, упрятал водицу до самой весны. Зимнему базару тесно показалось в кремлёвских стенах: он выбрался на простор, облюбовав для торгов гладкую поверхность реки. Здесь купцы расставили лавки, а приказчики весело зазывали народ, расхваливая товар. Базар был шумный: здесь можно было купить меха и осетрину, пирожки и блины и другую снедь. Если пожелаешь, и подстригут — наденут горшок на голову и отрежут торчащие из-под краёв волосы. И в город не надо идти: на базаре тебя пивом напоят, и поесть мясного дадут, и потешат бродячие шуты. Вот оттого и ютятся здесь нищие.
Базар обычно начинал шуметь поутру, сразу после заутрени. Рассветёт едва, а народу на реке пропасть, того и гляди, лёд провалится. Покупатель шёл не только из Москвы — приходили из Коломны и Суздаля, бывали из Владимира и Твери! Но московский базар привлекал не только новыми товарами. Торговый люд спешил ещё и обменяться новостями. А тут неожиданная весть подивила всех разом: Василий Васильевич снял с себя клятву и ушёл в Тверь. Но скоро в Москву прилетела другая весть — Василий обручил своего старшего сына с дочерью тверского князя Бориса Александровича и с его полками двинулся на Шемяку. Вот только самого Василия Васильевича не сыскать нигде более, где-то сгинул среди лесов. Кто говорил, что видели его дружину неподалёку от Владимира, будто там он дожидался татарской рати, чтобы вместе с ней двинуться на московского князя. Другие так же уверенно сказывали, что стоит дружина Василия неподалёку от Твери, в селе Преображенском, и ждёт рать из Литвы, а потом воедино они двинутся на Москву.
Кликуши ходили по базару и предсказаниями пугали народ, утверждая, что московский люд грешен перед Василием Васильевичем — не внимал его покаяниям, прогнал из родной вотчины, а за это Христос ниспошлёт им тяжкую беду и в чёрной язве переморит всех виноватых и грешных. Кликуш боялись и, желая предотвратить предсказание, ублажали нищих и юродивых, подкармливая их пирогами с мясом.
Дмитрий Юрьевич, наслушавшись разговоров, собрал большую рать и отправился на поиски двоюродного брата. И Москва осталась без князя.
Кто-то из дворовой челяди пустил слух, что видели небольшой отряд всадников, который остановился в лесу, разбив шатры. Но вели себя тихо, видно, опасались привлечь внимание: костров не жгли, из пищалей не палили. Наверное, неспроста укрылись и ждали часа, чтобы с воинством подойти к Москве.
Чувствовалось, что в стольном городе что-то назревает. Как и бывает в смутное время, на дорогах чаще стали появляться тати, которые грабили купцов, лишали жизни горожан. Казалось, разбойники живут у самых кремлёвских стен, слишком дерзки они стали в последний год. Теперь нельзя было подъехать к Москве в одиночку без страха быть ограбленным или убитым. Миряне собирались в общины и шли от села к селу, а купцы нанимали дружину, чтобы довезти товар до ярмарки в целости.
Княжеская междоусобица нарушила покой людей, досталось всем, и горожане вздыхали:
— Вот если бы не распри, вывел бы князь своих отроков да припугнул татей! Но разве с ними совладаешь, если хозяина в городе нет. Был Шемяка, да Василия ушёл искать, оставив на попечение бояр жену и малолетних сыновей. А вольные люди не поймёшь в какую сторону глядят: Василий победит — будут ему крест целовать, Шемяка останется — так станут его встречать колокольным звоном. До татей ли!
Разбойников ловили: отрубали им головы и поганые руки, которые приколачивали к столбам на площадях и базарах. Но это пугало разве что старух, которые истово крестились, словно видели самого антихриста. А базары уже будоражила новая весть: разбойники пограбили гостя около Александровской слободы, товар весь забрали, а самого купца с приказчиками на дереве повесили.
Наступил мир бы между братьями, вот тогда и порядок бы навели в отчине.
Митрополит Иона, зная про крамолу, велел в церквах отслужить молебен на замирение. Священники отстояли у алтаря полдня, взывали к благоразумию, призывая Христа услышать молитвы и замирить братьев, но следующее утро стало снова печальным — на базаре поговаривали, что два передовых отряда Василия и Дмитрия встретились у Никольской слободы, расположенной как раз посередине между Москвой и Тверью, и резали друг друга, как басурмане.
Приближалось Рождество Христово. Небо сияло от множества звёзд. Ясно. Значит, быть богатому приплоду и урожаю ягод. В канун Рождества ненадолго забыли о княжеских междоусобицах, готовили к празднику пироги с грибами да с луком, доставали из подвалов квашеную капусту, выпекали хлеб. Под самым Кремлем сделали крутую горку на потеху парням и девкам. Выстроили большую крепость на радость ребятишкам, слепили снежных баб.
Кремль окутан темнотой, только башни, подобно утёсам, возвышаются во мраке.
Прошка снял рукавицу, отёр замерзшее лицо ладонью, откашлялся простуженно.
— Ворота закрыты? — спросил он у верзилы лет двадцати.
— Закрыты, государь. Василия да татей боятся, раньше положенного и запирают. Кремль-то без Шемяки, вот и стерегутся.
Хоть и раздирают Москву междоусобицы, а Рождество народ празднует: за кремлёвскими стенами слышны голоса, песни. Над стенами вдруг вспыхнуло яркое пламя, вырвав из темноты Спасскую башню и купол Благовещенского собора. Видать, в Москве жгли костры. Кто-то лихо стучал в барабан, кто-то пьяным голосом орал песни.
Воины Прошки Пришельца стояли в посаде, спрятавшись в тени высокого терема. В посаде тоже веселились: пели и плясали, ходили ряженые по домам, стучали в окна и пугали хозяев, строя противные рожи. Валяли девок в снегу и ошалело бегали с факелами.
— Говоришь, в город не попасть? — переспросил Прохор Иванович.
— Не попасть, боярин. Больших сил дождаться нужно, а уже затем и Кремль брать. Вот если бы нам кто изнутри ворота открыл — другое дело. Шемяка, когда из Москвы уходил, самых верных слуг у ворот поставил.
— А если мы по-другому поступим? Сколько нас здесь? — загорелся вдруг Прошка от шальной затеи. — Дюжина! Иди по избам, собирай шутовские наряды, вот в них в город и заявимся.
— Будет сделано, боярин! — Детина перемахнул через плетень, догадавшись о выдумке Прошки.
Скоро он заявился с огромной охапкой одежды в руках.
— Здесь шутовские наряды, хари бесовские и бабьи сарафаны. На всех хватит!
Прохор Иванович выбрал себе маску с оскаленной пастью. Пригляделся — по всему видать, бес какой-то. Да уж ладно, не время привередничать, и так сгодится. Детина подыскал себе наряд лешего, кому-то достался бабий сарафан, и отрок неумело натянул его через голову. Сарафан цеплялся за кольчугу, из-под подола торчала сабля. Пришлось отцепить оружие. Прошка оглядел своё воинство и едва удержался от смеха.
— Теперь-то уж нам точно ворота откроют. Сабли и кинжалы под наряды попрячьте, да чтобы не видно их было. И не гремите, когда к воротам подходить станем. Нам только стражу побить — и город наш. В Москве много бояр, которые Василию Васильевичу преданы, они нам и помогут.
Переодетые воины Прохора поспешили к городским воротам. Предусмотрительный детина захватил в одном из дворов гусли и весело дёргал за струны, пел высоким голосом о богатыре и красной девице, которые за околицей нежно целуются.
Так прошли они с песнями и плясками через мост до самых ворот Кремля, а там грубый голос вопрошает:
— Кто такие? Чего надо здесь в такой поздний час?
— Скоморохи мы коломенские, — бодро отвечал Прохор Иванович. — В Москву пришли по приглашению великого московского князя Дмитрия Юрьевича Большого. Пир он хотел устроить, вот и нас позвал, велел к самому Рождеству поспеть.
— В Москве нет великого князя, — ответил караульный. — Пускать никого не велено. В посадах заночуйте.
— Мил человек, да к кому мы сейчас пойдём? — взмолился Прохор. — Ведь не знаем мы никого в посадах. А в городе нам есть где переночевать. Пожалел бы ты нас. Тяжкий путь проделали, и всё пешком. Разбойники нас пограбили, коней наших отобрали, самих едва живота не лишили. Ну посмотри на нас, неужели мы на воинов или на татей похожи? Если хочешь, так мы тебе ещё песню споем или сыграем! И в Москве, слышим, праздник идёт, народ-то Рождество встречает.
Оконце в воротах отомкнулось, и вратник разглядел отрока в бабьем платье, другой держал гусли, третий бесовскую маску напялил. По всему видать, и вправду скоморохи.
— Ладно, пущу я вас! Возьму грех на душу, только никому более о том не говорите.
Ворота натужно заскрипели, поддаваясь невидимой силе, широко открылись.
Прошка махнул рукой и, увлекая за собой остальных отроков, ворвался в Кремль. Он ударил мечом стоявшего вратника, а тот, глядя в лицо Прошки, прошептал:
— От беса смерть принял. — И, зажав рану ладонью, тяжело опустился на землю.
Стоявшие рядом отроки поспешили на помощь десятнику.
Прошка Пришелец уже орал:
— Эй, вы! Мы пришли от князя Василия Васильевича, законного хозяина Московской земли! Помогите нам изловить супостатов, и тогда государь вас пожалует. Здесь, под Москвой, стоит дружина Василия Ярославина, если вы убьёте нас сейчас, то часом позже серпуховской князь не пожалеет никого! Один Шемяка остался. И войско у него небольшое, а за Василия Васильевича и татары клятву дали.
Весть о том, что татары за великого князя, подействовала на многих. Слишком памятно было пленение Василия Васильевича, тогда ордынцы и заполонили Московскую землю.
Стража московская остановилась. Вперёд вышел мужик в красном кафтане и без брони. По всему видно, что он здесь старший.
— Я всегда Василию Васильевичу служил и никогда от него не отказывался, просто попутал меня бес на старости лет, вот и присягнул окаянному. Законному князю хочу служить, Василию Васильевичу. А ты кто таков будешь?
— Прохор Иванович, ближний боярин великого князя Василия. Слыхал о таком? — дерзко спросил Прошка.
— Как не слыхать, — оторопел мужик и, оборотись к страже, изрёк: — Отроки, вот наш господин. Слушайтесь его, как сыновья отца, дожидайтесь, пока Василий Васильевич придёт. Что нам делать теперь, Прохор Иванович?
— Изловить бояр Дмитрия Шемяки.
— А далее что делать прикажешь?
— Там видно будет.
Стража побежала выполнять наказ Прошки. Город ещё ничего не знал. Слышались удары бубна, кто-то из парней голосисто распевал песни, а скоморохи без устали танцевали на улицах, будоража бесшабашным весельем город.
Прошка обернулся к детине и сказал:
— Кажись, всё идёт своим чередом. Езжай теперь к Владимиру Ярославичу, пускай в Москву полк шлёт! А вы со мной, — махнул он страже, которая уже поснимала наряды, повыбрасывала страшные маски и готова была выполнить наказ боярина. — Во дворец!
У дворца собрался народ, слышался смех, один из скоморохов, с бубенцами на шее, шутливо заигрывал с девками, вытаскивал их в круг. Молодухи поначалу смущались от общего внимания, прикрывали лица платками, а потом, осмелев, павами плыли в танце.
Прошка поднимался по лестнице прямо в великокняжеские покои, следом, бренча оружием, стараясь не отстать от боярина, торопились остальные.
— Кто таков?! — преградил Прошке дорогу страж в позолоченной кольчуге. — Пускать не велено.
— Вяжи его! — приказал боярин.
Его скрутили, завязали поясами руки и ноги и, словно куль, бросили в угол.
Прошка вошёл в сени. Навстречу ему выбежал юноша, судя по одежде, из дворовой челяди, и, озираясь на окровавленный клинок Прошки, заговорил:
— Истопник я при дворе великой княгини, а больше ни в чём не повинен...
— Где наместник Шемяки?
— Я его в горнице захватил, — обрадовался истопник. — Лежит он, связанный, под лавкой.
— Как захватил-то? — подобрел Прохор Иванович.
— Я как услышал, что воины Василия Васильевича в городе, так сразу сюда поскакал. А Фёдор, Шемякин наместник, уже из конюшни выходил с конём посёдланным, так я его хватил сковородкой по башке и в терем оттащил.
— Сковородкой, говоришь? — переспросил, улыбаясь, Прошка.
— Сковородкой, — радостно подтвердил истопник.
— Как звать тебя? — спрашивал Прошка.
— Георгий.
— Победоносец, стало быть, — пошутил боярин. — Хорошо, при моей особе посыльным будешь. Теперь покажи, где наместник лежит.
Фёдор Галицкий лежал в углу горницы, связанный по рукам и ногам. Он истошно матерился, извивался, как змей, и, когда в палату вошёл Прошка с воинами, он заорал на них:
— Ну что стоишь, глаза вылупил?! Вели наказать того, кто меня бесчестью предал! Что молчишь?! Неужто не признаешь Дмитриева наместника?! Вернётся Дмитрий Юрьевич, наябедничаю на тебя, тогда он с тебя башку снимет! Что молчишь, нечестивец, харя твоя окаянная!
Прохор не удержался от улыбки:
— Позором твоим любуюсь.
— Мать твою! Мало тебе моего бесчестья, так ты ещё и челядь нерадивую пригреваешь! — Он увидел за спиной своего обидчика.
— А ну-ка тащите его вон из горницы, пусть в темнице посидит! — распорядился Прохор.
Веселье в Москве приутихло, девки разбежались по дворам, да и скоморохам стало не до шуток, опасливо озирались они на вооружённых дружинников, которые рыскали по городу, забегали в палаты, до смерти напугав своим грозным видом дворовую челядь, хватали мятежных бояр за шиворот, тащили в темницу.
Скоро весь город знал, что дружина Василия Васильевича вошла в Кремль. Бояре Дмитрия Шемяки спешили спастись бегством и, бросив домочадцев, садились на коней и уезжали из Москвы восвояси. Однако удавалось уйти немногим: бдительная стража хватала их у ворот, стаскивала с коней и, не считаясь с чином, подзатыльниками гнала к княжескому двору, где свой суд чинил Прохор Иванович.
Он обходил нестройные ряды бояр, сбивал с них шапки, а тех, кто особенно протестовал, широко размахнувшись, бил в зубы. А потом, глядя на кулак, сетовал:
— Все костяшки о противные морды ободрал. — И, глянув на Георгия, который, как собачонка, теперь не отставал от него ни на шаг, сказал: — Теперь ты бить будешь, у тебя кулак крепче.
Боярин Прохор Иванович заметил среди вольных людей верзилу саженного роста (до макушки которого и рукой не дотянуться), спросил строго:
—Кто таков?
— Сын боярский... боярина Фёдора Галицкого...
— Вот оно что! — возликовал Прошка Пришелец. — Дай ему, Георгий, по зубам!
Георгий засучил рукава кафтана по самый локоть, примерился и с размаху саданул детину в подбородок. Верзила покачнулся, словно раздумывая, а стоит ли падать, отступил на шаг, а потом, запутавшись в полах кафтана, растянулся во весь свой саженный рост.
— Силён ты! — похвалил Прошка.
Отрок заулыбался, похвала боярина была приятна:
— На кулаках дрался. Мои-то в кровь трудно ободрать.
Бояре помалкивали, опасаясь навлечь на свои головы новую беду. Ладно, пускай потешится. Вернётся князь, посадит этого худородного на кол.
— Почему вы изменили великому московскому князю Василию Васильевичу? Или он вас не жаловал? Или не любил всем сердцем, как отец чад своих? А может, худое жалованье платил и деревеньки в кормление не давал? Молчите? Не было всего этого! Любил вас князь Василий Васильевич! Чем же вы ему за добро отплатили? Тем, что позволили очи его ясные вырвать, а сами на службу к его окаянному брату перешли! — Бояре подавленно молчали, справедливо полагая, что любое сказанное слово может пойти во вред, только шапки в руках стискивали сильнее, а головы клонили всё покорнее. — Выпороть их! — приказал Прошка. — Да так, чтобы визг по всей Москве шёл!
— А потом что с ними делать, боярин?
— Потом? — слегка замешкался Прошка. — Всех до единого в темницу, там на волю Василия Васильевича оставим.
— Да как ты смеешь, холоп, на бояр, самих Рюриковичей, руку поднимать! — изрыгая проклятия, заорал мужичонка, горделиво распрямляя спину.
Прошка только хмыкнул.
— Этому розог не давать, а снять с него шапку, и пусть постоит таким на площади среди народа, — подверг он боярина ещё большему позору.
В это утро служба проходила необычно: пусты были соборы. Москвичи молились дома, зажигали перед иконами лампадки. Смута в городе, не ровен час, и прирезать могут. Только нищие, как обычно, пришли к соборам в ранний час и заняли место на паперти в надежде получить милостыню.
Иногда слышались чьи-то истошные крики, которые вдруг внезапно обрывались. Прохожие крестились: видать, из кого-то душу вынули.
Прошка Пришелец обходил боярские дома и, сурово глядя на челядь, спрашивал о хозяине. Дворовые люди молчали, потупив взор, и, когда в дело вступала плеть, язык мало-помалу развязывался. Били дворовых здесь же, на снегу, без всякого выбора, лупили как баб, так и мужиков, а потом из подвалов вытаскивали на суд бояр и княжеских слуг.
Рассветало.
Всех пленённых бояр воины вели к великокняжеской кузнице, где на руки им надевали тяжёлые цепи, потом пинками гнали в темницы.
Москва оставалась за Василием Васильевичем.
С рассветом зазвонили как-то непривычно, изменилось что-то и в самом городе. Москва молчала. Ратники серпуховского князя, отличавшиеся от прочих красными круглыми щитами, чувствовали себя в Москве хозяевами. Они заходили в боярские терема и без стеснения требовали наливки. Поживиться бы чем, дома пограбить, но Прошка запретил, сказал: Москва не военная добыча, а вотчина Василия Васильевича и за бесчинства будут карать строго. Однако нашлись и те, кто ослушался, их было двое — один старый воин с глубокими шрамами на лице, другой — совсем мальчишка. Оба они забрались в хоромы боярина Енота, поснимали с боярышень перстни, утащили парадный шлем, украшенный драгоценными камнями, и много другого добра.
Прошка Пришелец повелел привести грабителей на Москву-реку, где шёл зимний торг. В разодранной одежде и без шапок поставили воров перед честным народом.
Прохор Иванович, насупив брови, назидательно вопрошал:
— Сказывал я вам, чтобы не грабили?
— Сказывал, государь, — начал старик, — ты уж нас прости...
— Сказывал я вам, что накажу за злодейство?
— Сказывал, государь, бес попутал, мы ведь и не хотели этого, — оправдывался малой, — зашли в дом...
Народ угрюмо молчал, догадываясь, что дело добром не закончится.
— Эй, дружина, — окликнул Прохор стоявших рядом отроков. — В прорубь их головой.
Охнула баба в толпе:
— Молоденький-то какой! Деток нарожать мог бы!
Отрока и старика взяли за плечи, подвели к полынье.
Вода в ней была тёмная, бездонная.
— Крест можно поцеловать? — взмолился отрок.
— Хорошо, — разрешил Прошка.
Отыскался и священник, который вышел из-за спин стоявших людей и, ткнув в самые губы отрока крест, буркнул:
— Отпускаю тебе, раб Божий, грехи твои. Пусть Бог рассудит, виновен ты или нет. — Он скосил глаза на тёмную леденящую бездну.
Стоявший позади дружинник толкнул отрока в спину, и тот, теряя равновесие, упал в полынью, выставив вперёд руки. Зыбкая поверхность легко разомкнулась под его ладонями и приняла в себя грешника, обдав стоящих рядом брызгами.
Очередь была за стариком.
— Сам я! — отстранил он подошедших стражников.
Вздохнул глубоко, словно набирал в себя воздуха поболее для того, чтобы и под чернеющей гладью продолжать жить, и сделал шаг в воду.
Эти две смерти принесли печаль в торговые ряды. Видно, каждый задумался об одном — от жизни до смерти всего лишь шаг. И никто не ответит на вопрос, где этот шаг ожидает тебя самого. Потом уныние помалу рассеялось, и торг зашумел, как и прежде: закричали зазывалы, расхваливающие свой товар, кто-то матерился, пел задиристые частушки.
Ближе к вечеру ударил набат. Тяжкий гул повис в морозном воздухе, забирался в ближние и дальние уголки, переполошил посад. И скоро Ивановская площадь была полна народу.
Не часто звонит колокол Благовещенского собора, собирая московитов на сход. Горожане, озираясь, спрашивали один другого:
— Что это колокол ударил? Говорить чего будут? Может, опять казнь?
— Нет, не казнь. Волю Василия Васильевича объявлять будут. Вместо него наместник остался, боярин ближний, Прохор Иванович.
— Нам-то что? Мы слуги княжеские. Как нам скажут, так мы и согласимся.
Колокол надрывал душу, всё звонил, и тяжко было стоять при колокольном звоне в шапках. Поснимали их мужики с голов и стали дожидаться боярского приговора.
Прошка вышел на помост и в морозном воздухе уловил запах свежетёсаных досок.
— Люд московский! — завопил он на всю площадь, глядя поверх непокрытых голов вдаль. — Нет теперь на Москве супостата Дмитрия Шемяки! Нет иуды, который посмел поднять руку на своего брата! Бежал в леса! Москва вновь стала вотчиной великого князя Василия Васильевича. Не будет теперь в городе бесчинств, как было при Дмитрии, а в посадах перестанут рыскать разбойники и отнимать у вас последнее. На всех татей Василий Васильевич сыщет управу. Как жили при Дмитрии? Голодно! Накормит вас теперь Василий Васильевич и напоит. Обогреет каждого и обласкает. Всех бояр, что жить вам мешали, мы переловили и в темницу упрятали, а вместо них придут другие люди. Те, кто будет заботиться о вас и любить. Только все вы должны дать клятву, что не причините Василию худого. Пусть жёны дадут клятву, что будут почитать его как отца, а мужья будут любить как посланника Божьего. Целуйте крест на том!
Мужики сначала в одиночку: не то от страха перед Прошкой, не то больше по привычке, целовали нательные кресты, крестили лбы. А может, потому, что холодно было стоять на морозе с непокрытыми головами — осеняли себя крестным знамением и напяливали шапки на самые уши. А потом разом площадь взметнула вверх руки, связывая себя клятвой.
— И на эту радость я вам вина ставлю... пять бочек! Гуляй, народ, веселись, пей за здоровье великого князя московского Василия Васильевича!
Стовёдерные бочки выкатили прямо на площадь, и каждый черпал столько, сколько могла вместить утроба.
А к ночи город был пьян.
Дмитрий отправил отряды во все стороны, но Василия так и не сыскал и, дожидаясь вестей, остановился в большом селе Троицком, неподалёку от Твери.
Крепчали рождественские морозы, и деревенские бабы завлекали княжеских воинов весёлыми игрищами. Те тоже не терялись: лапали девок на сеновалах да в сараях, пропадали до самого утра.
Великому князю приглянулась весёлая вдовушка с бедовыми зелёными глазами. Притиснул её как-то князь в углу, и взволнованно заходила под его жадными ладонями грудь. И не будь боярина Ушатого, который растерянно топтался в дверях как неповоротливый медведь, согрешил бы тотчас. Баба проворно выскользнула из его рук, а Шемяка, чертыхнувшись, обругал боярина срамными словами. А следующим вечером вдова пришла к нему сама — сверкнув белым телом в полумраке, она юркнула под одеяло к князю и утопила его в своей нерастраченной нежности.
— Желанный ты мой, — целовала и ласкала она его беззастенчиво и умело, отринув всякую сдержанность.
— Где же ты всему этому научилась? — спрашивал князь, уловив в себе ревнивую тоску.
— Разве этому научишься? — укорила вдова. — Любовь всё это делает. Она, окаянная!
— Мужа-то небось тоже своего так любила?
— Тебя крепче, — призналась вдова, обхватив его за шею полными руками.
И как ни храбрилась вдова, но в голосе женщины Дмитрий услышал грусть.
— Где мужа-то потеряла?
— Третий год пошёл, как вдовая. В твоей дружине воевал супротив Василия.
— Какой он из себя был?
— Высокий был, красивый такой, на подбородке ямочка. Степаном звали. Может, видал?
Как же сказать бабе, что и дружину свою не всю знаешь, а если ещё удельные князья подойдут, где же их всех тогда упомнишь! И разве мало полегло на поле брани высоких да с ямочками на подбородке Степанов. Кто бы мог подумать, что с бабой дружинника любовью тешиться придётся. Хотел поначалу соврать Дмитрий, но сказал правду. Скорее всего, после этого в глазах её уже не зажгутся весёлые бесовские искорки, и сделается она бабой, похожей на многих, — покорной и молчаливой.
— Нет, не знаю. Много их было, всех и не упомнишь. Да и не положено князю о своих холопах убиваться. Дерёмся мы с Васькой похуже всяких басурман. Не обидно было б, если бы татарина резал, а так своего, христианина. И за что Господь Бог дал нам нести этот тяжёлый крест!
Так горячо пригрела Дмитрия вдова, что и вставать тяжко. Отринуть бы этот суетный мир и запереться в тихой горнице с жаркой бабёнкой да проспать братову войну. Но Дмитрий слишком хорошо знал себя: и недели не пройдёт, как наскучит ему баба с жаркими телесами, и ласки её, волнующие его сейчас, потом покажутся пресными. И опять вернётся он к вражде с братом Василием!
И тогда быть сече!
А сейчас она лежала рядом — желанная и жаркая, как зимняя печь. Ох уж и мял он этой ноченькой сдобное, словно пшеничное тесто, тело и в который раз за ночь умирал в сладостной муке.
За окном, подобно шальному зверю, выла пурга; в горнице было тепло и уютно. Дмитрий вдруг почувствовал во рту сухость и, стукнув бабу по пышному заду, скомандовал:
— Квасу мне принеси, пить хочу!
Не без удовольствия наблюдал князь, как баба охотно откликнулась на его просьбу — перекинула через него тяжёлую ногу и, белая, сдобная, подошла к жбану с прохладным квасом. Утопив ковш-уточку на самое дно, вытащила его полным до краёв и поднесла князю. Дмитрий понял, что не насытился её ласками, и разглядывал её с тем любопытством, с каким басурман заглядывается на молоденьких девок, подбирая их для своего гарема. Прасковья, понимая, чем сумела заворожить князя, беззастенчиво стояла перед ним в чём мать родила.
— Пей, родимый, пей, — гладила она князя по светлым волосам, — заморила я тебя. Если я люблю, я ведь не могу по-другому.
И, глядя на эту бабу, которая была уже в чьей-то чужой судьбе, Дмитрий Юрьевич вспомнил прежнюю свою привязанность. Как же её звали?.. Не вспомнить теперь, забыл так, словно она была не в его жизни. Дмитрий видел её последний раз год назад — жалкая нищенка с ребёнком на руках. Кто знает, возможно, это было его дитя?
— Мужики-то у тебя были после? — вдруг поинтересовался Дмитрий.
— Были... — Баба спрятала глаза. — Только я их всех забыла, ты для меня самый первый.
Прасковья лукавила не зря, была она девкой примерной. В срок, едва минуло восемнадцать годков, вышла замуж. Да скоро отобрали суженого княжеские войны, наградив его в дремучем лесу серым холмиком. Девка с завистью смотрела на своих сверстниц, которые, выйдя замуж, сразу брюхатели и, не опасаясь сглаза, гордо несли впереди себя большой живот. Бабья тоска забирала её по ночам, вспоминались нетерпеливые руки мужа, и тоска подкатывала к самому сердцу.
Прасковья вспоминала и Игната — весёлого, задорного парня. Он беспрестанно задирал девок на посиделках: то поцелует, то обнимет которую, народу — смех, а девке — стыд.
Она встретила Игната в лесу, когда собирала ягоды. Он вышел к ней навстречу из-за дерева — большой, сильный, длинная рубаха перехвачена пояском, во рту — былинка. Обнял её молча за плечи и привлёк к себе, начал целовать так, как никто её ещё не целовал. А потом стянул с неё рубаху, и она, дрожащая и покорная, прильнула к нему.
Да вот беда, не везёт ей с мужиками! И этого навсегда успокоила война. Муж её погиб, воюя за Шемяку, а Игнатушка под Васильевыми знамёнами голову сложил.
И, отвечая князю, Прасковья почему-то вспомнила именно Игната: его уверенные сильные руки и ту самую былинку, которую он беспокойно покусывал зубами.
Разве она одна такая? Вон по селу сколько баб вдовых осталось! Если бы не в миру жили, давно пропали бы.
Дмитрий почувствовал, что ревнует. Не привык он ни с кем делиться: будь то баба или власть.
За окном по-прежнему мела пурга и, сатанея, била комьями снега в маленькое слюдяное оконце.
— Князь Дмитрий Юрьевич! — услышал Дмитрий голос боярина Ушатого. Скребётся под дверью, как пёс бездомный.
— Чего надо?
— Беда, Дмитрий Юрьевич, тут гонец с вестью прибыл...
— Что там?
— Лихие люди предали тебя, отступилась от тебя Москва!
— Что?! — вскочил разом князь.
Боярин вошёл в избу, и воздух тяжёлыми морозными клубами ворвался в тепло горницы, нарушив покой и уют. Зыркнул Ушатый на княжеское ложе и потупил глаза, наткнувшись взглядом на бабьи коленки.
— Рассказывай!
— Гонец прибыл от верных твоих людей, что в Москве остались. Прошка Пришелец, блудный сын, порождение пса безродного, на самое Рождество проник в город и речами погаными своими восстановил против тебя горожан и бояр. Верных людей твоих упрятал в темницу, многих жизни лишил.
— Так, — опустился Дмитрий на лавку. — И хорошего сказать тебе нечего?
— Не всё я сказал, государь, — продолжал Ушатый, насупившись. — Обложил нас Васька со всех сторон, как псы ловчие зайца обкладывают. Из Твери идёт на нас Борис Александрович с воинством великим. Изменил он своему слову. Два дня пути до нас.
— Далее говори.
— Василий Ярославич, сговорившись с татарами, тоже на нас идёт.
— Позвать ко мне бояр Липкиных, Ноздрю и Чуденца, пусть своих людей собирают и навстречу Ваське выйдут.
Ушатый не торопился выполнять наказ князя, стоял с опущенной головой. И Дмитрий разглядел, что волосы на макушке у боярина поредели, проступила светлая неровная плешинка.
— Чего стоишь?!
— Бояре Липкины, Ноздря и Чуденец, забрали своих людей и ушли тайно к Василию Васильевичу. А вместе с ними ушли ещё бояре Свибла, Шуба, Щетнев. И другие ропщут, говорят, что хотят Василию Васильевичу служить, великому князю московскому.
— Московский князь — я! — прохрипел Дмитрий. — Ладно, ступай! Воинству скажи, чтобы к походу готовились, завтра на Чухлому идём.
Ушёл боярин Ушатый, остудил избу. Прасковья, натянув одеяло к самому подбородку, наблюдала за Дмитрием. В глазах страх. Вот говорили же бабы, что крут князь характером, а однажды даже во дворе боярыню вдовую мечом посёк.
— Ну, что уставилась? — вдруг добродушно поинтересовался князь. — Замёрзла небось? Сейчас я тебя согрею. Расстанемся мы завтра. Навсегда... Вспоминать-то будешь?..
— Как же тебя такого забыть, государь? Захочу, так не получится, — удивилась баба.
— Ладно, ладно, утри слёзы. Ни к чему это. В утешение я тебе мужика оставлю, из дворовых он. Скажу священнику, чтобы обвенчал вас. Вспоминай меня, Прасковья, добрым словом. Люди, наверное, говорят, что суров я, баб бью. Только ты тому не верь! Ваську я ненавижу, а баб люблю. А теперь прижмись ко мне покрепче.
Софья Витовтовна уже знала: Василий возвращается в Москву, и ждала гонцов, чтобы самой быть поводырём у сына, но вместо посыльного от великого князя в терем пожаловал боярин Иван Ушатый.
Он вошёл в её горницу и, стрельнув глазами на девок, помогающих княгине одеваться, сказал:
— Собирайся, Софья Витовтовна, тебя великий князь дожидается, Дмитрий Юрьевич.
Рассыпались девки по горнице, как яблоки из упавшей корзины. Боярин Ушатый продолжал:
— С ним поедешь, хочет он, чтобы ты ангелом-хранителем ему была в дороге.
Великая княгиня Софья была похожа на своего отца Витовта не только чертами лица: тот же прямой нос, капризные губы и даже морщина на челе, точно такая же глубокая и кривая. И характером княгиня была под стать отцу: не любил покойный правитель слова, сказанного поперёк. В порыве ярости мог обломать трость о спину нерадивого слуги или взашей собственноручно вытолкать спесивого князя. Сама же Софья Витовтовна не раз за волосья таскала девок, и бояре, зная крутой нрав великой княгини, старались не перечить ей понапрасну, тем самым не вызывать на себя гнев госпожи.
Первый год, проведённый на Руси, был для Софьи Витовтовны особенно трудным. Выдали её замуж за Василия Дмитриевича, чтобы скрепить дружбу двух соседей. Это обстоятельство не мешало Витовту пощипывать окраину русских земель. И весь гнев Василий обрушивал на свою жену, видя в ней главный источник всех бед и напастей, которые обрушивались на Московское княжество.
Сам Василий Васильевич был зачат, когда между супругами воцарилось примирение, и зять с тестем на короткое время перестали ссориться. Может, оттого и уродился он не такой, как все — был неровен и горяч, словно настроение матери передалось и ему. Только после смерти Василия Дмитриевича Софья почувствовала себя по-настоящему великой княгиней, она уже не стеснялась своего литовского выговора, не опасалась насмешек бояр — власть была в её руках. И те бояре, которые совсем недавно ходили в её заклятых врагах, теперь искали её расположения. Вот когда в ней в полной мере раскрылся характер железного Витовта — оказывается, она не забыла нанесённых обид и не собиралась прощать никого. Первыми поплатились братья Нестеровы за то, что наушничали Василию Дмитриевичу про связь великой княгини с красавцем сотником Степаном Охабнем. Обоим братьям она велела отрубить головы. Следующими оказались бояре Плещеевы — отец и сын. Великая княгиня повелела тайно задушить их в темнице за злые языки. А недоумка-шутника — боярина Кобылу повелела прилюдно на площади выстегать розгами, в вину ставила то, что посмел посмеяться вслед великой княгине.
Попридержали бояре злые языки, попритихли, а Софья Витовтовна в государстве заняла первое место при малолетнем своём сыне. Даже повзрослев, Василий не однажды обращался за помощью к матери, признавая её ум и мудрость.
И даже когда Василий был низвергнут и беспомощен, а великая княгиня растеряла своё прежнее величие, не нашлось боярина, который посмел бы оскорбить Софью даже взглядом. И вот сейчас боярин Ушатый, пнув ногой дверь, нагло посмел войти в покои княгини.
— Ты, княгиня, на ухо, видать, тугая стала, — повысил Ушатый голос, — так я могу тебе и проорать! Дмитрий Юрьевич с тобой возиться не станет, прикажет по рукам и ногам связать да в телегу бросить. Это я по доброте своей с тобой разговор веду.
Девки, как затравленные зверьки, таращились на Ушатого, который, подобно медведю, в просторной лохматой шубе склонился над княгиней, того и гляди, сожрёт! Видать, поубавилась сила в Софье Витовтовне, ежели угличские бояре посмели ею помыкать. Но нужно было знать великую княгиню, чтобы понять — причина в другом: угличский боярин недостоин той чести, по которой она снизойдёт до его приказаний.
— Пшёл вон, холоп! — отвечала Софья Витовтовна. — Или ты забыл, с кем говоришь? Или ты думаешь, что за чуб тебя не смогу отодрать, как девку беспутную?!
— Некогда мне перед тобой шапку ломать! А если ослушаешься, велю холопам своим дворовым вязать тебя. Эй, холопы! Сюда!
На голос боярина вошло трое дюжих молодцов. Они поскидывали с голов шапки и стояли скромно, потупив взор. Но великая княгиня поняла, что, прикажи сейчас Ушатый сорвать с неё княжеское одеяние и рядить в простое платье, они причинят ей тотчас и это зло.
Стотысячное войско великого князя осадило Углич. Немного опоздал Василий Васильевич — Дмитрий Шемяка опередил его и три часа назад готовился отражать нападение московского князя.
Василий захватал посад, стоял у города второй день, надеясь на благоразумие обороняющихся, но вместо покорности с крепостных стен доносилась ругань и матерная брань.
— Может, с боем возьмём Углич, великий князь? — подступали к князю воеводы, но Василий Васильевич не торопился проливать кровь.
Однако чуда не происходило, горожане продолжали сопротивляться, вызывая у нападающих раздражение боярства и негодование воинства.
Василия вывели из тёплой горницы на морозный воздух. Видно, его заприметили с детинца. Тихо стало. Брань умолкла. А Василий Васильевич, оборотившись к боярам, попросил:
— Поверните меня лицом к Угличу, послушать хочу, что ворог говорит.
— Ты и так к ним ликом стоишь, государь, — отвечал за всех Прошка. — Умолкли они, тебя со стен заприметили, государь.
Студёный ветер холодил кожу, забирался под кафтан, трепал его полы, а бояре, будто мальца малого, держали под руки слепца Василия. Он осторожно сделал один шаг, другой. И трудно было узнать в нём московского государя с лёгкой поступью и быстрыми движениями.
Словно сызнова учится ходить князь.
— Молчат, стало быть, — сказал Василий, и в ответ ему со стен громыхнуло.
Каменное ядро, рассекая воздух, угодило в баньку и, разбив в щепы стену, непрошеным гостем вкатилось вовнутрь.
— Палят, государь, в тебя метили, — сказал Прошка. — Да больно далеко, не попасть им. И никогда угличские стрелками хорошими не были, это не наши московские пищальники.
— Не хотят покориться. Ладно, поглядим, как дальше будет. Борис Александрович пушки обещал привезти. Завтра наряды здесь будут.
Наряды доставили точно в назначенный срок. Кони медленно волочили сани с орудиями, а они лениво, на каждой кочке, перекатывались с одного бока на другой, выглядели устрашающе.
Пушки установили под стенами города и стали ждать распоряжения Василия Васильевича.
Вышел Василий Васильевич. Сняли пушкари шапки и кланялись в ноги, а пустые глазницы были устремлены выше склонённых голов, к самым куполам угличских соборов.
— Сколько пушек, Прохор? — спросил великий князь.
— Две дюжины, князь. В обозе ещё есть, а ежели эти не помогут, тогда все выставим.
— Подведи меня к орудию, — пожелал Василий.
И, взяв князя за руку, Прохор Иванович повёл его к наряду.
— Вот, государь, перед тобой пушка.
Василий выставил вперёд руку, и пальцы его упёрлись в гладкую прохладную медь пушки.
— Крепка, — не скрывая удовольствия, выдохнул князь. — Сколько же пудов ядро весит?
Обрубки пальцев ласково ощупывали орудие. Когда-то так великий князь оглаживал разгорячённого коня, если тот норовил вынести его в самую гущу сечи. Да и Василий никогда не пасовал, везде первый был.
— Да пудов эдак пять, думаю, — прикинул Прошка. — В обозе осадные пушки есть, так там ядро до семи потянет.
— Ладно, пускай пушки пока постоят для устрашения угличан. А ты им письмо в город отправишь. Если к обеду Углич не сдадут, брать будем! — решил Василий и, повернувшись, увлёк за собой бояр.
Перед самой обедней на сторожевой башне затрепетало белое полотнище, отворились городские ворота, и воевода с хлебом-солью в руках вышел встречать великого князя.
Углич пал.
Студёно было в Каргополе. Каждый день дул северный ветер, неустанно приносил с собой снежную вьюгу. Шемяка выглянул в окно и увидал замерзшую Онегу, которая, петляя, уходила в лес. На снегу неровными квадратами стояли чёрные избы, из закопчённых труб тяжёлыми клубами вырывался дым и стелился почти над самой землёй.
У проруби князь углядел баб, пришедших по воду: пристроив коромысла с вёдрами на плечи, они павами удалялись в сторону посадов.
У самого леса разъезжал дозор. Тихо было. То не Москва с колоколом-ревуном на Благовещенском соборе. Здесь даже служба проходит тише. А что говорить о хоре: голоса совсем не те и ладу в песнопении нет. Одно слово — удел!
Шемяка уже знал, что Углич пал. Вчера прискакали гонцы с вестью о том, что и Ярославль встречал Василия как своего господина, бояре были пожалованы, а многие взяты на службу к Василию. Погостил он там три дня и отбыл в Москву.
Вдруг Дмитрий увидал, что из леса выехали сани, следом за ними — дюжина отроков, вооружённых копьями. Сани остановились, к ним быстро подъехал дозор.
Боярин, сидевший в санях, о чём-то недолго говорил, а потом воин махнул рукой, и сани легко заскользили дальше, приминая полозьями выпавший снег.
Дмитрий не разглядел, кто был тот боярин, но понял сразу — это гонец от великого князя. Прицепив боевой меч и накинув парадный плащ, князь решил выйти навстречу.
— Прохор Иванович, стало быть, — столкнулся князь в дверях с боярином. — По какой нужде пожаловал?
Прохор хотел было снять с головы шапку, но опомнился — ладонью стряхнул с ворота талый снег. Чего шапку зазря ломать, есть господа и поважнее, и, приосанившись, объяснил:
— Грамоту тебе от великого князя московского везу, — и протянул аккуратный свиток.
Дмитрий Юрьевич в азбуке был слаб. Оглядел только печать Василия Васильевича и протянул свиток вертевшемуся подле него дьяку.
— Читай, Гаврилка.
Дьяк Гаврила развернул свиток:
— «Брат мой любезный, князь великий Дмитрий Юрьевич. Кланяется тебе до земли до самой великий князь московский Василий Васильевич. Не держу я на тебя зла более, не ворог ты мне и не татарин. Одним иконам мы молимся, един крест целуем. Но разве только это обще у нас? Едины мы по крови, и дед у нас один, подпора славы русской — Дмитрий Донской. Мы же с тобой режемся, как басурмане, и ослабляем нашу землю. Латинянам да татарам всё на радость делаем. Я прошу тебя, князь Дмитрий Юрьевич, встать под мои знамёна и признать меня своим старшим братом. И ещё об одном хочу тебя спросить, князь. Неужели ты настолько слаб, что воюешь с женщинами — держишь в полоне мою мать. Или хочешь ты этим досадить мне? Но я уже давно в своей московской вотчине и сижу на великом княжении. И на том тебе кланяюсь.
Великий князь московский Василий Васильевич».
Гаврила прочитал и аккуратно свернул грамоту, ожидая, каково же слово государя будет.
Кто мог подумать, что Василий и слепым будет опасен. Эх, можно ведь было дело решить куда проще — придушить его в сарае, а то и в питьё зелье какое подсыпать. На том и закончилось бы. Затаился Васька, чтобы потом на московский престол шагнуть. Овечью шкуру на себя натянул. Кто же знал, что под ней волк прячется. И, словно угадывая мысли Дмитрия Юрьевича, Прошка недобро хмыкнул:
— Жалеешь небось, князь, что Василия Васильевича с миром отпустил?
Шемяка посмотрел на боярина из-под насупленных бровей и отвечал:
— Жалею.
И когда Дмитрий отошёл, Прохор, продолжая топтаться у порога, вдруг понял, что был совсем рядом со смертью.
Великая княгиня Софья даже здесь не хотела усмирить свой нрав: прогнала с бранью девок, которых Дмитрий послал ей в услужение. Огрела боярина Ушатого тростью за то, что тот посмел не поклониться ей. И Дмитрий стал подумывать уже, а не он ли находится в плену у своей тётки? Софья не жалела для племянника бранных слов: называла его иродом, татем окаянным и, завидев его во дворе, демонстративно отворачивалась. Одёрнуть бы Дмитрию тётку, да разве её угомонишь? Только пуще прежнего старая завопит. Порченая кровь у этих Гедиминовичей — сам Витовт был такой же сварливый, от желчи и помер. Но как можно простить Софье Витовтовне оскорбление, которое она нанесла племянникам на свадьбе своего сына? Перед боярами и челядью сняла пояс со старшего брата, Василия Юрьевича. Правильно сказал тогда покойный батюшка: «Это ей не языческая Литва, это Русь! И законы здесь другие. Не будет ей от меня прощения!»
Однако присутствие тётки становилось Дмитрию в тягость. Может быть, это и к лучшему, что Василий о ней печётся. Видеть её — уже наказание, а тут при ней и бояр надо держать, а ещё и стражу. Да где народу набрать, когда все по Руси разбрелись: кто в вольный Новгород подался, а кто в услужение к Василию удрал.
Отдать её великому князю — и дело с концом!
Великая княгиня Софья выслушала приговор угличского князя почти равнодушно. Позвала сенную девку и повелела накинуть на плечи шаль (зябко больно!), потом долго тёрла ладони, прогоняя стылую кровь, и только после этого обратилась к Дмитрию:
— Что же ты, князь, так быстро меня отпускаешь? Или наскучила тебе старуха своими бормотаниями? А может, брань тебе моя не по сердцу приходится? Или, может, причина в другом? Боишься ты сына моего, Василия Васильевича Московского! Вот и таскаешь меня повсюду. А сейчас отпустить хочешь, чтобы прощение у него выпросить. А сумеет ли он простить тебя, если я уже в полоне помыкалась? И шапку ты снял, в ноги мне кланяешься, только думаешь, что от этого твой грех меньше будет? Ладно, хватит с тебя, с кем поеду я, князь?
Дмитрий Юрьевич стоял как проситель, шапку снял и княгиню назвал госпожой.
— Боярские дети с тобой поедут, а ещё боярин Сабуров будет. Прости, княгиня, коли что не так, а держал я тебя не в полоне. Была ты у меня гостьей. Эй, слуги, кто там! Запрячь коней резвых для княгини и снарядить её в дальнюю дорогу. Шубу ей волчью дать, — расщедрился напоследок Дмитрий Юрьевич, — пусть она её греет.
Прошёл лишь месяц, как Василий Васильевич вновь сел на московский стол, а будто и не покидал его. Ликовала душа. Одна беда — мгла вокруг! И никогда не знаешь, кто рожу тебе строит, кто кланяется. Голоса-то как будто у всех елейные, а попробуй разгадай, что за ними прячется.
Однако перемену к себе Василий Васильевич замечал. Когда пришёл после полона, сказывали, крестились в сердцах, принимая великого князя за антихриста, а сейчас юродивые руки целуют, словно страдальцу святому. Видит теперь Василий глазами бояр, которые в уши нашёптывают:
— Тьма народу собралась, государь, тебя встречают, и не пройти. Кто-то сказал, что ты в церковь помолиться выйдешь, вот с раннего утра и дожидаются тебя. Взглянуть на святого хотят.
— Нашли святого, — буркнул Василий.
Московский князь сошёл с крыльца, народ расступился, пропуская страдальца к колымаге. С трудом верилось Василию, что это тот самый люд, который не так давно не желал признавать в нём государя своего. А теперь руки целуют.
Стража не могла отодвинуть плотные ряды. Теснила их бердышами, хлестала плетью, но народ напирал вновь и грозил своей тяжёлой массой раздавить немногочисленный караул. Дежурный боярин без конца орал:
— Рас-ступись! Дай государю пройти! Государь на богомолье в Троицу едет!
— Веди меня к колымаге, — попросил великий князь.
Поводырь, осторожно ступая, вёл за собой князя.
...В тот памятный зимний день он тоже ехал к Троице. Только не провожали его московиты, уходил Василий из Москвы вором, опасаясь встретить во взглядах горожан укор. А теперь и сам видения лишился: вместо глаз — прикрытые веками глубокие пустые глазницы...
Путь в несколько шагов показался великому князю долгой дорогой, и он спросил:
— Далеко ли ещё до колымаги?
— Здесь она, государь, два шага осталось. — сказал боярин. — Я руку под твою ноженьку подставлю.
Василий опёрся о бояринову ладонь, она качнулась слегка, как лодка от волны, но знал великий князь, не опрокинет она его и вынесет точно к берегу.
И, когда Василий разместился меж пуховых подушек, боярин скомандовал вознице:
— С Богом поезжай! — И для острастки, больше для тех, кто стоял в толпе и называл себя холопами великого князя: — Да смотри у меня, аккуратнее, это тебе не поленья, князь великий московский!
— Дело я своё знаю, — обиделся возница и почти ласково тронул вожжи, погоняя коней по накатанной санями дороге.
Не увидел Василий Васильевич Троицкого монастыря, а признал его по колокольному перезвону. Колокола надрывались от радости, встречая князя. Голосили и сладко тревожили душу, наводили печаль.
Встречать Василия вышла вся братия — теперь уже не опального, а великого московского князя. Монахи сгрудились у ворот, вопреки строгому уставу, поснимали с себя клобуки и как есть, простоволосые, стали ждать милости государевой.
Василий ехал в Троицу, чтобы встретить матушку, Софью Витовтовну, а не наказывать непокорную братию, посмевшую восстать супротив его воли.
— Грешны мы, великий князь... — начал было игумен.
Василий замахал руками:
— Простил я вас, братия, давно простил. Живите себе с миром да молитесь за меня. Видно, нужно было Господу лишить меня видения, чтобы я окончательно прозрел. Беда моя во искупление грехов послана. Теперь же нет на мне вины, как на младенце, что вышел из утробы матери. Ведите меня к церкви, где я был братом своим в полон взят.
Подвели Василия к Троицкой церкви.
— Вот она, церквушка, государь, где ты от Ивана Можайского хоронился. Пономарь тебя скрывал.
— Где же он? В ноги хочу ему поклониться, — разволновался Василий.
— Не уберегли мы его, — был печальный ответ. — Как узнал Шемяка об этом, так велел жизни его лишить. На монастырском погосте и погребли, — говорил игумен. — Ты осторожней, государь, ступени впереди, не расшибись. А об этот выступ, что перед папертью, боярин Никита споткнулся. Вот кто злодей! Упал и белый лежал, как мертвец, насилу его растрясли, христопродавца! Видно, сам Господь тогда его о камень саданул, тебя, великий князь, выручал.
Постоял Василий Васильевич, помолчал, и горько ему стало. Не за себя он тогда боялся, чады при нём оставались. Ладно, можайский князь про мальцов тогда не спросил. Слеза в тот час отвела беду от детишек.
Как и в день пленения, было холодно, и мороз-задира крепко пощипывал щёки. Василий услышал поскрипывание снега, а следом за этим тревожный храп лошадей. Но вместо бранной речи и угроз раздался приветливый голос Прошки Пришельца:
— Здравствуй, Василий Васильевич, князь великий, это я прибыл, холоп твой верный, Прошка. Матушку твою привёз.
Василий повернулся к любимцу, тронул ладонью растрёпанные волосы, обнял едва и поспешил — матушка на пороге!
— Веди меня, Прохор, матушку хочу обнять!
Софья Витовтовна в сопровождении боярина Сабурова спешила навстречу сыну. Сабуров чуток поотстал, неназойливо опекал госпожу:
— Ты бы, государыня, не шибко шла, лёд кругом. Вон по той дорожке ступай, где монахи песку побросали.
Скрывалась за этой заботой просьба о прощении былого греха.
— Не держала бы ты на нас зла более, государыня. Сказала бы Василию Васильевичу, пусть обратно на службу возьмёт.
Оттаяла княгиня.
— Не держу более зла, боярин, скажу. Сын где мой, Василий?
И раньше, чем успела произнести княгиня, появился Василий. Он шёл неровной, осторожной походкой слепца.
Волосы у Василия выбились из-под шапки и неровными прядями спадали на глаза, но они совсем не мешали ему. Окружающим Василий Васильевич напоминал старика, который спешит на богомолье шаркающей неторопливой походкой, и так тяжелы грехи, что он с трудом поднимает ноги.
Но для великой княгини он был сыном, родным, беспомощным, как в раннем детстве. Обнять его, приласкать, кто это сделает лучше матери?
— Матушка, я здесь!
Голос принадлежал прежнему Василию, умудрённому опытом, смелому и гордому. Видно, нужно было пройти через страдания, чтобы обрести уверенность. Великая княгиня на мгновение забыла, что князь слеп. Но беспомощные, шарящие вокруг руки подсказали Софье: нужно спешить на выручку сыну.
— Сынок, Васенька! — вырвалась великая княгиня из рук бояр. — Дай же я лицо тебе утру, запачкал ты его. Кто за тобой посмотрит, если не матушка.
Только не грязь была на лице у князя, а усталость оставила свои следы на скулах. Князя утомила бессонница, он забывался ненадолго, вдруг неожиданно просыпался среди ночи и снова не спал. Во сне он видел себя зрячим и полным сил, но была действительность, а с ней темнота. Полным ужаса голосом Василий просил постельничего: «Семён, кваску бы мне принёс!»
Утёрла великая княгиня лицо князю и увидела, как он осунулся за последний год. Стариком совсем стал.
— Теперь мы вместе, сынок, всегда будем. Никогда не расстанемся, — шептала ласково Софья.
Бояре отвернулись: неловко было подглядывать за чужим счастьем. Великую княгиню они видели такой впервые (куда подевалась спесивость Гедиминовичей!), что говорить, баба, она и есть баба!
Василий плакал.
Часть V СТАРШИЙ СЫН
Улу-Мухаммед спустился к самой воде. Итиль неторопливо несла хмурые воды в сторону Сарайчика. Помнят ли о прежнем хане в далёком, но родном краю? Ведь сейчас у Орды новый господин.
На дне реки искусный мастер разложил цветные камешки, они напоминали радужную мозаику, какой украшают стены ханских дворцов. А между камешками арабской вязью вплетались гибкие водоросли, которые легко подчинялись течению и складывались в замысловатые вензеля. Стайка мальков пугливо пряталась у самых корней, когда на них падала нечаянная тень.
Тихо вокруг и безмятежно.
Воистину неисповедимы дороги, которые за всех предопределил Аллах. Знал ли Улу-Мухаммед, что за два года он будет трижды изгнан и из некогда могущественного хана Золотой Орды превратится в хозяина небольшого городка в среднем течении реки Итиль.
Некогда здесь высились Булгары, которые разрушил всемогущий Темир-аксак, и от былого величия остались только мечети.
Улу-Мухаммед сидел на берегу Итили, устремив немигающий взор на холодные воды. В последний год он приобрёл привычку каждый день выходить сюда и подолгу наблюдать за убегающими волнами. Стража, которая покорно застыла за спиной своего господина, могла только гадать, о чём думает Улу-Мухаммед. Может, он жалеет о просторах, которых лишился, или, может, мечтает о красивой наложнице, которую мурзы должны привезти ему завтра вечером из Кафы. Все эти годы стража у хана не менялась. Поседевшие воины видели и его падение, и возвращение былого величия. Они видели его слабым и сильным, но не сломленным. Улу-Мухаммед всегда был господином. В бою становился расчётливым стратегом, во дворце доверчивым, как ребёнок. Он не носил под халатом брони и не боялся быть убитым в спину. Если бы воины разочаровались в своём повелителе, они могли бы это сделать несколькими годами раньше — в бою или во время долгих переходов по Большой Орде. От удара кинжалом в спину погиб его отец, дед был убит саблей в грудь одним из приближённых мурз. Казалось, есть основания, чтобы бояться предательского удара, но Улу-Мухаммед доверял своим воинам и гордился этим. Ему суждено не умереть от подлого удара, а дожить до глубокой старости и безмятежно почить на своём ложе. Улу-Мухаммед успеет покаяться перед Аллахом во всех содеянных грехах: воскресит в памяти всю свою жизнь и поступки; вспомнит, что некогда был самым могущественным ханом Золотой Орды. Только после этого он сделает своё завещание. И если его отец, великий Джеляль-Уддин, велел убить своих братьев, чтобы быть первым и сохранить Орду неделимой, то он пожелает другого. «Мир вам! — накажет он сыновьям. — Живите дружно, только в единстве есть сила!» Только после этого хан посмеет повернуться лицом в сторону Каабы и уснуть навсегда вечным сном. Конечно, самая почётная кончина — смерть на поле битвы, когда можно умереть с именем Всевышнего на устах, но подарит ли Аллах ему эту милость?
Улу-Мухаммед поднялся и пошёл вдоль берега. Остановился. Дежуривший страж тут же положил на берег подушку, думая, что хан решил присесть именно здесь. Но Улу-Мухаммед немного постоял и пошёл дальше.
Хан подумал, что пришло время объединить осколки Орды в единое целое. Теперь у него хватит на это сил. Он не тот прежний опальный хан, который рыскал по степи в поисках пристанища. Улу-Мухаммед даже знал, как это лучше сделать с наименьшими потерями: сначала он овладеет Сарайчиком и уже затем обрушится на Бахчисарай всей мощью покорённых земель, как это проделывал славный Батый.
С Итили подул сильный ветер, распахнул полы халата, как бесстыдный вор, сорвал с головы Улу-Мухаммеда шапку и покатил её в сторону обрывистого берега. Седовласый мурза, стоявший рядом, с поспешностью расторопного батыра бросился вдогонку. Он поднял шапку, протянул её повелителю, стараясь не смотреть на растрёпанные волосы господина. Улу-Мухаммед молча взял шапку и натянул её на самые уши. Зябко было. Хан поёжился и тотчас почувствовал на своих плечах тяжесть тулупа. В этих краях куда холоднее, чем в его родном улусе. Но он полюбил леса и водные просторы последней и крепкой любовью, которая походила на страсть старика к юной девице. Казалось, жизнь прожита и не осталось в ней уже места для чувств и потрясений, но появилась она, и сердце бьётся так же тревожно и замирает так же сладко, как когда-то в далёкой юности. Вот и Улу-Мухаммед: прожил в величии, хлебнул горечь бесславия, казалось, не было уже на этой земле страсти, которая способна зажечь его — слишком много он пережил в этой жизни. Но эта земля дала ему вновь почувствовать вкус к жизни. Казань, как наложница, в которой юность сочетается с опытностью, сумела вдохнуть в дряхлеющее тело Улу-Мухаммеда огонь.
В этих местах Итиль не так широка, как в Хаджи-Тархине, однако более быстроводна и чиста. В Казани нет степей, где кони чувствуют себя вольно, но здесь есть леса, полные дичи, чащи, которые способны укрыть целое войско.
Улу-Мухаммед привык быть первым на земле. И даже этот огромный край, который он сумел подчинить себе всего лишь с небольшим числом уланов, казался ему мал, и хан терпеливо дожидался случая, чтобы огромной армией вторгнуться в свои прежние владения.
И, кажется, он дождался этого.
Василий, как это было ещё заведено Золотой Ордой, выплачивал теперь дань и Казани. Сыновья Улу-Мухаммеда засели в самом сердце Руси, взяв города в кормление. Каждый из них имел войско, способное потягаться в силе с дружиной великого князя. А множество эмиров, которых он подчинил себе, только и ждали его приказа, чтобы расширить южные и восточные владения. Оставалось объединить это воинство в единую силу и смерчем пройти до самого Сарайчика. Он окажет честь Василию Васильевичу — первыми двинутся его полки.
Русские странный народ — перед битвой они начинают петь. Однако Улу-Мухаммед замечал не раз, что это пение приводит неприятеля в ужас. Дружины вотчинных князей, ещё недавно рубившиеся друг с другом на поле брани, объединяются против общего врага сначала в общем хоре. Это совсем не тот крик, который вырывается у русичей во время боя: «За Христа!», перерастая в единое и крепкое «а-а-а!». Он совсем другой, наполненный живительной силой, какой бывает в половодье река, вбирающая множество притоков. Поначалу поёт головной полк, а следом за ним в хор вливаются дружины младших князей.
Улу-Мухаммед решил, что за ним следом пойдут казаки эмира Сары-Тау, который должен показать свою преданность на поле брани. У него всегда были самые крепкие и самые быстрые кони во всей Орде. Эмир будет добивать разрозненные остатки войска хана Сарайчика, и уже потом должны следовать уланы самого Улу-Мухаммеда. Им достанется лёгкая победа — мелкие группы воинов, которые разбегутся по всей Большой Орде. Сам же он с большим отрядом въедет в Сарайчик, и город будет приветствовать своего бывшего господина.
Сейчас хан ожидал своих сыновей. Он отправил их на Русь для поддержки московского князя Василия Васильевича. От них уже прибыли гонцы с вестью, что князь Василий сел на московский стол. Значит, сегодня сыновья будут во дворце.
К своим наследникам Улу-Мухаммед относился по-разному, может быть, потому, что рождены они были от трёх жён: старший сын Махмуд родился от черкесской княжны и унаследовал не только её красивое лицо, но и характер, такой же непредсказуемый и дерзкий. Среднего сына, Якуба, родила дочь известного бухарского эмира, который считал за честь породниться с ханом Золотой Орды. Якуб был тихого нрава и самым незаметным из сыновей. Но всё-таки любимым сыном Улу-Мухаммеда оставался Касим, плод греховной любви с невольницей, которая потом стала его старшей женой. Невольница, почти девочка, была очень красива. Она привязалась к Улу-Мухаммеду и любила его со всей силой души, на какую способен лишь ребёнок.
Как не походили жёны одна на другую, точно такими же разными выросли и его сыновья. Словно Аллах хотел показать, насколько бывают разными плоды, упавшие с одного дерева. Сам Улу-Мухаммед был высок, с благородной осанкой, и не случайно его прозвали Большим. А дети — как мелкий кустарник под могучим стволом, как сорная трава под плодоносящим деревом, как болезненный нарост на крепкой коре. Махмуд был роста небольшого, черняв. Якуб — приземист и толст. Удался только Касим. Высокий и статный. Их объединяла кровь великого отца, но ни в одном не смогли воплотиться полностью черты, которыми обладал он.
Братья не любили друг друга, и эта неприязнь с годами только усиливалась, перерастала в тихую ненависть. Они не хотели забывать завещание деда: «Каждый из моих сыновей и внуков, кто первый вступит на престол, обязан убить своих братьев!» С тех пор ничего не изменилось. И, поглядывая друг на друга, отпрыски Улу-Мухаммеда задавали себе один и тот же вопрос: «Кто же будет тем первым, который посмеет поднять руку на остальных братьев?»
Единственное, что сдерживало их от кровавой ссоры, так это присутствие отца.
Улу-Мухаммед так задумался, что даже не услышал, как подошёл мурза Тегиня. Мурза сильно постарел и потолстел, ходил тяжело, но даже по этой неторопливой, слегка косолапой походке чувствовалось — он ещё силён. Так держится только завоеватель: расслабленно и одновременно уверенно, зная, что стоящие рядом обязательно расступятся при его появлении и будут долго кланяться вслед. В последние годы Тегиня ещё больше приблизился к Улу-Мухаммеду, и придворные мурзы давно забыли, что он только один из них. Мурза Тегиня принимал оказываемые почести снисходительно, подобно хану, привыкшему к вечному почитанию: наклонит едва голову, даже не взглянув на униженных эмиров, и идёт дальше. И только его отношение к Улу-Мухаммеду оставалось неизменным.
По своему могуществу Казанское ханство соперничало уже с Большой Ордой, а московские князья уважали казанских ханов куда больше, чем золотоордынских. Бояре лезли в дружбу к казанским мурзам, заискивали перед послами, приносили большие дары и звали на великое жалование к московскому князю Василию.
Из разорённого и неизвестного улуса Улу-Мухаммед превратил Казань в сильный город: заново отстроил его стены, укрепил башни, возвёл несколько каменных мечетей, а ханский дворец турецкие зодчие выложили белым мрамором.
Трижды Улу-Мухаммед падал и трижды поднимался, но всякий раз он вставал куда более сильным, чем прежде. Такое испытание судьбой мог выдержать только Мухаммед — всякий другой остался бы лежать после первого же удара. Большой Мухаммед был поистине великим: завоёвывая государства, он терял их, а потом строил новые. Теперь он создал последнюю свою державу, с могуществом которой считались ордынцы.
Улу-Мухаммед чувствовал, что дни его на земле сочтены, и он велел вместе с ханским дворцом построить родовую усыпальницу, где нашёл бы себе последнее пристанище. Что поделаешь, даже великим суждено оставлять грешный мир. Улу-Мухаммед часто заходил в гробницу и наблюдал, как мастера подбирают к лазуриту яркие камни, выкладывая стены цветной мозаикой. Гробница — это врата в рай, и здесь должно быть так же красиво, как в райских кущах. Потолок украшала бирюза, привезённая из далёкой Персии.
Улу-Мухаммед выбрал уже для себя место в центре усыпальницы. Пусть живые знают, что под белым мрамором покоится прах великого смертного.
Сейчас, сидя на берегу Итили, Улу-Мухаммед с интересом наблюдал, как рыбаки тащили сеть. Огромные осётры никак не желали расставаться с родной стихией, спешили упрятаться поглубже в кишащую рыбами воду, но всякий раз натыкались на сеть, сотканную из крепких нитей. Рыбаки, уперевшись в борта ногами, напрягались из всех сил, и хан видел вздувшиеся на крепких руках толстые вены. Наконец они подтащили сеть к самому борту и высыпали бьющуюся рыбу на дно лодки.
— Господин, — осмелился наконец произнести Тегиня, — прибыл Махмуд.
— Махмуд? — удивился Улу-Мухаммед. — Я велел ему быть в Нижнем Новгороде! Почему он прибыл так скоро? Впрочем, ладно, зови его сюда.
Улу-Мухаммеду не хотелось покидать уютный берег. Не часто ему удавалось постоять просто так на берегу, и сейчас, глядя на Итиль, безмятежную и тихую, он наслаждался свободой, коротким бездействием. Хан знал, что уже завтра он сбросит с себя эту безмятежность и вспомнит, что в Сарайчике обидели его посла, заставив на коленях вручать грамоту хану; в Бахчисарае Кичи-Мухаммед ищет у соседей помощи в борьбе с Казанью, и нужно помешать этому, а Василий задерживает обещанную дань. Уже завтра он будет другим, таким, к которому привыкли и которого боялись.
Подъехал Махмуд. Он держался как и подобало наследнику престола: высокомерно и чванливо, не всякий раз отвечал на поклоны, а если кланялся, то это было едва заметное приветствие. Маленький, неказистый, он казался жалким подобием самого хана. И всё-таки это его сын! Его наследник! Он зачат в то самое время, когда Улу-Мухаммед был счастлив, когда он владел не только красивейшим гаремом, но и половиной мира. Тогда эмиры считали за честь коснуться губами кончика его туфель, а послы других стран разговаривали с ним, не вставая с колен.
— Здравствуй, отец. — Махмуд сошёл с коня и припал лицом к полам кафтана.
Нет уже спесивого наследника, строго поглядывающего на родовитых мурз, есть любящий сын.
— Здравствуй. Почему ты здесь?
— Мне показалось, что я тебе нужен.
— Я тебе велел оставаться в Нижнем Новгороде, — сказал Улу-Мухаммед.
— Отец, мне сообщили, что против тебя готовят заговор. Я спешил предупредить тебя, — смело посмотрел в лицо хана Махмуд.
Эта новость удивила Улу-Мухаммеда. Он так привык к верному и преданному окружению, что перестал далее думать об опасности. Возможно, с годами он потерял бдительность, и сын сейчас внесёт ясность.
— Я слушаю тебя, — сказал Мухаммед, взглянув на сына сверху вниз.
Махмуд вдруг почувствовал, что его угнетает величие отца. Улу-Мухаммед был огромным деревом, тень от которого падала и на него, тем самым заглушая рост. Махмуд давно хотел сбросить с плеч тяжесть отцовской опеки. Улу-Мухаммеду было шестнадцать, когда он встал во главе рода и повелевал Золотой Ордой. Так почему его старший сын должен ждать: ведь ему перевалило уже за двадцать. Они были словно два дерева, которые не способны расти рядом. Несмотря на обилие солнца, тень от кроны одного обязательно падает на другое. И важно сейчас набрать силу, чтобы потом не сделаться жалким кустарником у корней великана.
— Отец, здесь слишком много народу, — сказал Махмуд, оглядываясь на стоявших неподвижно стражников. — Давай пройдёмся вдоль берега, и я сейчас тебе всё объясню.
Улу-Мухаммед сделал знак рукой, и стража застыла, покорная воле хана. Они шли вдоль берега — отец и сын. Мухаммед огромного роста, величавый, как гора. Махмуд едва доходил ему до плеча. Высокие ивы заслонили хана и его сына от свидетелей. Некоторое время была видна шапка хана с длинным хвостом черно-бурой лисицы, потом пропала и она.
Большой Мухаммед шёл немного впереди, Махмуд поотстал. Старший сын всегда помнил своего отца огромным, а в детстве он казался ему просто великаном. Ему всегда хотелось встать вровень с отцом, но тот оставался недосягаемым. Даже для сына Мухаммед оставался ханом и смотрел на него с высоты своего величия.
— Что ты мне хотел сказать? — повернулся Улу-Мухаммед к сыну и тут почувствовал, как что-то холодное вонзилось глубоко в грудь.
Совсем близко от своего лица хан увидел глаза старшего сына, холодные и жестокие.
— Зачем ты это сделал? — прохрипел Улу-Мухаммед, выплёвывая на траву кровь.
У хана хватило бы сил, чтобы выхватить саблю и ответить ударом, но перед ним был сын, его кровь, и рука, уже отыскавшая рукоять, ослабела.
— Ты отжил своё, — сказал Махмуд, выпрямляясь. — Дай теперь дорогу мне! Ты просто большое дерево, сердцевина которого превратилась в труху! Рядом поднялись сильные побеги, так почему ты должен глушить их?!
— Глупец, — хан согнулся ещё ниже. Кинжал, застрявший у него в груди, сделался неимоверно тяжёлым и тянул его к самой земле. — Всё это я делал для старшего сына. Ты унаследовал бы не только Казань... а, возможно, всю Орду. Теперь я не знаю, хватит ли у тебя сил быть ханом. — Кровь обильно текла из раны, заливая халат.
— Если я убрал с дороги тебя, то уж, поверь мне, не дрогнет рука, чтобы расправиться и с братьями!
Теперь Махмуд был выше отца на целую голову.
Улу-Мухаммед не знал, что конец его будет именно таким. Он не боялся быть убитым воинами, никогда не носил под халатом брони и вот теперь умирает от руки собственного сына.
— Никому и никогда не говори, что ты убил меня... — тихо сказал Улу-Мухаммед сыну, и его слова прозвучали как завещание. — Тебя никто не поймёт. Моя стража убьёт тебя, а я не желаю твоей смерти. Сбрось моё тело с обрыва в Итиль и скажи, что я сорвался с обрыва и утонул.
Даже сейчас Улу-Мухаммед давал пример великодушия своему старшему сыну, тем самым унижая его.
— Я не стал дожидаться твоей смерти! — кричал Махмуд. — Я не хочу, чтобы кто-нибудь из моих братьев воткнул мне кинжал в горло! Вспомни, как ты сам взошёл на престол! Ты убил своих братьев, чтобы сделаться сильнее, теперь твоим путём последую я! Прости меня, отец, тебе и так скоро умирать, и я сделал это на благо нашего ханства! А за совет спасибо, я сброшу тебя в воду!
— Не надо... я сам, — отстранил Улу-Мухаммед руку Махмуда. — У меня ещё есть силы! Жаль, умираю не на поле брани, не с оружием в руках.
Улу-Мухаммеду вспомнился поединок с батыром из рати Гыяз-Эддина. Он победил и тем самым спас свою честь и сохранил жизнь своим воинам, достойно удалившись в Бахчисарай. Даже тогда у него не было предчувствия близкой смерти, она казалась где-то далеко. А сейчас дух смерти накрыл его своим крылом, и в глазах Улу-Мухаммеда потемнело. Только бы хватило сил добраться до края обрыва. Будет гораздо хуже, если уже мёртвого отца Махмуд начнёт стаскивать за ноги к обрыву, чтобы потом, как падаль, сбросить вниз. И мелькнула мысль: не быть ему похороненным в ханской гробнице, а место, которое он выбирал при жизни, так и останется свободным.
Хан Мухаммед сделал ещё один шаг, потом ещё один. В глазах было темно. Куда же идти? Впереди появился свет. Может, это уже рай? Но он услышал голос Махмуда:
— Отец, ты медлишь! Может, тебе помочь?
— Нет, я справлюсь сам...
Внизу хан увидел белёсые гребни волн разыгравшейся Итили. Сил у хана оставалось совсем немного, он приблизился к самому краю, посмотрел вниз и шагнул в бездну.
Улу-Мухаммед не почувствовал полёта, удара о воду, не ощутил, как руки и ноги обволакивает мягкая ласкающая вода и бережно, как драгоценную ношу, укладывает на песчаное ложе.
Улу-Мухаммед был мёртв.
Махмуд ещё некоторое время постоял на берегу. Ему и самому не верилось, что великому Улу-Мухаммеду пришёл конец. Отец всегда выходил победителем. А вдруг и сейчас хан справится с водной стихией и, громко хохоча, восстанет из реки? Но кроме пенящейся поверхности, Махмуд не рассмотрел ничего.
Даже смертью своей Улу-Мухаммед преподал урок мудрости своему сыну. Он хотел оставить его честь незапятнанной — пусть он чистым взойдёт на казанский престол, а потому предпочёл сгинуть в водах Итили.
Махмуд, преодолевая сопротивление ивняка, который сейчас цеплялся особенно яростно, вышел к страже.
— Улу-Мухаммед... отца моего... больше нет... Он поскользнулся и упал в Итиль... Он утонул...
— Хан Улу-Мухаммед утонул? — выдавил из себя один из стражников.
Он знал Большого Мухаммеда не один десяток лет. Хан не умел беречь себя, и тело его было покрыто многочисленными шрамами. Однако смерть всегда обходила стороной сильного воина и забирала других. Страж поверил бы в смерть Улу-Мухаммеда, если бы она произошла на поле битвы, оттуда совсем короткий путь до ворот рая, и втайне каждый из них мечтал именно о такой кончине. Но чтобы утонуть... Такая смерть для победителя была позорной.
— Ты обманываешь меня, мальчишка! — вцепился он руками в ворот Махмуду. — Что ты сделал с моим господином?! Ты убил своего отца, чтобы самому быть ханом!
Махмуд увидел, как рука воина потянулась к сабле.
— Поди прочь! — отшвырнул Махмуд от себя воина — видно, не умер в сыне великий Улу-Мухаммед. — Отныне я казанский хан! Нам уже не достать со дна реки тело моего отца!.. Во всех мечетях ханства прочитать поминальные молитвы о Великом Мухаммеде. Пусть каждый почтит его память. Отныне в проповедях произносить его имя. Что ты стоишь?! Иди, выполняй приказ! — прикрикнул Махмуд на старого воина.
— Слушаюсь, мой господин, — сказал страж, узнавая в юноше молодого Улу-Мухаммеда.
На седьмой день после смерти отца Махмуд устроил большие поминки. С базарной площади прокричали скорбную весть о кончине Улу-Мухаммеда. Душа бывшего властителя Золотой Орды ещё не достигла райских кущ и неприкаянной бродила между людьми. Пройдёт время, пока её примут на небесах, а сейчас, в утешение ей, в мечетях ханства Махмуд велел читать суры из Корана. Были розданы щедрые подарки, и эти последние почести умершему отцу скорее походили на торжество после блестящей победы. А затем по городу поползли липкие слухи, что Махмуд убил своего отца ради казанского престола. Об этом, уже не стыдясь, говорили меж собой знатные Карачи, а на базарных площадях распевали злые песни, высмеивая малый рост Махмуда. Вот тогда новый хан и показал свой нрав, затмив жестокостью отца. Виновным признавался всякий, кто посмел даже думать худо о новом хане: их били кнутами на базарной площади, с них сдирали кожу, рубили саблями головы, топили в реке.
На сороковой день душа Улу-Мухаммеда добралась до райского сада, где поют дивные птицы и текут прозрачные реки. На сороковой день в Казани прекратились казни, и город наконец поверил, что на смену великому Улу-Мухаммеду пришёл новый хан.
Сразу после поминок Махмуд пригласил к себе мурзу Тегиню. Шариат велит чтить дядю как родного отца, и Махмуд задумался всерьёз: «А может, действительно отправить его вслед за Улу-Мухаммедом? Но сначала нужно поговорить с ним, сейчас, как никогда, мне требуются хорошие слуги».
Мурза Тегиня вошёл в зал, где его дожидался Махмуд. Мурза пришёл к новому хану с опущенной головой, так когда-то он приветствовал великого Улу-Мухаммеда. Теперь он выражал почтение его сыну. Махмуд вышел навстречу старому слуге и, взяв его за плечи, прижал к груди. Тегине подумалось, что хан очень мал. И даже он, небольшой мурза Тегиня, поглядывал на Махмуда сверху вниз. На хане был просторный тёмно-голубой халат, который висел на нём, как на пугале, — настолько тщедушен и мал был его хозяин. Другое дело — Улу-Мухаммед! Порой казалось, что одежды лопнут на его огромном теле. Махмуд слегка отстранил от себя мурзу и, всё ещё придерживая его за плечи, спросил:
— Тегиня, сумеешь ли ты быть мне таким же преданным, как когда-то моему отцу? Мне нужны надёжные люди. И в первую очередь хотелось бы опереться на брата моего отца. Если не верить тебе, тогда кому же доверять?!
— Ты можешь на меня положиться, хан, как это делал Улу-Мухаммед, — отвечал Тегиня. — Приказывай!
Махмуд призадумался.
— Хорошо... Я прикажу тебе... — Вот хорошая возможность, чтобы проверить старого слугу. — Мой приказ покажется тебе немного странным... но я не могу поступить по-другому, потому что я хан!
— Что бы ты ни сделал, я буду это исполнять так, как если бы этот приказ исходил от самого Улу-Мухаммеда, — опустил глаза Тегиня, не смея долго смотреть в лицо хану.
— Ты ведь знаешь, что мои братья, Касим и Якуб, сейчас находятся в Нижнем Новгороде?
— Знаю, хан.
— Когда-то мой отец убил своих братьев, чтобы взойти на престол. Я уже на казанском столе, но моя власть слишком шаткая, и её нужно укреплять, и, пока живы Касим и Якуб, я не смогу быть спокойным. Рано или поздно им покажется, что этот трон я занимаю не по праву, и братья захотят взобраться на него с ногами, чтобы осквернить память отца! Я не могу допустить этого. Я должен убить их первым!
— Чем же я смогу помочь тебе, хан? — только на миг мурза задержал взгляд на лице хана.
Хан Махмуд разжал объятия. Мурза Тегиня почувствовал облегчение — хоть и не крепко обнимал хан, а как отпустил, будто из зиндана выбрался. Если так казанский хан обнимает, то какова тогда его немилость!
— Ты должен ехать к ним в Нижний Новгород и сказать, что их призывает к себе брат, казанский хан, чтобы пожаловать. А по дороге в Казань их нужно убить.
— Почему же послом должен стать я? — удивился мурза Тегиня.
— Вот ты уже и сомневаешься, — усмехнулся Махмуд. — А ведь тебе приказывает казанский хан. Ты, видно, мурза, забываешь, что я уже не безусый напроказивший мальчишка, которого можно драть за уши. Сорок дней я сижу на ханском троне!.. Прости меня, мурза Тегиня, я погорячился. Я знаю, что ты был братом и близким другом моего отца. Я бы тоже хотел найти в тебе друга. Ты спрашиваешь меня, почему именно ты?.. Потому что Касим и Якуб знают тебя с самого детства и если поверят кому, так это такому человеку, как ты.
— Хорошо, я сделаю так, как ты хочешь, хан. Я рад, что доверяешь мне и поручил это своему верному слуге. Можно тебе задать один вопрос, господин?
— Спрашивай.
— Как умер Великий Мухаммед?
— Вот оно что... Тебя тоже мучают сомнения. Выходит, и ты не веришь мне. Тебе показалось, что я мог убить своего отца! Если я даже скажу «да!», что это может изменить? Я казанский хан! Отец умер своей смертью... он поскользнулся на краю обрыва, стукнулся головой о камень и упал в воду. А теперь ступай!
Мурза Тегиня ушёл. Теперь он уже не сомневался в том, что Махмуд убил своего отца. Его глаза такие же лживые, как и его поступки. Сначала он убил отца, а теперь решил добраться и до братьев. Бывает, могучее дерево даёт жалкие побеги, так и сыновья Улу-Мухаммеда не смогли унаследовать от великого хана главное его достоинство — великодушие. Они ссорились между собой и, казалось, ждали смерти отца, чтобы потом перерезать друг друга. Просто Махмуд оказался хитрее и решил опередить братьев.
Тегиня вдруг осознал, что остался один. Его былое могущество рухнуло вместе со смертью хана. Мурзы, которые ещё вчера вечером кланялись ему в самые ноги, теперь отворачивались в сторону; некоторые ухмылялись в лицо. Все предвкушали падение любимца покойного хана, понимая, что оно будет стремительным. Присутствие рядом всесильного Тегини напоминало Махмуду о величии Улу-Мухаммеда, которым он начинал тяготиться. Даже благосклонность Махмуда не может быть постоянной — у слуг, как и у собак, не может быть двух хозяев.
Тегиня пошёл домой, помолился в тишине, потом велел седлать коня. Мурза решил навсегда покинуть Казань, он спешил на службу к князю Василию в Москву. Уехать он собирался незаметно, потом вслед за ним должны отправиться и жёны. С собой Тегиня решил взять только своего слугу — молодого батыра Саляма, который рос в его доме с детства. Салям рано лишился родителей, и Тегиня почитал его за сына. Когда кони были осёдланы, Тегиня заговорил о главном:
— Мне теперь нет места на этой земле, Салям. Вместе с ханом здесь кончилась и моя жизнь. После убийства своего отца Махмуд возьмётся и за его друзей. Думаю, первым на очереди я!
— Почему же ты решил ехать именно к Василию? — удивился Салям. — Можно вернуться в Орду.
— В Орду обратной дороги нет. Ты думаешь, Кичи-Мухаммед так скоро забудет своего давнего врага? Мы даже не успеем доехать до его дворца, нас отравят или убьют в дороге. Совсем другое дело — князь Василий. Сейчас он берёт на службу всех мурз, которые не захотели служить Махмуду. Он отводит им земли и выплачивает богатое жалованье. Есть ещё одна причина, по которой мне надо именно в Москву... Махмуд собирается убить своих братьев — Касима и Якуба, и мне надо предупредить их об опасности. Сыновья хана для меня всё равно что родные дети.
На Казань опустился вечер. Не так давно прошёл ливень, и тяжёлые капли, падая с деревьев, разбивали поверхности луж. Улицы были пустынны, и это устраивало Тегиню, сам Аллах благоволил ему. Город нужно покинуть незаметно, чтобы даже стража у ворот не догадалась, что он уезжает из Казани навсегда. Кони терпеливо дожидались. Серый жеребец Тегини мотнул крупной головой и тёплыми губами потянулся к хозяину. Арабского скакуна Тегиня купил за большие деньги в Самарканде у одного из вельмож эмира и гордился им не меньше, чем юными наложницами. Оставлять коня здесь было бы неразумно, он подарит этого жеребца князю Василию.
— Подсади меня на коня! — приказал мурза Саляму.
— Слушаюсь, господин, — отвечал слуга.
Салям подставил крепкие ладони под ноги Тегини. Мурза уверенно ступил на руки, а потом носком сапога отыскал стремя. Он уже перекинул другую ногу, чтобы сесть в седло заждавшегося жеребца, когда почувствовал удар в спину. А уже потом по телу потекло что-то горячее. Тегиня хотел повернуться, чтобы посмотреть на обидчика, но сил не хватило, и он, теряя равновесие, упал в грязь.
— Ты был мне вместо сына... — прошептал мурза, увидев над собой ухмыляющееся лицо Саляма.
— Сыном?! Ты мне говоришь, что я тебе был вместо сына?! — крикнул Салям. Таким Тегиня его не знал. Сейчас над ним склонился демон. Куда же пропал тот мальчишка с тихим голосом, не смевший смотреть в лицо своему господину? — Думаешь, я не знаю, что ты убил моих отца и мать по приказу Улу-Мухаммеда?! А потом решил усыновить меня, чтобы Аллах простил тебе грех и дал место в раю! Ты говоришь, я тебе был вместо сына? Только я тебя никогда не считал отцом! Я долго ждал этого дня, и вот он наконец настал! Закрой глаза! — приказал Салям умирающему.
Тегиня сделал над собой усилие и прикрыл глаза. Пусть духи, которые прилетят за его душой, увидят, что смерть он принял достойно. Возможно, о его кончине им придётся рассказать самому Аллаху.
Салям одним ударом отрубил голову своему господину: печальная улыбка застыла на лице Тегини.
Хана Махмуда Салям застал в беседе с мурзами. Они сидели на небольших мягких подушках на полу — перед каждым из них в золочёных пиалах остывал чай, и густой пар, поднимаясь кверху, растворялся в воздухе.
Махмуд хохотал. Смеялся он беззаботно и искренне, заражая своим настроением сидящих рядом мурз. Вельможи смеялись сдержанно — не подобает им даже в веселье превосходить своего господина. А Махмуд, казалось, позабыл о своём величии, запрокинув голову, безудержно хохотал. Но Салям знал: стоит хану оборвать смех, как он снова станет жестоким. Своим весельем Махмуд напоминал Улу-Мухаммеда, который умел так же заразительно и звонко смеяться, и эту привычку он не оставил до последних дней. Улу-Мухаммед смеялся, когда сидел на большом троне Золотой Орды; смеялся, когда бродил бездомным псом по степям; смеялся, когда сделался ханом Казани. Может, этот смех и навлёк на великого Улу-Мухаммеда несчастье, мусульманину следует быть сдержаннее.
Махмуд отпил из пиалы, словно хотел успокоить разбирающий его смех, и мурзы вслед за господином потянулись к чаю.
Салям стоял, согнувшись в поклоне, и рассматривал носки своих сапог. Он увидел, как большая и мохнатая тёмно-зелёная гусеница мерила своим телом молельный коврик, ещё немного, и она доберётся до подушки господина. Салям уже потянулся рукой, чтобы согнать её, но остановился: одно неосторожное движение может стоить ему жизни, а гусеница уверенно зацепилась за край подушки и поползла выше по шароварам хана.
Наконец Махмуд обратил внимание на Саляма:
— Что ты хотел сказать мне?
— Я пришёл сказать тебе, господин, что я выполнил твою волю. Всё получилось так, как ты и предполагал. — Салям позабыл о гусенице. — Тегиня притворился твоим другом, а сам захотел предупредить Касима и Якуба. В этом мешке его голова, — Салям приподнял руку с мешком.
— Голова? — удивлённо поднял брови Махмуд. — Вы хотели бы взглянуть на плешивую голову Тегини? — обратился хан к сидевшим эмирам.
Хан захохотал, и следом за ним смех подхватили другие мурзы. Поначалу хохот был негромким, потом становился всё более оглушительным и сотрясал стены и потолок комнаты. Хан смеялся оттого, что ему было весело — в нём билась радость лёгкой победы. Он молод и полон надежд. Мурзы хохотали от страха и ужаса перед ханом, понимая, что если кто-нибудь из них замолчит раньше господина, то для него это будет последним мгновением в жизни. И они смеялись до хрипоты в голосе, до боли в скулах, до судорог на лице. А хан всё смеялся, наполняя ужасом сердца приближённых.
Наконец Махмуд умолк и, вытерев слёзы со щёк, сказал:
— Покажи мне голову моего дяди!
Салям осмелился посмотреть на хана и увидел, что гусеница неторопливо блуждала по воротнику, а потом затерялась в складках халата.
Мурзы, неумело скрывая ужас, смотрели на окровавленную голову Тегини, на застывшую злодейскую ухмылку великого мурзы. Они её помнили именно такой, когда он давал распоряжения рубить головы, она не менялась, когда он был снисходительным и прощал обиды. С этой улыбкой он отправлял ближних в мир иной. И этот застывший оскал словно предупреждал, что Тегиня сумеет добраться до них даже из загробного мира.
— Ступай, — наконец разрешил Махмуд. — Я позабочусь о тебе.
Салям поднял голову Тегини, ухватив её пятерней за остатки волос, и вышел из покоев хана.
Часть VI ПОСЛЕДНЯЯ МИЛОСТЫНЯ
О смерти Улу-Мухаммеда Василий узнал скоро. Он слышал, как бояре шумно ввалились в его покои и уже с порога, перебивая друг друга, заговорили:
— Государь!.. Государь! Радость-то какая у нас! Услышал Бог наши молитвы, прибрала к себе смертушка Мухаммеда. В аду сейчас он жарится!
Разве можно чем-нибудь удивить Василия? Он прошёл многие испытания: знал унижение и победу... Лишённый зрения, обычные дела он воспринимал не так чётко, как бывало раньше. Он не удивится, если бояре скрутят ему руки и вытолкают вон. Его бока уже топтали ногами, а на голову наводили хулу. Он привык, что бояре, подобно смердам, грохаются перед ним на колени. Василий знал и о том, что юродивые почитают его за мученика. И невозможно найти слова, которые могли бы ранить его или обрадовать. Василий готовился ко всему, но только не к смерти Улу-Мухаммеда. Хан казался князю почти бессмертным и несокрушимым, как может быть несокрушима Орда. Василий не однажды наблюдал, насколько уважают и боятся ордынцы своего хана — падают ниц на землю и лежат так до тех пор, пока Улу-Мухаммед не проследует дальше. Князь знал и о том, что ближайшие слуги за великое счастье почитали коснуться губами его туфель. Хан был велик не только ростом, но и делами. Неустанно расширяя просторы Казанского ханства, он не однажды досаждал и ему, а затем взял в плен. Улу-Мухаммед не знал меры ни в чём: любил женщин, любил проводить время в весёлых застольях. Хан не знал предела своим желаниям, напоминая непокорную быструю реку, меняющую своё русло. И весть о смерти Улу-Мухаммеда была неожиданна, словно упавший на голову камень. В отличие от бояр он не испытал радости, не нашёл Василий в своей душе и облегчения. Пустота одна. За эти годы он привык к хану настолько, что ему казалось, будто Улу-Мухаммед всегда находился рядом с ним. Большой Мухаммед стал его господином, требовал с него ежегодную дань; но Василий видел его и тогда, когда он просил приюта в русских землях.
В то время Василию показалось, что Мухаммед не сможет никогда подняться!
Чтобы поверить в это, нужно было совсем не знать Мухаммеда. Уже на следующий год тот умел сделаться ханом, а позже, с бесчисленной ордой, вторгся в нижегородские земли. Шли годы, и Василий увидел уже другого Мухаммеда, не такого, каким он был в Орде, — молодого, полного сил, гостеприимного хозяина, рассудившего затянувшийся спор в пользу малолетнего внука Дмитрия Донского и подававшего ему пиалу с шербетом из собственных рук, а другого — постаревшего, усталого, без прежнего блеска в глазах. Единственное оставалось в нём неизменным — заразительный смех, и слуги его были так же расторопны, как и раньше, — мгновенно выполняли желание своего хана — подносили кувшины с кумысом, блюда с фруктами, а если потребуется — рубили строптивые головы. И если в Золотой Орде он был гостем, то в Казани оставался всё-таки пленником. Хотя внешне это как будто никак не сказывалось — Улу-Мухаммед по-прежнему оставался любезным с Василием, а слуги обходительными, и отдавали они почести русскому князю не меньшие, чем самому хану.
Улу-Мухаммед уважал своего знатного пленника, так почему ему, Василию, не уважать казанского хана?
Весть о смерти Улу-Мухаммеда расстроила Василия. Он пошарил ладонью вокруг себя и нашёл подлокотник кресла. Бояре умолкли и ждали, что скажет государь. Василий Васильевич осторожно опустился в кресло и спросил спокойным голосом:
— Как же это произошло? Неужто сам помер?
— Ну как же! Дождёшься его смерти! Такая глыбина до глубокой старости жила бы! — возразил кто-то из бояр. — Сын его убил старший, Махмуд! Мурзы говорят: убил хана и в реку спихнул. Татарове потом его тело выловили и рану нашли колотую.
— Вот оно как!.. — глубоко вздохнул князь. Их судьбы были похожи. Оба они скатывались низко, чтобы потом возвыситься вновь. И если Василий пострадал от брата, то Улу-Мухаммеда убил собственный сын.
— Что было дальше, рассказывай!
— Хотел и братьев своих убить, чтобы самому на ханстве хозяйничать, да верные люди предупредили Касима и Якуба, чтобы не поддавались на посулы Махмуда, а ехали от него подалее. В Москве они сейчас, у тебя, государь.
— Хорошо. Что ещё есть?
— Посол из Казани прибыл, тебя хочет видеть.
— Зовите его, бояре, — распорядился великий князь.
Василий услышал, как распахнулась входная дверь и вслед за этим кто-то уверенно приблизился к трону. Стоявший подле государя Прошка Пришелец шепнул в самое ухо:
— Мурза это татаров... В горницу к тебе вошёл, словно сам здесь хозяин. Поклон едва отвесил, будто ты у него, государь, чего просить удумал. Улу-Мухаммед был жив, так послы у него куда почтительнее были.
— Эмир Василий, — начал мурза, — теперь в Казани новый хан, сын Улу-Мухаммеда, Махмуд! Он велел тебе сказать, чтобы ты ясак не задерживал и платил так же исправно, как это было при его великом отце! Если всё будет по-старому, жить станем в мире, если же ослушаешься его, приведём войско на твои земли, города сожжём, а тебя вместе с твоими людьми возьмём в полон!
Василий помолчал, а потом спокойно заговорил:
— Мне уже на этом свете нечего больше бояться, мурза... Передай хану: крест я целовал, что ясак буду платить исправно. Пусть не тревожится об этом Махмуд.
— Ещё велел сказать казанский хан, на твоих землях прячутся два его брата: Касим и Якуб. Он велел тебе схватить их и в Казань доставить!
— Вот здесь погорячился казанский хан! Царевичи Касим и Якуб гости мои, — проявил твёрдость великий князь. — И не подобает мне их со двора выставлять. Было время, я был гостем у Мухаммеда, так почему его сыновья не могут погостить у великого московского князя? Так и передай мои слова хану Махмуду.
Мурза ушёл, а бояре зашептались вновь.
— О чём шепчетесь, бояре?
— Государь, — услышал Василий голос Прохора, — тут мы от верных людей наших слышали, что Дмитрий Шемяка крестное целование попрал. Ничего его, супостата, удержать не может! С Ордой и с казанцами сносится. Зло против тебя чинит.
— Так...
— Ты бы не верил ему более, князь. А то доверчив, как ребёнок, оттого и видения лишился.
Год прошёл, как простил измену Василий своим братьям: Дмитрию Шемяке и Ивану Можайскому. Ведь только раны стали рубцеваться у ратников; облегчённо вздохнули крестьяне — никто не отрывал их от сохи, и, радуясь предоставленной свободе, засыпали они в амбары уродившееся зерно.
Знаменит год был и тем, что народилось в эту пору, как никогда, много мальчиков, и дружный детский плач тревожил успокоившиеся до поры сёла. А через некоторое время эта детвора, босоногая и безмятежная, ступила бы на прохладную землю, набирая от неё живительную силу.
Не нужно быть зрячим, чтобы разглядеть, как отдыхают от войны отроки, сполна наслаждаясь установившимся покоем; как любятся истосковавшиеся молодожёны; с какой радостью жёны дарят мужьям детишек.
Радость не бывает без печали, и старики, поглядывая на родившуюся детвору, вздыхали:
— Отроков больно много... давно такого не бывало. Видать, быть войне...
— Придётся растить мальцов бабам без мужниной опеки, — подхватывали другие. И ещё тяжелее, ещё печальнее вздыхали: — Народилось ныне много сирот!
Василий Васильевич знал о том, что Дмитрий Шемяка уже не однажды, против его воли, сносился с Ордой, подговаривая хана выступить против Москвы. Где бы ни находился Дмитрий, всюду возводил крамолы, подговаривая князей учинить против московского князя смуту. Угличский князь уже не раз ездил в мятежный Великий Новгород, величал себя там не иначе как великим московским князем. И упрекал Василия Васильевича во всех грехах: отдал он, дескать, Москву на поругание, а христиан унизил перед басурманами. Не возвращал Шемяка награбленную в Москве казну; держал у себя ордынских послов и искал расположения Кичи-Мухаммеда. Но и на этом не успокаивался Дмитрий Юрьевич: отказавшись от власти над Вяткой, он что ни день посылал туда гонцов, мутил народ, просил заступничества от притеснений московского князя. И чаша терпения, наполненная до самого верха, грозила расплескаться.
А бояре продолжали:
— Тут мы ещё грамоты перехватили, которые Шемяка давал своим людям в Москве. Призывает он, государь, тебя не слушать и смуту всюду сеять.
— Не помнит он добро, Василий Васильевич, — подхватил конюшенный, — а ты ему ещё Галич отдал!
— Где эти грамоты? Дай сюда! — приказал Василий.
Боярин зашуршал пергаментом и сунул в сморщенную ладонь князя свиток.
Василий развернул его, будто хотел прочесть, разгладил рукой, словно пытался разобрать написанное кончиками пальцев, и, вернув обратно пергамент боярину, приказал:
— Читай!
— «Остап Семёнович, ещё тебе приказываю отклонять граждан московских от Васьки! Подмечай тех бояр, кто не доволен его службой, и зови ко мне в Галич! Обещай им великое жалование и земли огромные. И скажи ещё вот что: как стану я московским великим князем, будут они при мне особо приближёнными. Жалованье им против Васькиного вдвое обещаю. Мой слепой братец...»
— Хватит, — прервал боярина Василий Васильевич, — не пошла ему на пользу ссора со старшим братом. Опять всё по новой затевает. Только ведь я не забыл, кто меня глаз лишил, кто на соломе в лютый мороз, как татя в смраде, взаперти держал! Будет с него! Что ещё на это письмо иерархи скажут! Вот что я решил... Степашка! — окликнул дьяка великий князь.
— Здесь я, государь, — подскочил к Василию юноша лет двадцати, хранитель печати.
— Письмо отпишешь иерархам, а к нему письмо Дмитрия приложишь, как они решат, так тому и быть. Если скажут мне: уходи с великого княжения... Приму это и противиться не стану. Постригусь в монахи. Если они мою сторону примут... тогда берегись, Дмитрий! Печать-то не потерял?
— Как же можно, батюшка! — перепугался не на шутку Степашка. — Здесь она у меня, за пазухой. — И, засунув глубоко руку к самому животу, извлёк тяжёлую великокняжескую печать. — Вот она, господарь наш великий! — Отрок улыбался, разглядывая изображение Георгия Победоносца, сидящего на коне.
Митрополит Питирим ждал иерархов в полуденный час. Гудели колокола Ростова Великого, приветствуя прибывающих владык.
Прошло уже то время, когда Ростов Великий был первым русским городом, преклонил он седую голову перед Москвой, признав её старшей. В Ростове Великом осталась величавая звонница, а с нею и высшая церковная власть, как и прежде, шли сюда владыки: кто за советом, кто за надеждой, спешили и для того, чтобы решить церковные споры. Бывает, стоит деревенька на границе двух владения, и пойми тут, кто оброк с земель получать должен. А то вдруг возвеличится некогда захудалый монастырь и ненароком влезет на территорию другого. Вот всем этим и ведал великий город, стараясь быть беспристрастным судьёй. Церковный суд не жаловал и нерадивых: провинится иной монах, задерут тогда на строптивце рясу до самого затылка да и высекут гибкой лозой.
Раз в год собирались иерархи в Ростов Великий со всей Русской земли на Собор. За год дел набиралось много: выделялись деньги на новые храмы: много на окраинных землях строилось монастырей; сообща решали, кто из благочестивой братии достоин быть игуменом, канонизировали наиболее достойных из почивших старцев. И только иногда позволяли себе вести праздные беседы, слушая странника, ходившего по святым местам.
В этот раз Собор собрали раньше положенного времени, и вопрос был один: ссора братьев.
Василий Васильевич отослал митрополиту Питириму письмо, в котором Дмитрий творил хулу на брата и призывал выступать супротив великого князя. А далее великий князь приписал: «Как вы решите, так и будет, и на том состоится воля Божья. С тем и остаюсь великий князь московский, коломенский, суздальский, пермский и иных земель, Василий Васильевич вашей милостью и Божией».
Местом сбора служила митрополичья палата. Послушники уже расставили у стен лавки, и святые старцы, подбирая длинные подолы, рассаживались по местам. Вблизи от митрополита сидели владыки, а уже затем прочие старцы и пустынники. Рядом с Питиримом сидел митрополит Иона, рязанский владыка. Хоть и велик был он умом и делами, а величался только третьим: старшими считались владыки ростовский и суздальский.
Земля Русская была представлена всеми княжествами: прибыли владыки коломенский и пермский, на зов Питирима пришёл владыка новгородский. Воюют между собой князья, а владыки живут дружно. Нечего делить: вера-то одна! Земля, поделённая на множество княжеств, напоминала груду камней, и, не будь такого связующего, как вера, рассыпались бы они. Если Церковь хранит единовластие, то почему же мирская власть не должна быть единой?
Владыка Питирим был хозяином и потому начал первым:
— Братья, вы уже знаете, зачем я пригласил вас на Собор, — обращением «братья» он подчеркнул, что не может сейчас быть младших и старших, сейчас все едины, будь то владыка большой паствы или пустынник. — Истерзали князья нашу землю хуже супостатов, что ни месяц, войной друг на друга идут. Бабы рожать скоро перестанут. А паства наша поиссякнет, коль одни жёны останутся. От кого же смута пошла? От великого князя Юрия Дмитриевича. Возомнил он когда-то себя великим князем и господином надо всеми. А только забыл, что великое княжение от Господа идёт. Божьей волей подкреплено. Как не хотел он великого княжения, а пришлось ему уйти с Московского стола и уступить власть Василию. А теперь и сын его, Дмитрий Юрьевич, мыслит себя великим князем, однако невдомёк ему, что нет на то Божьего благословения. Вот и рвёт он Русь на части, с Божьей волей спорит. И ещё Василий сказал нам: как мы у себя на Соборе порешим, так тому и быть. Если примем сторону Шемяки — уйдёт он с великого княжения. Заступимся за Василия — Дмитрий присмиреет. Кто же осмелится против всей земли идти? Не будет ему тогда здесь более места.
Поднялся митрополит Иона, любимец великого князя. Поклонился низко Собору, словно по-прежнему ходил в послушниках, и заговорил:
— Всё, что ты говорил, владыка Питирим, правда! Вероотступник Дмитрий возомнил себя первым. Так когда-то Адаму сатана внушал мысль быть равным с Богом. За то и поплатился наш праотец. Видно, расплата за содеянное у Дмитрия ещё впереди, — голос у отца Ионы был низкий, дивной чистоты, свободно расходился под сводами митрополичьих палат и вырывался на простор через узкие оконца. — Сам он всюду говорит, что Василий привёл поганых на нашу землю, а кто же, как не он, предал великого князя на поле брани? По чьей вине Василий попал в плен к казанцам? Сколько ни просил Василий Васильевич о помощи, никогда её не получал от Дмитрия Юрьевича. Крест на верность великому государю целовал и тотчас нарушал клятву. А с братом своим он как поступил? Как братоубийцы Каин и Святополк Окаянный! Пробрался в монастырь, пленил там Василия Васильевича, находясь с ним в ту пору в мире, а потом лишил его возможности Божий лик зрить. Хотел Дмитрий Юрьевич получить большее, возомнив себя равным избраннику Божьему, но лишился и меньшего. Вот так карает Господь всякого, кто супротив его воли пойдёт. Если и ходят татары по Русской земле, так только потому, что не хотел он с братом в согласии жить. А стало быть, слёзы христианские, которые от бесчинств ордынцев льются, и Дмитрия обожгут.
Иона видел, как старцы согласно кивали. Его речь пришлась по душе. И они измучились, глядя на братову вражду. Если и есть сила, способная покарать виновного, так это наказание Божье.
Вслед за Ионой поднялся кирилловский игумен Трифон. Год назад он освобождал Василия от клятвы, данной Дмитрию Шемяке.
— Церковь наша едина, вера наша едина. Народ наш говорит на одном языке, так почему же князья между собой воюют? Знаем мы, православные, сколько Василий Васильевич слёз пролил из-за брата своего Дмитрия Юрьевича. Он один во всех грехах и повинен. Вот я что сказать хочу, думаю, и вы, братья, меня в том поддержите. Ударим челом великому князю московскому за Дмитрия Юрьевича, что исполнит он свой долг младшего брата и будет с Василием Васильевичем всегда жить в мире. Если же Дмитрий и нас не послушает, тогда отлучим его от Церкви и предадим всеобщему проклятию!
На том и порешили.
К обедне колокола звонили пуще прежнего. Владыки разъезжались из Ростова Великого во все стороны один за другим. Игумены спешили к братии, пустынники торопились в уединение, где можно будет отрешиться от мирских дел и посвятить себя всецело служению Богу.
Шемяка был в Галиче, где его и застало письмо старцев. Может, и сразила бы кого другого угроза владык, но только не Дмитрия. Шемяка внимательно изучил написанное, а потом аккуратно свернул свиток и поднёс его к пылающей свече. Свиток весело затрещал, словно поддерживал решение Шемяки не покоряться старцам. И не бояться их проклятий. А князю слышался трескучий голос митрополита, точно такой же, как у горящего свитка:
«Ты хочешь оскорбить своим мятежным упрямством наши святые законы? Однако ничего у тебя не выйдет! Ибо сам Господь с нами и принимает нашу сторону. Ты же только губишь себя своим упрямством и предаёшь свою душу сатане».
Дмитрий не испугался проклятия владык. Пока он ещё сам на своей земле господин! А для получения причастия найдёт священника и посговорчивее, а ежели тот откажется от чести, так всыпят ему княжеские слуги две дюжины розг, и запоёт тогда старец елейным голосом, воздавая хвалу Дмитрию Юрьевичу.
А как станет он великим князем, так владыки сами к нему с поклоном явятся.
Но где-то в глубине души Дмитрий чувствовал правоту старцев. Вот уже два десятка лет идёт непрерывный спор за право называться великим московским князем. Улыбнулась удача галицкому князю Юрию Дмитриевичу, и въезжал он в белый город с благословения митрополита Ростовского. Но сила, стоящая за малолетним Василием Васильевичем, оказалась куда весомее признания ростовского владыки. Не сразу отрок осознал силу, которую имели его великокняжеские бармы. Стоило Василию бросить клич, как тотчас во много раз увеличилось его войско: спешили к нему на службу бояре со всех земель, а в малых церквах и больших соборах звучали речи, восхваляющие добродетели юного князя. Не всякий посмеет выступить против великого князя, это значило — восстать против всей Русской земли и тем самым уподобиться ордынцу.
И Васька Косой пытался быть великим московским князем, досаждая Василию Васильевичу многими изменами. Только где он сейчас? Земля прибрала!
Может, и правы старцы — только один бывает Божьим избранником. И сам он который год силится взойти на московский стол, уже и шапку Мономаха на себя примерял, да не впору оказалась. Только земли батюшкины порастерял, один Галич верой и служит.
Дмитрию Шемяке захотелось помолиться: окликнул стольников, и те покорно отправились с князем в домовую церковь. Дмитрий с удивлением обнаружил, что церковь заперта, а на паперти двое нищих, вытянув руки, ненавязчиво выпрашивали милостыню. Это было не похоже на отца Иннокентия — все знали, что он уходил из церкви только на ночь, а если и отлучался куда, то дверь церковную не запирал. И Дмитрий понял: оправдывались худшие его опасения — весть о решении Собора добралась и в его вотчину.
Вот оно как повернулось.
— Привести к церкви отца Иннокентия!.. И не мешкать! — повелел галицкий князь.
Стольники, напуганные грозным окриком, поспешили в дом священника. Выволокли его из-за стола за рясу под причитания супружницы и бросили в ноги Дмитрию Юрьевичу.
— Ты что же, бес, церковь затворил?!
— Так велено, государь, — перепугался Иннокентий.
Все знали крутой нрав князя. Говаривали, что до смерти забил даже боярыню Бежицкую, посмевшую отказать Дмитрию в ласке. А священник домовой церкви и вовсе для него никто!
— Кем велено?! Кем это ещё велено?! — пнул в бок ногой попа князь.
— Собором духовным велено, — мужественно принял священник на себя удар. — Так и передали: если ты против великого московского князя пойдёшь, то от Церкви отлучён будешь и смерть без причастия примешь!
— Я хозяин Галицкой земли! — закричал Дмитрий Юрьевич. — Выпороть его, а потом за ворота бросить, и пусть идёт к своему московскому князю!
Слуги сорвали с Иннокентия рясу, один из рынд распоясался и кожаным ремнём ударил попа по плечам. Иннокентий, сцепив зубы, сумел сдержать стон, но удары следовали один за другим. А потом бездыханное тело попа выбросили за городские ворота. Однако церковь оставалась по-прежнему пустой.
Священники не решались перечить святому собранию, и, когда Дмитрий Юрьевич объявил о своей покорности, в этот же день домовая церковь наполнилась народом, и миряне услышали певучий голос нового священника, прибывшего из соседней Вологды.
Видно, не зря в народе Дмитрий прослыл как Шемяка[48], недели не прошло, как переменил он своё решение и послал Василию письмо, полное угроз. Затем с великой ратью осадил Кострому. Он знал, что гарнизоном командуют князь Иван Стрига и Фёдор Басенок. С последним у Дмитрия были особые счёты: не однажды они встречались на поле брани, и всякий раз Басенок оказывался хитрее. Памятной для князя была их первая встреча, когда Фёдор Басенок, плюнув на кафтан Шемяки, сказал, что не желает служить Каину и тем самым уподобляться сатане. Шемяка брезгливо отёр плевок с кафтана. Неторопливо вытащил из ножен меч, а потом вдруг раздумал.
— В железо его! И батогов не жалеть. Бить до тех пор, пока кровью не изойдёт!
Кто бы мог подумать, что Басенок сумеет склонить на свою сторону верную стражу князя и бежать в Литву. Сейчас Дмитрий Юрьевич хотел отомстить за тот плевок, но город сдаваться не собирался. Князь подъезжал совсем близко к его стенам, видел юркую фигуру Басенка, который успевал появляться повсюду: на башнях и стенах, кричал, распоряжался, он даже участвовал в вылазках против наседающей рати.
— Ничего, ещё сквитаемся! — скрежетал зубами князь.
Неделю простоял Дмитрий Юрьевич под городом, бил из пищалей по стенам до поздней ночи, но город так и не сдался.
Дмитрий Юрьевич отошёл к Ярославлю, и всюду, где бы ни проходила его дружина, священники закрывали храмы, и ратники втихую роптали на князя, помня об опале, наложенной Собором на Шемяку. Невозможно причаститься, покаяться перед боем, а то и просто помолиться. Храмы закрывались перед Шемякой и его воинством как перед нечестивцами, богомольные старухи боязливо шептали им в спину проклятия, юродивые предвещали дружине погибель. Настроение в полках упало, и все ждали смерти. Прискакал гонец и сообщил, что к селу Рудину подходит великокняжеская рать, числом несметная. Иван Можайский, однако, не роптал, и трудно было угадать, что прячется за понимающим и всевидящим взглядом. Иван Можайский не боялся вступаться перед московским князем за Дмитрия Шемяку, говорил дерзко:
— Если ты Дмитрия пожалуешь, то и меня тем самым пожалуешь. А коли откажешь, то и меня оскорбишь.
Иван Можайский был той силой, с которой приходилось считаться. Он умело лавировал между старшими братьями, выторговывая при этом у них лучшие земли. Именно это и позволило ему сохранить сильную дружину. Потому и тянули его князья каждый в свою сторону, чтобы заполучить крепкое войско в противоборстве с братом.
Сам Иван Можайский вёл свою, скрытую от глаз великих князей, игру. Он видел, что московский стол, как никогда, беззащитен и шаток. Князь терпеливо дожидался случая, когда наконец галицкие и московские отроки перебьют друг друга, чтобы потом самому овладеть стольным городом. Важно сохранить сильную рать, чтобы однажды подняться во весь рост и заявить о собственных притязаниях на московский престол. Своими планами Иван Андреевич поделился с тестем, литовским князем Казимиром. Тот хмыкнул в ответ и большим пальцем почесал чёрную щетину на шее. А Иван Можайский вдохновенно пообещал за союзничество Ржев, Медынь.
На том и поладили.
Сейчас самое время быть покорным, и пусть склонённую голову видят оба старших брата.
Иван Андреевич застал Дмитрия в горнице. Дмитрий стоял подбоченясь, а двое рынд затягивали ремни на пластинчатой кольчуге князя.
— Проходи, что у порога застыл? — упрекнул брата Дмитрий Юрьевич. — Сказать что хочешь?
— Хочу, — замялся Иван, не зная, как начать. — Ко мне тут гонец прибыл... от Василия.
— Да не тяни, говори, чего он хочет, — Дмитрий поднял руки, и рынды стали затягивать ремни под мышками.
— Помнишь, как-то Василий у меня Бежицкий Верх отобрал?
Дмитрий усмехнулся:
— Как же не помнить, когда ты тотчас на мою сторону перешёл и за обиду просил с ним рассчитаться. Плакался, дескать, он то даёт, то вдруг отбирает.
— Ну так вот... тот гонец письмо привёз, что Бежицкий Верх московский князь мне опять возвратил. А на словах просил передать: прощения просит и мира.
— Куда ты тянешь! — озлился на рынду Дмитрий Юрьевич. — Дышать совсем нечем! Прочь подите! Мне с Иваном потолковать надобно.
Слуги, привыкшие к быстрой перемене в настроении князя, покорно вышли в сени. Попадёшь ненароком под горячую руку, так и кнутом огреть может.
Дмитрий ослабил ремни на доспехах. К чему они теперь, если Можайский опять за Василия. И, словно угадав мысли Дмитрия, Иван заговорил:
— Да ты не пугайся, Дмитрий. Не стану я супротив тебя воевать. Мне Васька так же, как и тебе, не люб. Много я от него неправды натерпелся. Хозяйничает в моей вотчине, как в собственном тереме. Дай ему волю, так он нас вообще без земель оставит и с котомкой в мир отправит милостыню собирать. Я и сам рад бы спихнуть его с московского стола, только сейчас нам не справиться с ним. Я тут в дружину к нему человека своего заслал, так он сказал, что войско Василия числом поболее и вооружение у них куда лучше, чем у нас. Пищали, пушки! Выждать нужно, князь, а потом ударить внезапно. Я уговорю его, чтобы он не воевал против тебя, а ты меж тем снимайся отсюда и к себе в Галич уходи. Там он тебя не тронет.
Дмитрий молчал. Одному Василия не одолеть. А он того и ждёт, чтобы вотчины лишить.
— Ладно... ступай, — произнёс Дмитрий, садясь на лавку. — Эй, рында, поди сюда! Тащи с меня доспехи.
Иван Можайский был скор на сборы, и часа не прошло, как пропели трубы, а полки уже выстроились колоннами и, подняв знамёна, двинулись навстречу Василию Васильевичу.
Село опустело.
Дмитрий Юрьевич ещё помаялся в одиночестве, а потом велел идти к Галичу.
Иван Можайский сдержал слово: задержал Василия. Третьи сутки Шемяка в пути, а великокняжеских дозоров не видать. Однако на четвёртый день отправленный к стану московского князя гонец вернулся с дурной новостью. Василий Васильевич и не думал распускать полки, он шёл следом за Дмитрием. Так охотник терпеливо выслеживает ускользающую добычу. Идёт уверенно, понимая, что жертва обречена, а потому можно не прятаться.
Иногда порывы ветра доносили звуки труб великокняжеских полков. Они призывали Дмитрия остановиться в чистом поле и навсегда решить спор о старшинстве.
Вот и Галич. Родная вотчина.
Не думал Дмитрий Юрьевич, что Василий отважится подойти к самому городу, но полки великого князя московского были в десятке вёрст и стали за лесом лагерем.
Дмитрий Юрьевич понимал: Галич остался единственным городом, где держалась его власть.
Место для позиций своей дружины Дмитрий Юрьевич выбрал на горе, рядом с городом. С неё хорошо видны полки противника, расположившиеся лагерем за лесом. С бугра легче атаковать конным, пешим лучше защищаться. Детинец князь укрепил пушками, из окрестностей воеводы понагнали отроков в пешую рать. Новое пополнение в бою не искусно: подучить бы их день-другой, да время не терпит — трубы московского князя торопят в бой.
Никогда Василий не подходил так близко, никогда ещё с башенных стен горожане не видели великокняжеской рати. И сейчас, глядя на полотнища с изображением Христа, которые трепал ветер, горожанам московские полки не казались чужими. Это не ордынцы в мохнатых шапках на низкорослых лошадках, кричащие «Алла!». Никто угрожающе не машет копьями и бунчуками.
Рать московского князя собиралась молчаливо, без суеты, которой отличалась татарская тьма. Не просто решиться поднять руку на родича. Вот и не торопились воины, неохотно сворачивали шатры, готовясь к бою, заранее зная, что ночевать придётся в самом городе. Слишком слабой была дружина галицкого князя, хоть и укрепил он её пищалями и нарядами.
Московская рать, подошедшая совсем близко к городу, не казалась страшной. Трудно признавать в бородатых лицах соотечественников врагов. Не верилось, что скоро сойдутся они не плечом к плечу, как когда-то бывало раньше, а друг против друга, наставив в грудь рогатины.
Рать Василия, разбившись надвое, всё ближе подступала к полкам Шемяки, окружая с двух сторон возвышение, где стояло его войско. Гора больше напоминала маленький остров, охваченный весенним половодьем. Впереди великокняжеской рати двигались конные, чтобы первым же ударом снести укрепления Дмитрия Шемяки и следовать дальше в город. Вторыми шла пехота, ей предстояло уничтожить раздробленные отряды. А у самого леса Василий установил наряды, и пищальники вкатывали в громадные жерла каменные ядра.
Дмитрий стоял на самой вершине горы и представлял, как завтра вершок за вершком будут теснить московские полки его воинов. И двух часов не пройдёт, как одолеют они вершину, а его возьмут в плен.
Ещё вчера Дмитрий обходил свои полки и видел, как неторопливо, со знанием дела готовятся дружинники к бою: прилаживают поудобнее к телу кольчуги, затачивают мечи, надевают чистое исподнее. Но не было у них того боевого задора, с каким собирались полки со всей Русской земли воевать против недругов. В тот вечер Дмитрий прочитал на их лидах свою судьбу. Не осталось в ратниках былой веры в князя, не верили они и в свою победу.
И можайского князя нет — почуяв недоброе, слетел он с прежнего места и перекинулся к московскому хозяину. Бояре, словно чувствуя близкую кончину галицкого князя, отводили глаза в сторону.
Ходил Дмитрий от полка к полку. У одного костра заметил молодого иконописца Елисея из Троицкого монастыря. Церковный суд год назад приговорил его к сожжению за то, что он написал уродливого Христа. А на вопрос игумена: почему у него Бог со страшным оскалом и больше напоминает татя, нежели мученика, отрок отвечал: «Разве не страдает наш народ от междоусобицы? Разве мало льётся крови, разве не пропитаны ею поля и луга?! Всё это видит наш Господь, вот оттого и лицо у него такое уродливое».
Инока должны были сжечь на сосновом столбе, уже стянули ему руки и обложили соломой, когда вдруг за него вступился галицкий князь. Дмитрий выкупил богомаза за золото и наказал: «Ты для меня будешь писать своего Христа. Именно такой он мне и нужен».
И сейчас, глядя на полотнище с уродливым Спасом, Шемяка усомнился: «А может ли он принести победу?»
Дмитрий подошёл к иконописцу. Он тоже признал князя, хотя тот был в обычной кольчуге, совсем не желал выделяться на поле брани парадными доспехами. Низко поклонился Дмитрию и сказал:
— Вчера икону я писал... А перед тем пост соблюдал, чтобы очищенным к доскам подойти.
— И какой же у тебя Христос вышел? — поинтересовался князь.
— Обычный, не было у него уродства на лице, — просто отвечал иконописец. — Видать, войне братской конец приходит. Ты уж прости меня, князь, — стал оправдываться монах.
Дмитрий Юрьевич не ответил, передёрнул плечами и отошёл в сторону. Выходит, и этот отрок в победе разуверился. Впрочем, он мёртв с тех самых пор, как угодил к сосновому столбу. Невозможно одной рукой писать иконы, а другой рубить головы.
Боярин Ушатый огромной сутулой тенью следовал за князем и, несмотря на свой рост, казался незаметным, но Дмитрий не оборачивался, знал, боярин здесь.
— Князь, — наконец осмелился нарушить молчание Иван Ушатый, — тут ко мне двое из московской рати подошли, сказали, что Василий завтра атаковать будет... сразу после утренней молитвы.
— Встретим гостя как надо... я сам в первых рядах буду, только хлеба с солью пускай от меня не ждёт!
Полки Василия вышли из-за леса не спеша. Некоторое время полки стояли друг против друга. А потом по взмаху московского воеводы ратники головного полка, подгоняя коней плетьми, поскакали в гору, где застыла Дмитриева рать.
Грохнул первый залп, который оставил на чёрной земле бьющихся лошадей, убитых всадников, а следом за ним ещё один, и каменные ядра со свистом рассекали воздух и рыхлили мёрзлую пашню. Всадники уже забрались на сопку, острым клином рассекли войско галицкого князя и стали теснить его к стенам, чтоб расплющить о серый камень.
За головным полком на сопку уже взбирались полки правого и левого флангов, отрезая Дмитриевой дружине последний путь к отступлению. Завязался бой: вязкий, тяжёлый, и звон железа заглушал крики раненых.
Дмитрий Шемяка рубился на самой вершине. Он видел, как один за другим падали сражённые отроки, а из-за леса, размахивая мечами, шли всё новые отряды Василия. И часа не пройдёт, как они заполнят собой всё поле, станет тесно и на вершине. Вот тогда уже не выбраться!
Полки Шемяки отступали к городу. Со стен по воинам московского князя палили наряды. Каменные ядра летели совсем не туда — разбивали в Щепы деревья, дробили землю и бестолково улетали в чащу. Ратники плотной стеной окружили остатки галицкой дружины. Это были последние минуты некогда могучего и сильного зверя, и оттого натиск московской дружины становился всё более яростным.
— Уходить тебе, князь, надо! Уходи! — Рядом с князем рубился боярин Ушатый. Он вовремя подставил свой меч под удар рогатины, не случись этого — лежал бы Дмитрий с пробитым черепом среди множества изуродованных тел. — Если сейчас не уйдёшь, потом поздно будет! Не к Ваське же в полон попадать! Не простит он тебе! Ты беги, государь, а я прикрою!
Дмитрий осмотрелся. Уже полегли пехотинцы, разбросав по полю мечи и шлемы. Лишённые всадников, бегали по полю кони, и дикое ржание перепуганных животных ещё больше усиливало панику.
— Хорошо! Я ухожу!
Едва отвернулся князь, как вражеский меч резанул по шее, срезав запону, и упавший плащ послужил саваном рухнувшему в высокую траву воину.
— Да неужто сам князь Дмитрий! — ахнул ударивший князя всадник. Этот возглас, в котором слышались ребячье удивление и ужас, стоил ему жизни. Подоспевший Иван Ушатый ударил отрока рогатиной, и, разрывая кольчугу, наконечник глубоко проник в тело воина. Раненый уцепился за рогатину, пытаясь освободиться от неё, но у него не хватило сил, и он свалился с коня.
Оставшийся небольшой отряд Шемяки спустился с горы и, подгоняя плетьми лошадей, пустился прочь от города.
Последним, с дюжиной отроков, поле битвы покидал боярин Иван Ушатый.
Галич казался вымершим. Если в Москве не любили мятежного Дмитрия Юрьевича, то и московских князей так же не жаловали в Галиче. Дружина князя Василия вошла через распахнутые ворота, юродивые плевали им вслед, а женщины спешили укрыться в домах, будто город занимали ордынцы.
Великий князь подъехал к Галичу на санях, запряжённых парой вороных коней. У городских ворот он попросил остановиться и подвести его к стенам крепости. Бояре подхватили князя под руки и, упреждая каждый неверный шаг, подвели к стенам детинца. Василий касался руками его шероховатой поверхности. Вот он, мятежный город, у его ладоней! Ещё недавно он въезжал сюда пленником, а сейчас входил с дружиной, чтобы навсегда лишить Галич прежней вольницы. Василий чувствовал под ладонью впадины — видать, от ударов ядер. Но разве такие стены пробьёшь? На века строено.
Василий повернулся и спросил:
— Василий Иванович Оболенский здесь?
— Здесь я, князь, — снял шапку воевода.
— Дмитрию в городе более не жить!.. Хватит! Не хочу смуты. Удела отцовского я его лишаю. Если в покорности пожелает жить, то приму у себя в Москве на службу... с окольничего начинать будет, а заслужит, так, может, и боярином сделаю. Возомнил о себе, негодник, выше избранника Божьего, только ведь вышло так, как Господь решил. Я тебя, Василий Иванович, в городе наместником оставлю.
— Спасибо, государь! — охнул боярин, не ожидая такой чести.
Кто-то из окружения князя подтолкнул его:
— Ты руки Василию Васильевичу целуй!
Наклонился Оболенский и поцеловал шершавые руки московского князя.
— Народ в городе не обижай. Будь ему отцом, решай справедливо споры, — напутствовал Василий. — Ещё гарнизон тебе большой оставлю. Если Дмитрий силу где соберёт и с воинством надумает обратно вернуться, гони его в шею, как если бы он надумал Москву брать!
— Слушаюсь, государь! — ответил обрадованный Оболенский. — Как сказал, так и будет.
— А теперь, бояре, ведите меня в город, хочу пешком пройтись... по отчине своей!
Дмитрий Юрьевич ушёл в Новгород, так всегда поступали князья, когда терпели поражение. Господин Великий Новгород был той силой, которая могла противостоять Москве — и земли поболее, и лавки побогаче, и купцы знатнее. По всей Европе разъезжали они со своим товаром. Москве не дотянуться!
Несколько лет назад в Новгород приходил за помощью Василий Васильевич: расщедрились тогда купцы, выложили на дружину денежки. Теперь пришёл Дмитрий к тем же самым купцам просить денег, чтобы помогли собрать войско против великого московского князя.
Эта помощь великим князьям не была бескорыстной. Великий Новгород сторонился братских междоусобных войн и ревниво взирал на то, как ширится Московская земля и крепнет стольный город, полнится казна золотом и один за другим перед сильным старшим братом склоняют головы удельные князья. Велик аппетит у московских князей. Пройдёт время, и захотят они присоединить к своим землям и новгородские просторы. Потому и откупались купцы, давая деньги, чтобы ни одна из враждующих сторон не окрепла и не смогла забрать сытые новгородские поля.
Впереди Дмитрия в Новгород торопились гонцы. Въезжал князь галицкий в город без боевого сопровождения, он вёл за собой лишь нескольких бояр. Не осталось в его свите даже услужливых рынд, которые помогли бы князю сойти с коня. Пали они в Галиче, который уже неделю был Московской землёй.
Надеялся Дмитрий, что отдохнёт в Новгороде, успокоится его истомлённая душа. Помолится, наберётся сил, а потом, глядишь, выступит супротив обидчика.
Дмитрий не выдавал тоски, но мысль словно червь точила его: ведь не так давно новгородцы чествовали великого московского князя, назвав Дмитрия Окаянным, обрядили Васильеву дружину в латы. И если бы не эта помощь, которую получил от Великого Новгорода великий московский князь, не подняться бы ему. Сидел бы он сейчас по-прежнему в Вологде, на самом краешке Московского княжества.
Дмитрий не хмурился, радушно улыбался и был обходителен с новгородскими боярами.
Вечером посадник устроил пир, столы ломились от всякой снеди и множества напитков. Бояре один за другим произносили здравицы Дмитрию. Некоторые из них, как бы ненароком, сбивались, называя Шемяку московским князем, хотя не было у него давно Московской земли, а неделю назад лишился и батюшкиного удела. Однако Дмитрий препираться не желал и выслушивал бояр с улыбкой. И когда хмель уже развязал языки, а застолье достигло своей вершины, поднялся посадник. Он пил больше всех, не оставляя на дне чаши ядрёную медовуху. Однако хмель его не брал. Наоборот, он казался ещё более трезвым, а речь сделалась разумнее.
Взял посадник братину с вином белым, пустил её по кругу, а потом заговорил:
— Вот что я тебе скажу, Дмитрий Юрьевич. Рады мы тебя видеть всегда. Только не обольщайся насчёт Москвы, не дотянуть теперь тебе до великого княжения, князь. — Посадник видел, как Дмитрий нахмурился. Братина, пройдя четверть круга, остановилась у локтя Шемяки; шевельнул рукой князь, и братина покачнулась от его прикосновения, соскользнув со стола, разбилась на мелкие черепки. Посадник Кондрат Кириллович помолчал и продолжил степенно: — Только ты не робей! Не один ты. Васька Московский тоже нам изрядно надоел: купцов наших притесняет, не по чину послов новгородских встречает и подолгу их в сенях заставляет дожидаться. Москву ты взять не сумеешь, но вот Галич вернуть мы тебе поможем. А там, может, и ты нам когда-нибудь услужишь.
Дмитрий Шемяка посмотрел на разбитую братину, сенные девки уже собирали с пола черепки, а потом сказал:
— Я долги не забываю, что мне Ваське досаждать. А если поможете Галич вернуть, троекратно отплачу.
Дмитрий Шемяка пробыл в Новгороде месяц. Разъезжал по обширным новгородским землям, собирал отроков в свою дружину. Новгородцы шли в рать неохотно. Потому не обходилось без больших посулов, щедрых подношений. Сейчас удача изменила Дмитрию. За галицким князем тянулась нить дурных слухов о его бесчинствах, новгородцы знали, что бежал Дмитрий из-под Белёва, прослыл изменником под Суздалем и стал окаянным братом.
И если Дмитрий не чёрт, то уж точно родня ему!
Вновь набранные новгородские полки давали клятву на верность Дмитрию Юрьевичу, но он знал нрав Новгорода, гордого и своенравного. Трудно удивить новгородцев — приютили они битого Василия, теперь видели побеждённого Дмитрия. Из толпы стали доноситься неодобрительные возгласы, выкрики, они-то и насторожили галицкого князя.
На следующий день Дмитрий Юрьевич двинул свою дружину к московскому городу Великий Устюг. Может, потому город и назывался Великим, что богат был красным товаром. Купцы съезжались сюда со всей Московии, прибывали гости из Новгорода, торговали зерном и мехом, солью и пенькой. В весенние дни, когда Сухона разливалась и становилась особенно широкой, к берегу трудно было пристать от скопления судов. Устюг стоял в стороне от военных дорог, не трогали его и татары — далёким он казался и умело прятался среди ядовитых топей и непролазных лесов. Богател он от того, что уважал великого князя, выкупив своих работников от войны за звонкие гривны. Не в обычаях Великого Устюга было держать крепкое воинство: к чему рогатины и пищали, когда мошна велика.
Дмитрий пришёл к Устюгу в самый торг, город приветливо распахнул ворота, встречая гостей. Вратники переглянулись меж собой, а потом старший из них преградил дорогу воинству, встав на пути княжеского аргамака.
— Не велено входить при оружии. Торг идёт!
— Не видишь, что ли?! Князь галицкий перед тобой, Дмитрий Юрьевич!
— Галицкого князя уже три месяца как нет, — дерзко возразил вратник. — А вместо князя боярин Оболенский московской отчиной управляет.
— В мешок дерзкого!.. И в Сухону бросить, — распорядился Дмитрий.
Расторопные рынды подхватили вратника под руки и, накинув ему на голову мешок, крепко стянули бечевой.
Вратник матерился, грозил, рынды, напрягаясь под тяжестью, волочили его к берегу, а потом, поставив мешок на край обрыва, столкнули в воду.
— Неласково встречает хозяина своего Великий Устюг, — только и проворчал Дмитрий Юрьевич. — Воеводу ко мне! И немедля!
Приволокли чертыхающегося воеводу. Бросили в ноги Галицкому князю. Микулинский, поднимаясь с колен, зло зыркнул на обидчиков и укорил князя:
— Неужто думаешь, Дмитрий, что не подошёл бы? Почто силой забираешь? Ведь не холоп я какой-нибудь, а боярин, и род мой не хуже твоего.
— Меня с собой равнять надумал?! Да знаешь ли ты, что я галицкий князь! Дед мой — Дмитрий Донской! Отец и я московскими князьями были!.. Я и далее на московском столе сидеть стану!
Гудел торг, и до Дмитрия долетали слова купцов, нахваливающих свои товары, вяленую рыбу, икру паюсную и рухлядь мягкую. Воевода Микулинский стоял в окружении княжеских рынд, и дворовые слуги боярина, оттеснённые топорами, не видели позора князя.
— Не то что московским, вологодским князем тебе не быть! — яростно прошептал Микулинский.
— И этого тоже... в мешок да в Сухону! — приговорил Дмитрий.
Боярин яростно вырывался, кричал, но рынды, заткнув рот поясом, усмирили и его.
— Что же дальше-то делать будем, Дмитрий Юрьевич? — поинтересовался боярин Ушатый.
Теперь Дмитрий видел, насколько шатка его власть. Одно дело — Москва не признает, где даже посадские люди спесивы; совсем другое дело, когда не почитают города малые. А ведь ранее с честью встречали — коврами дорогу устилали, а бояре в два ряда низкими поклонами приветствовали.
— Торг окружить! — приказал Дмитрий. — И никого не выпускать. Слово хочу своё сказать.
— Стоит ли, князь? — посмел усомниться Иван Ушатый. — Устюжане себя вольными считают, а это оскорблением неслыханным будет.
Дмитрий посмотрел на боярина, и от этого пристального взгляда Ушатому сделалось не по себе. Вот крикнет сейчас князь: «И этого в Сухону!» И, не мешкая, набросят рынды ему на голову мешок.
— Выполняй!
— Иду, князь.
Отроки, тесня торговый народ, обхватили в круг рыночную площадь. Они нещадно лупили всякого, кто пытался пробраться через кольцо. Толпа смешалась, опрокидывала торговые ряды, бабы в испуге крестились, мужики бранились матерно. А отроки продолжали теснить народ всё сильнее.
Показался Дмитрий Юрьевич, его сопровождала дюжина стражей с совнями[49] наперевес. Князь взобрался на кадку и заговорил:
— Устюжане, я теперь ваш князь! Почитайте меня отныне как батюшку своего!
Сказано было не особенно громко, однако услышали все. Недовольный ропот прошёлся по толпе, и кто-то самый отважный заорал:
— Долой Шемяку!
Дерзкого отроки выволокли и долго хлестали кнутом, а потом, избитого в кровь, бросили.
Дмитрий терпеливо дожидался, пока уляжется ропот, а потом продолжал:
— Васька лишил меня отчины, из дома выгнал. Думаете, справедливо это мне, неприкаянному, по Руси мотаться? Он у меня забрал Галич, а я у него отбираю Устюг! Око за око!.. Деньги мне нужны, чтобы дружину свою снарядить, а где же ещё брать, как не в своём городе. Никто не выйдет из этого круга, пока не заплатит мне пошлину! С купцов десять рублей, с мастеровых рубль возьму!
— А ежели не пожелаем? — выкрикнул купец в серой душегрейке, молодец лет тридцати. — Мы московскому князю служим, ему и платим!
— Холопов Васькиных отныне я в Сухону метать стану. В мешок мерзавца!
Мужика выволокли из толпы, он не желал идти, сопротивлялся, цеплялся за землю, но и на него набросили мешок и кинули на телегу.
Купцы неохотно расставались с деньгами, долго переговаривались, спорили, а потом выкупили и себя, и весь народ зараз.
Кольцо разомкнулось, и узкие улочки приняли горожан и посадских людей.
Торг закончился.
Но в городе было тихо и тревожно. Дмитрий велел выставить дозоры. По улицам ходили дружинники и отлавливали недовольных, наиболее строптивых топили в реке.
Была уже полночь, когда к Дмитрию попросился окольничий Кисель. Князь знал его по Москве, когда-то он был у него свечником, потому и повелел впустить его.
Окольничий вошёл, отвесил низкий поклон. Дмитрий только слегка кивнул.
— Что же ты не при Василии? — вдруг спросил Шемяка.
— Не ценил я твою службу, Дмитрий Юрьевич, мне бы при особе твоей быть, да бес попутал, тогда все бояре в Вологду ехали к Василию. Вот и я подался службы у него искать, а он меня не захотел принять и в Устюг сослал. А ведь я из московских бояр!
— Не пожелал, стало быть, при своём дворе держать?
— Не пожелал. Не прогневайся на меня, князь, искупить вину хочу.
— И как же ты хочешь искупить? — полюбопытствовал князь.
— Правдой! Против тебя зло собирается, — понизил голос Кисель. — Бояре во все стороны гонцов разослали, хотят тебя с Устюга согнать.
— Так, продолжай...
— Перед утренней молитвой ударит колокол, тогда в город народ и сбежится с оружием.
Выходит, не забыл ещё Устюг вечевой старины, когда на сходе решались главные дела, и сейчас силу собирает против князя.
— Искупить вину, значит, хочешь?
— Хочу, князь!
— Вот тогда всех лихоимцев и повяжи!
— Слушаюсь, государь, — поклонился боярин.
Часом позже отряд стражников во главе с окольничим Киселём шастал по дворам, хватал очумелых от страха бояр.
— Ну что, Иван Яковлевич, свиделись? — И, повернувшись к стражникам, Кисель командовал: — В мешок его и на телегу!
Зловеще полыхали факелы, вырывая из темноты углы палаты, а за дверьми тихо шушукалась прислуга.
У крутого берега Сухоны уже собрался весь Устюг. Страшная новость в одночасье обежала город, взбудоражив его колокольным звоном с Благовещенского собора. Пономарь ударил в набат, созывая людей. Но не пробил он и дюжину раз, как на колокольню вбежали Дмитровы стольники и сбросили смельчака вниз.
Огромная толпа угрюмо молчала, враждебно наблюдая за тем, как рынды сновали по берегу.
На самом краю обрыва, в завязанных мешках, лежали бояре. Они орали истошными голосами, взывали о помощи, но толпа не двигалась.
Отроки ждали Дмитрия. Наконец он появился. Дмитрий Юрьевич ехал на золотистом аргамаке. Он даже не взглянул в сторону униженных бояр, испуганных горожан, головы которых склонились ещё ниже. Князь подъехал к обрыву, где под охраной рынд были свалены мешки с бунтовщиками. Дмитрий взмахнул плетью, но рука застыла в воздухе. Чего же хлестать покойников? И, как будто стыдясь своего невольного жеста, он засунул плеть за голенище.
— Мертвечиной от мешков тянет. Бросить изменников в воду!
Рынды стали выполнять приказ князя: по двое, взявшись за углы мешков, с размаху бросали их в быструю Сухону. Разбивая гладкую поверхность воды, несчастные пропадали в бездне.
В толпе кто-то ахал, а народ, сняв шапки, крестился. Вдруг навстречу Дмитрию выбежала взлохмаченная баба, она вцепилась в княжеский сапог и зашипела:
— Ирод! Посмотри на меня! Неужели не узнаешь?!
Подскочили рынды, тянули блаженную за платье, но она держалась крепко.
— Меланья! — выдохнул князь. — Отпустить бабу!
Рынды отошли, а блаженная, продолжая сжимать сапог князя, кричала:
— Проклятье на тебе, Дмитрий! Смерть у тебя за спиной стоит! Ты проклятье с собой всюду носишь, и года не пройдёт, как околеешь! В мучениях Богу душу отдашь!
— Пошла прочь! Гоните её! Прочь гоните кликушу, что же вы стоите?! — орал Дмитрий, напуганный предсказаниями, и яростно вырывал сапог.
Но Меланья вдруг отошла сама и, посмотрев в последний раз на князя, скрылась в тодпе. Глянула так, словно прощалась с покойником.
Дмитрий вытер пот с лица. Конечно, это была она, Меланья. Её невозможно не узнать даже в нищенской одежде. У кого же ещё могут быть такие глаза! И, как прежде, красивая, хоть и постарела. Не сумело изуродовать её время, и даже мрачность и отрешённость от мирских дел, которые присутствуют на лице у всякого сумасшедшего, не портили её.
— Князь, а с остальными боярами что делать? — прервал раздумья Дмитрия боярин Ушатый, показывая на стоявшие мешки.
— Я же сказал, всех в воду!
В начале июня Московскую землю тряхнуло, и городские ворота, открывающие путь в сторону татар, сорвались с петель и зашибли насмерть юродивого по прозвищу Грязный.
Земля тряслась только в лихую годину, и город ждал большой беды.
Так оно и случилось: не прошло и недели, прибыл гонец от звенигородского воеводы Ивана Александровича с вестью, что ордынцы подошли к Оке. Не помог ни пост, ни долгие моления. Скоро Мазовша сошёл с окского берега и перешёл реку. До Москвы оставался день пути.
Василий Васильевич стал собираться в дорогу. С собой он взял старшего сына Ивана, которого отныне повелел величать великим князем. Княгиня Софья Витовтовна Москвы покидать не пожелала, с ней остались митрополит и бояре. Прощаясь с сыном, она обняла его голову и сказала:
— Скорейшего тебе возвращения, Василий. В Москве матушка твоя остаётся, весь чин иноческий. Стены Кремля крепкие, авось не выдадут. Благо, Марию с младшими сыновьями в Углич отправил, там ей спокойнее будет. А теперь ступай, заждались тебя.
Иван Васильевич вёл отца бережно, то и дело посматривал на свои великокняжеские бармы, которые сегодня утром впервые возложил на него митрополит. Особенно красив был камень агат с жёлтыми полосками. Он веселит глаз, а ещё бережёт от нечистого духа.
Рынды к крыльцу подогнали сани, и Василий, опираясь на руки бояр, разместился на пуховых подушках. Рядом с отцом удобно устроился Иван. Напротив государя сидел верный Прохор.
— Гонцов отослали? — спросил Василий, ни к кому не обращаясь.
Но голос его был услышан сразу.
— Отослали, государь Василий Васильевич, во все стороны отослали. Москве только день продержаться, а там и помощь подоспеет.
И когда уже не стало слышно прощального звона московских колоколов и лес тесно обступил дружину великого князя, Василий запоздало вспомнил:
— Посады не пожгли! Забыли! Ордынцы ведь подпалят, и Кремль сгорит!
— Может, обойдётся, государь, — попытался утешить князя Прошка. — За силой ведь едем, может, раньше ордынцев подойдём.
Покидал стольный город великий князь не из страха перед многочисленным врагом, а блага ради — ехал собирать рать с ближних и дальних земель, чтобы затем всей мощью навалиться на неприятеля.
Во все стороны разъехались гонцы скликать мужчин в войско московское, а через десяток вёрст ополчение уже догнало обоз и неуклюже бренчало оружием.
Из Углича, Коломны, Твери и иных русских городов должны подойти дружины удельных князей, чтобы влиться в великокняжескую рать.
Мазовша подошёл к Москве на рассвете. Золочёные купола маленькими солнцами сверкали под первыми лучами: Москва ещё спала и казалась вымершей. Посады были пустынны и безмолвны: ни скрипа отворяемых ворот, ни стука калиток, не слышно пения колодезных журавлей, даже собака не забрешет.
Но Мазовша знал — эта безмятежность обманчива. Острые глаза степняка уже уловили оживление на московских стенах. Здесь поджидали гостей, вот потому посады были пусты, потому не слышно голосов, потому и мост через ров уже поднят, а башни ощетинились пиками да стрелами.
Мазовша тронул поводья, и чуткий конь, слегка отступив назад, раздавил копытами «петров крест», и жёлтые лепестки осыпались в траву. С ордынского подворья к Мазовше накануне пришёл купец, который сказал, что Василия уже в городе нет. Будто бы он выехал из Москвы в сторону Галича собирать рать, говорил, что в стольной остались мать и ближние бояре. Может, и успел бы перехватить Мазовша великого князя на середине пути, да опасался, что он идёт с сильной дружиной и скорого боя не получится. Москва же представлялась лёгкой добычей.
Мазовша понимал: просто так Василия не взять, многому научил его плен. Он выставил дозоры, оградился от ордынских отрядов хорошо вооружённой армией. Слабым местом оставался город.
Сейчас важнее всего захватить Москву, не зря же он пробирался к ней долгое время оврагами и лесами, пережидал дни в безлюдных местах, чтобы подойти к городу неслышным, как тень, и навалиться на него всей силой.
Уже третий год Москва не платила дань. Это был вызов Орде. Мурзы жаловались хану, что им не оказывают прежнего почёта, какой, помнят они, был при Улу-Мухаммеде, когда он правил в Золотой Орде. Даже мужики осмелели и не спешили снимать перед эмирами шапки. Конечно, можно было подождать с получением дани, напомнить Василию, как он приходил в Орду за ярлыком, уколоть бесславным пленением — и долг был бы выплачен. Но Мазовше не давала покоя слава Тохтамыша и Улу-Мухаммеда, которые подходили к самой Москве. Он сделает то, чего не удалось обоим, — покорит город!
Мазовша сделал знак рукой, и сразу жест был замечен — к нему подскочил худощавый мурза и, целуя сапог хана, спросил:
— Что желает сиятельный хан?
— Нужно сжечь посады. Ветер дует как раз в сторону Москвы. Под прикрытием огня мы ворвёмся в город.
— Слушаюсь, мой господин! — сказал мурза.
Стоило ему отойти на несколько шагов от Мазовши, как он тотчас позабыл роль раболепствующего слуги, превращаясь в грозного хозяина. Мурза прикрикнул на воинов и велел им спалить посады. Огланы в сопровождении небольших отрядов с факелами в руках разъехались выполнять волю господина.
Посады были великолепны. Деревянные строения, тесня друг друга, устремились ввысь. Невозможно было найти двух одинаковых зданий: крыши островерхие или в виде шатров. Окна украшены деревянной резьбой, а на самом верху домов — единороги и орлы, которые чутко улавливали дуновение ветра и, словно по команде, враз поворачивались в одну сторону. Мазовшу на миг заворожило дивное зрелище — степь не знала резного дела, камень всюду. А тут экое диво!
Соломенная двускатная крыша на одном из теремов вспыхнула, затрещала. Пламя неровными быстрыми ручейками побежало вниз, оставляя после себя огненные полосы и дым. Горящая смола стекала на ступени крыльца, создавая новые очаги, и огонь хозяином разбежался по деревянным балкам и стенам, застилая чёрными клубами небо. Рядом вспыхнул ещё один терем, загорелись диковинные шатры, и пламя охотно пожирало удивительную, замысловатую резьбу. Совсем рядом занялась крыша в форме шатра, на коньке которой возвышался парящий орёл.
Запахло гарью. Конь нетерпеливо перебирал ногами, его пугало зловещее потрескивание горящих крыш и клубы дыма, закрывающие небо. Но Мазовша наслаждался видом полыхающего посада. Сейчас он напоминал хищника, которому нужно сделать всего лишь прыжок, чтобы достать ослабевшую добычу. Самый отважный зверь, повинуясь инстинкту, бежит от огня, а Мазовша готов был броситься прямо в полымя, так как только огненный заслон отделял его от победы.
Некоторое время Мазовша наблюдал, как дым вором заползал в город через бойницы в стенах, а потом махнул рукой. Ордынцы ждали этого сигнала, чтобы устремиться орущей армадой к проёму стен Кремля. Шесть лет назад Улу-Мухаммед смотрел на Кремль именно с этого места. И сейчас то, что не удалось великому Улу-Мухаммеду, осуществит Мазовша.
Бой завязался у самых стен. Звенела сталь, падали убитые. Дым был настолько густым и едким, что ничего не было видно вокруг, а когда он закрывал солнце, казалось, наступила ночь.
Мазовша стоял на возвышении и видел, как его воины вплотную подошли к стенам, ещё один натиск — и они ворвутся в город. Но город, словно напившись живой воды, ожил, из брешей в стенах появились новые отряды дружинников. Казалось, и мёртвые воскресли, цеплялись за ноги нападавших.
Лицо Мазовши оставалось бесстрастным, и мановением руки он посылал к Кремлю всё новые отряды. Они таяли как снег под лучами солнца. Был момент, когда казалось, город пал, один из лучших отрядов татар проник через пролом в стене, но он так и не сумел закрепиться, и все пали, сражённые мечами обороняющихся.
Мазовша видел преимущество горожан. Они знали здесь каждый камень, каждую тропинку. Атаковали с флангов и в лоб, даже дым и тот был их союзником. Дружинники скрывались за ним, как за плотной занавесью, и атаковали татар.
Бой продолжался до самого вечера при свете пылающих костров. Всё так же остервенело матерились ратники, всё так же, призывая на помощь Аллаха, бросались на городские стены татары. И только когда темень и дым плотно взяли город в плен и он стал невидимым совсем, Мазовша повелел своему воинству отойти.
Горожане в эту ночь не спали: заделывали пробоины щитами, чинили кольчуги и панцири, в кузнице не умолкал молот — это правили мечи и другое оружие.
У пробоин в стенах застава несла караул.
Утро наступало незаметно. Сначала из ночи вырвались островерхие шатры теремов, потом неторопливо рассвет опускался всё ниже, к самой земле, освобождая из тьмы городские стены и башни.
Стены сделались чёрными от гари и копоти, местами разрушились совсем. То, что ещё вчера называлось посадами, сейчас представляло собой груду обгорелых брёвен, которые продолжали чадить едким смердящим дымом. Обожжённые псы бегали среди развалин и истошно выли. Из-за Яузы свой жёлтый краешек показало солнце, а ордынцы не торопились штурмовать город. Воевода распорядился послать лазутчиков, и скоро они вернулись. Беспечно поснимали шлемы и, упрятав мечи в ножны, запели песни.
— Ушли! Ушли татарове! — доносилось до стен. — Пусты их шатры! Добра разного побросали. Испугались, что Василий с подмогой явится.
Народ выбежал из-за стен. Ратники, схватив в объятья лазутчиков, долго обнимали их. Радость была необыкновенной. Появился митрополит. Он нёс впереди себя икону и в осуждение бросил расшумевшейся толпе:
— Молиться более надо! Христос за нас заступился, ему в благодарность и помолимся.
К вечеру следующего дня появился великий князь. Припозднился Василий, созывая дружины. Он сошёл на траву, постоял малость, а потом сказал:
— Гарью пахнет... Посады супостаты пожгли?
— Пожгли, государь, — отвечал Прошка. — Как есть, всё дотла спалили! Только чёрные головешки и торчат из земли. А ведь как строено было! Помнишь, государь, дом боярина Студня, что о двенадцати шатрах был, с фигурами разными на коньках?
— Как не помнить!
— Всё Улу-Мухаммед пожёг, а вот этот дом пожалел! Зело красив был, так Мазовша его спалил, только груда угольев от него осталась. Ни единого строения не уцелело. Псы в стаю сбились и как ошалелые среди пожарища бегают. Что делать прикажешь, государь?
— Снарядить дровосеков, пускай рубят лес на избы. И не мешкать! Чтобы через неделю город стоял! Ежели своими мастеровыми не управимся, звать из других городов! — распорядился Василий Васильевич. И, явно желая утешить, добавил: — Пусть народ не унывает. Достать из княжеских запасов пять бочек вина, пусть выпьют за победу.
— Стемнело? Аль нет ещё? — спросил Василий Московский, уперев локти в стол.
Осетровая ушица удалась, икорка была приправлена лучком и толчёным чесноком, хлебушек с тмином — так любил великий князь. А такой хлеб хорошо запивать кваском, его умеют делать в Троицком монастыре, и в трапезную монахи привозили кислое питьё специально для великого князя. Монастырский квасок великий князь любил ещё за чудодейственность, которая очищала душу, и ежели попросишь чего перед питьём, так обязательно сбудется.
— Полдень на дворе, государь, — подсказал Прохор, которого Василий любил сажать по правую руку от себя. — Сейчас колокола звонить будут.
И точно. Едва договорил боярин, как колокола размеренно и неторопливо возвестили о быстротечности времени.
— Квасок подай, — попросил Василий.
Прошка подвинул Василию братину. Пальцы князя крепко ухватились за медный бок. Василий уверенно сделал несколько больших глотков. Теперь самое время просить Господа. Сейчас Василий желал только одного: чтобы брак старшего из сыновей, Ивана, был не только полезным, но и приятным. Поздним раскаянием вспомнил о Марфе. Да, вместо Ивана наследником был бы другой. Искал его Василий по всем монастырям, да так и не нашёл. А сама Марфа уже год как покоится на монастырском кладбище.
Ивану исполнилось двенадцать лет, и для женитьбы он был маловат, но тверской князь Борис Александрович торопил в письмах: «Чего тянуть нам с добрым делом? Оженим Ивана, и я с помощью не задержусь!» Видно, побаивался тверской князь, что Василий сможет изменить своему слову.
Подумав, он решил дать ответ тверскому князю, что свадьбу лучше сыграть в начале лета.
Василий Васильевич понемногу приобщал сына к великому княжению. Иван под опекой опытных воевод ходил против Шемяки на Углич, откуда доставлял немало хлопот ярославским землям. Василию Московскому показалось, что сыну удастся то, что не выходило у него, однако Дмитрий бросил Устюг и по Двине ушёл от воинов великого князя. А затем перебрался в Великий Новгород.
Этот поход запомнился Ивану. Только в переходах и можешь понять, насколько велики просторы, которыми владеешь. Василий не мог видеть, как подрос сын, но, прижимая мальчика к себе, чувствовал, что плечи его наливаются силой. Иван окреп и умом, удивив отца своим рассказом о язычниках на реке Ваге, которых дружинники посекли во множестве. Взгрустнулось при этом Василию. Теперь Иван уже не так чист душой, каким оставался до своего первого военного похода — почернело сердце мальчика от увиденного, от пролитой крови. Однако Василий не жалел, что рано приобщил сына к ратному ремеслу — пусть старшой станет его глазами и привыкнет к бескрайности московских земель.
Василий тоже начинал рано: пятнадцатилетним отроком выехал в Золотую Орду просить ярлык на великое княжение у хана. Но судьба сына отличается от его собственной — земля, раздробленная на княжества, помалу собирается в единое целое. Не надо ехать Ивану к татарам за ярлыком на княжение великое, да и сама Орда уже не та — разодрали её на множество кусков, где каждый чингисид непременно видит себя наследником великого Джучи. Поднабрать бы силёнок да в открытом поле встретить татарову тьму. Да уж ладно! Чего не сделал сам, сделает сын.
А язычники — это так! Ещё и не такого насмотришься. К крови, как к хмельному, привыкнуть нужно, тогда оно и голову кружить не будет.
Василий выпил квас до самого дна. И тяжёлые капли повисли у него на усах.
Загадал желание. Теперь только молиться, чтобы сбылось.
Незаметно наступил вечер. Солнце низко повисло над полем, окрасив красным луговые травы. Василий пожелал выйти на крыльцо. Прохладный ветер остудил кожу.
— Посады отстроили? — спросил государь.
— Отстроили, батюшка. Как ты велел, со льготами строили. Пошлину не брали, и золото пригодилось, что ты из казны пожаловал. Месяца не прошло, а посады уже стоят! — сообщил Прохор. — Теперь они краше прежнего будут.
— Ивана хочу видеть, пошлите за ним.
Ивана нашли во дворе вместе с боярскими детьми. Позабыв про своё великокняжеское величие, он играл в салки. Рубаха у него вылезла из-под пояса, волосы растрепались, а крест болтался у плеча. Прошка слегка пожурил пострельца и повёл к отцу. Так он и предстал перед Василием Васильевичем — запыхавшийся, с чумазым лицом. Прошка плюнул на рукав и вытер рожицу великого князя, хоть и не видит Василий, но не подобает Ивану в таком виде перед отцом стоять.
Василий нашёл руками плечи сына.
— Жениться тебе пора, государь, — сообщил московский князь.
Ваня шмыгнул мокрым носом, а потом кулачком растёр по лицу грязь.
— Ага.
— Ты суженую свою видал? Ну и как она тебе? Приглянулась?
— Худа больно, — по-солидному отвечал Иван Васильевич.
— Ну ничего, ещё потолстеет! — вдруг залился громким смехом Василий.
Он хохотал громко, удивляя бояр, которые давно не видели великого князя в таком бесшабашном, лихом веселье. Пустые глазницы князя наполнились слезами, которые стекали быстрыми ручейками по скуластым щекам. Он никак не мог остановиться, заражая своим весёлым смехом стоявших рядом бояр. Иван оставался серьёзен, словно всё происходящее относилось к другому: заткнул рубаху за пояс, расправил княжеские бармы и стал терпеливо дожидаться, когда отец успокоится. А Василий хохотал так, словно хотел зараз отсмеяться за все годы, проведённые печальником. Запрокинув голову назад и устремив пустые глазницы к небу, он повторял одно:
— Худа, говоришь, больно! — И вновь его сотрясал новый приступ хохота.
Бояре уже давно отсмеялись, отёрли платком бородатые лица, а Василий всё не унимался. И, наконец, успокоившись, отвечал серьёзно сыну:
— Жаль, что не суждено мне увидеть свою невестку. Но бояре говорят, девка она красивая и добрая. На мать похожа, такие же глазищи. А у Матрёны, я помню, хороши они были. Сладится всё, сынок.
Свадьба великого князя Ивана Московского с княгиней тверской состоялась в июне. По случаю женитьбы сына Василий объявил в городе праздник. Великая княгиня Мария разъезжала по монастырям и раздавала щедрую милостыню. Не усидела дома даже старая Софья Витовтовна, повелела запрячь мерина попокладистее и увязалась вслед за невесткой. Юная княгиня Мария Московская ездила по столице в санях, запряжённых шестёркой лошадей, которую сопровождали всадницы. Московиты не привыкли к такому зрелищу — жались к стенам, отбегали в сторону, пропуская конный отряд. Никто не осмеливался смотреть девкам-охальницам в лицо, сжимали шапки и отвешивали глубокие поклоны, как перед великими господами.
Народ в городе гулял до глубокой ночи: пили вино, стучали в барабаны, плясали. Шуты и шутихи, нацепив на шею звонкие бубенцы, бегали по улочкам и веселили народ. Караульщики у городских ворот в этот день были сговорчивыми — отворили ворота, и в Москву из дальних и ближних сёл прибывал народ посмотреть на свадьбу великого князя Ивана.
Упились допьяна. Мужики вповалку лежали на базарах, где была выставлена княжеская медовуха. Стража не наказывала провинившихся кнутами, а глашатаи объявили свободу лиходеям.
Сам Василий ещё утром разъезжал по темницам и миловал узников. Ликование охватило всех, и следующее утро встретили хмельными.
Позади свадебное веселье, впереди совместная жизнь. Запропастились куда-то тысяцкий и дружка, Иван остался один. Боярыни ввели к государю десятилетнюю жену Марию Московскую и оставили молодых одних. Марья озоровато глянула на мужа из-под фаты и присела на лавку.
— Репы хочешь? — вдруг предложил Иван жене давно очищенную жёлтую репу. — Сладкая...
— Хочу... — пропела Марья, отложив в сторону тряпичную куклу.
Ваня грубовато ухватил куклу и бросил её в угол.
— Хватит тебе в куклы играть! Теперь ты жена моя!
Марья хмыкнула, а потом испуганно разревелась.
— Плохой ты! Зачем Аннушку обидел! Больно ей!
Иван накинул нагольную шубу и вышел в сенцы. У дверей караулили двое постельничих. Бояре, заприметив юного князя, заулыбались:
— Марья Московская хнычет? Что, жёнки испугался? А ты лаской её, государь, возьми. Сильничать здесь ни к чему! Так оно лучше будет, это тебе не по лесам рыскать.
— Шапку с головы долой, когда с государем говоришь! — взвизгнул рассерженно Иван.
Боярин охотно подчинился юному князю, опасаясь в дальнейшем заиметь в нём грозного врага.
Иван вернулся в горницу. Марья уже утёрла нос и глаза и качала куклу на коленях.
— Я государь-муж, а ты жена моя! — сказал двенадцатилетний великий князь. — Иди сюда и рядом сядь. Теперь нам всю жизнь так быть.
Всю ночь в комнатах государя горели свечи — таков обычай. Гости улеглись, а банщики растапливали печи, чтобы с утра жених мог отправиться в баню.
Государю не спалось. В последний год сон Василия Васильевича стал беспокойным. Он мог подолгу лежать на ложе, прикрыв рукой пустые глубокие глазницы, и не забыться до самого утра.
— Прохор! Прошка! Где ты там?!
Прошка был рядом с государем, встрепенулся ото сна и отозвался со своего места:
— Я здесь, государь! Чего изволишь?
Государь вытянул руку, и пальцы его коснулись жёсткой бороды боярина.
— Прохор Иванович, ты был со мной с самого начала. Ты помнишь, как я ездил со своим дядей Юрием Дмитриевичем в Золотую Орду на суд к Улу-Мухаммеду?
— Да, государь.
— Тогда князь Юрий признал меня своим младшим братом. Помнишь ли ты, как я потом лишился княжения и Юрий занял московский стол?
— Как же такое забудешь, батюшка?! Но, слава Богу, он же и одумался, вернул тебе стол, когда его сыновья убили его любимого боярина за то, что тот надоумил тебе удел передать.
— Всю жизнь я воюю, сначала с дядей, потом с братьями своими двоюродными — Васькой Косым и Дмитрием Шемякой... Последний меня глаз лишил. Только с Дмитрием Красным мы были дружны. А другой мой брат, Иван Можайский? Без конца от меня к Шемяке бегал. Уделов ему не хватало. А невдомёк, супостату, что от своего отрывал!
— Знаю, знаю, государь, про всё ведаю.
— Вот что я тебе скажу: не хочу, чтобы сын мой в междоусобицах жизнь проводил. От Дмитрия всего можно ожидать, если бы не иерархи, так и сыновей моих сгубил бы! Только что бы он ни делал, я всё равно московским князем остаюсь. Не может быть двух Божьих избранников, тесно им станет. Однако не хочет Дмитрий этого понимать, вот поэтому новую смуту затеял. К королю Казимиру за помощью обращается. В грамотах пишет: ежели он поможет вернуть ему московское княжение, тогда из собственных рук передаст Рязань и Великий Новгород! Вот такие дела! Мало ему ссоры со своим старшим братом, так он ещё и Ванюшу в войну втянуть собирается. Что же это за брат, от которого только одно лихо и ведаешь! Вот я и спрашиваю тебя, Прохор Иванович, нужен ли мне такой брат?
Прохор узнавал в князе прежнего господина. Теперь это был не тот сломленный бедой человек, каким он застал его сразу после ослепления, унизительно выпрашивающий у Дмитрия жизнь; и не тот монах в смиренном одеянии, каким увидел его в Угличе. Перед ним был дерзкий, властолюбивый князь, который однажды поднял на рогатину медведя, чтобы ещё раз убедиться в своей исключительности.
Много всего выпало на долю Василия: раннее княжение, которое он принял в свои руки сразу после смерти отца; унизительные просьбы; позорное пленение; страх быть изгнанным из собственной отчины; потеря зрения, участь узника.
Но так ли уж князь слаб, как это могло показаться когда-то?
Слепцом Василий собирал в Вологду бояр со всей Руси в надежде, что когда-нибудь удельный северный город поднимется до стольного. Вологодский князь Василий терпеливо дожидался пожалования Дмитрия и его прощения. Он не хотел сдаваться, даже будучи слепцом, и ходил против недругов в походы. Василий никогда не был раздавленным. Он, подобно помятой траве, распрямлялся всякий раз.
И сейчас Василий задумал нечто необычное.
— Я хочу сыну сделать свадебный подарок, — продолжал Василий Васильевич. — Я желаю, чтобы его княжение протекало безмятежно. Это можно сделать только одним путём... — Дыхание у Прошки перехватило, он уже догадывался, к чему клонит великий князь. Прохор сделал судорожный глоток, и пламя свечи качнулось, осветив тёмные глазные впадины на лице Василия. — Умертвить Дмитрия Шемяку! Меня не интересует, как это будет сделано, важно, чтобы галицкого князя не стало!.. И чтобы имя моё, как и прежде, оставалось незапятнанным.
— Слушаюсь, государь, — отвечал Прохор, заглянув в тёмные глазницы Василия. — Позволь сказать слово.
— Говори.
— Ждал я этого часа, а потому в окружение Дмитрия своих людей поставил и жалованье им щедрое платил. Только не мог я на это пойти без твоего благословения.
— Говори дальше.
— Повар Дмитрия Юрьевича мной за большие деньги куплен. Подговорить его нужно — и не станет твоего брата.
— А ежели посадник про то догадается? Виданное ли дело, чтобы на Новгородской земле князь галицкий помирал!
— Посадника я знаю, государь. Когда ты в опале был, то я в Новгороде при его дворе жил. Да он и сам Дмитрия не любит. Даже привечать не хотел и, если бы не тысяцкий, выгнал бы взашей!
— Хорошо. Поступай, как задумал.
На улице светало. Дворовые готовили столы по чину, и их быстрые шаги то и дело раздавались за дверью.
Умолкли скоморохи. На посадах не слышно разудалых голосов. Москва затихла, чтобы через час проснуться и продолжить своё буйное веселье.
Праздник ещё не закончился.
Софья Витовтовна скончалась на восемьдесят втором году. Умерла тихо, в окружении многочисленных боярышень в своём любимом дворце недалеко от Москвы.
Эта смерть никого не застала врасплох. Княгиня почти не покидала своих покоев, а если и выезжала, то на это был особый случай: ездила на богомолье раздать у соборов милостыню. И, глядя на её фигуру, всё больше горбящуюся и всё ниже склоняющуюся к земле, на вдовьи наряды, которые она носила без малого тридцать лет со дня смерти мужа, на покрытое сетью глубоких морщин лицо, невольно думалось: если смерть и имеет облик, то она должна быть именно такой.
Хоть и была Софья дочерью великого князя литовского, но, выйдя замуж, приросла душой к Русской земле, потому и православие для неё не было в тягость.
Хоронили Софью Витовтовну без особой пышности, так повелела в своём завещании княгиня. Отпели покойную в Благовещенском соборе, а потом крепкие чернецы, подставив плечи под домовину, понесли её к последнему пристаницу — в усыпальницу князей.
В этот день милостыня была особая — пятаки, завёрнутые в цветные лоскуты, раздавали на папертях и базарах, в церквах и на узких улочках. Словно княгиня последним подношением хотела искупить незамоленные грехи.
Василий шёл за гробом, опираясь на плечо Ивана. Проститься бы с матушкой, посмотреть в последний раз на её лицо, да глаз лишён. И от этого скорбь казалась ещё тяжелее. Коснулся сын губами прохладного лба Софьи и отошёл в сторонку. Пустота одна. Нечем её заполнить. Всегда у него была одна дорога — к дому! Туда, где дожидалась его матушка, теперь есть ещё и другая — на погост.
Панихида надрывала душу, но слёз не было, как не бывает их у стариков, проживших трудную жизнь. Василий ещё не стар, но пережил столько, что хватило бы на нескольких старцев.
Уложили Софью Витовтовну бережно в могилу, вниз положили лапник. Чернецы насыпали над ней холмик.
Пахло ладаном, а архиерей тянул: «А-лиллу-йа!»
Новгород уже не внимал просьбам Дмитрия Юрьевича. Бояре отказали ему в помощи, а посадник не хотел видеть галицкого князя в своём доме. Об опале сразу узнали и горожане. Не осталось у новгородцев былого почтения во взгляде, не каждый снимал шапку, заприметив издали великокняжеские бармы Дмитрия.
Дмитрий Юрьевич чаще проводил время в своих хоромах. Редко выходил на улицу. Избегал вече, где новгородцы, невзирая на чин, высказывались прямо. Говорили: как станет московским князем, так разгонит новгородскую вольницу, а сейчас приходится его терпеть, раз пришёл с покаянием и с протянутой рукой.
Не было рядом плеча, на которое можно в горе опереться. Новгородские полки, ещё год назад верившие в удачу Дмитрия Юрьевича, теперь разбрелись, напуганные нарастающим могуществом Василия Васильевича. Велика Русская земля, а только она тоже имеет границы, и податься князю Дмитрию было некуда!
Разве что к королю Казимиру? Покаяться перед ним да выпросить какой-нибудь клочок земли на границе с Русью, чтобы было место, где умереть. А так сгинешь безвестно в далёких краях, и могилу никто не найдёт, не поклонится ей.
А тут ещё Васька шлёт гонцов в город и велит посаднику гнать галицкого князя с Новгородской земли взашей. Того и гляди, ввалятся в хоромы дюжие молодцы, повяжут руки и приволокут на суд к великому московскому князю. Вся земля против него ополчилась, не с руки сейчас Новгороду ссориться с Москвой, которая то и дело грозит: «Если не послушаешь нас, напустим татар на вашу землю!» А татар новгородцы боялись, пускай не сходились с ними грудью в бою, но о силе их знали. Оттого и дружбу с ордынцами ценили: не раз вместе ходили супротив Казимира, а бывало, что досаждали и Москве.
На прошлой неделе прибыл из Москвы гонец, сообщил о смерти великой княгини Софьи Витовтовны. Забрала грешницу земля. Сколько бед через неё выпало, не упомнить всего! И кто, как не она, бросила камень раздора, когда посмела снять пояс с Василия Юрьевича на свадьбе у своего сына. Она и боярина Всеволожского подговорила, чтобы тот перетянул мурз на сторону малолетнего сына, когда он с Юрием Дмитриевичем на суд в Орду поехал. Обещала княгиня женить сына на его дочери. Слукавила Софья, а потом и глаз его лишила. От великой княгини лихо шло, от неё, старой ведьмы! Если бы прибрал её чёрт на несколько годков раньше, может, не сидел бы сейчас в тесных хороминах, а правил на московском столе. Грешно плохо думать о покойниках, но Софья Витовтовна злыдня была отменная. При малолетнем сыне распоряжалась в его вотчине, как у себя в девичьей. Даже лицо своё бесстыжее не стеснялась простолюдинам показывать. Эх, гореть ей в аду!
И чем больше находился Дмитрий в Новгороде, тем хуже он чувствовал себя в городе, а мурованые хоромины теперь казались ему темницей. То ли дело Галич! В родной вотчине и изба по-особому сладко пахнет.
Дмитрий поднялся, горло пересохло, самое время смочить его белым вином. Налил себе из кувшина, выпил. Сделалось веселее. Теперь, как холоп, сам себе вино наливаешь, а бывало, утречком выглянешь в сени, там уже бояре толкутся и ждут, когда государь пробудится. Одеваться надумаешь, так один боярин сапоги держит, другой рубаху нательную спешит подать, третий суетится рядом. Разбежались все! Раньше без позволения князя бояре даже в вотчину свою не отъезжали. На коленях вымаливали для себя блага разные, а сейчас, пока до Великого Новгорода добрался, всех бояр лишился, один только Иван Ушатый остался. Знает, бестия, что не сумеет простить Василий Васильевич измены — в темнице и порешит!
— Иван! Боярин! — кликнул князь Ушатого. — Где ты?
— Я здесь, государь, — отозвался боярин, низко кланяясь, как будто Дмитрий не растерял своего величия, а был по-прежнему могущественным князем, сумевшим соперничать на равных с великой Московией.
— Ходил ли ты к посаднику?
— Ходил, государь, — отозвался Иван со вздохом.
— Что же он сказал тебе?
— Сказал, что всё обговорено, нечего к старому возвращаться. Пусть, говорит, князь живёт в Новгороде, никто его отсюда не выгонит, но ратников своих не даст. Так и сказал, нечего в пустых распрях новгородскую силу тратить.
— Вот оно как повернулось... Ладно, придёт время — и это ему вспомнится.
Вот он, этот вольный Новгород! В какую сторону хотят, в такую и воротят. Недаром у них земли поболее, чем у Москвы. Края побогаче будут и со всего Севера пушнины понабрали. Думают, золотом откупятся. Не выйдет!
— Только ты, Ванюша, у меня остался. Все меня бросили! Когда сильным был, то всем был нужен, а как мощь подрастерял, уходить стали, народец рыло в сторону воротит. Только рано они меня похоронили. Я ещё поднимусь! Смерчем над Москвой пролечу! Я заставлю их о себе вспомнить, придёт ещё мой срок! А бояр, которые меня оставили, до себя не допущу. Они за богатым жалованием тянутся. Только хватит ли им Васькиного добра? Попомните ещё меня, когда я московским государем стану. Где же это видано, чтобы на стольном граде слепец сидел! — Дмитрий задыхался от злобы. — Сами придут на Москву меня звать!
— Может, ты отобедать, государь, пожелаешь? — спросил боярин. — Ведь вторые сутки не ешь.
— Кусок в горло не идёт, — честно признался Шемяка. — Ладно, пускай несут.
Накрыли стол: птица да хлеб. Бывали времена, когда Дмитрию во дворец доставляли в бочках с Волги огромных осётров, иной раз белужьими языками объедался. Чего только на столе не стояло: и спинки осетровые, и икра красная, солонина, лебеди жареные, яблоки мочёные и вишни в патоке, потроха лебяжьи и почки заячьи, куры жареные, мясо вяленое с чесноком. Да дюжину приборов ещё сменят! А стол был таков, что и глазом не охватишь. А сейчас, подобно мужику дворовому, не в трапезной потчуют, а в подклети тесной.
Шемяка отломил хлеба. Съел его. Даже вкуса не почувствовал. Запил пивом.
— Ты бы, государь, курочку взял, — посоветовал боярин Ушатый.
Шемяка взял курицу, так же лениво откусил, пожевал.
— Пересохло что-то в горле, — пожаловался Дмитрий.
Он взял с подноса чашу с вином, чтобы запить сухой кусок, однако не удержал, и вино, заливая ему кафтан, полилось на пол.
— Что это? — захрипел князь, выплёвывая на сорочку жёлтую пену. — Что это?.. Яд?
— Государь! — подхватил Ушатый падающего князя. — Государь, что с тобой?
Шемяка силился ответить, но из горла шла густая пена.
— Победил меня Васька, — сумел разобрать Ушатый. — Перехитрил... Жаль умирать отравленным, вот если бы на сече... Неужто это ты, Ванюша... отравил? — еле выговорил князь, и глаза его закатились.
Шемяка дёрнулся — душа отлетела от тела, и князь бездыханным распластался на полу.
— Кто? Кто посмел?! — Боярин смахнул со стола блюда, которые с грохотом рассыпались на полу.
Ушатый выхватил меч и, изрыгая проклятия, бросился во двор. Дворовые люди с перепугу разбежались по закуткам.
— Где он?! Где?! — орал боярин, сокрушая мечом на своём пути перила, двери, столы. — Где он?! Убью!
Боярин ворвался в пристройку, где с женой жил повар. В сенях Ушатый стукнулся о высокий порог, остриём меча зацепился за полку, и она опрокинулась вместе с горшками, чугунками, кувшинами. Боярин ввалился в комнату, сопровождаемый дребезжанием битой посуды.
Повар сидел за столом, хлебал щи.
Лицо молодца простоватое, в веснушках, а в бороде застряли листья капусты.
— Ты отравил государя?! Говори! — Меч с силой опустился на стол, раздробив доску в щепы, одна острым концом впилась в щёку повара, да так и осталась.
Повар выдернул занозу, на щеке выступила кровь и неровной струйкой потекла по подбородку.
— Не по своей охоте... Все здесь против князя. Не нужен теперь он Новгороду. Пустой он! Сам посадник против него. Вот Василий и сговорился с ним, чтобы извести.
— Поганец! — выдохнул боярин и ткнул мечом повара.
На крики во двор выбежали новгородские караульные. Впереди шёл посадник.
— Где здесь разбойник?! Где убийца?! — кричал посадник.
Он появился так внезапно, что могло показаться, будто он ждал этого скандала, чтобы ввалиться в дом со стражей и усмирить строптивый московский двор.
На крыльцо вышел боярин Ушатый. Вышел неторопливо. Спешить в объятия смерти способен только глупец.
— Твой меч в крови. Ты убийца! Ответ на вече держать перед гражданами будешь!
— Сообщника твоего убил, которому ты велел отравить великого князя Дмитрия Юрьевича, а теперь и до тебя доберусь, — сделал Ушатый шаг навстречу.
Посадник не отступил.
— Ты не у себя в вотчине, чтобы судить! Здесь Новгородская земля, и мы живём по своему уставу. Только вече здесь всё решает. Оно и скажет, кого стоит миловать, а кого живота лишить. Взять его! — распорядился Кондрат Кириллович.
Стража обступила боярина подобно волкам, пытающимся завалить лося. Они будут сжимать его всё теснее, чтобы потом наброситься всем разом. Если Дмитрий Шемяка, воин, умер за столом, то он сам погибнет только с мечом в руках. И не важно, кто перед ним — басурмане или лукавые новгородцы. Боярин вытащил кинжал — левой рукой он владел так же, как и правой. Потом прыгнул с крыльца и первым же ударом сразил одного из отроков, другой дружинник не успел отскочить в сторону и был ранен кинжалом. Стражи набросились на Ушатого со всех сторон, но боярин умело уворачивался. Иван знал, что тело его не знает усталости. Ему казалось, он может так биться час и два, столько в нём накопилось яростной силы. Это походило на отроческую забаву, только вместо деревянных мечей сейчас в руках он держал настоящее оружие.
Ушатому распороли кафтан. Лицо его было порезано, но боярин не сдавался: успевал поворачиваться во все стороны. Он рвался туда, где, скрестив руки на широкой груди, спокойно взирал на происходящее посадник. Кондрат терпеливо дожидался смерти боярина. Он не отступил в сторону даже тогда, когда Иван Ушатый приблизился к нему на расстояние вытянутой руки. Ещё немного, и меч распорет посаднику рубаху.
Вдруг боярин Ушатый споткнулся. Сделал неуверенный шаг, потом другой и свалился в дорожную пыль. Из спины, растопырив оперение, хищно торчала стрела.
— Жаль... Он был хороший воин, — посетовал посадник. — Не дошёл ты до меня, Ушатый, всего лишь шаг не дошёл. Вот и твой хозяин всю жизнь в шаге от московского престола был, да так подле него и скончался.
Василий Васильевич уединился в Борисоглебской церкви, хотел один помолиться. С недавнего времени он стал заезжать в эту церковь, которая была построена одной из первых на Руси в честь великомучеников и первых русских святых Бориса и Глеба, убиенных рукой брата. Василий Васильевич подолгу молился здесь, просил Господа удержать его от соблазна повторить грех Окаянного Святополка. Грех этот был притягателен и обещал скорую развязку.
— Есть ли святые на стенах? — спрашивал Василий.
— Есть, государь, — отвечал Прохор. — С укором смотрят, словно могут проникнуть в тайные помыслы.
Василий поёжился от суеверного ужаса. А может, уже проникли взгляды святых в его грешную душу? Станет на одного Окаянного больше. Василий Окаянный. Каково!
Князь вспомнил, что Дмитрий сам посещал церковь Бориса и Глеба. Был он здесь и перед тем, как ослепить своего брата. И Василий всё больше ощущал на душе тяжесть греха, который прижимал его к полу, заставляя подолгу простаивать в молитвах. Ослепил Дмитрий брата, но жизни лишить не посмел. А сам ты пожелал взвалить на себя этот грех, не придавил бы он! И Василий всё неустаннее молился о спасении души.
— Братья как нарисованы? — спрашивал Василий.
— В доспехах парадных и плащах красных, — отвечал Прохор. — Свет на лица падает, и видно, что они печальны, будто знают свою участь.
— Эх, если бы я мог видеть лица святых, — сокрушался Василий, — может, они и посоветовали бы мне что-нибудь. Но я не могу поступить по-другому, рушится единое, нищает Русь.
— Как же ты видишь, князь?
— Совсем не обязательно быть зрячим, чтобы видеть это.
Нужно немедленно послать гонца, чтобы он отменил приказ убить Дмитрия. От этой мысли Василию вдруг сделалось легко. Наконец он сумел сбросить груз, который так давил его. Князь уже поднялся с колен, хотел позвать боярина, но услышал, что двери церкви распахнулись, и раздался взволнованный голос Прохора:
— Государь, князь великий! Гонец из Новгорода Великого прибыл! Тебя видеть хочет!
— Зови! — приказал Василий. Князь услышал приближающиеся шаги. — Говори, гонец, кто таков и с чем прибыл!
— Подьячий я, Василий Беда... Государь, князь Дмитрий Юрьевич Шемяка умер насильственной смертью в Новгороде Великом и положен в Юрьевом монастыре.
Вот оно как! Не успел, стало быть. А не страшно ли эту весть услышать в церкви Бориса и Глеба, убиенных своим братом? Видно, дрогнули в эту минуту лики святых. Но Василий был слеп.
— Подьячий, говоришь? Василий Беда?
— Как есть, батюшка князь, Василий Беда.
— Тёзки мы с тобой. Я тоже Василий... Знаешь ли ты, подьячий Василий Беда, о том, что принёс мне... беду? — сокрушался великий князь.
— Знаю, великий князь московский.
Теперь Василий Васильевич остался один. Все ушли! Потихонечку, один за другим. Сначала умер Юрий Дмитриевич, потом Васька Косой, не стало всесильного Улу-Мухаммеда, а вот теперь сгинул Дмитрий Шемяка.
Ушли! Все!
Хотя казалось, каждому из них не будет сноса. Каким исполином казался Улу-Мухаммед, но и его не стало. А Василий Васильевич выжил подобно скрипучему дереву, которое только гнётся на сильном ветру, но не ломается. С кем же теперь воевать? Засунуть бы чёрные полотнища на самое дно сундуков, и пусть моль их изничтожит.
— Не боишься, что гнев свой против тебя обращу? Ведь Дмитрий мне братом был. Хоть и сделали мы друг другу немало зла, но родная кровь, она крепко держит. Что в Новгороде Великом говорят про смерть Дмитрия?
—Говорят, отравил его повар, которого прежде звали Поганкой.
— Знаю я повара Поганку... Хорошо, ступай, Василий. Был ты подьячим, теперь дьяком станешь при московском государе. В думе сидеть будешь.
Государь допустил дьяка к руке, и, поцеловав обрубки пальцев князя, Беда поблагодарил:
—Спасибо, государь.
— На воздух хочу, — приказал Василий Васильевич. — Душно мне здесь.
Бояре осторожно, предупреждая каждый неверный шаг великого московского князя, повели к выходу. У дверей Василий остановился, повернулся лицом к образам и низко поклонился.
Утро встретило Василия Васильевича хмуро: мелким дождём и хлёсткими порывами ветра. Трава в угодливом поклоне склонялась к ногам великого князя, а он шёл неторопливо, вжимая ногами в грязь разноцветные бутоны. С деревьев ветер стряхнул капли дождя, которые посыпались на Василия крупными жемчужинами. Дождь омыл бороду и лицо великого князя. Подошёл Прошка Пришелец, накинул на плечи Василия меховую накидку, а рында подвёл колымагу, которая, скрипя, ткнулась в грязную лужу да и замерла перед государем.
— Может, желаешь чего, государь? — ласково спросил Прошка.
Василий Васильевич задумался.
— Желаю ли я чего-нибудь? — И вдруг понял, что желаний у него больше нет. Все его мечты сводились к одному — удержаться на московском столе. Они пропали вместе со смертью Дмитрия Юрьевича. Да и не желания и не мечты это были — жизнь! — Ничего мне больше не надо. Пускай возница к Москве гонит, да поскорее!
Колымага покатила по раскисшей дороге, и колеса весело брызгали грязью на кафтаны всадников. Казалось, Василий спал — укачала его долгая дорога, но вдруг он встрепенулся и произнёс:
— Как прибудем в Москву, по монастырям поедем, милости великокняжеские раздавать... А ещё свободу по темницам объявить и... отслужить молебен по смерти брата.
И уже уснул глубоко и спокойно.
ОБ АВТОРЕ
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ СУХОВ родился в 1959 году в г. Потсдаме, ГДР. Закончил геологический факультет Казанского государственного университета. В настоящее время работает в Казанском государственном университете, кандидат геолого-минералогических наук, доцент. По специальности палеонтолог, стратиграф.
Первые газетные публикации стали выходить в газете «Комсомолец Татарии» в 1975 году, с 1980 года участвовал в коллективных сборниках.
Автор трёх прозаических книг сборника рассказов, двух повестей, романа «Я — вор в законе».
Исторический роман «Окаянная Русь» выходит впервые.
Примечания
1
Василий II Васильевич Тёмный (1415—1462) — великий князь Московский с 1425 года. В ожесточённой междоусобной борьбе был ослеплён Дмитрием Шемякой (1446), поддержанный посадскими людьми, одержал верх над ним. Василий II частично объединил образовавшиеся в XIV веке на территории Московского княжества местные удельные владения, присоединил Вологду, Волоколамск и др. Новгород. Псков тоже подчинились влиянию Московского княжества.
(обратно)2
Тать — разбойник, вор, похититель.
(обратно)3
Бармы — оплечья, ожерелье со священным изображением на торжественной одежде, их носили духовные сановники и русские государи.
(обратно)4
Стряпчий — здесь: поверенный, ходок, ходатай по делам.
(обратно)5
Клобук — покрывало монашествующих, надевается поверх камилавки.
(обратно)6
Юрий Дмитриевич (1374—1434) — князь Звенигородско-Галицкий, сын Дмитрия Донского.
(обратно)7
Василий I Дмитриевич (1371—1425) — великий князь Московский с 1389 года, старший сын великого князя Дмитрия Донского. Присоединил к Московскому княжеству суздальско-нижегородские земли, Муром, Тарусу. Княжение Василия I проходило в обстановке борьбы русского народа против литовской и татарской агрессии.
(обратно)8
Князь Витовт (1350—1430) — великий князь Литовский (с 1392). Вместе с русскими войсками и поляками участвовал в разгроме немецкого Тевтонского ордена в 1410 году.
(обратно)9
Братина, братинка — сосуд, в котором разносят питьё, пиво на всю братию и разливают по деревянным чашкам, стаканам; большая деревянная чашка.
(обратно)10
Мурза — татарский князь, наследственный старшина.
(обратно)11
Юрт — татарское владение, земля.
(обратно)12
Улу-Мухаммед — хан Золотой Орды в XV веке, решал спор князя Юрия Дмитриевича с племянником Василием Васильевичем из-за великого княжения. В 1437 году потерял власть в Золотой Орде.
(обратно)13
Бабай — баба, дед, старик (татарское слово).
(обратно)14
Бирюч — глашатай, объявляющий по улицам и площадям постановления правителя.
(обратно)15
Рында — нескладный верзила; в старину так называли телохранителей, оруженосцев.
(обратно)16
Епитрахиль — одно из облачений священника, надеваемое на шею под ризу и свешивающееся спереди.
(обратно)17
Игумен — настоятель монастыря.
(обратно)18
Псалом — название религиозных песнопений.
(обратно)19
Скуфья — ермолка, тюбетейка.
(обратно)20
Подклеть — нижнее жильё избы, деревенского рубленого дома; иногда нежилая часть избы.
(обратно)21
Дмитрий Юрьевич Шемяка (1420—1453) — русский удельный князь в Галиче, двоюродный брат московского князя Василия II Васильевича, упорно и безуспешно боровшийся против объединительной политики Москвы. В 1446 году временно захватил Москву, но вскоре потерпел полное поражение. Впоследствии появилось нарицательное выражение «Шемякин суд», обозначающее неправый суд.
(обратно)22
Василий Косой (1421—1448) — князь Звенигородский, старший из трёх сыновей Юрия Дмитриевича, князя Галицкого. Упоминается в летописях с 1433 года.
(обратно)23
Дмитрий Красный (1421—1441) — князь Галицкий, внук Дмитрия Донского.
(обратно)24
Охабень — верхняя длинная одежда с прорехами под рукавами и с откидным воротом.
(обратно)25
Бунчук — конский хвост на украшенном древке.
(обратно)26
Сулица — метательное копьё с лёгким и тонким древком длиной до 1,5 м.
(обратно)27
Рогатина — ручное оружие, род копья.
(обратно)28
Бердыш — широкий топор, иногда с гвоздевым обухом и с копьём на длинном ратовище; алебарда.
(обратно)29
Клевец, или чекан — оружие, молоточек с клювом на древке.
(обратно)30
Схима — монашеский чин, требующий от посвящённого выполнения суровых, аскетических правил.
(обратно)31
Чернец — монах.
(обратно)32
Епитимья — род наказания, налагаемый Церковью на нарушившего религиозные нормы.
(обратно)33
Чепрак — суконная, ковровая, меховая подстилка под конское седло поверх потника.
(обратно)34
Байдана бесерманская — разновидность кольчатого доспеха. Отличается от кольчуги размерами и формой колец. Бесерман — басурман.
(обратно)35
Подьячий — старший приказной служитель, писец, помощник дьяка.
(обратно)36
Постельничий — боярин, который смотрит за спальней, опочивальней государя.
(обратно)37
Пищаль — тяжёлое ружьё или артиллерийское орудие, которое было на вооружении русской армии в XV— XVII вв.
(обратно)38
Запона — бляха с каменьями, застёжка, обычно в виде двойной пуговки на стерженьке или цепочке.
(обратно)39
Колонтарь — доспехи без рукавов, состоящие из двух половин — передней и задней, застегивающиеся на плечах и боках латника железными застёжками.
(обратно)40
Наряд — старинная артиллерия.
(обратно)41
Шестопёр — род булавы, на конце которой вместо шара насажена головка, состоящая из шести перьев (щитков). Знак достоинства воеводы.
(обратно)42
Архиерей — общее название для высших чинов духовенства (епископа, архиепископа, митрополита).
(обратно)43
Совокупляться — здесь соединяться, скопляться (старинное употребление слова).
(обратно)44
Предтеча — предшественник, тот, кто своей деятельностью подготовил условия для деятельности других.
(обратно)45
Скудельница — кладбище, общее место погребения, общая могила во время мора, общая могила погибших в каком-либо случае или общая могила вне святой земли.
(обратно)46
Взять на епитрахиль — то есть взять под покровительство Церкви.
(обратно)47
Сакос — архиерейское облачение, надевается поверх подрясника.
(обратно)48
Шемяка — шатун, бродяга.
(обратно)49
Совня — сулица, рогатина с широким, кривым, как коса, лезвием.
(обратно)
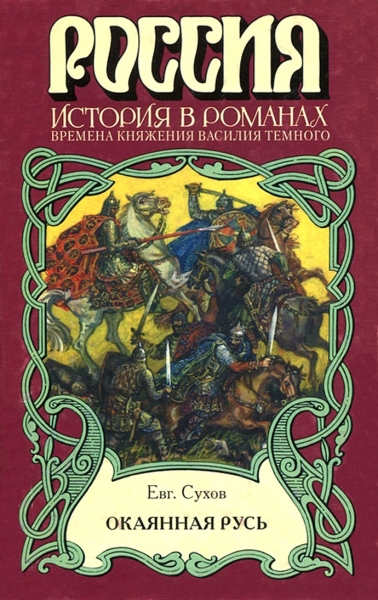
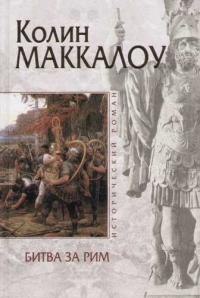

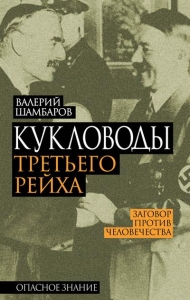
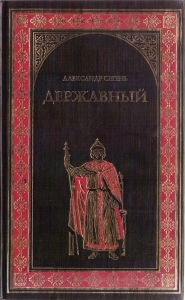
Комментарии к книге «Окаянная Русь», Евгений Евгеньевич Сухов
Всего 0 комментариев