1914 год
К матери. 12-го сентября 1914 г. Иркутск.
...Ты, конечно, страшно огорчаешься, что я так мало пишу. Каюсь очень, но писать страшно трудно. Наша служба усерьезилась. Вставать приходится в шесть. На обед вместо трех часов теперь полагается два. А езды с батареи домой и обратно шесть верст. Дорога ужасная: бесконечные дожди и глинистая почва. Домой приезжаю поздно, в семь вечера, усталость испытываю эпическую. В последние дни я уже в девять ложился спать. На днях был дежурным, должен был два раза в сутки объехать верхом посты и караулы всех батарей. Один объезд разрешается дневной, другой предписывается ночной. Расположены батареи на большом пространстве друг от друга, по кругу будет верст двенадцать. Кроме того, в ночь моего дежурства на берегу Ангары был убит солдат, а в городе тревожный набат оповещал о пожаре. Я качался в седле, разыскивая убитого и поверяя караулы с одиннадцати вечера до пяти утра, и это после того, что я уже днем ездил с четырех до восьми.
Переношу я все это с абсолютной легкостью. Верховая езда, даже и при этих условиях, доставляет мне большое удовольствие. Как хорошо, что ты возлюбила цирк, когда я должен был появиться на свет Божий, и как хорошо, что я в свое время служил в артиллерии. Эти два обстоятельства делают для меня настоящую жизнь не только терпимой, но в известном смысле даже и приятной.
Но была у меня и одна забавная неприятность: за «бестактный» ответ и «развращающую армию» улыбку я был посажен после смотра на сутки под арест. Из этого сообщения ты не заключай, что я особенно скверный[4]офицер, или что у меня плохие отношения с сослуживцами и начальством. Напротив, офицер я приличный, все больше вхожу в службу, отношусь ко всему, не в пример лагерному сбору, серьезно и внимательно и стараюсь вполне приготовить себя к топ тяжелой и ответственной роли, которая может в наши дни выпасть каждому из нас на долю. Отношения же с сослуживцами и непосредственным начальством у меня прекрасные. Что же касается упомянутого случая, то мою участь разделил со мною и мой батарейный командир, ибо... но ибо на ухо.
Странная и совсем непонятная вещь война. Мы готовимся к выступлению, а временами кажется, что организуется пикник. Вчера офицер, заведующий у нас в батарее хозяйством, ездил в город и закупил разных вещей для похода: чайник, сахарницу, ножи, вилки, кружки... Привез все — радуется, — хорошее все, новое, блестящее, практичное... Он радуется, и мы радуемся. Для чего все это — мы знаем, но зная — не понимаем, и силясь понять — понять не можем.
Иногда по вечерам мы с Андреем Викторовичем занимаемся артиллерийской премудростью: то вычисляем математические формулы, углы, базы и кривые, то упражняемся практически. Я изображаю орудие, а он зарядный ящик, и вот мы крутимся по комнате, исполняя всевозможные повороты, отъезды и подъезды. Он стриженный машинкой, я коротким бобриком, какой носил в школе, оба мы без поясов, в ночных туфлях... Наташа сидит и хохочет, говоря, что мы похожи на маленьких мальчиков, играющих в лошадки, — мы тоже хохочем, хотя и знаем великолепно, что все наши опыты и размышления направлены на то, как бы найти систему таких умений и приемов, при осуществлении которой застонут и закричат одни люди, называемые немцами, и не застонут и не закричат другие люди, которые называются русскими.
Бывают, конечно, минуты, когда ужасный смысл написанной мною фразы воистину понимается, но такие минуты очень редки.
Обыкновенно же последняя цель и сущность войны совершенно так же заграждается и оттесняется целым рядом предпоследних мыслей, действий, событий и мероприятий, как ими же и в мирной жизни заграждается и оттесняется все то, что есть Жизнь жизни, ее последнее и сущностное ядро.[5]
Ужасна война, как материальный факт — как ряд стонов, криков, скрежетов, как миллионы открытых кровоточащих ран, которые будут смотреть на небо с такою же непонятною естественностью, с какою звезды смотрят с неба на землю, — как химическое перерождение земли от всюду сгнивающих в ней человеческих и животных трупов. Поверишь ли, иногда я так ярко чувствую, как вся земля мыслит свою упорную кладбищенскую думу.
Но все же этот ужас материального плана еще не самый страшный. Страшнее той смерти, которую сеет война в материальном мире, та жизнь, которую она порождает в сознании почти всех без исключения людей. Грандиознейшие миры упорнейшей лжи возвышаются ныне в головах всех и каждого. Все самое злое, грешное и смрадное, запрещаемое элементарною совестью в отношении одного человека к другому, является ныне правдою и геройством в отношении одного народа к другому. Каждая сторона беспамятно предает проклятию и отрицанию все великое, что некогда было создано духом и гением враждующей с нею стороны.
В России неблагодарное забвение того, что сделала германская мысль в построении русской культуры. Бездарное и безвкусное переименование Петербурга Петра и Пушкина в Шишковско-националистический Петроград.
В Германии, стране философии и музыки, еще того хуже, еще того преступнее и позорнее. Немецкие журналисты и писатели протестуют против переводов на немецкий язык величайших произведений враждующих с Германией сторон. Немецкие ученые отказываются от почетных знаков, дарованных им научными институтами Франции и Англии. Немецкая армия безумно и бездарно расстреливает величайшее произведение искусства, собор в Реймсе, изменяя тем самым той благодарной «вечной памяти» потомства, которую мы обещаем нашим любимым покойникам, когда отпетое церковью тело опускаем в открытую землю.
Но это еще не все. Более, чем вся эта ложь, смущает и мучает меня татень правды,которая ныне, очевидно, лежит на всей этой лжи.
Правда же эта заключается в том. что вражда к врагу рождает громадную любовь к своему народу, к своей родине. Сейчас у нас, наверное, и в Германии тоже, действительно наблюдается такое преодоление косности,[6]своекорыстия и эгоизма, о котором в мирное время даже и подумать было невозможно.
Не ложь, а правда в том. что ныне многие радостно отдают часть своих удобств и средств в пользу раненых и семей запасных. Не ложь, а правда в том героизме, с которым ныне многие переносят раны, смерть и безвестную пропажу своих дорогих и близких. Не ложь, а правда, великая сердечная правда чувствуется ныне отчетливо во всем настроении России, трезвой, сознательной и бескорыстной; чувствуется в толпе, провожающей эшелоны, в вечерней молитве солдат: «Спаси, Господи, люди Твоя», в тех цветах, которые население несет отправляющимся на войну солдатам и офицерам, в тех белых лентах, которыми завязаны эти цветы, в надписях на них: «Спаси вас Господь».
Это письмо я пишу, т.е. продолжаю писать на гауптвахте. Поговорив о войне, перейду к миру. А мир был так прекрасен в понедельник девятого сентября. Но расскажу все по порядку. В понедельник, хотя оный день и был праздничным днем, были назначены занятия, и мы все трое встали в шесть утра и в семь сидели и пили кофе, в ожидании верховых лошадей. За окнами уходило ввысь и вдаль глубокое, синее, холодное осеннее утро. Сидели мы и ждали, ждали и пили, а лошадей все нет и нет. Тут Наташа выразила легкомысленное предположение о возможной отмене занятий. Недолго думая, мы послали денщика к телефону и велели ему позвонить в батарею. Через некоторое время он вернулся с солидным оправданием нашего легкомысленного предположения. Итак, перед нами расстилался свободный от занятий день. Мы решили ехать на Байкал. Но как? Поезда отменены, ибо дорога занята военными эшелонами. Хотели на извозчике — просит пятьдесят рублей и может подать только часам к двенадцати дня — поздно... Автомобиль не везет — грязно. Моторная лодка говорит, что ей ходу вверх по Ангаре часов восемь... Итак, дело почти гибло... Но нам страшно хотелось попасть на Байкал, а потому мы все же поехали на вокзал. Приехали, и все устроилось как нельзя лучше. Узнали, что через час на Байкал отходит пустой состав товарного поезда. Мы к начальнику станции, к коменданту... разрешили. Выбрали мы себе чистый вагон, попросили его вымести, поставили два пустых ящика, положили на них два овчинных кондукторских тулупа и[7]открыли с обеих сторон пролеты. Поезд тронулся. Погода была изумительно хорошая. Дорога до самого Байкала идет все время по горному берегу то сливающейся в одно русло, то дробящейся на отдельные рукава и усыпанной луговыми и лесными островами Ангары. Краски не поддаются никакому описанию: светло-зеленые лиственницы (их тут очень много) и темно-зеленые сосны; сильно желтеющие уже небольшие, горные, очень грациозные березы, изжелта-красные осины и еще какой-то здешний красно-малиновый кустарник. Воды Ангары, то темно-синие, то бледно-зеленые, настолько прозрачны, что на глубоком дне с движущегося поезда порою виден каждый маленький камешек. Ехали мы часа два с половиною и стали подъезжать к самому Байкалу. Уже издали потянуло какою-то особенною, морскою, бодрящею свежестью. Вода в Ангаре посинела и потемнела; прибрежные ангарские горы стали расступаться, и вдруг прямо на нас глянул громадный темно-синий Байкал со снеговою горною цепью на противоположном берегу.
Приехав на станцию Байкал, мы стали подыматься по лестнице на гору к прибрежному маяку. Поднялись мы на тысячу ступеней, перешли затем на ту гору, под которой Байкал переливается в Ангару, и долго смотрели во все стороны. Направо море (в одном направлении берега не видно) и снежные горы; налево — прекрасная речная долина, стесненная живописными лесистыми холмами. Над головой бесконечное синее небо, а под ногами у зеленого ската, на маленьком желто-сизом треугольнике земли какой-то игрушечный вокзал, с игрушечными вагонами и заводными людьми и собаками.
Спустившись вниз, мы сели на небольшой, но крепкий и сильный пароход и поехали наискось в селение Листвяничное. Причалив к берегу, пошли вдоль по Байкалу и расположились на скалистом выступе прямо над байкальскими водами и прямо против снежных гор. Байкал шумел своим вечерним приливом, как море. Краски на вершинах все время незаметно, но бесконечно менялись. Сначала горы были бледно-желтые и желто-оранжевые, затем они начали нежно краснеть, и над ними, как раскаленные мечи, вспыхнули в небе багровые полосы. Через несколько времени, тут и там, на горы стали ложиться синие и лиловые тени. Наконец, все умерло в лилово-черном сумраке. Сразу стало совсем холодно и жутко. В семь[8]часов вечера мы возвращались на ст. Байкал уже по совсем черным водам. Теплый день казался словно не бывшим. Руки в теплой перчатке из козьего пуха невольно прятались в карман, и ноги в шерстяных носках сами плясали по палубе быстрого пароходика. Тем же путем, но уже в неосвещенном вагоне четвертого класса, прицепленном к товарному поезду, возвращались мы в Иркутск. В усталой от многих впечатлений длинного дня голове, под стук колес, смугло проносились странные думы и образы. Грезилась та бесконечная Сибирь за вагонными окнами, в которую мы ехали из Москвы целых десять дней; вместе с гомоном поезда все еще слышался прибой «священного» Байкала. В углу две чиновничьи кокарды поносили Вильгельма за то, что он обещал немцам с честью вложить свой меч в ножны, и в памяти пылали солнечные над снежными вершинами мечи. Казалось, что Кант был глубоко не прав. Живи он не в Кенигсберге, а в Сибири, он наверное понял бы, что пространство вовсе не феноменально, а насквозь онтологично. На Байкале он, вероятно, написал бы не трансцендентальную эстетику, а метафизику пространства. Эта метафизика могла бы стать для немцев ключом к пониманию России. Безумно мечтать о победе над страной, в которой есть Сибирь и Байкал...
По приезде в Иркутск мы решили поужинать на вокзале. На другом конце длинного стола ужинали два, как нам показалось, отставных стареньких генерала. Лакей прислуживал им с вдохновенною подобострастностью, но они привередничали, ворчали и недовольно тыкали своими вилками по целой стае окружавших их закусочных тарелок. Старческие глазки слезились, старческие носики морщились, сухие старческие руки привычным жестом расправляли бакенбарды. Не могу тебе передать, как было грустно смотреть на них: чувствовалось, что этим людям не оставалось в жизни ничего, кроме смерти. Уходя домой, я спросил у лакея имена генералов, и с ужасом услышал имена вождей, предназначенных вести нас в бой, имена начальника дивизии и командира бригады, еще ни разу не виданных нами.
Ну, вот тебе и картина Божьего мира в праздничный день артиллерийского прапорщика.
Что сообщить тебе о моей судьбе, право не знаю. Она темна, моя судьба. Определенно готовимся в поход. Одно[9]время думали, что идем на днях. Теперь снова пока сидим, но все же, наверное, в ближайшие дни пойдем в Россию. Когда пойдем и зачем пойдем — тайна сия велика есть. Вот все, что могу написать. Пока кончаю...
К матери. 14 октября 1914 г. Радзивиллов.
Вот уже шестой час стоим мы у австрийской границы и не можем переправиться ввиду заваленности дороги военным грузом.
Следы войны здесь, как открытые раны. Сожженные постройки, опаленные кусты, разбитые бронзовые пушки австрийцев, поезда с ранеными, пленными, и на каждой станции страшные рассказы санитаров и врачей. Все эти впечатления я уже не воспринимаю, а умело топлю в своей душе, привязывая каждому к шее тяжелый груз моего упорного нежелания знать.
Человек — существо удивительное; еще так недавно, когда мы подъезжали к Лукову, ожидая с минуты на минуту, что вот нас остановят, высадят и двинут в бой, — ночами, когда эшелон подолгу простаивал в темном поле или против безнадежно-унылого фонаря какой-то неведомой, пустынной, проклятой платформы, — да и в Лукове, мне было, говоря откровенно, совсем не по себе. Особенно скверна была первая ночь, о которой тебе, вероятно, уже много рассказала вернувшаяся Наташа.
Мы расположились биваком между лазаретом для тяжело раненных, кладбищем, все время принимавшим в недра свои наскоро сколоченные гробы, и платформою, у которой беспрестанно выгружались санитарные поезда, прибывавшие из-под Ивангорода. Бедная Божья земля. Всю ночь она содрогалась от гула орудий. Всю ночь над ней стоял стон выгружаемых раненых. Всю ночь она смотрела в глаза мерцающим звездам темными впадинами впрок заготовленных могил.
Паршивый городишко кипел кипучею жизнью. Когда темною ночью я спешил с бивака в гостиницу к Наташе, то я ежеминутно наталкивался на белые с красными крестами повязки, всюду снующих верхами врачей, на ряды носилок с ранеными по правой стороне улицы, на[10]возвращающиеся пустые носилки по левой ее стороне. Господи, как тогда было жутко. А теперь — мне могут сказать, что мы завтра двинемся в бой, и эта мысль уже не произведет на меня почти никакого впечатления. Я чувствую, как со дня на день все больше и больше свыкаюсь с нею, как она все явственнее и безусловнее определяется новою основою моего духовного существа. Я знаю, пройдет еще немного времени, и еще столь недавно непереносимая мысль о бое окончательно срастется со всем составом моих основных чувств и дум. Как прирученный зверь, она и теперь уже постоянно увивается у моих ног, я прикармливаю ее с рук, а она облизывает мои пальцы...
Кроме своею трагического облика война явила мне здесь и свой отвратительный лик. Угнетающая забитость серых солдатских масс, что уныло поют в скотских вагонах. Бесконечное хамство некоторых «благородий», блистательная глупость блестящих генералов, врачи стратеги и сестры кокотессы...
Впрочем, все это исключения, общий дух безусловно чист, хорош и бодр. Пока кончаю, кажется, скоро тронемся.
К жене. 28 октября 1914. Ольшаницы (Галиция).
Все время делал все, что мог, чтобы дать о себе знать тебе и маме. Одну телеграмму тебе должен был послать из Львова или из-под Львова Андрей Викторович, который прикомандирован к штабу корпуса и расстался с нами. Вторую телеграмму ты должна была получить снова из Львова, куда нашей батареей был командирован поручик Н. Он уже привез мне квитанцию.
Пользуюсь тем, что это письмо не пойдет по почте, и пишу нечто вроде дневника.
Простившись с тобою в Лукове, я быстро проскакал на бивак и передал о твоем отъезде; всем стало грустно, привыкли за дорогу. А мне было так тяжело, что и сказать нельзя: сразу стало ясно, что война и позиция и все — все это пустяки, а важно только одно — то, что тебя здесь сейчас нет. В Лукове после тебя мы пробыли дня четыре.[11]
Паршивый в первую минуту, Луков полюбился, все стало знакомым, уютным. Вдруг приказ: через полтора часа выступление. Собрались — и обратно на станцию; начали грузиться с вечера и прогрузились целую ночь. Устали страшно. Вагончик дали дрянной, маленький-маленький, с короткими лавочками, но милый, такой, какой ходил из Боржома в Бак> рьяны, останавливаясь в бесконечно милом моему сердцу «Цеми», где на низком балконе, между двумя окнами, занавешенными зелеными шторками, уже с поезда виднелась ты, то белым, то желтым, то красным пятном.
Из Лукова, чрез Радзивиллов, поехали на Львов. В Галицию мы с Романом Георгиевичем въезжали победителями, стоя на передней площадке паровоза. Край совершенно русский, правильнее, польско-русский. Население встречало с искренним расположением и явным любопытством. Белые мазанки, пирамидальные тополя, соломенные крыши, православные церкви — одним словом типичная Малороссия, по всему своему облику и существу глубоко чуждая Германии и германскому духу Австрии. Все это, бесспорно, должно принадлежать России, не по праву войны, а по естеству и облику всего края.
Приехали во Львов. Прекрасный город. От многих слыхал, что он напоминает Киев. Из того, что я видел, он роднее всего Варшаве. Пробыли мы в нем только одну ночь. Расположен он на больших холмах; улицы кривые и путаные. Много роскошных зданий, есть и старина. Во Львове мы впервые вошли в общение с холерой, с которой теперь уже ни на час не расстаемся, но к которой окончательно привыкли. Черные бараки, известковые крапления, надписи «Epidemiespital», «Eintritt verboten», и кресты над дверьми домов, где австрийцы помещали своих холерных больных, нас уже совершенно не смущают. Вместе с солдатами мы твердо верим, что холера ушла с австрийцами и нас не возьмет. Очевидно, вера помогает. За все время умер лишь один солдат, несмотря на то, что мы каждую ночь проводим в холерных местечках. Я тебе уже писал, что во Львове мы в последний раз провели культурный вечер.
Ночевали в прекрасной гостинице, спали на мягких постелях, приняли теплые ванны, ели майонез из пулярды, грязными, походными сапогами попирали голубые ковры нарядного ресторана, где рядом с нами, ведя[12]полушепотом оживленный разговор, небрежно и роскошно ужинала небольшая компания прекрасно одетых мужчин. Вспомнился Фрейбург, вспомнился «Romischer Kaiser», где мы ужинали с четою Кленау. Вспомнились наши с ними разговоры о мистике, Достоевском, о четырех стадиях эротически музыкального у Киркегорда, и совсем непонятными становились наши дни. Один из ужинавших был случайно похож на меня, т.е. на мою фотографию. Та же длинноволосость, та же расплывчатость характерных черт большого и дряблого лица, та же проницательность и ироничность в маленьких глазах и около большого рта. Вынимая изо рта прекрасную сигару, он изредка взглядывал на нас, и на его лице определенно сказывалось чувство безусловного превосходства над нами. Я посмотрел на себя в зеркало и почувствовал, что он прав: на меня смотрел краснорожий микроцефал с определенным выражением большой физической усталости в глазах — и больше ничего. Конечно, война громадная вещь, громадная проблема, громадное переживание — но эта проблема до поры до времени мною куда-то складывается. Я же сейчас туп, глух, глуп и замкнут. Душа лежит в груди свернувшимся ежом: извне неуязвимая, изнутри снулая...
Из Львова мы пошли походом на Гродек, Садову-Выш-ню и Мостиску. Шли три дня и пришли под Перемышль. Тут мы узнали, что наше назначение блокировать Перемышль. На переходе Садова-Вышня, Гродек — мы впервые увидели следы войны: окопы, поломанные леса, дохлые лошади, ломаные винтовки и кое-где на кустарниках патронташи, фуражки и окровавленное белье.
В Мостисках мы были верстах в 14 от наших осадных орудий. Громыхали они денно и нощно, но громыхание это не производило никакого впечатления. Оно было уже вполне привычным с Лукова. Привычна была уже и мысль о позиции, привычна настолько, что отчетливо хотелось съездить на нее, на эту привычную таинственную незнакомку, именуемую позицией. Как-то после обеда я поехал кататься верхом, поехал по направлению выстрелов. Страшно хотелось доехать до наших батарей. Удержала лишь мысль о Москве и мое принципиальное решение не подвергать себя самовольно и ради одного любопытства излишней опасности.
Из Мостиски нас двинули дня через четыре на Чишки и дальше к Сану. Первый переход Мостиска—Родохонцы,[13]длившийся двенадцать часов, был крайне затруднителен. Шли ночью, шли по ужасной дороге и, конечно, сразу же сбились с пути. Вначале мы двигались по направлению к Перемышлю. Перемышль, очевидно, горел. Над ним пылало зловещее зарево. Пушки грохотали совершенно близко. Мы подходили все ближе и ближе. Стал уже совершенно ясно слышен не только пушечный, но и пулеметный и ружейный огонь. Спустя несколько минут мы уже шли между нашими и неприятельскими артиллерийскими позициями. Если бы в это время с этих позиций был открыт огонь, то снаряды пролетали бы над нашей головой как в одном, так и в другом направлении.
Вдоль той дороги, по которой мы двигались, были расположены небольшие пехотные окопы, оказалось, что это прикрытие нашей артиллерии. Что-то нас задержало, и мы остановились; я долго беседовал с солдатами. Каждый из них живет в небольшой яме. Яма сверху наполовину прикрыта досками, внутри каждой ямы сложена из трех-четырех кирпичей печь. Была ночь; в каждой яме, в каждой печи горел огонь, и странно — мною этот огонь определенно ощущался, как огонь родного очага, и эта яма, как дом и твердыня, как кров и уют. Мне, никогда еще не видавшему позиции, стали впервые понятны рассказы участников японской кампании о том, как солдаты и офицеры привыкают к своим устланным соломою ямам, как любят они их, спасающих от раны и смерти.
Из Родохонец мы пошли дальше, пошли по неокончательно убранным полям сражения. Я знал уже накануне, что мы пойдем по ним, ждал страшного впечатления, боялся его и заранее подготовлялся ко всему предстоящему.
И вот странно, вот чего я до сих пор не пойму: впечатление было, конечно, большое, но все же совершенно не столь большое, как я того ожидал. А картины были крайне тяжелые. Трупы лежали и слева и справа, лежали и наши и вражьи, лежали свежие и многодневные, цельные и изуродованные. Особенно тяжело было смотреть на волосы, проборы, ногти, руки... Кое-где из земли торчали недостаточно глубоко зарытые ноги. Тяжелые колеса моего орудия прошли как раз по таким торчащим из земли ногам. Один австриец был очевидно похоронен заживо, но похоронен не глубоко. Придя в сознание, он стал отрывать себя, успел высвободить голову и руки и так и[14]умер с торчащими из травы руками и головой. Кое-кого наши батарейцы хоронили, подобрали также четырех брошенных на поле сражения раненых. Ну скажи же мне, ради Бога, разве это можно видеть и не сойти с ума? Оказывается, что можно, и можно не только не сойти с ума, можно гораздо больше, можно в тот же день есть, пить, спать и даже ничего не видеть во сне.
Чем дальше мы шли, тем тяжелее становились условия похода. Австриец отступал так быстро, что нам приходилось осиливать громадные переходы и двигаться без куска хлеба. Мы часто выезжали в восемь утра, а ели и пили впервые лишь часов в десять вечера. Все это, оказывается, переносимо, и переносимо очень легко, без головной боли, без всякой усталости, даже просто без всякого труда, без затруднения.
Сегодня второй день, как мы стоим на месте. Что будет дальше — неизвестно. Мы причислены к 8-й армии Брусилова и участвовали, как оказалось, в обхождении Перемышля и части разбитой под Самбуром австро-венгерской армии. С другой стороны Перемышль обходила 3-я армия Радко-Дмитриева; между авангардами обеих армий осталось всего только двадцать верст.
Прости за эту сухую хронику, но если бы ты знала, в каких я пишу ужасных условиях. За тем же столом, где я пишу, рассчитывается с фейерверкерами и артельщиками Иван Дмитриевич. Павел Алексеевич тут же пишет денежный журнал. Кроме того, в комнате кто-то громко читает привезенную из Львова газету. Роман Георгиевич упрашивает кого-то играть в винт. Наш капитан желает добиться от какого-то зашедшего офицера уверения в том, что предстоит внеочередное производство. Он всегда только и мечтает о крестах и чинах. Кроме всего этого, в комнате бесцельно толпятся все наши вестовые. Меня ежеминутно отрывают от письма, совершенно не дают сосредоточиться, разбивают всякое настроение. Да и устал я, уже двенадцать часов ночи.
На прощанье вот что: если долго не будешь получать от меня писем, то не отчаивайся. При том быстром движении вперед, которое мы сейчас совершаем, отсылать письма нет никакой возможности. Все штабы и полевые конторы не успевают расположиться, как им уже приходится сниматься с якоря и уходить вслед за нашими наступающими армиями...[15]
P.S. Где ты была? Видала ли нашу литературную и философскую Москву? Что говорят о войне, что пишут?
О, Господи, как легко писать о войне, не проведя колеса своего орудия по торчащим из земли ногам. Тут и смысл, и история, и свобода, и новая культура...
К матери. 3 ноября 1914. Лиски (Галиция).
Живу все по-старому: уже третья неделя поход, стоянка, снова поход. Иной раз стоянка прекрасная — в санатории, в здании вокзала, иной раз как сейчас —паршивая и грязная. Нас пятеро в душной комнате курной избы, кишащей совершенно невероятным количеством клопов, блох и даже вшей. И все-таки хорошо. Хорошо тем, что есть стены и стол, печь и деревянный пол. После обеда, усталый и озябший за утро, я лежал на своей постели, полуспал и полугрезил. За окном тихо кружил мокрый снег. Темнело. Иван Дмитриевич Чаляпин, офицер, заведующий хозяйством, считал деньги, щелкал счетами, скрипел пером. От его свечи розовел потолок. На стене двигалась тень его склоненной головы. Тебе это покажется странным, но верь, что здесь сейчас свеча, тень, чернила, перо, стол воспринимаются так же, как в мирной обстановке цветы, стихи и музыка, как вестники нездешнего мира. Каждая вещь в моем теперешнем сознании как бы превышает себя самое; каждая вещь есть здесь прежде всего обратная дорога души в душою покинутый мир. Ныне мне коричневые ворота твоей московской квартиры гораздо дороже триумфальной арки Константина: независимая в своем бытии от моего желания, арка сейчас, конечно, так же существует, как существовала и пять лет тому назад, когда я ее видел, а в ворота твоего дома явот сию минутутак страстно хочу войти, что уже начинаю верить, их не только нет, но и никогда не было.
Говорят, что война родит героев, жаждущих славы ратного подвига, смерти врага и смертной опасности. Вероятно, это так. хотя определенно сказать не могу: на войне я еще не был и пока видел только георгиевских кавалеров, а не героев. Но кого война родит в бесконечном[16]количестве, что мне уже и сейчас видно, это призванных и не призванных поэтов обыденщины, певцов серо-мещанской, буржуазной жизни.
В этой скверной сентиментальности есть своя глубина. Дело в том, что в мирной обстановке каждая вещь есть в известном смысле вещь мертвая, могила тем потребностям, которые ее породили, тем духовным напряжениям, которые ее создали. Видя лампу, мы не чувствуем мрака, лучины и чада, которые ею отменены; и стоя у камина, мы не вспоминаем, не переживаем того холода, ветра и осенней ночи, которые в нем преодолены. В мирное время мы ощущаем вещи с пошлостью аналитических суждений, лампа есть лампа, камин есть камин. А тут на войне лампа есть лампа, а кроме того, она есть и мрак, и лучина, и чад. Война прекрасная школа для практического изучения диалектики Гегеля.
Я уверен, что, когда я вернусь, я буду часами благодарно смотреть на чайный сервиз, на дрова в камине, на мягкое кресло, на полку с книгами. И все это будет вовсе не комфортом, а знаком и образом какой-то новой душевности.
Мне трудно все это рассказать тебе в письме. Расскажу при свидании. А знаешь ты, какое счастье разговаривать, так просто сидеть за чаем и разговаривать с близкими, хорошими и понимающими тебя людьми. Буду ли я еще сидеть за твоим круглым столом, буду ли разговаривать? Если и буду, то когда? Пока нет на это никакой надежды, пока кругом совсем иная жизнь.
Вчера, например, я ездил искать овса и сена. Проехал в сторону неприятеля верст тридцать семь — сорок. Переваливал, ведя лошадь в поводу, через большую вершину (609). Слышал налево и направо выстрелы все еще длящегося боя, видел брошенные австрийские позиции, груды жестянок из-под консервов, цельные ящики снарядов, бесконечные лошадиные трупы. Местами в лощинах пахло трупами, а я все ехал со своими солдатами от усадьбы к усадьбе, забирая у населения нужное им сено и платя им за это посправедливойцене совершенно ненужными им деньгами.
Возвращался я поздно ночью. На полдороге от нашей стоянки нас нагнал батарейный кучер Адрианов, который возил на фронт случайно забредшего к нам офицера соседней дивизии. Усталая тройка плелась шагом.[17]Изредка позвякивали бубенцы. Распусти вожжи, сибиряк Адрианов несмолкаемо пел свои таежные песни. И было так странно видеть привычную русскую тройку среди романтического ландшафта Галиции, живо напоминавшего мне гейдельбергские горы и тихую долину Неккара.
Я ехал и думал, думал и вспоминал о моих студенческих годах: философия, с ее новыми для меня откровениями, прекрасное лето, с теплыми, удушливо ароматными вечерами, одиночество с его духовною сосредоточенностью, острая тоска по России и по родному дому, восторг предстоящей мне дали жизни, знанья и творчества, бесконечное звездное небо в единственном окне моей маленькой комнаты, — все это вдруг нахлынуло на меня и завладело мною... Передо мной, как живой, встал милый и заботливый Георг, который, бывало, каждый вечер стучался в мою дверь и входил ко мне в комнату в своем вечном драповом пальто с неизменною сигарою в руке.
А теперь этот Георг, вероятно, стоит где-нибудь на взводе или лежит в пехотной цепи и хочет сделать так, чтобы были убиты те, которые именуются русскими. А ведь Россия спасла его, Достоевский спас его от самоубийства.
Неужели и он теперь враг нам? Неужели и он переживает войну не как насилие над собою, но активно участвует в ней, душою и мыслью разделяя все безумные заблуждения и темные настроения современной Германии?..
Как мне было грустно и страшно! А Адрианов все тянул да тянул свои унылые песни...
К жене. 8-го ноября 1914. Карликово (Галиция).
...Пишу тебе из горной деревушки... Когда мы тронулись из Лисок, там было сравнительно еще тепло. Мы собирали рыжики и жарили их в сметане от собственной коровы, которая следует за нами постоянно.
Но постепенно поднимаясь, мы быстро попали в настоящие снега. Ночь с пятого на шестое была в физическом, а отчасти даже и в нравственном отношении совершенно «кошмарная» ночь, как ее озаглавил в своем дневнике наш изнеженный Вячеслав Чеславович.[18]
Выступили мы рано утром, в шесть часов, и шли ровно двадцать четыре часа. Шли, не съев куска хлеба, не выпив кружки чая. Шли, не поив лошадей и раздав им только по охапке сена. Уже к вечеру пятого числа люди и лошади окончательно выбились из сил и решительно отказывались идти.
К ночи поднялся страшный ветер. Пошел снег. В глаза попадали острые мерзлые иглы. Дорога поднималась все круче и круче. Снег наваливался все глубже и глубже. Каждую запряжку приходилось втаскивать вверх на десяти лошадях, сгоняя измерзших людей к колесам. При всем этом — всюду громадное движение, страшное скопление маневрирующих частей, обозов, автомобилей. Непроходимое упрямство начальников каждой части и упорное желание каждого, во что бы то ни стало, вне очереди, как можно скорее двигаться вперед, — в результате чего шум, гам, брань, беспорядок и длительное стояние каждой запряжки на месте.
К нашему общему горю эта мучительная ночь закончилась отвратительным ночлегом. Расположились мы в избе (слава Богу, одной из двух недурных на всей деревне). Одно окно, лавки по стенам, громадная печь, непонятная роскошь: часы с башенным боем, и всюду не иконы, а довольно безвкусные религиозные картины. В этой небольшой комнате нас четверо офицеров, две молодые женщины (муж одной на войне, другой в Америке), старый, престарый, одеревенелый от старости «дид>>, шесть шелудивых ребят и три кошки. Время от времени для питания заходят куры, оставляя свои ароматические следы. Ночью устанавливается такая вонь, что решительно нечем дышать. А с печи «дида» доносятся какие-то совершенно не анализируемые звуки...
Сегодня я встал рано, в шесть часов, я уже умылся и сел писать, пользуясь тем, что все спят и стол свободен. Щелеобразное окно занавешено шинелью. Пишу при маленькой лампочке. В ноги дует отчаянно, а в спину так и пышет только что затопленная печь. Дети проснулись веселые. На босу ногу, в одних рубашонках сбегали на мороз и теперь сели на подплиток у самого огня, греются и гулюкают. Старый дид стоит, как оперный тенор, на одном колене (если встанет на оба — ему больше не подняться), молится громким шепотом и скребет себя отчаянно. Физически он вообще уже больше не человек,[19]а предмет уничтожения для насекомых и грязи. Он мало что понимает, почти ничего не слышит и не видит, мало говорит, мало ест и почти не спит. При этом он очень красив или, правильнее, живописен: совершенно желтое лицо, высокий, открытый лоб, длинные черные волосы, очень злые брови и острые, колкие глаза. Одет снизу в суровое полотно, опоясан очень широким кожаным поясом. Сверху короткий овчинный тулуп и шапка северного морского типа...
Когда уйдем отсюда — не знаю. Хотелось бы поскорее в несколько более чистую обстановку. Боюсь, что не скоро-то ее увидишь...
К жене. 20 ноября 1914. Мезо Лабордж (Галиция).
...О себе сейчас ничего не напишешь. Все по-старому. Горы, снега, тяжелые переходы. Раз были двадцать шесть часов в седле, без куска хлеба, без кружки чая. Но все это совершенно легко переносится. Вообще во мне легкость необычайная. Спать могу сутки и могу совершенно не спать. Есть почти перестал, ибо едят все время бифштексы, а есть мясо больше не могу. Стал вегетарианцем. Почему — сказать трудно. Но, вероятно, оттого, что все время мы сами режем коров и всюду валяются кишки, желудки и глаза. Всюду на снегу лужи крови, и часто бедные скотины валяются с перерезанным горлом на земле и дрыгают задними ногами.
Недавно мы вошли в город, только что покинутый отброшенными неприятельскими войсками. Ужасное впечатление. Весь город буквально перевернут вверх дном. Улицы и вокзал завалены, загромождены всяким домашним скарбом. Очевидно, жители пытались кое-что вывезти и не успели. На привокзальных путях стояло пять поездов. Внутри вагонов и на путях: кровати, диваны, матрацы, альбомы, портреты, женские платья, муфты, шляпы, книги, все больше еврейские, еврейские налобники для молитв, кофе, подсвечники, детские качки, чепчики, котлетные машинки, письма и много, много, неисчислимо много других вещей. Все перерыто, перевернуто,[20]разгромлено, разбито. Всюду, как шакалы над трупами, бродят оставшиеся нищие жители, солдаты, казаки и мы.
Живем мы великолепно вот уже целых два дня. Сидим на мягких диванах. Пьем красное вино из граненых графинов. Служим обедни под фисгармонию. Поем цыганские романсы под фортепиано. Лежа на мягких постелях, звоним вестовым в электрические звонки. Топчем болотными сапогами дорогие ковры и смотрим свои «анфасы» и «профиля» в тройное зеркало хорошего дамского туалета.
А напротив стоит, распахнув свои двери, католическая церковь. Вся она также перевернута. На полу валяется латинская библия. Шелковые облачения и кружевные оборочки ксендзов разбросаны тут и там. У входа в церковь лежат два мертвых австрийских солдата. Лежат лицами к небу. Один молодой, красивый, с открытыми замерзшими глазами. Другой сравнительно старый, очень уродливый, с выбитыми глазами и пальцами, глубоко врытыми в землю. Карманы, как у всех покойников, конечно, вывернуты: все жаждут злата... Около мертвецов и вдоль церковной стены виднеются отвратительные следы человеческого пребывания...
Над всем городом стоит вой оставшихся жителей. Происходит необходимая реквизиция керосина, сена, овса, скота. У уличного фонаря дерутся из-за керосина две руссинских женщины. Их, восстановляя порядок, разгоняют казаки. У каждого под седлом бархатная скатерть или вместо седла шитая шелками диванная подушка. У многих в поводу по второй, по третьей лошади. Лихая публика. Какие они вояки, щадят или не щадят они себя в бою, об этом мнения расходятся, я своего мнения пока еще не имею, но о том, что они профессиональные мародеры, и никого и ни за что не пощадят — об этом двух мнений быть не может. Впрочем, разница между казаками и солдатами заключается в этом отношении лишь в том, что казаки с чистою совестью тащат все: нужное и ненужное; а солдаты, испытывая все же некоторые угрызения совести, берут лишь нужные им вещи. Очень строго к этому я совершенно не могу относиться. Человек, который отдает свою жизнь, не может щадить благополучия галичанина и жизни его телки и курицы. Человек, испытывающий над собою величайшее насилие, не может не стать насильником. Кутузов это понимал, и[21]когда к нему приходили с жалобами на мародерство, он, бывало, говаривал «лес рубят, щепки летят». Но эта тема большая, о ней совсем в ином размере при свидании.
Сейчас пришел приказ выступать, мы идем на место второй батареи, а она втягивается в город. Говорят, что она уже была в деле...
К жене. 7-го декабря 1914 г. Луча, Галиция.
Две недели тому назад я отправил тебе последнюю телеграмму. Надеюсь, что ты ее получила. С тех пор наступили и беспросветно продолжались крайне тяжелые дни, и мне совершенно не представлялось никакой возможности послать в Москву какую-либо весть о себе.
Совершенно случайно вчера ночью завернул в нашу деревню на огонек нашей свечки прапорщик второй батареи, парижско-московский художник М. Ты его должна знать по выставкам и «Свободной эстетике». Он едет во Львов, оттуда, вероятно, в Москву. Счастливый. Быть может, и я мог бы «словчиться», как говорят у нас. но, во-первых, я, к сожалению, совершенно не чувствую себя усталым, а во-вторых, для меня почти непереносима мысль о новой разлуке, а потому и не светла мечта свидания на время.
Пользуясь тем, что письмо это будет передано тебе в руки, я постараюсь, посколько смогу, написать тебе все перипетии нашей жизни.
С Олыпаниц началось наше не столько наступление, сколько движение вслед за уходящим врагом. Свершалось это преследование в настроении крайне бодром и уверенном. Мыкаясь на переходах, мы все же знали, что в назначенное время нас встретят квартирьеры и нам будет уготован ночлег. Так мы прошли Лиски, Тарнову, — Горную, Кулашное, Карликово, и наконец, через Бескид-ский перевал вошли в Венгрию.
Венгрию было приказано не занимать, а потому, простояв в Мезо-Лабордже, откуда я писал тебе мое последнее письмо, два дня, мы двинулись обратно в Волю Михову. Много войска тронулось на Краков, нам же[22]выпала задача охранять проходы в Венгрию. Расположенный в Воле Миховой, наш дивизион мог быть двинут с одинаковой легкостью как на Ростокский. так и на Бескидский перевал.
Все это я пишу тебе не в целях выяснения хода войны, но как выяснение моего положения в пространстве. Итак, мы стояли в Воле Миховой, откуда и начались наши мытарства. Нас подняли в два часа ночи (а легли мы в двенадцать, ибо были в гостях у шестой батареи, которая праздновала свой батарейный праздник и угощала нас на славу) и приказали немедленно двигаться на Ростоки-Горные (маленькая деревушка на хребте Ростокского перевала ).
Мы вышли темною ночью, в четыре часа, и двинулись в горы. Кругом лежали снега, шел снег, и решительно ничего не было видно.
Наш капитан, несмотря на все доводы и уговоры Чаляпина и меня, повел батарею не по шоссе, а, перемудрив, избрал какие-то непроходимые для артиллерии тропы, продвижение по которым очевидно увлекало его каким-то сходством с Суворовскими переходами.
Не могу описать тебе всех трудностей пути. Скажу только, что шли мы беспрестанно с четырех ночи до одиннадцати вечера, проходя временами не более версты в три, четыре часа; шли, запрягая местами в орудие 10-12 лошадей, шли, таща орудия на лямках, строя мосты, прорывая глубокие колеи-рельсы для колес, дабы они, раскатываясь, не увлекали орудия в глубокие обрывы, которые открывались слева и справа.
Наш капитан, поправляя сделанную ошибку, все время впереди: занят разведкою дороги; Чаляпин, как старший офицер, ведет голову батареи, я, как младший, еду в хвосте и провожу все запасные ящики, запряженные всяким сбродом обозы, кухни, живых быков, которыми мы питаемся, словом, всю не идущую рухлядь. Задача самая неблагодарная.
Дошли и получили приказание сменить в Ростоках третью батарею, которая, порядком уже растрепанная, должна была отправиться чиниться.
Двадцать шестого в ночь мы сменялись. Третья батарея стояла не вся вместе: четыре орудия были расположены на закрытой позиции, а два, т.е. взвод, всего только в пятидесяти шагах от наших пехотных окопов, на позиции,[23]абсолютно пристреленной австрийцем и открытой для всех его наблюдений. Стоял он только на случай ночной атаки; его назначение заключалось в стрельбе на картечь.
Мне было приказано поставить на его место мой второй взвод. Днем сменяться было невозможно; «они» могли бы перестрелять нас, как куропаток, и мы сменялись ночью. Это была первая ночь большого настроения.
В восемь вечера к избушке, где мы квартировали, подошел взвод, и взводный Черненко, веселый, молодцеватый парень, доложил, что взвод готов.
Я вышел в совершенно темную ночь, негромко поздоровался с солдатами, подождал подхода сменявшегося взвода третьей батареи и, осторожно разъехавшись с ним на узкой дороге, повел свой взвод на позицию, на первую позицию, которую пришлось занимать нашей батарее.
Я ехал впереди; люди шли и ехали в полном, почти торжественном молчании. Дорога еле освещалась моим электрическим фонарем. Я ехал и чувствовал всем своим существом, как между мною и моими солдатами зарождается какая-то новая связь. «А если случится трудное и тяжелое, — ты не выдашь, не сдашь?» — казалось, спрашивали они меня. И я отвечал им: «Не выдам». И отвечая, я в темноте и спиною видел, и в абсолютном молчании слышал, как строго они воспринимают мой долг перед ними и повторяют: «Смотри же, — с тобою мы все, а без тебя — ничего». А о себе я знал такое же, знал, что с ними я все, а без них — ничего.
Пройдя с версту, подошли к отвесной горе, где надо было оставить передки, зарядные ящики и лошадей, — так как за ней внизу в долине ночевал уже «он», австриец. Ко мне подошел фейерверкер третьей батареи, который должен был показать места установки орудий, и, погасив мой электрический фонарь, мы вышли с ним на позицию.
Передо мной по откосу горы, обращенному к неприятелю, тянулась, извиваясь, как случайно брошенная веревка, линия наших окопов. Внутри окопов светились, видные мне сверху, печные огоньки. На трубах лежали мешки, чтобы неприятелю не было видно дыма. Над огнями и прибиваемым этими мешками к земле дымом лежала заметная, глубокая, явно присутствующая тишина. А внизу темнела деревня, в которой живет, сейчас спит, как и мы, а завтра будет стрелять по нас, как и мы по нем, «он» — неприятель.[24]
Выбрав наиболее удобное место подъема и привязав к орудиям канаты, я стал втягивать их на гору. Втянулись. Замаскировались, и всемером: я, два фейерверкера, два наводчика и еще два номера — вошли спать в окоп.
Окоп маленький, тесный, еле можно сидеть. Кое-как продремав до рассвета, я вышел на воздух.
Красота раскрылась необычайная. Передо мной остроконечные горы, кое-где в складках ущелий и на вершинах покрытые снегом. Горы эти сгорают в спектральном пламенении. Особенно ярки желтые, зеленые и красные тона. Ниже — долина, деревня, неприятельские окопы — все еще в тумане.
Позднее, когда туман поднялся, и стало совсем светло, я уселся на лафет моего орудия, опер бинокль о щит и стал рассматривать до сих пор еще ни разу не виданного мною противника. Он жил полною хозяйственною жизнью: устраивался на зиму, и устраивался по мере сил уютно и с комфортом. Я отчетливо видел в бинокль, как серо-голубые австрийцы бродили по окопам и ходам сообщения, как они углубляли свои земляные коридоры, как золотились на утреннем солнце смолистые доски и лесины, которыми они выстилали и накрывали свои землянки. Предполагая, согласно ходившим в дивизии слухам, что нам придется стоять в Ростоках очень долго, а быть может, даже и зимовать, мы решили заняться тем же. Вместе с Черненко и еще несколькими расторопными ребятами мы облюбовали место для постройки трех землянок, одной для меня и — двух для солдат. Протелефонили в резерв фельдфебелю, он прислал досок, окно, железную печь, и в тылу позиции, внизу под откосом закипела работа...
Вдруг в одиннадцать утра сзади меня гулко разнеслись четыре мерных артиллерийских выстрела: одновременно с ними над австрийской деревней у моих ног показались четыре шрапнельных дымка и раздались четыре заглушенных звука разрывов.
Стреляли четыре орудия нашей главной позиции. Австрийцы сейчас же открыли ответный огонь, но так как они никак не могли знать расположения нашей батареи, то отвечали наобум, раскидывая свои красные дымки по самим Ростокам и вокруг них. по дороге между моим взводом и главной позицией и по одному, почему-то не понравившемуся им, лесному холму.[25]
При первых же выстрелах наших орудий мне и всем моим солдатам стало определенно весело; я помню, что я сознал эту свою веселость и удивился ей.
Бой разгорался; командир выпускал пятую сотню снарядов. Я мог бы тихонько сидеть у себя на взводе, по которому австрийцы не стреляли. Больше, я в сущности был обязан сидеть у себя на взводе, но я не выдержал, сбежал вниз и, схватив у передков свою лошадь, понесся по обстреливаемой дороге на нашу позицию, над которой только что разорвалось шестнадцать неприятельских шрапнелей.
И знаешь, как странно. Эта минута, когда я несся галопом к позиции и видел, как вправо и влево от меня вставали розовые дымки рвущихся шрапнелей, была одна из самых звонких и веселых минут моей жизни.
На следующий день был получен совершенно неожиданный для нас приказ отступать, отступать немедленно. Я лично должен был тотчас же снимать свой взвод, снимать днем на глазах у неприятеля. Когда я передал это солдатам, некоторые из них заметно смутились. Мое настроение оставалось прекрасным, я был абсолютно уверен, что все обойдется вполне благополучно. Объявив солдатам, что я рожден под счастливой звездой, и что ни с кем из нас ничего не случится, я приказал немедленно приступать к делу.
Первое орудие мы скатили мигом; со вторым несколько замешкались и австриец сразу же открыл по нас огонь, причем первая же шрапнель разорвалась как раз над моим окопом.
В момент этого выстрела я находился уже в безопасности у первого спущенного под гору орудия. Как только я увидел, что австриец стреляет, я совершенно рефлекторно выскочил из своего прикрытия и, схватив орудие за колесо, стал тянуть его вниз. Шрапнели все продолжали рваться вокруг нас. Основное настроение и этой минуты — безусловная и явная веселость.
Вот ты и пойми тут что-нибудь. До чего же противоречиво существо человека! Решительно можно сказать, что себя самого человеку никогда не понять. Бой — который я отрицал всем сердцем, всем разумением и всем существом своим, меня радует и веселит, веселит настолько, что, впадая в несколько преувеличенный и ложный тон, я не без основания мог бы воскликнуть, что бой для[26]мужа, все равно что бал для юноши. Хотя, конечно, надо заметить, что наш первый бои был вряд ли одним из тех боев, что составляют и сущность, и ужас войны. Сейчас получено известие, что завтра нас поставят на позицию. Предполагается общее наступление. Я не могу продолжать мое письмо в повествовательном стиле. Доканчиваю потому наскоро.
С двадцать девятого началось дикое, нелепое отступление. Наш отряд (один из полков нашей дивизии и наша пятая батарея) получил, как впоследствии оказалось, приказание отступать с некоторым запозданием; казачья дивизия, к которой мы были прикомандированы, ушла на рысях. Командующий ею генерал, начальник нашего отряда, оставил нас без всякой связи с кем бы то ни было, без карт, распоряжений и заданий. Командир полка и наш капитан повели нас на свой риск и страх. Отступление было крайне тяжелое: сзади австрийцы, спереди австрийцы, сбоку австрийцы. Но кроме австрийцев еще два злейших врага: полная нераспорядительность начальства и обозлившаяся на нас природа. Обледенелые горные тропы, а местами невылазная грязь окончательно вымотали лошадей, которые останавливались и решительно отказывались идти дальше. Во время переправы через Сан внезапно пошел лед: льдины сбили плохонький мост, по которому как раз переходило наше орудие; в одну минуту люди и лошади, орудие и зарядный ящик очутились в воде, и пошла невероятная неразбериха. Сан — река быстрая и глубокая. Спасти все стоило страшных усилий. Провозились долго, кое-как выбрались. Часть батареи пошла одним берегом, часть другим. Пехота также распалась побатальонно. Несколькими верстами ниже нам пришлось вторично переходить Сан по только что наведенному нашими понтонерами мосту. Орудия и несколько ящиков благополучно прошли, но два зарядных ящика, обоз и кухню пришлось бросить на том берегу... Новый мост внезапно дрогнул, оторвался от берегов и медленно и торжественно двинулся вниз по течению. Неожиданно разлученные, батарейцы и обозники перекликались и прощались друг с другом.
Больше не могу писать, и M-ти торопит и сами мы получили приказание выступать на позицию. Кончаю потому наскоро в двух словах. Наше отступление длилось уже пятый день. Когда мы окончательно выбились из сил,[27]мы внезапно натолкнулись на наши парки. Через несколько часов мы были уже в Луче, в лоне нашей бригады, которая считала нас погибшими в плену.
К жене. 26-го декабря 1914 г. Хыров. Галиция.
...Уже с двадцатого декабря мы живем совершенно мирною жизнью. Живем в маленькой халупке, на дне глубокого оврага, окруженные горами, занесенные снегами и отрезанные от остальных батарей нашей бригады почти полным галицийским бездорожьем.
На другой день, после отъезда М. в Москву, мы двинулись в горы. Четыре дня длились упорные и ныне уже громкие по своему имени бои под Венглувкой, Змигородом и Кросно.
Десятого декабря в три часа ночи дежурный телефонист разбудил нашего капитана и передал ему приказание командира дивизиона. В приказании сообщалось, что в шесть часов утра начнется наше наступление, и что от нашей батареи пойдут один или два взвода, которые займут, вероятно, открытую позицию. Вытягиваться из деревни было велено всей батарее. Как мы вылезли из нашей лощины на горную дорогу, я до сих пор понять не могу. В страшном, злом ветре нельзя было расслышать ни одного слова команды, темнота стояла кромешная. Кое-где только ручные фонари и ежеминутно задуваемые факелы вырывали из мрака особенно опасные места дороги, одну, другую лошадиную морду, дуло орудия и солдат, налипших на завязшем по ступицу в грязи колесе. Лошади по пузо утопали в грязи и останавливались, выбиваясь из сил. Скоро выяснилось, что всей батарее по такой дороге все равно не выехать, и было приказано запрячь каждое орудие десятью лошадьми и вывозить лишь один взвод. Чаляпин с двумя взводами пошел обратно, а мой взвод с командиром пошел в горы на позицию. Пройдя версты три, мы втянулись в могучий сосновый лес. Каменистая дорога становилась все мрачнее и зловещее. Впереди слышалась ружейная перестрелка и ужасная дробь пулеметов. По сторонам дороги теснился полковой резерв. На обочине стояли санитарные двуколки с[28]красными крестами. Навстречу гнали оборванных пленных и проносили раненых. Ружейная трескотня все продолжала усиливаться.
Мы подошли к командиру полка. Спокойный, седой, он сидел в канаве у дерева, держал телефонную трубку и отдавал распоряжения: одну из рот он бросал прямо «в лоб», зная, что люди этой роты почти все умрут и искалечатся через 25-30 минут, а другим ротам он приказывал идти в обход, что для большинства означало, что они вероятно умрут не сейчас, но позднее, в других боях.
Переговорив с нашим капитаном, командир полка приказал одному из окружавших его офицеров провести нас на намеченную позицию.
Офицер энергично ответил «слушаю» и уверенно повел нас вперед. Но отойдя шагов двадцать, сразу же заявил командиру батареи, что позиции он в сущности не знает, что о ней говорил только что раненный офицер, который — и сам о ней только слышал от убитого во вчерашней атаке батальонного.
Но, как бы то ни было, мы все-таки двигались куда-то вперед...
С каждым шагом мы приближались к нашим передовым окопам, расположенным на обращенном к австрийцам скате холма. Сначала прикрывающий гребень этого холма превысили наши головы, потом наши груди, -— дальше мы шли уже совершенно открыто. Австриец перестал стрелять. Стояла мертвая тишина, слегка шумел только лес. Туман начинал понемногу рассеиваться. Сосны, скалы, ущелья, ручей и небо все ярче и красочнее утверждались в мире, жизни и душе. Когда Божий мир встал перед глазами каждого во всей своей красоте, назначенная в помощь соседнему батальону рота пошла в лобовую атаку на Королевскую сопку. На этой сопке мы через час увидали около пятисот человеческих трупов, которые в самых разнообразных позах лежали и сидели на буро-зеленых склонах холма, ужасающе похожие на восковые куклы паноптикума.
Этим утром бой решился без участия нашего взвода. Прорванные где-то в другом месте фронта, австрийцы побросали своп окопы и стали повсюду отходить. Мой командир, в сопровождении меня и разведчиков, во исполнение полученною им приказания немедленно бросился вперед, чтобы встать на позицию и преследовать[29]отходящих артиллерийским огнем. Проскакав с полверсты, мы круто взобрались на высокий холм. Перед глазами расстилалась как будто где-то уже виданная типично батальная картина в несколько романтическом стиле. Впереди нас, направо, виднелись живописные развалины какого-то старинного замка. Слева серая группа причудливых, мшистых скал. У замка и у подножья скал, прячась и высматривая неприятеля, располагалась и окапывалась наша передовая пехота. Из леса, сзади, вытягивалась артиллерия и нарядно и победоносно выезжало высшее начальство. Между лесом, скалами и замком беспрестанно носились быстрые ординарцы. Внизу в долине по шоссейным дорогам расползались серо-лиловые змеи отступающих австрийских колонн. Над ними все время вспыхивали белые дымки наших разрывов. В ответ над покинутыми нами окопами, над лесною опушкою и так кое-где вставали розовые дымки бессильных и беспорядочных австрийских шрапнелей. По небу быстро неслись большие, плотные, кудрявые облака. Пробиваясь сквозь них, низкое солнце бросало на землю длинные косые лучи.
Так прошло утро, его сменил длинный день. Мы встали всею батареей на позицию и довольно вяло стреляли по окопавшимся австрийским арьергардам. К вечеру и арьергарды стали отходить, мы двинулись за ними и, пройдя версты три-четыре, расположились на ночь на лесной поляне в чистеньком, уютном доме, очевидно, только что бежавшего лесничего.
Устроившись в своей постели, я раскрыл вынутый мною из книжного шкапа лесничего галантный роман небезызвестной немецкой писательницы Дункер, в котором повествовалось о странной любви маркизы Помпадур к маркизу N...
На следующий день ранним утром мы пошли дальше.
Особую, стыдную, но непобедимую радость в душе каждого из нас вызывало сознание, что убит за этот тяжелый день не он и не тот, кто был рядом с ним, а целый ряд других, ему совсем или почти незнакомых людей.
Очень долго мы шли спокойно и безмятежно. К вечеру это блаженство было жестоко нарушено.
Уже давно все мы чувствовали, что творится что-то не совсем ладное. Мы идем в походной колонне, как будто[30]где-нибудь в России на маневрах, а слева и справа по полянам, перелескам и пригоркам наступает в боевом порядке, раскинув цепь и выслав дозоры, какая-то другая дивизия. Результат такого ненормального положения вещей не замедлил сказаться. Как только мы стали в узком дефиле спускать наши орудия под ropv, над нами одна за другой стали метко рваться австрийские шрапнели.
Обстрел в пути совсем не то, что обстрел во время боя на позиции. Во время боя боевые действия батареи составляют как бы громоотвод для чувства личной опасности. Когда же обстреливают в пути, и никакие мероприятия по существу дела невозможны, все внимание совершенно невольно сосредоточивается на чувстве личной опасности. А опасность достаточно почувствовать, чтобы сейчас же полезть ей навстречу. В силу этого непреложного закона духа человеческого, и у нас не обошлось без некоторого замешательства.
Когда начался обстрел, наш капитан был где-то впереди, а не при батарее. Заменявший его Чаляпин ссадил ездовых и велел в предупреждение паники, ведя лошадей под уздцы, двигаться шагом. Но в это время подскакал сам капитан и, не скомандовав «садись», пропел внезапно «ры...ысью». Кое-кто из ездовых успел вскочить в седла, кое-кто повис животом на них, а многие просто разбежались и попрятались. Лошади поскакали, понесли, и поднялся страшный беспорядок. Одно орудие завязло в колдобине, другое слетело с мостика в канаву, два зарядных ящика сцепились колесами... Кое-как справившись со всем этим хаосом, мы свернули, наконец, с шоссе и укрылись в глубокой складке местности, где и простояли до двенадцати часов ночи. В двенадцать нас двинули дальше. От четырех до шести утра мы стояли под Змигородом. В памяти нервной системы тяжелый обстрел вчерашнего вечера, в глазах и мускулах страшная усталость от двадцатичасового похода.
К шести утра пехота донесла, что город свободен от засад и можно втягиваться. Весь город пах пивом, ромом и коньяком. Австрийцы, очевидно, собирались весело встретить Рождество, не предвидя нашего вторжения под самый праздник. К семи утра почти вся бригада тесно стала на главной площади. Кое-как разместив людей и лошадей, мы пошли и себе приискать пристанище. Вошли в квартиру ксендза при соборе. В ней царила странная[31]смесь рождественских заготовлений и настроений с пустынностью обстреливаемых комнат, отчаянием и испугом. Ксендз угостил нас сладким и крепким ликером, мы поздравили его с праздником Рождества Христова и легли отдохнуть, кто на кушетке, а кто и просто на полу.
Ровно в девять на площадь прилетела первая шрапнель, затем вторая, третья, началось повторенье вчерашней картины. Нам было приказано немедленно запрягать и выезжать на позицию. Только что мы начали запрягать (что оказалось на этот раз вовсе не так легко исполнить, так как ром и коньяк возымели на наших номеров и ездовых весьма серьезное воздействие), как обстрел заметно усилился. Один снаряд целиком попал в ящик моего взвода. Слава Богу, он не воспламенил снарядов, а лишь разбил колесо, сильно ранил двух лошадей и легко одного солдата.
Мы обратили внимание на колокольню, послали ее обыскать и нашли совсем высоко, под самым куполом, австрийского солдата и старого-престарого еврея, которые сигнализировали австрийцам. Когда мимо меня вели еврея, который определенно знал, что его сейчас повесят, я невольно посмотрел в его старое изнуренное лицо, в его глаза и быстро отвернулся. Такого ужаса и отчаяния а еще никогда не видал в глазах человека.
День, проведенный под Змигородом, был пока что самым тяжелым днем всей нашей жизни. Наша пятая батарея, впрочем, не пострадала, зато «боевая» четвертая поплатилась очень тяжело. На наблюдательном пункте в слуховом окне чердака были одною «братскою» пулею ранены командир Рыбаков и его старший офицер, поручик Вериго. Вериго эвакуирован и, вероятно, оправится. А бедный Рыбаков, раненный в живот, не вынес пути и умер, не доехав до Кросно. Говорят, он ужасно мучился, когда его везли в безрессорной сибирской двуколке по колеям и колдобинам разбитого шоссе. Вся бригада о нем глубоко скорбит. Покойный был совсем особенным человеком. На словах — а говорил Рыбаков подчас очень много — это был несколько старомодный атеист, социалистически ориентированный космополит, скептик, циник и невероятный сквернослов. По образованию он был математик. На деле же это был капитан с детскими глазами, детскою душою и детским смехом, по всей своей крепкой манере жить и чувствовать, яркий представитель[32]простонародной России, и типичный немудрствующий солдат — большой любитель пострелять, до героизма преданный войне и долгу, не злобствующий на врага и не понимающий национальной вражды. С офицерами крайне деликатный и внутренне внимательный, к солдатам бесконечно заботливый, радеющий и любящий, он сразу же снискал себе всеобщую любовь — солдаты в нем души не чаяли.
В третьей батарее ранен штабс-капитан Лопатин. Эвакуировались еще два прапорщика. Один заболел, другой изнервничался. Так редеют ряды наших бригадных товарищей, а воюем мы еще только недель 6-8...
Уже здесь, в Хырове, служили мы по Рыбакове панихиду, служили сумрачным, слякотным утром. А вчера мы с Г...им проехали верхом к нему на могилу. Похоронен он в двадцати пяти верстах от нашей деревни в городе Кросно. Вместе с несколькими парковыми офицерами уставили мы его могилу кое-какими цветами, водрузили сосновый крест и постояли минут с десять по колено в жидкой глине у низенького, наскоро и лениво набросанного лазаретными санитарами холмика. Потом скучно, со страшною нудью в душе, пошли темными улицами грязного местечка в госпиталь к Вериго. Шел дождь.
У подъезда и вдоль тротуара стояли целые вереницы фургонов, набитых ранеными. По коридору госпиталя мы шли, с трудом переступая через носилки, на которых стонали и корчились свежепристреленные, мокрые, кровоточащие, зловонные люди.
В офицерской комнате лежало пять знакомых пехотных офицеров, раненных под Змигородом. Все нам страшно обрадовались. Посидев и побеседовав, мы вернулись в наш парк, а оттуда к себе домой, в свою вонючую лачугу.
Среди всех несчастий были мне и две радости. Во-первых, я перевелся вместе с милейшим Иваном Дмитриевичем Чаляпиным в четвертую батарею, которою он временно будет командовать, чем избавился от нашего капитана, а во-вторых, в сочельник, как раз к только что зажженной елке, подоспел с рождественскими подарками и посылками солдатам и нам что-то загостившийся у вас в Москве Павел Алексеевич.
Мы мгновенно взломали ящики, и наш рождественский стол, за полчаса перед тем унылый и пустынный, словно по мановению скатерти-самобранки, превратился в нечто[33]неописуемое, в какой-то гастрономический цветник. По сосновым полкам над постелями каждого из нас выросли батареи ароматических бутылок с одеколоном, вежеталем и духами и стопы книг и папиросных коробок. У Вильзара появились белые, обшитые кожей валенки, вроде присланных мне тобою, что своею исключительно высокой нарядностью решительно потрясли Семена, а у Ивана Дмитриевича новый бобриковый китель, в который он не замедлил сейчас же обрядиться. Когда все мы, наконец, сели за стол, то настроение оказалось безгранично веселым. Впоследствии оно еще повысилось: разведчики пели хором сибирские песни, а галичане-хыровцы пришли с медведем и козой.
Впрочем, всем было не только весело, у каждого на сердце жил свой минорный подголосок. Каждому вспоминалось многое свое, и каждый по-настоящему не понимал, где он и что с ним происходит...
К жене. 31-го декабря 1914 г. Теодорувка. Галиция. 8 ч. вечера.
... Мы выбрались на днях из нашего Хыровского оврага и стоим сейчас в большой деревне у шоссе, в трех верстах от городка Дуклы и по соседству с другими батареями бригады.
Изба наша просторная, чистая и нарядная, с огромною, выбеленною печью, с низким, но очень широким — почти во всю стену — щелеобразным окном, расчерченным ярко-синим переплетом рамы на маленькие квадратики. На печи и на полках яркая, пестрая посуда: кувшины, кружки, блюда. На наших хозяйках — мать с дочерью — яркая богатая одежда, а все вместе для твоего московского глаза — характерная декорация Художественного театра.
За окном все время слышен стук топора — это Василий, денщик Чаляпина, краснощекий, черноусый хохол, с глазами точно маслины и с припомаженным ежиком, да старый, бритый дид, в оперном парике, мастерят нам сани для поездки в шестую батарею, которая пригласила бригадного, дивизион, пятую и нас встретить с нею вместе Новый год.[34]
Василий и дид возятся с двумя фонарямикакраз у меня под окном, и их фигуры так резко ярки, а немые, раздосадованные, спорящие жесты (дид не хочет переделывать для нас своих саней) так марионеточно забавны в мерцающем обрамлении темной ночи.
Сейчас выбегал к ним на двор, увещевал дида и укрощал Василия. Погода самая новогодняя: легкий мороз, небольшой ветер и крупный, задумчивый снег. Во всех халупах огни; где-то слышна солдатская гармоника.
В комнате у нас суматоха: Чаляпин и Вильзар (из ученого физика и ассистента Йенского университета превратившийся здесь в подающего большие надежды заведующего хозяйством) спешно заканчивают месяц. На столе стоит денежный ящик; под пальцами Чаляпина, как угорелые, мечутся слева направо и справа налево желтые и черные круглячки походных счетов. Всюду разбросаны бумажные пачки и круглые стопки меди и серебра, тетради и книги, по которым, сняв пенсне с носа и воздев его на большой палец левой руки, шныряет носом милый, близорукий Вильзар. Но, несмотря на всю резвость чаляпинских рук и всю внимательность вильзаровых глаз, какая-то одна шалая копейка все еще продолжает упорствовать в своем обнаружении. Я сделал несколько попыток отвлечь их от их занятия, посоветовал было предать души свои более праздничному настроению и более новогодней тревоге, но тщетно: единоборство с затаившейся копейкой вошло у обоих в азарт, и они глухи, как токующие тетерева...
Ты знаешь, я люблю Новый год, но люблю этот праздник чем-то совсем другим в себе и совершенно иначе, чем праздники Рождества, Святой или Троицы. Елка — крестный ход вокруг кондровской церкви, а на следующий день в большом белом зале торжественный пасхальный стол, Христос Воскресе, батюшка, певчие и всеобщее христосование, — кудрявые в пестрых лентах березы, и звонкий девичий хор у балкона — все это помнится с самого раннего детства, все это вспомнится и по-новому озарится перед смертью.
Совсем в стороне от всего этого живет чувство Нового года. Я не помню, когда полюбил эту ночь: музыку, вино, мечту и маску, но я знаю, что с чувством Нового года в душе нельзя стареть и невозможно умирать. Им опозорится старость и обессмыслится смерть. Сейчас здесь я[35]понимаю это гораздо глубже и отчетливее, чем понимал раньше. И это постижение полно для меня глубокой скорби и резиньяции. Новый год единственный совсем не религиозный, а если хочешь, чисто философский праздник. В нем нет прославления какого-либо метафизического события. Новый год трансцендентален: в нем утверждается всего только касание формы времени с бесформенной вечностью.
Мне очень трудно сказать тебе в той суматохе, в которой я сейчас пишу, то скорбное и пронзительное, что я знаю в себе, как чувство Нового года. Впрочем, ты, я знаю, поймешь меня.
Ведь не простое же стекание времени празднуем мы под Новый год. Ведь есть в нашем новогоднем напряжении и ожидании какое-то предчувствие Чуда. А чудо — дар вечности. Но эта новогодняя философская вечность мистически безлика и метафизически пуста. Отсюда все тревожное, гадательное и колдовское в смятенном лике новогодней ночи. Отсюда ее романтизм. Романтизм — это боль вечности. Романтики — люди, раненные вечностью, но не спасенные в ней. В отношении к подлинно верующим все философы в сущности только романтики.
Вера живет светом преодоленной смерти и не знает мечты. Философия борется с жизнью за осуществление мечты.
Верующие свободны от соблазнов жизни. Как свободные от жизни, они легко приемлют жизнь, а в мечте видят только тлетворный соблазн.
Романтики, т.е. философы, в сущности, жадны до жизни. Эту неутолимую жажду они ощущают, как рабство и муку, и мстят жизни ее отрицанием. В мечте они чают найти пути к вечности, а находят только вечную боль. Здесь, живя в постоянном общении со смертью, неизбежно постигаешь недостаточность философского романтизма. Это постижение, впрочем, ни на секунду не колеблет моей рыцарской преданности моему личному пути. Эта преданность поставит меня, я знаю, в тяжелую минуту в уровень с нашим батарейным «старцем» Шестаковым. Я только прошу не ходить ко мне за кулисы. А у Шестакова кулис нет...
Ну... пока до свидания. Копейка найдена. Ящик заперт, запечатан и вынесен часовым в двуколку. Иван Дмитриевич облегченно потирает ладони и кричит:[36]«Василий! бриться». На койке Вильзара уже лежат новые рейтузы. Мне тоже пора «наводить лоск». За окном слышны бубенцы: Адрианов прилаживает к саням своих лихих сибирских пристяжных. Наш батарейный повар Гилев, денщик Вильзара. укладывает в корзинку с сеном три бутылки шампанского, а Павел Алексеевич что-то уж очень задумчиво натягивает сапог; как маститый присяжный поверенный, он, наверное, готовит патриотическую речь.
1915 год
1-го января 1915 г. 5 ч. утра.
С Новым годом!.. Мы только что ввалились домой. Поверишь ли, мы заблудились в нашей насиженной Теодорувке. При съезде с шоссе крутили все вокруг одних и тех же халуп и еле нашли свою. Прямо наваждение какое-то.
Встретили мы Новый год очень весело. Напитков было хоть и не очень мало, но и не слишком много, стихия хаоса и бесформенности никого не коснулась. Павел Алексеевич произнес, как я и думал, речь патриотическую, папаша Грацианов (жаль, что ты не познакомилась с ним в Иркутске, он такой милый) — юмористическую, молодой и блистательный поручик Г-ский, представленный к Георгию, — лирическую, а я под влиянием моего вчерашнего письма к тебе — пожалуй что философическую.
Ты помнишь тот Новый год, что мы встречали с тобою вдвоем; осуществляя эту высшую форму, мы говорили о возможной другой.
Большой, высокий, белый зал, без хор, без колонн и без прилегающих комнат; с двух сторон большие, незанавешенные окна: повсюду цветы; за окнами снежная метель; в зале невидимая музыка: маски; никто никого не знает.
Сегодня во время ужина мне вспомнились наши с тобою беседы, и стало думаться: думалось в том же направлении, в котором писал тебе вчера вечером. Религия и церковь — откровение о лике. Маска — борьба против лика, лица. Почему для церкви маскарад —[37]бесовское наваждение. Совсем не так для безликой мистики и ее современного двойника — трансцендентальной философии. Маскарад, если хочешь, это легкомысленный, светски-романтический аспект и мистики, и трансцендентализма. Тяготение к новогоднему маскараду рождается из чувства обремененности за протекшую жизнь своим ликом, образом. А всякий лик для мистика романтика обременителен потому, что мистически романтизм живет тоскою по безликой вечности. В канун Нового года, когда мы почему-то напряженно ожидаем, что вдруг волна времени разобьется о вечность, мы, быть может, острее чем когда-либо ощущаем свой лик, как измену безликой вечности.
Ты понимаешь — мой лик это моя эпоха, мои тридцать лет, моя любовь, моя судьба, т.е., весь я, я, как форма вечности. Вечность во мне хочет освободиться от формы моего я. Но я маловерен. Тоскуя по вечности, я одновременно люблю себя, боюсь уничтожиться в ней, и в этой любви и боязни подменяю вечность дурной бесконечностью: хочу не смерти в безликом, а жизни в другом облике. Хочу другого себя, другой любви, другой судьбы.
Самая сердцевина всех этих явлений, конечно, в желании другой любви. Всякая, самая идеальная осуществленная любовь мистически виновата перед своим кануном в том, что осуществила себя через ограничение ликом и образом безобразной и безликой мистически-эротической стихии, а эмпирически в том, что вошла в жизнь по ступеням убитых ею иных возможностей. Эти возможности неизбежно должны воскресать и восставать на любовь соблазном множественности и мечты. Уступать этому соблазну в плане своей подлинной, настоящей жизни не мудро, ибо нет более призрачной связи с вечностью, чем связь через мечту и случайную множественность.
Я это всегда чувствовал, теперь я это окончательно понял. Но все же в душе каждого человека неизбежен и иной план, тот план мечты, в котором как бы по праву скитаются призраки. В этом втором, ирреальном плане, я только и утверждаю мой новогодний маскарад, где в условной атмосфере эстетического иллюзионизма моя певучая и острая тоска по вечности так странно преломляется в пленительных соблазнах многоликости.
О маске, мечте и соблазне и была сегодня моя новогодняя речь. Когда я ее говорил, мою душу заметала[38]метель, в снежном тумане проносилась тройка, сквозь прорезы маски на меня смотрели чьи-то давно мне знакомые, где-то за пределами жизни виданные мною глаза. Звон глухих бубенцов сливался со звоном бокалов, а над всем этим миром лилась странная, сладостная, тревожная песнь. Было бесконечно грустно и бесконечно весело, ошеломляло и удивляло то, что удивительна вовсе не война, а эта вечная мелодия Нового года, и в душе восходила радость, что мир крови и лжи отступил перед миром великой и безбрежной лирической стихии.
От моей речи кое-кому из молодых стало грустнее, а полковник N., в смуглом и волосатом облике которого проступило что-то чрезмерно восточное, внезапно скомандовал тост за русских женщин и за женщин вообще.
Я знаю, ты спасена в лике и тебе по существу чужд мой романтизм. Но все же я так остро опознал и тем обезвредил в себе враждебную тебе стихию, что, уверен, ты не откажешься поднять вместе со мною бокал за Новый год.
К матери. 21-го января 1915 г. Яслиска. Галиция.
...Сегодня ясный, солнечный день. Под окном слепительно белый, в золотых поблескиваниях снежный холм, по которому снизу вверх круто всходят к синему небу небольшие хрупкие деревца. Переплетный узор их голых веток был вчера вечером так задумчиво красив в темно-синем окне моей сумеречной комнаты.
В Яслиску, где мы стоим со вчерашнего дня, мы пришли с позиций у Воли Вышней, где участвовали в шестидневных упорных боях, закончившихся для нас блестящею победою. Австрийцы потеряли три тысячи пленными, шесть орудий, восемь пулеметов, обоз и сто лошадей. Все боевые дни я вместе с Иваном Дмитриевичем проводил на наблюдательном пункте.
Все время, пока мы воевали в Воле Вышней, стояли прекрасные, морозные, лунные ночи. Бледно-зеленая луна скрывалась лишь к шести часам утра. Ее сменяли[39]мутные ветреные предрассветные часы. Этими часами мы и пробирались на наши наблюдательные пункты, пользуясь прикрытием холмов, перелесков и снежной метелицы. Ехали мы обыкновенно или верхом, или на детских салазках, в которые на постромках впрягали пару маленьких мохнатых чалдонов. С невероятным трудом пробирались мы глубочайшими снегами, где лишь охотничье-звериное чутье сибиряков-разведчиков разнюхивало занесенные тропы в наши окопы.
Наблюдательный пункт всегда открыт, в том смысле, что он может быть всегда открыт австрийцами. Выходить на него надо с опаскою. Лошадей мы потому оставляем за перелеском, а сами тихо и согбенно, что, несмотря на доводы разума, всегда несколько стыдно, крадемся звероподобные в свою нору. Этот момент оставления лошадей похож иногда по своему настроению на тот, в который на скачках при выходе на прямую, или к цирке, во время особенно опасного номера, обрывается музыка и в душе наступает совсем особенная, сосредоточенно-содержательная тишина-пустота.
Недавно нас с Иваном Дмитриевичем прескверно обстреляли разрывными ружейными пулями. Ты не можешь себе представить, какая громадная разница в переживании шрапнели и пули. Шрапнель — вещь вполне рыцарская. Устремляясь на тебя, она уже издали оповещает свистом о своем приближении, давая тем самым в твое распоряжение по крайней мере секунду, чтобы подготовиться и достойно встретить ее; да и ранит она тоже с благородной небрежностью, всего только одной или несколькими из своих двухсот пуль. В ней столько же фейерверочной праздности, столько смертоносной действительности. Совсем не то ружейная пуля, вся энергия которой направлена на зло поранений и убийства. Она не слышна издали, когда она слышна, она уже не опасна: ее свист, ее разрыв — всегда жалоба на зря, без зла загубленную силу. Все это я пишу, конечно, так, приблизительно, но вот что я определенно чувствую: не дай Бог попасть под настоящий ружейный или пулеметный огонь.
Тебе, вероятно, странно, что три дня тому назад по мне стреляли и завтра будут, быть может, снова стрелять, а я пишу тебе не без уюта и даже не без веселости. Но, во-первых, мною, пока что все время владело чувство моего личного благополучия, а во-вторых, право же, все,[40]что мы здесь переживаем, происходит гораздо проще, чем это кажется со стороны. Ужасное слово «бой» означает, слава Богу, для нас, артиллеристов, в большинстве случаев процесс совершенно спокойный, я бы сказал даже идиллический.
Приехав на наблюдательный пункт, мы прежде всего, если это не сделано загодя, начинаем рыть окоп. Сноровка уже есть, земля послушно разверзается, и неглубокая ямка сравнительно быстро готова. Несколько ударов топора, и окоп наполовину покрывается крышей, в отверстие которой просовывается труба. Свежевырытая земля наскоро забрасывается снегом, все сооружение маскируется ельником и внешне пункт готов. Затем во внутрь стелят привезенную солому и два полушубка. Рядом с нами ставится телефон, перед нами расстилается карта, и начинается обдумывание положения. Изредка слышны выстрелы, временами трещат пулеметы. Кое-какие шалые пули залетают к нам. иногда над нами рвутся шрапнели, но на это никто не обращает внимания. Это все мелочи: наблюдательный пункт не открыт, стреляют не по нас, а если что и залетает случайно, так это не важно. Через несколько времени поступает по телефону приказание обстрелять такую-то высоту. Иван Дмитриевич вынимает портсигар и говорит: «ну, голубчик, прежде всего перекурим это дело табаком». Я отвечаю: «перекурим», и мы перекуриваем. Затем он спокойно вычисляет команды, передает их по телефону на батарею и прибавляет: «огонь». Когда на батарее у Вильзара все готово, мы принимаем с батареи: «выстрел идет», и я становлюсь к трубе, чтобы наблюдать разрывы. Я ясно вижу в трубу окопы неприятеля, высовывающиеся из них и снова прячущиеся головы австрияков, вижу, как наши снаряды попадают около окопов, сообщаю Ивану Дмитриевичу «левее, правее», и мы добиваемся с ним того, что гранаты и шрапнели начинают ложиться прямо в окопы, т.е. очевидно поражать.
Смысл слов об очевидном поражении Ивану Дмитриевичу совершенно не ясен, и он радуется исключительно успеху своего артиллерийского дела. Я сознательно экспериментирую над собою и стараюсь представить себе этот смысл. Стараюсь точно, конкретно увидеть весь ужас очевидного попадания. Стараюсь вжиться во внутреннюю драму каждой происходящей в окопе смерти, ближайшею[41]причиною которой послужило, быть может, мое «левее» или «правее» — но из этого решительно ничего не выходит. Минутами мой глухой минорный подголосок, который, несмотря на то, в общем, бодрое настроение, в котором мне дано переживать войну, все же живет в моей душе, как будто бы усиливается. Однако следующий же выстрел противника по нашим окопам уже заглушает это усиление, и я с полною нравственной безответственностью, определенно наслаждаясь чаем из талого снега, что в дымном котелке сварили на костре разведчики, и, медленно пожевывая залежавшийся в кармане полушубка пахнущий овчиною сухарь, слежу в трубу наши очевидные попадания и, решительно не понимая того, что творю, повторяю все с большим рвением: «верно, прекрасно, так, хорошо».
От желания лучше видеть и общего возбуждения я вылезаю из окопа, становлюсь с биноклем открыто и заставляю Ивана Дмитриевича повторять еще раз последнюю блестящую очередь.
Часов в пять вечера австрийские окопы уже не видны в темноте, и мы получаем приказание сниматься с позиции. Мы едем вниз, едем могучим еловым и грабовым лесом. Стволы деревьев, тяжелые еловые лапы, сплетенные грабовые ветви и сучья, кое-где бурями поваленные старцы, глыбы, скалы, камни и овраги — все это, глубоко занесенное багровеющим на закате снегом и архитектурно объединенное им, представляет собою сплошной лабиринт, сказочную постройку каких-то неведомых титанов. Мне радостно ехать домой, и я очами совершенно невинного существа смотрю на изумительную красоту Божьего мира.
Выезжаем на шоссе. С позиции возвращается батарея. Она счастлива тем, что нынче, слава Богу, довелось пострелять, и я решительно бессилен не сочувствовать этой понятной радости: в душе подымается даже нечто вроде прославления Бога за то, что помог он нам поддержать своими снарядами свою пехоту. Конечно, мне ясно, что такая же «своя» пехота расстреливается нами во вражьем стане, но ее мы не знаем конкретно: австрийцы в окопах для нас не люди, которых мы завтра можем увидеть в лицо, а некий безликий «он». Мы их не видим, потому не знаем; не знаем — не любим. А когда видим и знаем (раненых, пленных) — то любим.[42]
Самое поражающее в войне то. что решительно никто никого не ненавидит. (Я говорю, понятно, о постоянном настроении, а не о моментах остервенения в пехотных атаках и штыковой борьбе). Убивают друг друга или в неведении того, что творят, или так, по чувству спортивного соревнования. Ненависть же к врагу реально чувствуют лишь в тылу: корреспонденты газет, для которых она хлеб насущный, мечтательные гимназистки и институтки, добровольцы, не побывавшие на фронте, ренегаты из русских немцев, бойкотирующие немецкие фирмы, и все те, которые в войне и немцах нашли причину и выход своим беспричинным и безвыходным лично-корыстным страданиям и немощам.
Все же действительно ведущие войну, не исключая, конечно, и немцев, глубоко объединены чем-то более важным, чем вражда. Сущность этого объединения заключается, мне думается, в общности судьбы каждого из нас, какою-то таинственною волею поставленного перед ликом смерти и принужденного ею делать наиболее противное каждому человеку дело, а именно убивать людей. Вот этот тождественный в твоей судьбе и судьбе твоего врага момент и есть то самое в войне, в чем мировая любовь и единение людское возносятся и утверждаются над враждою и рознью.
Это совсем не схоластика. Это глубоко реальное чувство, которое каждый раз оживает во мне, когда я вижу, как наш солдат беседует с проходящим пленным. Я вижу, как они глубоко и быстро понимают друг друга, и вижу, что это понимание основано на том, что. стремясь одновременно «снять» друг друга с передовых постов, они переживали каждый в своей одинокой душе одно и то же страшное и тайное.
Покойной ночи. Я иду спать. Как хорошо, что завтра не надо вставать в пять утра и ехать на наблюдательный пункт. Наше пребывание в отделе кончено. На днях мы идем в резерв на соединение с нашей бригадой. Грех сказать, чтобы в Воле Вышней нам было очень тяжело. Тяжело было пехоте, которая каждую ночь мерзла на передовых постах, каждую ночь ходила, святая, в разведку, ходила по глубочайшему снегу в двадцатиградусный мороз, ходила во весь рост в атаку навстречу пулеметам и ружьям. А мы в эти ночи, засыпая, только прислушивались к пулеметной трескотне.[43]
Но все относительно, и я не могу не чувствовать счастья, что эту ночь буду засыпать, ни к чему не прислушиваясь, и что за стеной в ожидании погребения не будут рядком лежать двадцать обугленных морозом трупов...
К жене. 25-го января 1915 г. Ладомер Вагаза. Венгрия.
Мы снова отдыхаем. Окончив блестящее дело, о котором писал, мы присоединились к нашей бригаде уже не в Галиции, а снова в Венгрии.
Чтобы иметь возможность писать это письмо, я сотворил себе собственный угол. Моя постель отделена от всей комнаты подложенным под нее ковром, вывезенным из Болегрода и теперь постоянно возимым нами с собою. Только что Семен принес мне отдельный собственный стол и зажег на нем две свечи. Так я создал себе нечто вроде кабинета: ковер, стол, постель-диван, свечи.
На сердце у меня сейчас хорошо: спокойно и уверенно. В голове свободно и просторно. Телу после утренней проездки весело и бодро. Грудь наслаждается чистым воздухом хорошего помещения. Мысли и чувства легко снимаются с якорей и медленно на белых парусах плывут к тебе.
Сегодня утром я вместе с Романычем проехал на позиции и наблюдательные пункты третьей и шестой батареи. (Это было совсем безопасно, — австрийцы уже второй день не стреляют по артиллерии). Приехав домой, я пообедал, выпил чаю с прекрасной яблочной пастилой, халвой и сухарями, выкурил папиросу и сел в свой кабинет. Мне так нравится мой кабинет, что я никак не могу написать тебе ничего иного, как то, что я сел в кабинет писать тебе письмо.
День был сегодня (сейчас уже восемь вечера) исключительно прекрасный. Хотя только еще конец января, но уже чувствуется весна. Ты знаешь эту первую весеннюю ласку. Поля в глубоком снегу, но лес уже почернел. На пожелтевшем шоссе рябят темные лужи и еще скрытый от глаз камень уже звонко цокает под подковой. Было так тепло, что мы ехали без шинелей. Я в моей любимой бобриковой рубашке, что ты одиноко дошивала в ночь,[44]когда мы тянулись через Иркутск из Лесихи в Иннокентьевскую. Какая та ночь была черная ночь, и какое ее сменило дождливое утро. Этим утром я встретил тебя одиноко идущую мне навстречу по запасным товарным путям Иннокентьевской.
Я медленно тебе пишу, ибо в моей душе так медленно течет широкая река воспоминаний. Как всегда над вечерней рекой, над ней, меняя окраску и контуры, задумчиво свиваются и проплывают туманные видения. О, как ясна жизнь в ее смысле и сущности, когда в ней все становится конкретной тайной. В этом вся власть искусства над нами. Вся сила его в том, что оно познает и объясняет мир, не уничтожая его загадки. В сущности, каждое большое художественное произведение есть тайна о художнике, которая почему-то делает понятнее тайну о мире. Так странно, что только загадки разгадывают и только чрез непонятное возможно понимание. Прости, что я повторяю тебе эти мои старые мысли. Но я сейчас снова вижу всю их вечную правду, а потому думаю, что и тебе они покажутся новыми. Ведь и все наше с тобою тоже давнее, а разве оно не обновляется постоянно своею вечностью.
27-го января.
Как скучно...
Когда идут бои, и вся душа твоя напряжена, когда утомительный поход, и ты все время внешне занят его свершением, т.е. следишь за людьми, лошадьми и дорогой, ты как-то спокоен и даже радостен. Первый, второй день отдыха тоже приятен. Но вот когда стоишь в резерве уже пятый, шестой и седьмой день, то пес постоянной тоски, минорный подголосок, который живет на дне души и стережет ее, начинает, подлый, понемногу ворчать и погромыхивать своею тяжелою цепью. Чтобы успокоить его, я бросаю ему самые жирные куски моих нежнейших воспоминаний и трепетных надежд. Но. все сжирая, он все продолжает рычать и рваться с цепи. Чем больше ты его гонишь, тем он больше по своей подлой собачьей природе ластится к твоим ногам и лижет твои руки. Только увесистая дубина принудительных внешних событий заставляет его успокоиться. Устал я что-то. И писать хочется и ко сну клонит.[45]
Сейчас выходил наружу, чтобы прогнать навязчивую сонливость. Тепло, даже тает. С юга дует резкий, но теплый ветер. Он отчетливо доносит, очевидно, усиливающуюся к вечеру перестрелку. Симптом скверный. Как бы нас не подняли ночью и не двинули вперед. Если будет приказ выступать, то он получится самое позднее часам к пяти утра. А сейчас уже час. Спать в таком случае придется немного, а потому ты простишь, если я пока отложу письмо. Знаешь, странно, орудийная стрельба спать не мешает, но четверо наших тикающих часов иногда мешают. Скверно вот только то, что у нас очень много мышей. Одна сейчас, как безумная, куролесит в ящике с провизией. Я положил на ящик два тяжелых полушубка и надеюсь, что Семеша ее завтра утром изловит...
28-го января.
Слава Богу, ночь прошла благополучно. Нас никуда не потянули, и я снова могу писать тебе. С добрым весенним утром. Под окном слышны молодые голоса. Раздаются команды. Это к нам в дивизию пришло новобранское пополнение. Бесконечно жалко смотреть на молодых парней. Можно с уверенностью сказать, что мало кто вернется домой здоровым и неизувеченным, а многие уже в ближайшие дни будут убиты. Полки редеют ежедневно. В победоносных боях, о которых я уже писал тебе, наш полк потерял половину своих людей.
Полк пополнят пришедшим пополнением; пополнение это снова перебьют; придет второе пополнение — месяцев через пять не станет и его и т. д.
О если бы кто-нибудь из пламенных защитников войны с национально-культурной точки зрения должен был бы взять насвою единоличнуюответственность все эти молодые жизни, если бы онсвоею волеюдолжен был бы заморозить дыханием смерти все эти молодые жизни и навек задушить все эти звонкие голоса, то, я уверен, в мире не нашлось бы ни одного защитника войны. Потому она только и возможна, что все ее ужасы решительно никем не переживаются, как ужасы, причиняемыемною — тебе.
Нет, Вильгельм воюет по воле народа. А немецкий народ воюет во имя великого государства и во славу[46]Вильгельма. В сознании Германии ответственность за войну падает на Россию и Англию. В сознании России и Англии — на Германию. Войска калечатся и умирают потому, что этого требует от них народ, как нация. А нация, как мирный народ, отрицает войну и жаждет мира. Все эти противоречия восстают на мир сплошным безумием, а умные люди услужливо оправдывают войну, во-первых, потому, что ум по своей природе услужлив, а во-вторых, потому, что ум не переносит безумия. Безумие же спокойно царствует в мире, прикидываясь высшею мудростью и Божиим Судом.
Я твердо верю, что «Бог судил иначе».
В это я верю, но завтра, если мы пойдем на позицию, я снова буду стрелять без всяких угрызений совести. И пусть мне не говорят, что причина этого противоречия в том, что мое отрицание войны поверхностный интеллигентский рационализм, что я в душе ее приемлю. Нет, причина в том, что я, как и все,личной ответственностиза все происходящее не несу; формулы Достоевского, что «каждый за все и за всех виноват», в сущности душою не постигаю, не осиливаю...
Пока кончаю. Это письмо пойдет прямо в Россию. Его опустит нижний чин, который едет в Харьков, так что ты его, наверное, получишь.
К жене. 5-го марта 1915 года. Ядловка (Венгрия)
...Как странно, что так не странно странное... Я сижу в очень хорошей комнате: прекрасные размеры и пропорции, два больших окна. Между ними письменный стол, за которым я пишу это письмо. У противоположной стены герметическая изразцовая печь. Посреди комнаты обеденный стол, покрытый клеенкой, рядом с ним два мягких кресла и высокий детский стульчик. Как странно представить себе в нем ребенка... Пол в комнате паркетный, а беспорядок чисто мужской.
Я пишу тебе совсем мирное письмо, а австриец стреляет по дому. Шрапнели рвутся у окон, у балкона, в саду, на дворе. Трубка одной из них недели две тому назад пробила потолок и пол нашей столовой. Мы тоже не[47]молчим. Командир в соседней комнате по телефону обстреливает австрийские бомбометательницы.
Через час я поеду на позицию сменять Ивана Дмитриевича, и меня абсолютно не волнует, что австриец может запустить по деревне как раз в ту минуту, когда я буду садиться на лошадь, и может случайно попасть в меня так же, как он в первый день нашего въезда в Ядловку попал в молодого, красивого, белозубого разведчика Баранова, весть о смерти которого только что поступила в нашу батарейную канцелярию.
За два часа до ранения командир ударил Баранова стеком по шее за то, что тот не исполнил приказания и не переменил уставшей под ним лошади. Желая настоять на исполнении отданного распоряжения, командир вернул Баранова на бивак, приказав ему переседлать коня. Баранов вернулся, задержался и, проезжая опасное место на четверть часа позднее, чем проезжал бы, не встретясь с командиром, попал под разрыв шрапнели, был ранен в бок и умер. Теперь командир, кажется, кается и страдает, хотя он, в сущности, ни в чем не виноват, удар стеком в его глазах не грех.
Да, привычка это, конечно, не все, но это больше, чем очень многое, это почти все.
В вагоне ночью, когда мы подъезжали с тобою к Лукову, было минутами почти совсем по-настоящему страшно. А теперь ничего не страшно, что составляет нормальную военную опасность. Страшно лишь то, что является военною ненормальностью: обстрел в походном движении, ружейные пули в открытом поле, проезд батареи в относительной близости к неприятельским позициям днем или когда нет тумана и т.д.
Ну, Бог с нею, с войною... Вот только меня крайне беспокоит брат Л. Что у них творилось, сказать очень трудно. Наши официальные источники крайне скупы в сообщении того, что нам стоило вырвать у немцев наш контруспех. Немецкие же сообщения (как раз на днях мне в руки попалась немецкая газета, найденная в захваченном австрийском окопе) гласят о потере нами 300 орудии, а это колоссальный масштаб, даже и в том случае, если немцы удвоили цифру отобранных пушек. Может быть, и даже очень вероятно, что Л. попал в плен. Конечно, для него, и как для патриота и как для неврастеника, плен будет ужасен, но все же мы с тобой только и можем от всей души желать этого плена.[48]
Страшно, невыносимо страшно представить себе его, именно его, со всею микрокосмичностью его души, умирающим где-нибудь на окровавленном снегу в проволочном заграждении, совсем, совсем одного... А ведь ранен он быть не может, об этом мы бы уже давно знали.
7-го марта.
Третьего дня я писал тебе, что еду на позицию сменять Ивана Дмитриевича и что. возможно, австриец запустит по мне шрапнелью. Сон оказался в руку. Когда я возвращался домой, вокруг меня низко разорвались четыре снаряда. Сей фейерверк произвел сильнейшее впечатление на моего молодою, массивного, горбоносого и долгогривого Чукура (мой казенный конь из нового привода, на собственном я теперь только катаюсь), и он попытался проявить весь юный пыл и задор свой. Но он не англичанин, сдержать его тучную кровь было не трудно, и мы с ним ограничились тем. что дрожа и чрапя, вскочили коротким галопом на довольно крутой и вязкий бугор. Сзади нас таяли в синем, весеннем воздухе четыре красных шрапнельных облака.
Не правда ли, деталь батальной картины в духе Паоло Учелло или Тинторетто. Главное сходство в коне; солдаты называют его геройским и форсистым, а подпоручики «креслом и шкафом». Таких коней именно и писали старинные мастера.
Твое известие, что Миша Н. легко ранен, как это ни странно, страшно обрадовало меня. Служба в пехоте, особенно нижним чином так тяжела, что легкая рана представилась мне благоприятным временным исходом. Но ужасно было прочесть в следующем письме, что он умер. Так и вижу его в американских ботинках и лиловых носках, в идеальном проборе и черном смокинге отплясывающим вальс или венгерку. Милый он был человек, такой ласковый и нежный. Но никто бы не предсказал ему по всему его облику его монументальной судьбы, его двух крестов, Георгиевского и деревянного. Даже и сейчас, когда я уже все знаю, я никак не могу связать его светлый, жизнерадостный образ с темным образом смерти. Как-то не к лицу ему смерть, и от этого кажется, что он все еще жив. Господи, всюду смерть. Известие за[49]известием. Не могу тебе сказать, как я боюсь за Л. Смертное поранение в артиллерии как-никак все же только весьма вероятная возможность; в пехоте оно почти что непреложный закон. А потом постоянное пребывание под ружейным огнем — я как-то уже писал тебе об этом — страшно действует на нервы. Недавно я это снова испытал на наблюдательном пункте. Знаешь, на этом пункте мне довелось на совсем маленьком обыденном примере очень остро пережить всю нравственную трудность войны.
Пришли мы на пункт отвратительный, совсем открытый, под ружейным обстрелом, рано утром, еще в сумерках. Стали связываться с командиром, оказалась нехватка в проводе. Надо, значит, кому-нибудь из разведчиков возвращаться обратно. Между тем стало уже совершенно светло, и обратный путь стал крайне опасен. И вот тут-то передо мной внезапно и обозначился вопрос: кого послать? Кого подвергнуть? А они ждут; и хотя оба парня безусловно храбрые, и каждый пойдет, не сморгнув, я все же вижу, что ониждут.Не могу тебе передать, до чего мне было трудно решить сознательно тот вопрос, который я бессознательно решал уже бесконечное число раз. После секунды почти что отчаяния, я принял Соломоново решение, я послал обоих. Вот тебе голый факт, раскрой его, и ты получишь вполне определенную философию войны. Просидели мы с поручиком Г-им на нашем пункте целый день, а когда стало почти совсем темно, собрались и побрели к себе на батарею. По дороге попали под весьма значительный ружейный обстрел. Вероятно, в предупреждение атак с нашей стороны, австрийцы засыпали наши окопы пулями. Мы шли сзади наших линий и вдоль них, а потому все перелетные жужжали, а разрывные и рвались вокруг наших голов. Мы шли домой есть и спать, больше нам ничего не предстояло и по всей обстановке предстоять не могло. Мы имели полную возможность и полное нравственное право залечь и переждать обстрел. Но мы этого не сделали, мы шли во весь рост, подвергая смертной опасности друг друга и наших разведчиков.
Вот и пойми: с одной стороны — у людей хватает храбрости исключительно по своей собственной воле подвергать себя возможности смерти; с другой — у них не хватает храбрости сознаться, что это все же ложно, бессмысленно и не совсем благополучно в отношении последнего внутреннего кокетства и самолюбия.[50]
С точки зрения старого капитана толстовского «Набега» мы вели себя не храбро, ибо, по его мнению, храбр лишь тот. кто делает всегда то, что нужно; мы же делали то, что решительно никому и ни на что не было нужно.
Принципиально я согласен с капитаном, но непосредственно мне храбрость нарядная много симпатичнее храбрости рассудительной, дельной. Почему — сказать трудно, но, вероятно, потому, что в плоскости храбрости нарядной человеку не за что спрятаться, если он струсит, а в плоскости храбрости дельной можно всегда спрятаться за нецелесообразность храбрости в этом деле. Вопрос о храбрости очень сложен и очень интересен. У меня много материала, но сейчас писать невозможно. Насколько я наблюдал, существуют три основных типа храбрости: во-первых, храбрость самозабвения, основанная на утрате чувства личности; во-вторых, храбрость долга, основанная на воле создания своей личности; и, наконец, храбрость убожества, основанная на полном отсутствии фантазии, на невоображаемости образа ужаса; ее не мало.
Но это тема большая, пока кончаю.
К матери. 18 го марта 1915 г. Алъзодор (Венгрия).
...Как мне грустно, что так редко пишу тебе. Грех сказать, что нет времени. Время есть, но окончательно нет тишины, нет одиночества. Всегда нас четверо в одной комнате, всегда, кроме того, в этой же комнате писари, артельщики, фельдфебеля, разведчики; доклады и приказания о сене, овсе, скотине, и все это приправленное тою фантастическою руганью, что, бывало, слышишь на улицах Москвы Великим постом, когда на оттаявшей мостовой одичалые, охрипшие ломовые беспощадно хлещут заскорузлой вожжой по грязному пузу выбивающейся из сил лошади, которая прыжками силится сдвинуть с места сани, нагруженные морожеными свиными тушами. Я написал о Москве совершенно неожиданно, по инерции, а инерция, вероятно, от тоски по ней.
Вот только дописал до точки, и уже помешали. Пришел артельщик с докладом, что корова заколота и «обделана». Пришлось встать, надеть шинель и отправиться по[51]невылазной грязи к той опостылевшей палке, на которой каждый день взвешиваю «перед» и «зад» отобранной у братьев-галичан коровы. Взвесил: пять пудов десять фунтов. Распорядился покупать к Пасхе творогу и яиц, велел зарыть в яму валявшиеся у «убойного» места кишки и глаза коровы и вернулся писать.
Сегодня пошла уже седьмая неделя, как мы бессменно стоим на позиции. Первую я тебе уже описывал. После этого, постепенно продвигаясь вперед, мы переменили еще три. Сейчас у нас стреляет только один взвод, а два других стоят на отдыхе в деревне. Стало легче: каждый из нас занят только каждый третий день. Я был на взводе третьего дня и завтра еду опять.
Там, наверху, очень красиво. Рано, часов в шесть, выезжаешь из грязной, туманной деревни, а наверх приезжаешь в тишину, чистоту и совсем еще по-зимнему оснеженный лес.
Третьего дня я впервые дежурил на новом наблюдательном пункте. Его нашел один из наших разведчиков — Тихон Васильев, сибиряк-охотник, куцый, корявый, коротконогий парень; песельник, плясун, озорник и великий любитель «поразведать неприятельскую силу». Лицо у него стихийно уродливое: не лицо — рожа. Но в этой роже светлые смеющиеся глаза, а в них ясная, простая детски-звериная душа, словно человек в открытом окне.
Приехал я туда часам к семи.
Присел за дерево, осмотрелся. Наши передовые пехотные посты (мы стоим в прорыве, сплошной пехотной цепи нет) у меня за спиной, шагах в 30-40. Я сам нахожусь на скате горы, обращенном к неприятелю. Его пехотные окопы у моих ног, верстах в двух или ближе. День ясный, и я отчетливо различаю в бинокль силуэты австрийцев. Надо не обнаруживаться, и я ищу скрытого и уютного угла. Скоро таковой находится. Шагах в десяти от меня замечаю нечто вроде беседки, связанной из молодых елей и еловых сучьев. Перед беседкой стоит старая высокая сосна. Я очень благодарен австрийцам, которые здесь были всего только два дня тому назад, за их беседку, и мне очень нравится сосновая мачта пред нею. Я прячу людей в беседку, а сам с наблюдателем Овчинниковым сажусь за ствол сосны. Овчинников ввинчивает в него десятикратную трубу Цейсса и наскоро строит перед нею нечто вроде балконной балюстрады,[52]которая скрывает нас с ним от австрийских наблюдателей.
Один телефонист располагается со станцией в беседке, а другому вместе с разведчиком я приказываю рыть за беседкой глубокий окоп. Через 3-4 часа пункт окончательно оборудован, и я любуюсь его нарядностью и уютом, совершенно так же, как любовался, бывало, своей квартирой.
На этом пункте явпервые самостоятельнострелял; не только, значит, стоя у трубы наблюдал разрывы, не только следил за правильным исполнением командирских команд на батарее, но самединоличнопринимал решение выпустить или не выпустить снаряд, т.е. попытаться убить или не пытаться. Очень трудно мне объяснить тебе что-либо, очень трудно даже и самому понять это, только никаких нравственных сомнений я не испытывал и совершенно спокойно передавал на батарею нужные команды. Выпустил я сорок восемь снарядов, убил ли кого или нет — не знаю, но определенно держал австрийцев в страхе Божием и отнюдь не позволял им укрепляться. А укрепляться они мастера великие. В три дня у них любая местность превращается в полевую крепость. А наши, о Господи, ничего-то им не надо. Выроют себе, как куры в пыли, по ямке, бросят на дно охапку соломы, и ладно. Спрашивал я их сколько раз: «Отчего, ребята, не окапываетесь как следует?» — отвечают: «Нам, ваше благородие, не к чему. Ен оттого и бежит, что хороший окоп любит. Из хороших-то окопов больно неохота в атаку подыматься. А из наших мы завсегда готовы». Вот и пойми, где тут смешок, где лень, где святость.
20 го марта.
День моего дежурства прошел. Длинный он был; а прошел незаметно. Рано, утром выехал по подсохшему шоссе. Всем своим существом чувствовал весну и чувством весны жил во всех пережитых веснах. К батарее уже подымался мерзлою грязью. С батареи отослал назад лошадь, сменил сапоги на валенки, взял палку, нагрузил разведчика своим полушубком и, по колено проваливаясь в снегу, побрел на наблюдательный. Шел снег. Австрийцев не было видно. В Страстной четверг Господь спустил[53]меж нами Свой небесный занавес, чтобы не искушались мы, враждующие, попыткою взаимного убийства.
В окопе уже сидели телефонисты: Шестаков, высокий, благообразный, рябой выпрямленный человек в длинной бороде; старовер, не курит, не пьет и, несмотря на очень трудную работу, всю Страстную усиленно постится, живет одним черным хлебом и снежным чаем, без сахару. Рядом с ним Готлиб Бетхер — красивый, голубоглазый блондин, немец-колонист, из довольно зажиточных землевладельцев.
Шестаков встретил меня печальною жалобой: «Вот, ваше благородие, в какой день и какое довелось дело делать — передавать в эту чертову машину, как лучше человека убить, и опять же христианина». Бетхер страстно оспаривал Шестакова. Его речи сводились к следующим трем доводам: 1) «Без машины человеку никак не управиться, 2) мы с тобой ни при чем. потому мы поставлены начальством, и ежели не мы, то будут другие, и 3) все это не твоего ума дело».
Шестаков защищался вяло, как будто стыдясь и себя, и своей совестливости, и меня, и всего разговора. Бетхер говорил пренебрежительно, предполагая во мне сочувствие своему просвещенному взгляду на вещи. Я слушал и упорно молчал. Хотел, чтобы оба высказались окончательно. Спор был крайне интересен. Русская и современно-немецкая точки зрения на жизнь вообще и на войну в частности утверждались здесь друг против друга с редко типичной отчетливостью.
Бетхер — абсолютное утверждение машины, т.е. цивилизации, полное отрицание личной ответственности на почве погашенности личности властью коллективно-государственного начала и характерное ограничение своей мысли областью своего профессионального дела.
Шестаков — отрицание цивилизации, острое чувство того, что «каждый за все и за всех виноват», и занятость философскою мыслью, не имеющею непосредственного отношения к его прямому делу.
В результате этой противоположности Бетхер — старший телефонист с Георгием, а Шестаков — подчиненный ему рядовой работник команды связи, которому часто достается и от Бетхера, и от командира.
Пока наши дела хороши; но если они и испортятся, у России будет на то оправдание. В глубине сердец своих[54]лучших людей, в глубине народного сердца. Россия безусловно выше войны. Подгуляла только, судя по газетам и кое-каким дошедшим до меня слухам, наша интеллигенция: московские славянофилы, петроградские кадеты, поэты, присяжные поверенные, светлые личности и вся свора резвых, но узколобых борзых нашей публицистики, — все это, кажется, согласно ради победы над немцами предать все русское и на время превратиться в самых современных немцев. Разве не скверно-современная немецкая мысль о культурном и миротворческом значении бронированного кулака переливается всеми цветами радуги в столь популярных ныне рассуждениях на тему о том, что разгром Германии необходим во имя культуры, свободы и прочного мира? Откуда эта националистическая и антинациональная вера в разрешение огнем и мечом вопросов духа и жизни. Не может быть двух мнений о том. что эта новая русская вера гораздо ближе духу мемуаров «железного канцлера», чем свято-юродствующему отрицанию войны Толстым и славянофильской формуле Достоевского: «Быть русским — значит быть всечеловеком».
Я отнюдь не пораженец. Это явление совсем другого порядка: не эстетического, а чисто политического, и то, что я хочу сказать, никоим образом с ним не связано и не ведет к нему. Я очень страдаю, что у нас недостаток в снарядах, телефонах, проволоке и многом другом (на днях штаб дивизии назначил расследование: по какой цели и с какими результатами выпустили мы за день около десятка шрапнелей). Но если мне тяжело от нашей государственной неподготовленности к войне, то мне вдвое тяжелее от нашей внезапно сказавшейся духовной подготовленности к оправданию и приятию войны.
Я ничего не имею против Бетхера-телефониста, но Бетхер-публицист мне органически противен. В области духа я жажду не безответственного бетхеровского пафоса войны, а глубокой шестаковской скорби о ней.
Мало-помалу Шестаков перестал отвечать Бетхеру и уныло замолк. Я утешил его, что сегодня стрелять не приказано, да и снег, неприятеля не видно; сел в окоп и стал перелистывать случайно оказавшиеся у меня в кармане «Ночные часы» Блока. Шестаков попросил почитать ему громко. Стихи о России ему понравились, что он выразил словами: «это житейское», стихи же о Мери он[55]не одобрил, отчетливо заявив, что «это ни к чему». Однако Блок все же не для него, и мы перешли к «Мертвым душам». Тут к нам присоединился разведчик Прощаев. маленький, широкоскулый гном с громадной рыжеватой бородой (на действительной служил в кавалерии и очень горд этим), и наблюдатель Бабушкин, похожий на китайца и очень обиженный за это сходство на судьбу.
В двенадцать приезжает разведчик, заботливо нагруженный Вильзаром всякими приятностями. Сначала я насыщаюсь под кофе, потом наслаждаюсь под чай. Конечно, это деление призрачно, — как все дистинкции отвлеченного немецкого разума, прибавили бы в славянофильской Москве, — ибо как мое насыщение таит в себе наслаждение, так и мое наслаждение довершает мое насыщение. Но извиняюсь за попытки остроумия. Я хочу сказать совершенно простую вещь, а именно то, что сначала, учинив готовый кофе со сливками, я ем котлеты, ветчину, колбасу и сыр. а потом, заварив чай, уничтожаю бисквиты, тянучки и снежные трубочки Эйнема.
После обеда на театре военных действий начинает медленно подыматься снежно-мглистый занавес. Откуда-то из-за боковых туч ударяют яркие лучи весеннего солнца, и я вижу в трубу с моего балкона привычные австрийские окопы, ход сообщения и группу синих горбатых длинноногих силуэтов (австрийцы высоко на спине носят ранцы), словно вышедших из пьесы Метерлинка в постановке Мейерхольда.
К вечеру все торжественнее и величавее разгорается красота мира. Солнце начинает медленно садиться, знаменуя свой уход в иные страны возложением пламенеющих венцов на снежные вершины. Дали все более и более раздвигаются вширь и вглубь. Черно-лиловые пятна хвойных лесов все резче вычерчиваются на розовеющем фоне снегов. Стекла австрийской деревни загораются красно-желтыми огнями.
Командир передает мне по телефону разрешение сниматься, и я с моим штабом (Шестаков, Бетхер, Бабушкин, Прощаев) отправляюсь на батарею.
На душе тихо, грустно, и вдруг вспоминается: «И в небесах я вижу Бога». Одновременно я уже говорю: «Направить все орудия по цели № 2, выставить караулы, связаться через прикрытие с соседним полком, прикрытию высылать дозоры к логу на 622, и т.д.» Все это я[56]делаю и с очень большим вниманием, как будто понимая всю важность того, что я делаю, и с абсолютным туподумием, как будто все это делаю не я. а кто-то другой. Покончив с распоряжениями, я еду вниз в Альзодор.
Теперь я попрошу у тебя извинения, мне страшно хочется почитать. Я почитаю часа два, а потом, если все останется по-прежнему тихим, буду продолжать это письмо.
28 го марта.
Я уже снова давно не писал тебе. За это время выяснилось, что письмо это пойдет в Москву с оказией, и потому я продолжаю его в повествовательном духе.
21-го, т.е. в Страстную субботу, нам была неожиданная радость. В то время, как я был на наблюдательном пункте, мне вдруг потелефонили с батареи, что прибыл полковник, командир казачьего дивизиона, который просит меня спуститься вниз. От себя телефонист радостно прибавляет, что «слышно, нас сменяют». Я кубарем качусь на батарею и обстоятельно докладываю полковнику всю обстановку: расположение австрийцев, наше расположение, пристрелянные цели, рисую ему панораму с наблюдательного пункта, показываю ему карту, и т.д.. и т.д.
Хотя он и полковник, он лишь очень туго понимает то, что мне, прапорщику, ясно, как день. Это явно зависит только от того, что полковник совершенно не хочет занимать под Светлый праздник неуютную горную позицию, а я очень хочу сняться в Страстную субботу с позиции. Но, к моему счастью, его полковничья воля сейчас для меня не закон.
В шесть вечера казаки с гиком и свистом нагаек подымают свои орудия на гору, а я сажусь верхом и барином еду вниз.
Приехав, я застаю у себя в комнате привезенные из Москвы Грациановым ящики. Настроение у меня самое светлое, самое пасхальное. Семен тащит воды холодной и теплой и готовит шампунь для головы, бритву-жилет, одеколон. На койке он раскладывает чистое белье, новую кожаную куртку, новые перчатки и новый стек, все подарки, привезенные Валерианом Ивановичем.[57]
Как хорошо, что все пришло так вовремя, как вдвое хорошо, что под Светлое Воскресение судьба разъединила меня и пушки.
Я тщательно моюсь, бреюсь и медлительно одеваюсь. Смотрюсь в зеркало. Ты бы меня не узнала: от моей бритой, бабьей брюзглости не осталось и следа. Лицо похудело, загорело и стало много мужественнее. Волосы «по-русски», небольшие усы и борода делают меня окончательно похожим на меня в роли Петра Ильича (помнишь мое первое выступление, Степана Павловича и Черногубову?)
Мой туалет завершают фиалки, которые живо напоминают мне твои единообразно-изящные шляпы и весь твой пленительный образ: на шелковом платке присланные тобою духи, что вызывают в памяти с детства знакомый мне запах верхнего правого ящика твоего комода, в котором в образцовом порядке хранятся фишю, перчатки, кружева и твои полумужские крахмальные воротники от Лулу и Брикэ.
В девять мы сели за легкий обед, новый командир, Вильзар, я и двое гостей. Пообедав, мы окончательно прибрали комнату, накрыли пасхальный стол: кулич и пасха, присланные из Москвы, пасха, «сооруженная» нашим хозяйственным командиром, львовский окорок ветчины, в изготовленной Гилевым бумажной горжетке, яйца, очень удачно выкрашенные луком, красными канцелярскими чернилами и лиловой мастикой для казенных печатей, две бутылки вина (Вильзар получил красное, а я твое «Опорто») и бездна всяких сладостей.
В одиннадцать мы поехали в Свидник, небольшой, окончательно разрушенный и нами, и австрийцами городок (в нем штаб дивизии и управление бригады), в котором была назначена служба. Командир, Вильзар и один из наших гостей поехали в экипажах, а я с новым дивизионным адъютантом Михаилом Лаврентьевичем — верхом.
Ночь была чудная: теплая, тихая, звездная, полная немых надежд и тихих уповании. Я ехал все время шагом. Колесников далеко позади, так что я еле слышал переступанье его лошади. Каждый по-своему думал о своем...
Приехав в Свидник, мы зашли в управление бригады, откуда целою гурьбой направились в церковь. Старая, причудливая, она смутно выделялась своими белыми стенами из сумрака еще безлунной ночи и заунывно звала своим великопостным звоном.[58]
Церковь была полна солдат, лишь кое-где по углам, при входе, притаилось несколько галичан в белых расшитых костюмах. Мы прошли вперед: в левом приделе собралось все офицерство с начальником дивизии во главе. Началась служба. Мы отстояли только заутреню (командир очень спешил домой), похристосовались друг с другом и вышли. Месяц стоял уже высоко на небе. Само небо было светлее, глубина ночи — мельче. Было два часа утра. Чувствовалось, что ночь идет на убыль и что завтра взойдет светлый, солнечный день, светлое Христово Воскресение.
Разговевшись дома, мы поздно легли спать и проснулись на следующий день лишь к десяти утра. За окнами виднелось яркое синее небо. Золотые снопы солнечных лучей жарко горели на нашем самоваре и светлыми зайчиками дрожали на потолке. Слышалась лихая гармоника и не\станный топот солдатской пляски.
Одевшись, я вышел на шоссе в деревню. Картина была крайне живописная: всюду пестрые группы галичан, — женщины, дети и старики, краснопапашечные казаки в лихих вихрах, нарядные псарские мундиры и наши серые артиллеристы, все это, забыв все. кроме того, что нынче праздник, жило одною, общею жизнью, пело, плясало, гуторило, смеялось.
После чая мы с Вильзаром велели оседлать лошадей и в самом безоблачном настроении поехали опять в Свидник с визитами к начальству. Но тут нас ждало жестокое разочарование. Оказалось, что нам сегодня же нужно двигаться вниз по фронту, чтобы 23-го на рассвете принять участие в назначенном всеобщем наступлении.
Что делать; вернулись домой, наскоро собрали вещи, уложились и в восемь вечера тронулись в путь. К двум ночи прибыли в назначенную деревню. Ночевали уже в совершенно другой обстановке, чем вставали. Спали начеку, одетыми, с минуты на минуту ожидая приказа о дальнейшем движении. Вокруг дома рвались тяжелые, и Вильзар, поставивший было свою койку под окном, переселился по настоянию командира в более глухой угол.
В шесть утра получили приказание двигаться. Вскочили и немедленно пошли вперед. Верст на пять все уже было очищено от неприятеля. Мы шли по шоссе. Слева и справа санитары подбирали последние трупы. Навстречу попадались пленные австрийцы, которые несли раненых[59]стрелков. На хороших англизированных лошадях прошли три отобранных нами тяжелых австрийских орудия. Очевидно, ночь была для пехоты ужасная, и наши сибиряки, и пленные австрийцы были рады, что как-никак, а все же она кончилась. Проходя мимо нас, партии пленных отдавали нам честь; некоторые по-штатски снимали фуражки, кто-то с окровавленным лицом крикнул «Христос Воскрес». Наши батарейцы приветливо отвечали пленным и весело шли по все дальше и дальше раскрывавшемуся ущелью.
Странно, встречаясь с побежденным врагом, ты определенно испытываешь к нему некоторую нежность. Чувство это по своему психическому составу очень сложное: в нем есть и хорошая, простая жалость человека к человеку, и умиление перед своею доблестью, и ощущение того удовольствия, которое враг доставил тебе тем, что дал себя победить, и даже благодарность ему за это доставленное тебе удовольствие.
В десять утра мы в самом победоносном настроении встали на позицию деревни Сосфюрет и открыли огонь. Скоро мы его прекратили. Наступило общее боевое затишье.
В последнее время в батарее нас было только двое, я и Вильзар, а потому командир предложил одному из нас ехать отдыхать, чтобы приготовиться к ночному дежурству, а другому остаться на батарее. Мы тянули жребий, ночь достались мне, и я отправился в Сосфюрет, в халупу, уже занятую нашими денщиками. Приехал, Семеша разложил постель, и я заснул, как убитый. Однако скоро проснулся от сильного огня, как артиллерийского, так и ружейного. Встал, вышел на крыльцо и вижу, как из лесу соседней горы на голый скат, сбегающий к шоссе между Сосфюретом и Радомкой, выскакивают австрийцы. Мне совершенно ясно, что они ведут крайне успешное наступление с целью отрезать от наших главных сил деревню Радомку, находящуюся верстах в двух от Сосфюрета. В Радомке расположен штаб одного из наших полков и часть наших сил.
В первый раз я видел пехотный штыковой бой, как «на ладони». Сначала завязалась перестрелка, потом на опушке леса показались австрийцы. Наши кинулись им навстречу. Раздалось «ура...а». Австрийцев, очевидно, было больше, и нашим приходилось трудно. Бросаясь вперед,[60]они волной скатывались вниз и их «ура» сразу же превращалось в страдальчески воющее «а... а... а...». Потом жалобное «а... а...» снова вырастало в победное «ура... а...».
Отбой наших сил сменялся прибоем... В эту минуту через мою голову со страшным шумом и свистом пролетела тяжелая бомба и разорвалась, очевидно, у нас на батарее, которая стояла позади деревни. Одновременно с тяжелой открыла огонь и легкая артиллерия. Стрелял противник, стреляла и наша четвертая батарея. Пехотный поединок на высоте 356 затуманился артиллерийским дымом. Почти на одном и том же месте рвались наши белые и австрийские красные снаряды.
Австрийцы, очевидно, одерживали верх. Еще несколько минут — и обе деревни могли оказаться у них в руках. В Сосфюрете находился только полевой лазарет, телефонная станция одного из батальонов, командир которого, бледный и взволнованный, только что провел своих людей на подкрепление нашим частям, три наши офицерские двуколки при ездовых, денщики и я. Я приказал запрячь лошадей и оседлать свою. Но куда двигать двуколки? По шоссе назад, на батарею? Но батарея и, главное, шоссе, видимое неприятелю, обстреливаются тяжелыми снарядами...
Все уже готово, но я медлю и, не отрываясь, смотрю в бинокль на 356. Над головой свистят ружейные пули, но я прекрасно знаю, что там, где я стою, ни одна не может меня задеть, и в этом отношении я совершенно спокоен. Вдруг что-то со стоном падает к моим ногам. Наклоняюсь и вижу — раненый. Зову доктора, который находится тут же и, очевидно, лишь с трудом превозмогает свою робость. Санитары тащат раненого в халупу, и доктор прежде всего приказывает ему не выть: «жив остался, перевязку тебе делают, чего тебе еще? Чего орешь?»
Солдат рассказывает, что в то время, как он кричал ура, пуля пронизала ему обе щеки и выбила зубы. За первым раненым прибегает второй, третий... Четвертый, которому оторвало пальцы, отказывается от перевязки, говоря, что его послали за водой для тяжело раненного и что он забежит потом. В это время из штаба полка начинается явное бегство. Первою предвестницей нашего несчастья прискакала, очевидно, ошалевшая от тяжелых выстрелов лошадь полкового адъютанта. Ей вдогонку[61]принесся еще более ее испуганный ординарец, сообщивший, что весь штаб переходит сейчас сюда, так как австрийцы грозят отрезать Радомку. Тяжелые все продолжают громить шоссе и нашу батарею. По Сосфюрету они, слава Богу, еще не ложатся. Я решаю потому двуколки пока не двигать, а самому ехать на батарею, так как Вильзар там один, а здесь мне делать нечего. Сажусь на лошадь и трогаюсь, приказав денщикам, как только австриец перестанет стрелять, подтягиваться к позиции.
Тяжелое и трагическое всегда спутается в жизни с каким-нибудь комическим моментом. Только что я тронул лошадь, вдруг вижу, как к деревне подбегают две странные фигуры: обе растерзанные, растрепанные и обе в своем внешнем обличий какие-то шиворот-навыворот. Присматриваюсь и вижу: мужчина в юбке — батюшка, и женщина в штанах — жена полкового адъютанта. Задыхаясь и перебивая друг друга, они сообщают, что был прорыв, что четвертый батальон, хотя и с запозданием, все же подоспел, пока что атака отбита, но в общем положение все еще не твердо.
Я еще с минуту медлю, получаю те же сведения от подходящего командира полка и рысью трогаюсь на батарею.
Еду и слышу, как меня со страшною быстротою нагоняет тяжелый. В первый момент инстинктивно вырастает желание пустить лошадь вскачь, но тут же пронзает мысль, что на том свете будет крайне стыдно, если окажешься умершим благодаря попытке убежать от смерти. Я перевожу лошадь в шаг и слушаю, как «он» подвигается. Тут вторая глупейшая мысль: лучше бы попал в меня завтра, а то сегодня и так ужасно болит голова. Но одновременно я соображаю, что боль от попадания в голову пули или осколка едва ли будет больше ввиду моей головной боли. И это меня утешает. Все это чувствуется и думается с молниеносной быстротой.
Снаряд разрывается сзади меня, и я вижу, что от той халупы, из которой я только что выехал, осталась всего только одна труба.
Я приехал на батарею в самый раз. По приказанию командира Вильзар ставил рядом с первым взводом еще второй и третий. Во время их выезда на позицию батарея обстреливалась, люди и лошади страшно волновались и бедный Вильзар разрывался от тщетных усилий привести[62]весь этот хаос в порядок. К довершению всего панически бежавшие из обстреливаемой Радомки провиантские двуколки порвали нашу телефонную связь с командиром батареи, и мы окончательно сели на мель.
В восемь часов вечера все. наконец, смолкло и успокоилось. Безмолвная и, как в Свиднике, безлунная, звездная ночь спустилась на землю. Мы отошли к нашим передкам, которые стояли саженях в ста за батареей; соорудили себе на обочине шоссе ширмы из попон и брезентов, поставили самовар, зажгли две свечи, достали ветчину, куличи, пасху, яйца и стали пить и есть. Из темноты в наше светлое пятно то и дело вступали то люди, то лошади и, промелькнув, снова терялись во мраке. Проходили усталые пленные со смутным образом той снежной Сибири перед глазами, о которой они слышали столько ужасов: проходили легко раненные, пронося сквозь крут нашего света свои руки, пальцы и головы в окровавленных бинтах; прошла, чуть не разорив наш домашний очаг, опаленная, местами в одной коже, лошадь; показались носилки с тяжело раненными. Раненые стонали и просили: «Ради Бога, потише»...
После ужина командир пошел спать в санитарную двуколку, а мы с Вильзаром, найдя более или менее сухое место близ шоссе под березой, велели денщикам разложить наши постели и легли одетыми, завязавшись в спальные мешки, покрывшись полушубками.
Стало совсем тепло и как-то колыбельно уютно. Сознание, что сюда вряд ли долетят тяжелые, разве только случайные, так и баюкало душу. Лежа рядом и смотря сквозь ветви березы на звезды, мы докуривали по последней папиросе. Было тихо-тихо. В ближнем лесу что-то не то заплакало, не то застонало. «Это сова?» — спросил я Вильзара. — «Нет, вероятно, неподобранные раненые стонут», — ответил он, помолчав. С этим странным диалогом на устах заснули мы с ним крепким честным и трудовым сном на второй день Светлого Христова Воскресения, кстати сказать, совпавшего на этот раз «у нас» и «у них».[63]
К жене. 1-го апреля 1918. Сосфюрет (Венгрия).
Я ужасно долго не писал тебе. После письма, переданного тебе Грациановым, написал еще два письма. Одно ты получила; получила ли второе — не знаю. Телеграмму к Пасхе послал в день Светлого Воскресения. Твою поздравительную получил вчера.
Маме я шлю с подателем сего большое письмо-хронику. Из него ты узнаешь все внешние события за последнее время: работу на Страстной, встречу Пасхи и бои на Святой. Тебе же я хочу написать нечто совсем другое, но сейчас мне мешает какая-то тяжелая усталость. Думаю лечь на время; быть может, после сна будет лучше писаться...
Уже восемь дней, как мы живем в окопах. Три холодных ночи я спал просто на шоссе под открытым небом; остальное время то торчал на позиции под дождем, то вертелся в нашей тесной и мокрой дыре, постоянно задевая локтями то один, то другой предмет. Не выдержал и третьего дня затеял себе отдельный от всех окоп. Взвод постарался, и у меня получился почти что дворец, т.е. комната в четыре шага ширины, в четыре с половиною длины, и такая высокая, что я могу в ней свободно стоять во весь рост. Печники сложили мне каменную печку, столяры сделали два стола, один обеденный, другой — «барыне письма писать», как объясняет Семен, еще какие-то специалисты вставили окно и выложили весь куб тесом. Сейчас я впервые забрался в мое новое помещение. Перед тем как сесть писать тебе, я чисто прибрал свою горницу: попросил вымыть пол, нарубил сосновых веток и все убрал ими. Затопил печку, закрыл дверь, и стало совсем уютно. Пахнет сосной, сигарой, которую мне подарил милейший Иван Дмитриевич, к моему величайшему огорчению, переведенный под Пасху во вторую батарею, одеколоном и мылом. На мне надета только что присланная тобою шведская курточка и новые желтые сапоги. Маленькое пасхальное яичко так и висит на пуговице куртки, как ты его повесила. Как грустно, что ты не можешь заглянуть ко мне. У меня, право, так хорошо, что я мог бы достойно принять тебя. Так уютна зеленая кровать среди зеленых лап сосны и можжевельника; так задумчиво разговаривает сама с собою[64]догорающая печь; так невелико окно, которым мой шалашик смотрит на лесистый овраг, что мы должны были бы тесно прижаться друг к другу, чтобы смотреть на тихий сыроватый осенний день...
1-го апреля. 10 ч. вечера.
Днем мое письмо прервали. Приехали два поручика второй батареи, пришел с наблюдательного пункта командир. Все забрались ко мне, весело поздравляют с новосельем, кричат хором, что достаточно писать. Я покорился, быстро подсунул письмо под газету и стал ждать вечера. Вечер наступил. Вильзар с вновь назначенным к нам поручиком пошли в свой окоп, а мы с командиром (он окончательно перебрался ко мне) сели каждый за свой стол; он достал Джека Лондона, а я письмо. Достать-то я его достал, но чувствую, что долго не пропишу. Я уже днем жаловался тебе на сильную усталость, к вечеру она возросла: болит голова, и какая-то круглая ложка выворачивает правый глаз из глазной впадины — знаешь, как мороженики вынимают летом свою шарообразную порцию сливочного или фруктового. Ты простишь потому, если строки мои будут сегодня совершенно не тем, чем они хотели бы быть.
Вчера, дежуря на батарее и лишь изредка постреливая по неприятельским окопам, я перечитывал «Дворянское гнездо». Наслаждался я бесконечно, и грустно мне было так, как, кажется, не часто бывало. Почему мне было так хорошо, почему мне было так грустно, мне тебе не сказать. Я сам еще не постиг ни этой новой открывшейся мне красоты, ни этой новой моей грусти* Когда я в последний раз читал «Дворянское гнездо» (это было много лет тому назад), для меня на первом плане стояла трагедия Лизиной любви. Помню, я досадовал на Лаврецкого и, ставя себя мысленно на его место, определенно чувствовал в себе волю к нашему с Лизой счастью, определенно ощущал свой долг вырвать Лизу у стен монастыря во имя подлинной святыни любви и страсти.
Теперь все было совершенно иначе. Меня потрясла вовсе не трагедия Лизиной любви, но совсем иная трагедия присужденности всего живущего к старости и смерти. Я понял, что Лиза уходит в монастырь совсем не потому, что к Лаврецкому вернулась Варвара Павловна. Совсем[65]нет. «Христианином нужно быть вовсе не для того, — заговорила не без усилий Лиза, — чтобы познавать небесное там, земное, а потому что каждый человек должен умереть».
Это «должен умереть» одни из первых слов, сказанных Лизой Лаврецкому. В ее остром чувстве страшного смысла этих слов и кроется только и замеченная мною на этот раз причина ее ухода в монастырь. И от этих слов неизбежной смерти, прочитанных мною между двумя батарейными очередями по окапывающимся австрийцам, совсем по-новому раскрылся мне весь роман. Я как-то совсем по-новому заметил, что в «Дворянском гнезде», за исключением пустого, бездушного, а потому и недостойного старости и смерти Паншина, совсем нет людей нестарых и, что важнее, не стареющих на глазах у читателя. Со страшной грустью увидел я, что в Васильевском Лаврецкому служат два обалделых от старости существа, что Марфа Тимофеевна и Настасья Петровна глубокие старухи, что Лемм одною ногою уже стоит в могиле, и что его слова «alles ist todt und wir sind todt» невероятны по жестокой своей выразительности. С новою грустью и новою взволнованною внимательностью следил я за тем, как прекрасно и тонко описаны у Тургенева признаки начинающейся старости у парижской львицы Варвары Павловны, как быстро зреет ее упрежденный в своем развитии городской ребенок, кукла-статуэтка Адочка. Знаменательным показалось мне и то, что у того мужика, который так истово молился в церкви в час последнего свидания Лизы и Лаврецкого, только что умер сын. Все это и многое другое, с какою-то новою зоркостью и новою бдительностью внимательно выслеживалось и выпытывалось мною у совершенно нового для меня романа и когда, наконец, оно, все это тайное, острое и неумолимое о старости и смерти вдруг собралось и вылилось в словах Лаврецкого: «здравствуй, одинокая старость, догорай бесполезная жизнь», то я безумно испугался за великую покинутость Лаврецкого в жизни и внезапно понял, как прочны и спасительны белые стены Лизиного монастыря. Как мне захотелось в монастырь, Наташа, как я остро почувствовал, что все стареет, и что я старею, и что жизнь уходит, и что жизнь ушла...
Вот сейчас разорвался за оврагом тяжелый. Это перелет по батарее.[66]
Теперь дальше все очень смутно в странно: жизнью я почувствовал в себе все неизжитое мною, все мои бедные мечты, так одиноко и сиро слоняющиеся по пустынному Божьему миру, а монастырем воссияла мне моя настоящая, реальная жизнь, моя любовь, мое счастье, ты. И, Боже мой, смогу ли сказать тебе, как страстно мне захотелось укрыться и от моей мечты, и от грядущей старости и смерти за крепкою, высокою и белою, за монастырскою стеною нашей любви. Да, здесь я понял, что нам с тобою нужно прочно держаться друг за друга, что мы друг для друга все, что больше у каждого из нас ничего нет. что пышный сад нашей любви уже задумался над ждущей его осенью, что он, хотя и не скоро, а все же уж завтра прострет свои ветви в зимнюю стужу....
Да, в сущности, вся жизнь есть умирание, «alles ist todt und wir sind todt».
Конечно, думал я обо всем этом не в первый раз. но вчера в моих осенних думах была какая-то новая яркость и небывалая острота. Может быть, потому, что рождавшейся во мне песне без слов о нашем счастье, все более и все безотменнее оковываемом смыкающимся кольцом грядущей смерти, так дружно аккомпанировали и вся моя теперешняя жизнь, и ранняя весна, похожая на глубокую осень... Сидел я в окопе с закрытыми глазами. Мокрый брезент у входа судорожно бился в холодном, осеннем ветре, свистевшем, казалось, у меня в позвоночнике. Ноги замерзали в мокрой соломе, а в голове и в висках разгорался какой-то не то нервный, не то лихорадочный жар.
Душу все еще стерегли воспоминания о пасхальных днях, когда после тяжелой боевой работы (я только чудом спасся) мы темною ночью пили чай на шоссе, создав уют и домашний очаг между двумя попонами, и чувствовали себя такими счастливыми и укрытыми по сравнению с проходившими мимо пленными, ранеными и теми еще неподобранными, стоны которых временами доносились до нас...
А над этими картинами ада возносился, как на старых иконах, райский мир только что прочитанного «Дворянского гнезда». Как странно, Наташа, что райский мир на этот раз мне рисовался миром смерти. Красота строгого искусства Тургенева как-то беспереходно сливалась с красотою моей жизни. И так отрадно мне было сознавать,[67]что когда я вернусь в свое гнездо, то не под моим пальцем и не в чужом доме, и не чужим одиноким стариком сочиненная раздастся песнь моей любви, но ты сама сядешь за наше старенькое пианино и сыграешь мне 3 этюда Шумана, вальсы Шопена и прелюдию Скрябина, что так часто играла мне, когда мы были молоды.
Я сидел, думал и грезил. Дождь хлестал все сильнее. Все злее и отчаяннее метался брезентовый парус у входа в окоп. Голове становилось все жарче, а ногам все холоднее, и так отчаянно хотелось комнаты с мягкой мебелью, свечами и ковром (ведь есть же, наконец, где-нибудь в мире комната, в которой свечи не гаснут от ветра) и твоей милой руки душистой и в знакомых кольцах. И так окончательно все это было недостижимо, и так ничего не ждало впереди, кроме ночи в улучшенном окопе и еще долгих дней войны. Мне чувствовалось, что со мною творится что-то неладное, что я заболеваю...
3-го апреля.
Я отпросился у командира отдохнуть и на сутки уехал в ближайшую деревню, где с величайшим наслаждением просидел свой отпуск в полном одиночестве. День выдался спокойный и ясный. Я с давно неиспытанным удовольствием ходил, ни с кем не сталкиваясь, по довольно большой избе и думал свою думу, ни разу не прерванную никаким грубым окриком на нижних чинов. О, если бы чаще были такие дни; как бесконечно легче было бы переносить войну. А то вот сейчас мы стоим на отдыхе, а душевно никакого отдыха не получается: в двух маленьких комнатах нас десять человек. Два командира беспрестанно кричат на оторопелых солдат и ставят несчастных под ранец за то, что в колодцах мутная вода; кто-то играет на фисгармонии, двое что-то поют, а двое других хмуро и зло ходят маятниками по комнате. Особенно раздражает ругань. Временами прямо-таки судорога схватывает горло. Сегодня снова очень болит голова.
5-го апреля.
Я всегда был и всегда останусь идеалистом в философском смысле этого слова. Я вполне согласен с нашими[68]академическими защитниками духовного смысла войны, или, вернее, я согласен с Платоном, Аристотелем, Спинозою. Малебраншем, Кантом. Фихте, Шеллингом, Гегелем и Соловьевым в том, что жизнь, факт, не есть последнее, ведомое сердцу и доступное постижению. В мире, конечно, наличествует нечто бесконечно превышающее жизнь, как факт, наличествует то, чему можно и должно приносить в жертву фактическую, эмпирическую жизнь. Это высшее дано вере — как Бог, философия — как идея, искусству — как образ, всякому обыкновенному смертному — как любовь и мечта, сыну отечества и патриоту — как родина, ну и т.д. Все это самоочевидности. Отсюда понятно, что война может быть событием хотя и трагическим, но праведным и священным, может быть делом священного принесения народами жизней своих сынов в жертву наджизненной национальной идее.
Но для того, чтобы осуществлялась такая священная война, в ее основе должны бить нерушимы следующие два условия: во-первых, идея, во имя которой люди приносят в жертву свои всегда и во всяком случае драгоценные жизни, должна быть действительно Божественной идеей, а не человеческой выдумкой, а во-вторых, каждый — исключения абсолютно не допустимы — кто несет свою жизнь к священному жертвеннику, должен быть безусловно охвачен и проникнут, более — должен быть всецело, во всем своем бытии и существе, убит и заново рожден этой идеей.
Я хочу сказать, что священная, да и просто честная воина возможна исключительно при условии свободной и добровольной отдачи каждым воином своей жизни в жертву той идее, в осуществлении которой он видит единственный или, по крайней мере, высший смысл своей жизни.
Между войною, которую мы переживаем, и нарисованною мною войною, сходства нет. Одно из двух: или то, в чем я участвую, не есть война, а ужасная бойня, или то, что я определил как войну, не есть война, а есть некое теургическое действо, или называй как-нибудь иначе, это все равно.
Когда защитники духовного смысла войны «творчески горят о войне», они вряд ли достаточно ясно видят, что здесь у нас происходит. Они вряд ли узревают, что здесь над миллионами людей, поставленных в ряды защитников родины, отнюдь не созерцанием идеи, а принудительной[69]силой государственной власти ежедневно приводятся в исполнение неизвестно кем по какому праву вынесенные смертные приговоры. Они не узревают, что подавляющее большинство воюет только потому, что попытка избежать вероятной смерти в бою ведет прямым путем к неминуемой смерти по суду через повешение.
Это «эмпирия», с которой нельзя не считаться. Пребывая в постоянном созерцании ее, я не могу не видеть, что о свободном приятии нашими солдатами в свою жизнь наджизненной идеи войны и жертвы могут говорить только самые неисправимые, слепые фанатики, или самые отъявленные, лицемерные мерзавцы.
Нет, я решительно отказываюсь религиозно или философски оправдывать не идею войны, а ее современное воплощение, и отказываюсь потому, что воочию вижу, как нашим «христолюбивым» воинам спускают штаны и как их секут прутьями по голому телу, «дабы не повадно было». Впрочем, зачем же сразу говорить о порке? Разве недостаточно того, что всех наших солдат ежедневно ругают самою гадкою руганью и что их постоянно бьют по лицу? Ну как же это так? Людей, доразвившихся до внутренней необходимости жертвенного подвига, да под ранец, да первым попавшимся грязным словом, да по зубам, да розгами... И все это иной раз за час до того, как бивший пошлет битого умирать и смертию сотен битых добьется чина или Георгия.
И это священная война? Нет, пусть ко мне не подходят с такими словами. Ей Богу, убью и рук своих омыть не пожелаю. Я уверен, что я ничего не окрашиваю в личный цвет; наоборот, мое личное самочувствие много светлее моей точки зрения на вещи. Я лично прежде всего страшно заинтересован всем происходящим во мне и вокруг меня. Я живу сейчас так интенсивно, как еще никогда не жил. Я безусловно сильно отстану от передовых людей науки в книжной начитанности, но я с каждым днем все яснее ощущаю, как я сам в себе крепну и утверждаюсь. Во мне сейчас много самого первозданного знания о самой сущности жизни. Тургенев прекрасно написал графине Ламберт: «возможность умереть в самом себе есть, быть может, одно из самых сильных доказательств бессмертия».
Очень легко, впрочем, отрицать войну, как дело, совершаемое всем человечеством. Много труднее отрицать ее,[70]как дело народа, которому брошен вызов. Страшно трудно сказать, что нужно было делать России в ответ на объявление ей Германией войны. По существу возможен только один ответ. Поднять со всей Руси все святые и чудотворные иконы и без оружия выйти навстречу врагу. Как ни безумно звучат эти слова, серьезных возражений себе я не вижу. О том, что неприятие войны с религиозно-нравственной точки зрения много выше, чем самое честное и даже вдохновенное приятие ее, не может быть и речи. Претерпевать страдания неприемлющим пришлось бы такие же, что и приемлющим, но им не пришлось бы их никому причинять. Что же касается практической точки зрения, то, во-первых, решать вопросы нравственно, прежде всего и, значит, решать их независимо от практических результатов принимаемых решений, а во-вторых, не страшное ли то заблуждение, что банкиры устраиваются в жизни практичнее юродивых? Наконец, вольны ли мы вообще ставить все эти вопросы, раз они абсолютно решены во Христе. Нельзя же действительно быть христианами и во имя Христа убивать христиан! Исповедовать, что «в доме Отца моего обителей много», и взаимно теснить друг друга огнем и мечом. Я всем своим существом чувствую, какая громадная правда жила в Толстом и в его утверждении, что воина, суд, власть — все это ложь, сплошная ложь, сплошное безумие. Кто это понял, тот понял навек. Я чувствую бессилие всех «мнений» о войне, я знаю о ней истину.
Не могу больше думать, расскажу тебе лучше, как я недавно не то в мечтах, не то в забытьи был в Москве. Приехал я на Брестский вокзал и вышел на платформу. В Москве стоят иногда прекрасные ранние весенние вечера. Мостовые чисты и влажны, небо сине, прутья и листочки дерев после короткого весеннего дождя как-то особенно свежи, за оградами... Я взял хорошего извозчика и тихо, обязательно тихо, поехал по Тверской к Страстному. Ах, как хорошо ехать, как мягко сидеть, как притаилось сердце, как глубоко затонула в захолонувшей крови всякая мысль. Я боюсь повернуть голову, боюсь снять ногу с ноги, безумно боюсь потревожить приснившийся мне сон наяву. Еду и все прошу тише, тише, и все смотрю, смотрю по сторонам. Странно, все настоящее, самое настоящее, привычное, московское. Так, значит, Москва еще есть, а ведь мне не верилось. Вот трамваи,[71]те самые, что шли по Тверской ранним весенним вечером, когда мы, встретив вернувшегося из-за границы Л., ехали с ним в коляске вдоль всех бульваров на Остоженку. А вот и нелепое, памятное здание счетоводных курсов Езерского, где я впервые слушал златокудрого дионисиста с его характерною походкой, изысканным наклоном львиной головы и прекрасными белыми руками с черным перстнем. Еду дальше и все смотрю. Особенно странно видеть изящных, нарядных женщин; почти непонятно, что это за существа. Помнится, я бывал когда-то среди них; впрочем, это, кажется, был не я. А вот направо ворота с двумя львами. Помню, были, кажется, в моей прежней жизни такие ворота. Был и тот книжный магазин, в котором я покупал книги, когда писал о Достоевском. Итак, я, правда, в Москве. Итак, я действительно я. Вот этот я, который едет сейчас на извозчике в серой шинели, в высоких сапогах, в усах и бородке, и есть тот же самый, который сидит с ним рядом, бритый, длинноволосый, в широкополой шляпе и широком пальто. Как странно, ах, как странно, как странно все. Но если я, правда, в Москве, почему же мой странный спутник-двойник не говорит мне самого главного; зачем он показывает мне трамваи, здания, а не везет меня прямо к тебе. Я хочу спросить его, но почему-то не спрашиваю. Наконец, я решаюсь... «Николай Федорович, вы, может быть, съездите завтра поискать боковой наблюдательный пункт»... Я встаюспостели, лежа на которой я грезил наяву; вся раскрывавшаяся предо мной жизнь внезапно отлетает, и в душе остается зияющая пустота, в которой мечется одинокая, злая тоска...
Я не знаю, что со мной случилось в последнее время, но мне стало много тоскливее. Думаю, что причина этой перемены в нашем новом командире, от которого в значительной степени зависит общебатарейное настроение. Когда нами командовал Чаляпин, мы жили прекрасно. Он такой милый, внимательный, уютный, и когда нет боев — такой веселый. А наш новый георгиевский кавалер, изумительный офицер в бою, в мирной жизни безнадежно мрачен, суров, угнетающ и страшно крут с солдатами.
Сейчас его нет дома, и у нас очень уютно. Вильзар сидит за фисгармонией и одним пальцем тянет разные ноты. Он очень удачно подражает всяким инструментам: то слышится скрипка, то флейта, то человеческий голос.[72]
Так ярко вспоминается, как в полутемном театральном зале, когда партер еще совсем пуст, в ложах бенуара и бельэтажа видны только дети и подростки, и лишь верхние ярусы уже набиты народом, настраивается великолепный оркестр Большого театра. Андрей Карлович очень музыкален и в свою шуточную импровизацию так незаметно и искусно вплетает один из лейтмотивов Тристана. А на моем столике стоят духи. И вот это сочетание музыки, театра, моих дум о Тургеневе и запаха духов как-то окончательно надрывает мою душу. Боже, что отдал бы я за то, чтоб быть в Москве с тобою... Сейчас я даже сомневаюсь в моем основном убеждении, что бесконечность любви на земле заключается в ее трагической необходимости отрицать любимого человека, как свой конец и свою вершину. Сейчас я верю, что любовь есть вовсе не любовь к тому, чего нет, а к тому, что действительно есть. Хотя, может быть, это только потому, что ты мне сейчас постольку же дана, поскольку и взята у меня. Как мне не хочется кончать это письмо. Но надо. Часов в шесть вечера наш фейерверкер отбывает в Москву. Как я хотел бы быть на его месте. Но это праздная мечта. В нашей дивизии отпускают очень туго; в других, более счастливых в этом отношении, уже все офицеры побывали в отпуску, а некоторые так и по два раза. Впрочем, и у нас ездили в Москву уже четверо офицеров. Может быть, если бы я очень похлопотал, то и мне удалось бы вырваться недели на две. Но я все еще внутренне не решил ехать ли мне. Во-первых, уж очень будет трудно возвращаться, а во-вторых, против поездки живет во мне какое-то странное, почти суеверное чувство. До сих пор я не разрешал себе в пределах моей военной жизни никаких личных желаний или нежеланий. И, мне кажется, что за эту покорность война была ко мне милостива. Я боюсь, если я разрешу себе по отношению к ней свою волю, то и она проявит в отношении меня свою темную, жестокую власть. Мне почему-то думается, что если я сам корыстно выхлопочу себе отдых и свидание, то у судьбы будет как будто больше права, не оставив от меня ничего, что можно бы было похоронить, закинуть мою руку на макушку сосны. Романыч, которого на днях чуть не убило, — разрывная ружейная пуля ударила в бинокль и искривила его — видел такую картину. Ты подумай, как странно: бинокль был совсем случайно как раз в этот день[73]неправильно надет денщиком Романыча на другую сторону ремня, за что денщику и попало утром.
Вот какие чувства не пускают меня в Москву. Однако думается мне и обратное: как раз потому, что каждую минуту может прилететь восьмидюймовая, мне абсолютно необходимо рассказать тебе все, что довелось мне пережить со времени нашей разлуки, что пришлось передумать, перечувствовать и заново создать в себе за эти тяжелые месяцы. Мне необходимо жизнью завещать тебе себя. Вот ты и подумай про себя, хлопотать мне о командировке или нет, и напиши, как решишь.
Сергею Г-ну.
10-го апреля 1918 г. Месциско (Венгрия).
Прости, что до сих пор не собрался еще написать тебе, хотя бы несколько слов. Большое тебе спасибо за память твою, за письма, за шоколад, папиросы и обещанную статью.
Не пишу потому, что слишком хотел бы писать и тебе, и В., и И., и еще очень многим. Минутами, когда голоса войны стихают, до меня явственно доносятся голоса «интеллектуальной» России. Я страшно жалею, что самые острые проблемы решаются и самые горячие споры протекают во время моего пребывания за границей, т.е. в Галиции, а теперь в Венгрии.
Я жалею, но у меня есть и одно большое утешение: если мне только дано будет вынырнуть живым и физически здоровым (за мое духовное равновесие я совершенно спокоен) из моря событий и случайностей войны, то моим пребыванием в первом ряду сражающихся я куплю право говорить о войне все то, что буду о ней думать, и возможность думать о ней то, что она на самом деле есть.
Мое основное сейчас убеждение то, что все, кто пишут о войне, решительно ничего в ней не видят и не понимают. Ты не можешь себе представить, до чего часто мы все, т.е. офицеры нашей бригады и наших полкон, громко и весело хохочем, читая в окопах получаемые нами «Русское слово», «Огонек», и др. органы. Я уже не говорю о таких «лапсусах», как утверждение, что «гранаты, разрываясь, осыпали окопы шрапнельными пулями», или о[74]рисунке с подписью «Наши казаки рассматривают неприятеля в дистанционную трубку». Таких курьезов в каждой газете десятки, причем, конечно, не важно, что есть люди, не знающие разницы между дистанционной трубкой и подзорной трубой, гранатой и шрапнелью (слава Богу, что такие еще есть), но очень важно, что как раз они пишут о войне. Не говорю я и о безответственных дедукциях наших побед резвым пером словоблудствующего М. Ведь его статьи — не статьи, все акты того доверия, которое русское общество оказывает нам, защитникам родины; ну как не соврать на почве нравственной поддержки общества и материальной поддержки себя. Хотя все-таки было бы лучше, если бы он писал лишь в расчете на профессиональную необразованность читателей, а не на их поголовную человеческую глупость. Однако еще решительнее и очевиднее скудоумие жанрописцев войны.
Заведуя с самого формирования батареи артельным хозяйством и все время покупая, т.е. отбирая за деньги, у нищих галичан их предпоследних коров, я отлично понимаю, почему, расставаясь с коровой, галичанка плачет, кричит, целует мои руки и кусает руки того солдата, который уже накидывает веревку на рога моей жертвы.
А вот Евгений Ч. не понимает этого и удивляется нежной любви галичанки к своей корове, удивляется, как это галичанка сохранила такую любовь к скотине среди зла, ужасов и смертей, взволновавших человеческую жизнь. Этакая, подумаешь, нежная душа у галичанки; душа подлинной русской женщины.
А вот публицист «Русского слова» рассказывает о том, как русский солдатик (до чего я ненавижу эту уменьшительную форму!), накормленный в Тарнове австрийскими сестрами милосердия, просит у них «счет». Узнав же, что его кормят не ради денег, а во имя Бога, все еще долго топчется на пороге и, наконец, смущенно сует сестре в руку пятиалтынный. Какая отвратительная двойная ложь! Во-первых, ложь эстетическая: что это за солдат, который просит «счет» (ложь образа); во-вторых, — ложь метафизическая: русский солдат прекрасно понимает, когда его кормят во имя Бога, и когда ради денег. Он не публицист и денег с Богом не путает.
Читали мы тут тоже, как русские солдатики ухаживают за юными добровольцами, как берегут им лучшие порции, как покрывают их ночью всяким тряпьем, чтобы[75]не мерзли хрупкие тельца. На самом же деле мы видели нечто совсем другое. В нашей же батарее было семь юных добровольцев (теперь ни одного не осталось, все «поутекали» обратно), что явились к нам с лозунгом «Или грудь в крестах, или голова в кустах».
Солдаты все, как один, относились к ним с решительным недоброжелательством, а подчас и с явным презреньем и ругали их самыми отборными словами. Я ни минуты не хочу сказать ничего скверного о наших солдатах. Прекрасные люди, нежные души. У меня с ними совершенно исключительно хорошие отношения. Но, прекрасные люди, они прежде всего настоящие реалисты, и им глубоко противно все зрящее и показное. Добровольцев они презирают потому, что добровольцы пришли в батарею «зря», потому что они ничего «настоящего» все равно делать не могут, потому что их привела в ряды защитников отечества не судьба, а фантазия, потому что для них театр военных действий в минуту отправления на него рисовался действительно всего только театром, потому, наконец, что добровольцы эти бежали от того глубоко чтимого солдатами священного, полезного и посильного им домашнего труда, который после их побега остался несвершенным на полях и в хозяйствах.
Так врут или, по меньшей мере, детонируют все газетные живописцы войны. Брюсов и А.Н.Толстой, к сожалению, тоже не исключение: читая их, получаешь впечатление, что они задались целью изобразить поверхностностью своих наблюдений быстроту автомобильного бега.
Хуже, однако, чем ложь фактописи ужаснейшая ложь нашей идеологии. «Отечественная война», «Война за освобождение угнетенных народностей», «Война за культуру и свободу», «Война и св. София», «От Канта к Круппу» — все это отвратительно тем, что из всего этого смотрят на мир не живые, взволнованные чувством и мыслью пытливые человеческие глаза, а какие-то слепые бельма публицистической нечестности и философского доктринерства. Вот тебе пример.
«Война объединила общею скорбью и общею судьбою русских, поляков и евреев» — это из газет, а вот что у нас. Галиция, весна, прекрасная погода. По каменистой горной дороге несутся вскачь паршивенькие санки. В санках, вытрепав наглый чуб из-под папахи, сидит[76]молодой казак. Верхом на запряженной в сани тощей кляче. у которой ребра как ломаные пружины в матраце, трясется в седых пейсах рваный, древний «жид» с окаменевшим от ужаса лицом. Казак длинным кнутом хлещет «жида» по спине, а жид передает удар лошади.
При гомерическом хохоте группы солдат и большинства офицеров этот погромный призрак скрывается за поворотом дороги.
Это я видел сам. А вот рассказ очевидца. На шоссе, пересеченном оставленными австрийскими окопами, встречаются казак и солдат. Остановившись, солдат жалуется казаку, что сапог нет и взять негде. Первый совет казака поискать в окопах, нет ли где на трупике (окопы — надежные склады, и трупы единственно честные интенданты). Но вот на шоссе показывается обутый «жид». У казака мгновенно является великодушная мысль подарить солдату «жидовские» сапоги. Сказано — сделано. «Жид» пытается протестовать. Казак возмущен, и «народный юмор» подсказывает ему следующую штуку: «скидавай штаны», обращается он к солдату. Понимая идею товарища, солдат быстро исполняет приказание. «Целуй ему задницу, благодари, что жив остался», кричит казак «жиду», занося над ним свой кулачище. Совершенно оторопелый «жид» беспрекословно исполняет требование, после чего все трое расходятся по своим дорогам.
Страшно, что все это могло произойти. Страшнее, что всему этому мог быть свидетелем офицер, но самое страшное то, что, благодушно рассказывая этот номер за коньяком, рассказчик определенно имел у своих слушателей огромный успех.
Если бы эти факты были всего только голыми фактами, то о них не стоило бы говорить (в семье не без урода), но ведь эти картины почти скульптуры, больше, чем факты, они — памятники целому периоду нашей недавней истории. Да и история ли уже наше недавнее прошлое.
Я не пессимист и не спорю. Многое уже, конечно, изменила война, еще больше она, вероятно, изменит: общее страдание народы нашей Польши, конечно, пережили, и общее страдание, конечно, объединяет, но говорят об этом у нас как-то не так, как нужно. Вина Германии, конечно, сделала свое дело, но ведь и наша вина вершила свои дела. А чьи дела крупнее, и чья вина тяжелее. Ты. господи, веси.[77]
Я, конечно, не забываю, что одно дело наше правительство, другое — общество. Но, во-первых, и в Германии правительство и общество не одно начало, а два. а во-вторых, и у нас правительство и общество не два начала, а одно, ибо формула нравственной ответственности вполне точно дана Достоевским: «Каждый за все и за всех виноват».
К жене.,
18-го апреля 1915 года. Сосфюрет. Венгрия.
...Знаешь, я, оказывается, очень привязался к Поповке. Мне очень много вспоминается она в эти весенние дни. Когда езжу верхом, когда так особенно и характерно пахнет лошадиным потом и мокрым ремнем, когда между лошадиными ушами бежит да бежит себе дорога, а по ее сторонам, вращаясь на поворотах то медленнее, то быстрее бегут себе да бегут то только еще вспаханные (галичане зачастую пашут между нашими и австрийскими окопами), то уже зеленеющие полосы весенней земли, то мне так хочется сесть верхом не на моего «батального Чкура», а на моего прекрасного Красавчика (где-то он теперь?) и поехать себе березовым леском в Векшино, а от Векшина на Редькино, а с Редькина на шоссе, а по шоссе к доктору. Доктор же отсюда уже определенно поэтичен. Он вовсе уже больше не просто доктор Борис Владимирович, нет. он предмет чеховской кисти, он деталь нашей поповской жизни, он жанровая черточка поповского пейзажа, он драгоценная бутафория одного из актов нашей многоактной пьесы, и я люблю его, как актер любит костюм, грим, иссохший венок своего бенефисного спектакля... И знаешь, так чувствуют решительно все, все живут прежде всего воспоминаниями. А это всегда значит, что настоящая жизнь — жизнь вечернего отлива, отбоя. Очень это странно, но настроение призванных к «наивысшему подвигу» сынов России трагически похоже на настроение изгнанных из России студентов-эмигрантов и политических беглецов. Та же стонущая тоска в настоящем, то же лирическое настроение, как основной душевный колорит, та же поэтизация прошедшего, та же возносящая и развращающая, спасительная и тлетворная[78]мечтательность. Отсюда и наш граммофон, и гитара, и Вяльцева, и Панина, и все застольно-русское, грустно-цыганское, надрывно-самовлюбленное, себя уязвляющее и свои раны лелеющее, все то, к чему все мы так привыкли, что так любим, что знаем с ранней юности, как типично русское настроение всякой студенческой комнаты, что все не раз переживали, слушая затянутую хоровую песню, во что влюблялись в чеховских постановках Художественного театра, что и Федю Протасова увлекло и завертело, заставив признаться, что любит он не Бетховена какого-нибудь, а вот ее, цыганку Машу, с гортанными звуками ее песни и передергиванием плеч, что с таким изумительным совершенством воспринял и выразил Александр Блок в своих мистически-кабацких стихах.
Но разве это настроение, если его даже взять в его мистическом, а не в его кабацком смысле, есть настроение героев и воинов? Разве можно воевать с такою лирическою растопленностью в душе, не превратив для себя лично войны в каторгу? Разве можно каторжанам быть строителями свободы и всемирного освобождения? Разве можно с дрожащих струн рокочущей гитары спускать в сердца врагов отравленные стрелы? При этом подчеркиваю, что описанное мною настроение есть, без сомнения, одно из самых высоких настроений, что ныне владеют нашим офицерством. Выше него подымаются лишь немногие действительно героические личности, — ниже его, все те тупицы и карьеристы, которые бьют и ругательски ругают нижних чинов, а себе устраивают, смотря по вкусу, чины, награды или тыловые места.
Это офицерство. Солдаты прекрасны, но все поголовно мыслят войну как испытание и искушение, ожидая с часу на час правды и замирения. Кроме того, они все отлично понимают, что война, хотя и очень тяжелая субъективно вещь, по существу обман и наваждение; важно же в объективном смысле совсем другое, а именно их личное оставленное домашнее дело: луга, пашни, скот, недостроенные избы. В родной земле и в привычном труде они соборно и согласно чувствуют настоящую, высшую правду — реальность, а в войне они ее не чувствуют и войны потому не уважают.[79]
К жене. 25-го апреля 1915 г. Месциско. Венгрия.
Пишу тебе наскоро. Совершенно неожиданно узнал сегодня, что в Москву отправляется нижний чин второй батареи. Много не напишу: во-первых, солдат торопится, во-вторых, душа полна такого нетерпеливого порыва прочь отсюда и скорее в Москву, что писать, т.е. делать буквы, становится почти невозможным. На днях я отправил тебе часть теплых вещей. Только что запаковывал остальные. Паковать было весело: как будто этим содействовал окончанию войны до снега и мороза. Сейчас у нас весна, я живу только весною, я упиваюсь ею. Наш дом стоит на высоком зеленом откосе. Под откосом расстилаются зеленые луга, прорезанные серо-синею лентой прозрачной горной Андавы в берегах из мелкого щебня. По берегам пушистый, на глаз и на ощупь, как головенки только что вылупившихся индюшат, молодой кустарник. За рекой влево серый костел Сарачан. а вправо небольшие вспаханные холмы, за которыми возвышаются туманно-синие горы далекого Татра. Утром и вечером в заливных лугах свиристят жабы, а в приречном кустарнике свистят и рокочут соловьи. Днем по лугу бродят наши пузатые, мохнатые, длинногривые сибирячки, а у реки лежат на животах солдаты и заунывно тянут «Одной бы я корочкой питалась». На том берегу вдоль Сарачанского шоссе беспрестанно тянутся питающие позицию обозы. Я очень много хожу по двору и у реки. Ты не можешь себе представить, какое для меня особое, весеннее счастье в том, что я могу уйти от всех и одиноко бродить. Как тяжело бывало подчас зимою от невозможности остаться одному.
Господи, сколько нежной прелести, сколько мира и любви в природе. Как хорошо здесь, верно, было прошлою весною, когда всюду свершалась мирная и благостная жизнь, когда за плугом брел «оратай», и ксендз каждый вечер выходил посидеть на крыльце своего дома.
А теперь всюду мерзость запустения. Всюду вокруг церкви и вокруг нашего дома окопы, заваленные всяким мусором, кровавой ватой и бинтами. О Господи. Господи, почему терпишь Ты такое заблуждение сынов Твоих?
У нас в батарее настроение сейчас невеселое. Чем дальше длится воина, тем она все более и более теряет[80]всякое сходство с чем-то, хотя и трагическим, но все же большим и важным. Пошли серые будни, местничество, ссоры и поголовное желание конца. Нервы у всех расшатались. Умения работать над собою за двумя, тремя исключениями, нет решительно ни у кого, и потому все хмурятся, злятся, словом, заживо гниют на корню.
К жене. 2-го мая 1915 года. Ветлин-на-Сане.
Последнее время писать ничего не мог. Ни на день не прекращались какие-то совершенно безумные остервенелые бои. Я, слава Богу, жив. исполнен самого несокрушимого здоровья и вполне бодр. Причин на все это в сущности нет никаких.
Написать сейчас ничего не смогу. Пишу на батарее под несмолкаемый гром отбиваемых нами атак немецкой гвардии. Впереди, в Ветлине, все время загораются халупы. Крутом то и дело встают земляные фонтаны разрывающихся тяжелых.
В небе тоже гроза. Кажется, мы ее сами накликали нашей стрельбой.
Прощай. Слушай. Если обо мне не будет известий, не отчаивайся. Значит, все благополучно. Если что случится, тебя уведомят телеграммой, как бы это ни было трудно.
К жене. 16-го мая 1915 года. Позиции на Любачувке.
...Мне не рассказать тебе в этом письме всего того, что только сейчас начинает отстаиваться у меня в уме и на сердце.
В ночь с 20-го на 21-е апреля случился неожиданный перелом в нашей жизни. О той войне, которую мы вели до 20-го апреля, я теперь думаю и вспоминаю, как о самой мирной и уютной жизни. Все то тяжелое, о чем раньше писал тебе и маме, потеряло теперь в воспоминании всякую тяжесть. Все это было, оказывается, сплошным пикником, и войны во всем этом, как я теперь понимаю, вовсе не было.[81]
Между тем все, что пришлось испытать нашей дивизии, которая отошла в полном порядке, было сущими пустяками по сравнению с тем, что выпало на долю нашей ближайшей соседки справа, 48-й дивизии.
Недели три мы были в беспрерывных безумных боях. Пехота таяла как восковая свеча среди костров ада. В таких условиях и наша артиллерийская работа становилась невероятно тяжела. Мы занимали все время самые рискованные позиции. Все наблюдательные пункты были в самих пехотных окопах или впереди их. Все время мы имели дело с громадным количеством тяжелой и самой тяжелой артиллерии. Все время против нас были немцы (самым коренным образом отличающиеся от австрийцев). Все время бригада работала с громадным самоотвержением, и при всем этом, слава Богу, наши потери в сущности незначительны.
Устал я за период нашего отхода очень. В продолжение трех недель мы ни на секунду не только не раздевались, но даже не снимали сапог, спали не более 3-х, 4-х часов в сутки и были почти все время под угрозой самой реальной смертельной опасности.
Были минуты изумительных по величию и по мрачности своего настроения, минуты истинно апокалиптические. Я никогда не забуду одной из наших позиций, на которую мы отошли к вечеру после упорных, жестоких боев.
На этой позиции мы не стреляли, и усталый последней усталостью, я заснул на голой земле. Когда а проснулся, было уже темно. Мы стояли на голом, круглом холме, как бы на небольшом срезе земного шара. Вытоптанные нивы и еще не осемененные пашни этого среза были окрашены в какой-то совсем странный черно-лиловый цвет. Наш холм со всех сторон охватывался и теснился наступающими на нас кроваво-красными сводами неба. Кругом, как щепа и солома, громадными кострами пылали подожженные снарядами деревни. Огромные столбы черного дыма тяжелыми массивами вздымались к небесам. Резкий ветер внезапными порывами бросал на батарею запах гари, а между орудиями, кидаясь от одного солдата в другому, металась сумасшедшая женщина, которая с плачем и криком требовала от нас, чтобы мы не укрывали наших орудий за холмами, а выкатывали бы их открыто на самый гребень холма...
Это был ужасный вечер.[82]
А сколько было таких вечеров! И сколько дней похожих на такие вечера!
На следующий день мы выехали на открытую позицию, выехали в то время, когда она уже обстреливалась ружейным огнем и притом разрывными пулями. Мы стреляли на прицеле 20, т.е. на расстоянии 400 саженей. Окопов никаких, конечно. Все мы, подавая пример, стояли во весь рост, не нагибая головы и не прячась за щит орудия, а кругом в продолжение 30-ти минут беспрестанно свистали пули, то щелкая в землю, то разрываясь в воздухе.
Я стоял, передавал команды, а в душе пела та совершенно незапоминающаяся мелодия, которая как-то раз в минуту острой опасности зародилась в моей душе и теперь каждый раз, когда близка возможность смерти, входит в меня и поет себя, и успокаивает меня, и дает силы все нести и всему покоряться. Когда эта мелодия приходит в меня и поет себя, я могу ей вторить и голосом, но когда опасности нет, она покидает меня, и я бессилен ее вспомнить.
Это очень странное явление, но совсем реальное. Быть может, эта мелодия есть ритмическая первооснова предвечной идеи моей жизни, моей любви?
К матери. 10-го июня 1915 г. Куртенгоф под Ригой.
Жизнь наша, полная превратностей, наконец-то повернулась к нам своею светлой стороной. После страшного отступления, которое безусловно войдет в историю как одна их наиболее трагических страниц в жизни русской армии, мы, наконец, попали если не прямо в Царствие небесное, то во всяком случае в ту простую обывательскую жизнь, которая по нашим временам с успехом может сойти за него.
Мы в глубоком тылу, в лагере под Ригой, чинимся и пополняемся людьми, лошадьми и даже орудиями, которые все почти расстреляны и попорчены.
Кругом кипит знакомая со времен учебных сборов лагерная жизнь, с тою только разницей, что не производится никаких занятий и исчезла дистанция между генералом,[83]штаб-офицерами, штабс-капитанами и прапорщиками. После тяжелых недель галицийского отступления бригада окончательно слилась в одну родную семью и, предчувствуя кратковременность своего блаженства, живет легко и весело. К целому ряду офицеров приехали жены (Наташа тоже вот уже неделя как здесь). В офицерском собрании, наскоро задрапированном зеленым коленкором, по вечерам раздаются вальсы, крутятся пары, поет граммофон и подпевают подпоручики, звенят стаканы и хлопают пробки. В аллеях между «линейками» мелькают платья и в темноте позвякивают шпоры. А на террасах дач и лагерных «бараков» кипят самовары тренькают гитары, звучат дуэты и звенит смех.
Днем в батарейных и полковых колясках, в казначейских бричках мягко катятся в Ригу поужинать и послушать музыку дамы и офицеры, и по всему лагерю на собранных лошадях на тихих аллюрах красуются артиллеристы, и вихрем носятся ротные командиры и полковые врачи.
Вероятно, в другое время, если бы мне пришлось отбывать лагерный сбор здесь в Куртенгофе после зимы, проведенной в Москве, лагерная жизнь не предстала бы передо мной столь нарядною, как я тебе ее нарисовал. Но год, проведенный в глуши Галиции, изменил все масштабы и все критерии.
Хотел было написать тебе о нашем отступлении, но что-то очень не хочется его вспоминать: слишком оно полно всяких переживаний, страданий, проблем и, несмотря на всю условность моего патриотизма, тяжелого и острого стыда. Но обо всем этом я сейчас только знаю и помню, чувствовать же я всего этого решительно не чувствую. Очевидно, душа решила отдыхать, во что бы то ни стало, ибо я упорно и бессменно пребываю в самом безмятежном и веселом настроении. Я даже и Наташе еще ничего не рассказывал о войне, ибо уверен, что ее не было и не будет. Я не жаловался ей на свое одиночество, ибо мне не памятно, что я год провел без нее. Вообще я забыл мою тяжелую «быль», и я не верю, что сбудется то, что, вероятно, уже идет на меня.
Я думаю, что парусная лодка сразу бы утонула, если бы почувствовала всю бездонную глубину под собой. У меня на душе сейчас легкость белого крыла, и я не приемлю никакой глубины.[84]
P.S. Я перевелся в 3-ю батарею. Очень счастлив этим обстоятельством. Хмурый командир 4-й. принявший ее от временно командовавшего ею Ивана Дмитриевича, решительно изводил меня последнее время своим крутым, хотя и всегда корректным деспотизмом. Мы расстались дружественно и даже трогательно, но, кажется, оба рады, что расстались. В третьей у Ивана Владимировича с братьями Г-ми и доктором политической экономии Е-м мне будет бесконечно уютнее. Жаль только, что теперь мало придется видеть Вильзара, который, свято преданный четвертой батарее, остался, бедный, один страдать при К-ом.
К матери. 20-го июня 1915 г. Куртенгоф близ Риги.
На днях в Москву едет товарищ; хочу попытаться хотя бы несколькими словами рассказать тебе о днях нашего отступления.
Тяжело было и физически и. в первые дни по крайней мере, пока еще не очень уставали, нравственно. Ты представь себе только. 6 месяцев завоевывали мы Галицию, 6 месяцев брали грудью сопку за сопкой. 6 самых тяжелых осенних и зимних месяцев мокла и стыла наша пехота в воде и грязи, мерзла в глубоких снегах. Без снарядов и без пулеметов, руководимая зачастую бессовестным и безграмотным начальством, разрывая голыми руками немецкую колючку, уставляя холмы за холмами белыми крестами братских могил, продвигалась она каким-то чудом вперед да вперед, страстно мечтая, что сгинут, наконец, проклятые горы и расстелется перед глазами родная гладь, хотя бы и чуждой, хотя и венгерской равнины.
К середине апреля мы заняли прекрасные позиции на господствующих холмах Венгрии. Австрийцы барахтались где-то у нас под ногами. С наших наблюдательных пунктов мы заглядывали им в тыл на 5-6 верст. На душе у большинства солдат и офицеров было легко. Ничто не предвещало беды. Наши артиллерийские позиции уставились чайными столиками. Каждый вечер раздавалась лихая, переливчатая гармоника. По приказанию высшего[85]начальства наши второочередные полки завели на экономические суммы оркестры, которые частенько разыгрывали вальсы и марши в штабе дивизии, — и лишь крайне малое количество топоров и лопат нарушали эту весеннюю симфонию, изредка постукивая на заготовляемых на всякий случай тыловых позициях.
И вдруг среди ночи непонятный приказ отступать! Сначала решили, что какое-нибудь маленькое тактическое передвижение — однако к утру, когда покидали Свидник, вокруг которого зимовала дивизия, — уже сердцем и предчувствием знали, что события разрастутся с невероятной быстротой в грандиозное поражение русской армии.
Так оно и вышло.
В 6 дней мы отдали все, что завоевывали 6 месяцев. Нельзя сказать, чтобы мы позорно бежали. Нет, мы дрались, и временами, как например на Сане, дрались геройски, но враг был настолько сильнее, его материальные средства были так сокрушительны, что мы все же не просто отступали, но бежали с невероятной быстротой, очищая в иные сутки до 60-75 верст.
Мы бежали сквозь кромешный ад. Вокруг нас все время пылали громадные костры поджигаемых и нами и немецкими снарядами городов и селений. Разрывы тяжелых непрерывно вскидывали к небу сотни пудов черной земли, издали казалось, что всюду плещутся грандиозные нефтяные фонтаны. Пехота гибла без счета; много людей выбывало убитыми и ранеными, но гораздо значительнее были потери отстававшими, сдававшимися в плен, забивавшимися в халупы и утонувшими при переходах через реки. Когда мы уже отдали Сан, к нам начало поступать пополнение. Но было уже слишком поздно. Маршевые роты, скверно обученные, сразу же как мясо в котлетную машинку попадали в атаку, и гибли — без счета, без смысла и без пользы.
В самом начале этих тяжелых дней рядом с нами была разбита 48-я корниловская дивизия, защищавшаяся, говорят, с последнею отчаянностью и истинным героизмом. Во время одного из наших переходов прямо на нас сбоку из лесу выскочило несколько ездовых: перерубив постромки, они, очевидно, каким-то чудом спаслись из того горного ущелья, в котором немцы окружили и наголову разбили злосчастного Корнилова. Среди ездовых было два офицера, оба на неоседланных лошадях. Солдаты как[86]угорелые проскакали мимо и скоро скрылись из вида; офицеры присоединились к нашей батарее. Я долго ехал рядом с ними. Они производили впечатление почти ненормальных людей. На первом плане в них чувствовалось ликующее «вырвались», и одна мечта «соснуть бы»; на втором кошмарное воспоминанье, очевидно, уже не боя, а бойни, и острый стыд за свою счастливую участь. Зато на болтливом языке все время вертелась какая-то сплошная истерическая ерунда. «Нет, ведь главное то, что все вещи пропали. А какой коньячишка: три звезды, первый сорт; а письма, письма... где ты, Маня, где ты, Таня... ай да тройка, снег пушистый... Ну, да все — все равно, важно дрыхнуть, да покрепче, суток на пять закатиться, а потом можно хоть опять на немца, хоть под суд»... Я ехал, и мне вспоминалась другая сцена... Вспоминалась взятая нами в плен во время отступления партия немецких разведчиков с офицером во главе. Строгие, сосредоточенные и спокойные немцы, все с железными крестами, сидели на пнях у штаба полка. На мои вопросы они отвечали односложными «да» и «нет», впрочем, я не очень расспрашивал их; моему праздному любопытству они решительно противопоставляли свою глубокую скорбь. При этом ни на одном лице не дрожал ни один мускул. Казалось, что у этих людей есть души, но нет нервов, и вспомнились слова Гинденбурга о том, что победит тот, кто крепче нервами.
Пережили мы один вечер, который тоже был ставкой на крепкие нервы. Получили мы к ночи приказ занять еле маскированную позицию под Яблоницей польской. Часам к 11-ти мы встали за небольшими бугорками, наскоро вырыли кое-какие окопы и только что собрались отдохнуть, так как к раннему утру ожидались преследующие нас немцы с непременными тяжелыми орудиями в авангарде, как на фоне темного неба, на левом фланге батареи показался черный силуэт странного всадника в широкополой шляпе. Оказалось, что к нам в первый раз за все время войны с чего-то решил пожаловать батюшка одного из полков нашей дивизии. Собрав людей, он произнес речь, в которой сообщил, что по полученным в штабе сведениям бой будет к утру тяжелый, и что нет надежды, чтобы многие из нас остались живы. Сообщив затем, что он только обошел окопы своего полка, и что мы, батарейцы. для него не пасынки, но наравне со стрелками[87]любимые чада, — он и нам предложил поисповедоваться и принять отпущение грехов...
Когда батя уехал, наше настроение сильно ухудшилось: это был первый случай коллективного соборования. Утра мы невольно ждали с суеверным страхом. Умываясь, наш новый офицер, храбрец и атеист, по прозванью Арапчо-нок, костил батюшку, на чем свет стоит. Обошлось однако вполне благополучно. Хотя немец стрелял с наблюдателем летчиком, и хотя висевший над нами аэроплан все время сигнализировал цветными зигзагами, немецкие тяжелые упорно ложились или правее батареи, или на ее правом фланге. Так что мы все время, неустанно стреляя двумя левыми взводами, не понесли никаких потерь.
А бой был под Яблоницей действительно жаркий. Иван Владимирович рассказывал мне потом, что картина, раскрывшаяся перед ним к рассвету с его прекрасного наблюдательного пункта, была истинно монументальной картиной современного боя. Немцы двигались как саранча, двигались лавинами, двигались каким-то бескрайним человеческим океаном. Впереди цепи одна за другой; за цепями в подкрепление им плотные колонны; под прикрытием тяжелых орудий во все стороны разъезжалась и по всем позициям устанавливалась разнообразная легкая и гаубичная артиллерия, к флангам скакала кавалерия; совсем в глубоком тылу продвигались обозы; в воздухе кружили и висели аэропланы.
А у нас — у нас решительно не было никакой возможности бороться со всею этою сокрушающею массой людей, пушек и изощренных технических средств, со всею этою подавляющею отчетливостью немецкой военной организации, с яростью германского натиска.
Не располагая ни воздушной разведкой, ни тяжелой артиллерией, с пехотой, растаявшей до четверти нормального состава дивизии, мы немощно посыпали немецкую мощь «сахарною пудрою» наших трехдюймовых снарядов, зная и чувствуя, что все зря, что все усилия тщетны, что дело безнадежно проиграно.[88]
К матери. 27-го июня 1915 г. Куртенгоф близ Риги.
Дни нашего отдыха, очевидно, близятся к концу. В пехоту прибыло все предназначенное для нашей дивизии пополнение, молодое, рослое, но мало обученное. Бригада получила новые пушки взамен расстрелянных. Причем не обошлось без характерных для нашего военного ведомства курьезов. Третья батарея получила пушку, сданную за негодностью первой. Конечно, она выкрашена и внешне подновлена, но самое важное для стрельбы — дуло орудия, оставлено старое. Прибыл также и конский ремонт. 3-я батарея, всегда отличавшаяся хорошим конским составом, будет теперь запряжена прямо-таки нарядно.
На днях у нас состоялся парад. На большом зеленом плацу, обрамленном молодым лесом, в глубине которого весело белели солдатские палатки, под высоким, чистым, темно-голубым небом, выстроилось многотысячное каре нашей дивизии. Возле памятника Петру 1-му жарко горели на ярком солнце медные трубы полковых оркестров. На затянутых кумачом щитах торжественно красовались золотые и серебряные георгиевские кресты, предназначенные к раздаче героям галицийских дней. У щитов расположилась группа начальства в полной походной форме и боевых орденах. Ровно в 10 у церковной паперти с хоругвями и иконами, в ярко-зеленом облачении появилось духовенство и, перейдя весь плац, подошло к группе начальства. Начался молебен. После обхода батюшкой с крестом первой шеренги всего каре начальник дивизии созвал к себе офицеров и солдат, представленных к Георгию и, раздав кресты, из которых громадное большинство, за смертью представленных к ним, осталось на груди красных щитов, обратился к дивизии с речью. Он долго, с многократными упоминаниями отдельных боев, говорил о галицийском наступлении, и, твердо веруя в своем начальническом номинализме, что полк это прежде всего тожество литеры, очевидно не замечал, что беседует не только о покойниках, но почти исключительно с покойниками, так как для 14-ти тысяч окружавших его новобранцев ею слова естественно звучали пустыми звуками. Горьким, реалистическим коррективом к его речи было красноречивое молчание нерозданных крестов на ярком кумаче. После речи грянула музыка, парадным[89]маршем двинулась пехота батальон за батальоном. Нарядно, на отдохнувших лошадях развернулась артиллерия, батарея за батареей. Веяли знамена, катилось «рады стараться», гремело «ура», снова и снова звенели трубы, — и от всего этого было и телу и душе звонко и весело, хотя все это явно означало, что все готово, — готово снова калечиться и умирать. Наташа потом говорила мне, что более трагического впечатления, чем от нашего парада, она никогда ни от чего не получала, и что когда мы с Г-м впереди наших взводов проезжали мимо нее перед начальником дивизии, салютируя обнаженными шашками, она испытывала смертельную тоску.
Иной раз мне думается, что переживать войну на фронте много 1легче, чем переживать ее в тылу. В своей сердцевине она все же таит много значительного и увлекательного, а со стороны она, вероятно, сплошной кошмар.
Скоро уже три недели, как мы отдыхаем. Иногда мне страшно жалко, что ты не приехала сюда. Какая была бы бесконечная радость свиданья. Хотя боюсь, что при твоем душевном складе тебе все было бы отравлено тем, что каждую минуту возможен приказ о немедленном выступлении, о немедленной разлуке.
Когда и куда мы двинемся, еще совершенно неизвестно, и неизвестно потому, что это в последнем счете зависит от «германа», в руках которого, что ни говори, все же все время остается инициатива действия.
К жене. 11 июля. 1915 г. Позиция под Митавой.
...Ты еще не успела сесть в поезд Петербург — Москва, как наша батарея уже стала на позицию. Ночь, которою поезд нес тебя в милую Москву, я так же не спал, как и ты. Кругом нас царствовал густой мрак совершенно невыясненной еще боевой обстановки. Ночь была еще темнее и непонятнее этого мрака. Дождь лил как из ведра.
Почти всю ночь я просидел на позиции, лишь дважды забежав погреться в какую-то дворницкую близ шумевшего парка, где среди груды всякого хлама и полного хаоса наши денщики готовили чай...[90]
В ранний дождливый утренний час бедный Валериан Иванович, быть может, сброшенный подраненной лошадью, быть может, раненый сам. а быть может, уже и убитый, упал с какими-то неясными словами с лошади и попал в немецкий плен, который его бесконечно нежной, русской душе будет тяжел, как крышка гроба.
А в час, когда ты подъезжала к дому, начался страшный обстрел нашей батареи. В несколько минут было убито четверо и ранено шесть человек. Пострадало восемь лошадей, между ними мой Суровый, раненный двумя шрапнельными пулями в шею и грудь (кажется, он выходится ).
Уже много я видел тяжкого, но этот первый после куртенгофского отдыха бой превзошел все мои ожидания, весь мой боевой опыт.
Снаряд гаубицы попал прямо в орудие, разорвал и искурчавил наш тяжелый, стальной щит. Он же ударил в лоток со снарядами, и две шрапнели вылетели из своих гильз. Своими двумя осколками он сразу насмерть убил двух лучших людей при орудии — фейерверкера и наводчика.
Страшный и противоположный вид имели оба покойника. Один был убит в окопе. Его труп стоял на одном колене, и слегка окровавленный лоб, тяжело задумавшись, покоился на кисти правой руки. Левая рука беспомощно свисала книзу. Вся фигура была исполнена сосредоточенной напряженности и благородного покоя.
Совсем иначе лежал его товарищ. Ничего более кощунственного мне не доводилось видеть. Он лежал грудью кверху, в талии же был как-то вывернут, так что нижняя часть туловища лежала на бедре. Ноги были страшно раскинуты, как будто он в момент окоченения выделывал какое-то отчаянное «па» казачка. Ступни стояли перпендикулярно к земле, зарывшись в нее скрюченными носками. У левого плеча лежал смуглый подбородок с клочком черной бороды. Направо лоб с чубом волос. Лица не было: вместо него какие-то кровавые сгустки в луже крови.
Еще тяжелее этого покойника был вид умиравшего тут же тяжело раненного солдата. Его кишки лежали рядом с ним на траве, и он молил, чтобы его «прирезали»...
А обстрел все продолжался, и сами мы должны были все далее заряжать и стрелять.
Не поверишь, как было душевно трудно требовать от солдат, чтобы они убирали и выносили раненых и снова[91]заряжали орудия, дабы стреляя, все более и более навлекать на себя огонь пристрелявшегося противника...
После этого кошмарного дня были еще дня три страшного напряжения.
Теперь все как будто успокоилось. Вот уже третий день, как мы стоим на одной и той же позиции. Пушки молчат, и на душе спокойно. Страдаю лишь от одного: беспрестанно, безумно хочу спать. Вот сейчас еще только 10 часов, а меня так тянет на постель, что, кажется, сейчас пойду и лягу. Не знаю, что это такое со мной случилось.
Знаешь, я очень устал за это время. Мне кажется, это оттого, что не было никакого перехода от Куртенгофа к месту нашей высадки. Я уже привык быть под обстрелом и во всякой опасности, но на этот раз я попал под обстрел внутренне недостаточно подготовленным, я хочу сказать, недостаточно опустошенным.
К жене. 18-го июля 1915 года. Позиция под Митавой.
Все время думаю о несчастном Валериане Ивановиче. Погиб он или в плену? Раньше, чем недель через 6, это не выяснится. Боже, какой ужас, какое сплошное нелепое недоразумение, все это дело под Альт-Ауцем.
Ты помнишь, как нас везли на Белосток для ликвидации немецкого прорыва на западном фронте. Помнишь, как 3-я батарея со станции Царьград была возвращена, и как мы все с недоумением обсуждали приказание железнодорожному начальству возвращать все эшелоны нашей бригады, притом возвращать каждый с той станции, на которой его застанет приказ. Получалась очевидная нелепость. Идя в бой, мы вели в хвосте парки, лазареты и обозы. Меняя направление наступления, мы явно бросали на немцев, в первую очередь, лазареты, парки, обозы, оставляя в резерве полки и батареи.
Результатом этого дикого порядка и было все то несчастие, о котором уже сообщал тебе в моем последнем письме.
Посадив тебя в поезд в Риге, я поздно ночью в эшелоне 5-й батареи, которая должна была выгрузиться на станции[92]Беннен. пустился догонять своих. Узнав в Беннене, что 3-я батарея прошла вперед по шоссе к Альт-Ауцу, я немедленно двинулся ей вслед.
Мне навстречу по шоссе текла непрерывная река курляндских беженцев. Густо, голова к голове, шел прекрасный племенной скот. Среди него, тяжело нагруженные всяким добром с трудом продвигались крестьянские телеги и помещичьи экипажи. В нарядных попонах, встревоженные суетой и шумом, выступали породистые кони баронских конюшен. Непрестанно блеяли всюду тыкавшиеся овцы, хрюкали и взвизгивали свиньи. Высоко на каком-то возу тряслась клетка с попугаями, и рядом с нею зингеровская машинка. По обеим сторонам шоссе беспрерывными широкими потоками двигались пешком, верхом и на велосипедах, таща малых ребят на себе и в колясках испуганные, измученные и озлобленные люди, латыши и немцы, богатые и бедные, крестьяне и бароны.
На полдороге между Бенненом и Ауцем я увидел высланного мне навстречу моего вестового; пересел на свою лошадь и часа через полтора подъезжал уже к нашей позиции. Миновав парк, я сразу же в нескольких шагах от дороги увидел Ивана Владимировича и Женю Г-го перед трубой Цейсса. Было часов 10 вечера, моросил осенний дождь, было очень холодно. Спрыгнув с лошади, я подошел к ним.
— В чем дело, Иван Владимирович?
— Стреляю.
— Куда?
— Туда, — махнул он рукой в направлении на запад.
— А там кто есть?
— Неизвестно!
— А зачем стреляете?
— Приказано!
— А с этого наблюдательного пункта что-нибудь видно?
— Ни черта!
— А при чем же тогда труба?
— Да где же я вам ночью наблюдательный найду?
— Ничего не понимаю!
— И нечего понимать. — Самый обыкновенный кабак.
— А где наша батарея, Иван Владимирович?
— Через шоссе, за бугром.
Я пошел на батарею.
У телефонного окопа в одном брезенте уныло мерз[93]Владимир Г-ий и с чувством творящейся нелепости передавал на батарею команды. Его отношение к происходящему было столь же скептичным, как и у Ивана Владимировича.
В распоряжении штаба дивизии была всего только одна наша батарея и один батальон пехоты. Остальные боевые части подтягивались и ожидались только к утру. Дозор был набран из лазаретных служителей, с ними были высланы полковые врачи. Кроме нашего батальона, где-то поблизости были расположены дружинники «крестоносцы» и один эскадрон драгун.
При этом в штабе дивизии упорное утверждение, что мы расположили наши силы лицом к немцу, а у Ивана Владимировича столь же упорное убеждение, что немцы заходят нам во фланг и тыл, и что из лесу, что тянется на протяжении фронта батареи, немцы к утру начнут нас обстреливать ружейным огнем. Заглянувший к нам на батарею ротмистр вполне разделял все соображения Ивана Владимировича, и был определенно озабочен только тем. как бы под благовидным предлогом загодя увести свой эскадрон. Он не без юмора хвалил занятую нами позицию, как близкую к шоссе, потому очень удобную на случай неизбежного «драпа».
Наступила дождливая, холодная ночь. Несколько раз к нам прибегали дружинники и спрашивали, не думаем ли мы «переставить пушки». Они, очевидно, волновались, хотя и держали себя молодцами.
Наступило серое, туманное утро. Мы все вместе стояли на батарее. Иван Владимирович собирался на наблюдательный пункт. В это время по шоссе, отделявшему нашу позицию от наблюдательного, в направлении того леска, в котором мы предполагали немца, потянулась подошедшая за ночь шестая батарея.
Иван Владимирович посмотрел и, потирая руки, убежденно изрек: «ну, это прямо к немцам в лапы. Меня уж вчера хотели вляпать в эту грязную историю, да не вышло, не на таковского напали».
Затем он ушел. Около часа, вероятно, ходили мы с Г-ми по позиции, — все оставалось безмятежным и тихим.
Вдруг в тревожившем нас все время лесу вспыхнула перестрелка. Потом стала разгораться и через несколько минут усилилась пулеметною трескотнёю. Минуту спустя из-за того же леса взвился свист шрапнели, и шестидюймовый[94]снаряд, широко прошумев над батареей, разорвался где-то у нас за спиной.
Вскоре и Иван Владимирович открыл огонь. В дальнейшем все события сливаются в моем представлении в какой-то сплошной хаос. Начинается тот тяжелый, меткий обстрел батареи, о котором я уже писал тебе. Неустанно налетающие на батарею шумы и свисты. Секунды ожидания разрывов, секунды затишья. То мы у орудий, то мгновенно ныряем в окопы. Г-ий блистательно храбр, батарея работает превосходно, несмотря на то, что уже несколько людей убито и много ранено...
В это время по телефону поступает известие, что вся шестая батарея попала в плен. Через несколько минут оно подтверждается одним из немногих ускакавших от немцев разведчиков.
Затем у нас на батарее капитан N полка, который с батальоном направляется выручать батарею. Рядом с ним почему-то офицер генерального штаба, который накануне вечером утверждал в штабе дивизии, что он сам лично прошел весь лес. и что в нем безусловно нет немцев.
А обстрел батареи все продолжается, и оставаться на позиции становится совершенно невозможным.
Г-ий предложил мне потому поехать поискать поблизости какую-нибудь другую позицию. Когда мне подавали моего Сурового, его ранило. Пришлось переседловать. Когда я садился на другого коня, фейерверкеру. стоявшему рядом со мной, перебило правую руку; он левою отдал мне честь и сказал: «Ваше благородие, разрешите покинуть строй». Я разрешил (!) и двинул лошадь. Минут через 20 я вернулся, и мы решили с Владимиром Александровичем перебираться на новую позицию. По точности попадания снарядов было ясно, что противник нас видит. Выезжать передкам на позицию было потому невозможно. Приказав не выводить лошадей из Медемского парка, мы стали на руках скатывать орудия к его опушке. Немец все время продолжал бить по нас. Однако нам удалось взяться в передки и на рысях двинуться к новой позиции. По пути у нас все же разбило щит и колесо еще одного орудия.
Только что мы собрались разбивать новый фронт, как к нам подошел Иван Владимирович и Женя Г-ий, выгнанные с наблюдательного пункта яростным огнем.
Как всегда спокойный Иван Владимирович решительно не знал, что предпринять. Да и трудно было на что-нибудь[95]решиться, так как картина боя была совершенно не ясна, приказаний ниоткуда не поступало и связи решительно ни с кем не было. Я предложил проехать к начальнику отряда полковнику Л. Иван Владимирович согласился, и я поехал с разведчиком к штабу полка. Навстречу нам очень скоро засвистали пули. Я недоумевал, но скакал. В нескольких саженях от реденького перелеска, в котором находился штаб полка, свист и щелканье пуль усилился до невероятности. В эту минуту за небольшим деревом я увидел стрелка. Мой разведчик громко спросил его, где полковник. Перепуганный стрелок приложил палец к губам и молча указал рукою по направлению в тыл. Я оглянулся и совсем уже вдали, верстах в двух от нас увидел отходящего со своим штабом полковника в сопровождении конных разведчиков и казацкого конвоя. Быстро нагнав его, я доложил о перемене нашей позиции и просил от имени командира батареи инструкций для дальнейших действий. Ответ его был неожиданно откровенен: «Какие тут инструкции, делайте, что хотите, если вы что-нибудь понимаете; я ничего не понимаю и ничего делать не буду».
Когда я подъезжал к батарее, Иван Владимирович уже брался в передки и собирался «драпать».
Через полчаса весь наш маленький злосчастный отряд, потерявши за одно утро около полутора тысяч человек, отходил по направлению к Митаве. Немец не преследовал ни одним выстрелом. У него очевидно не было никаких сил, и мы отступали, позорно разбитые своею собственною глупостью и беспечностью...
Ну, пока кончаю. Нам с Владимиром Александровичем уже подали экипаж, запряженный тою же парою серых, на которых мы с тобою еще так недавно катались под Куртенгофом. Мы проедем с ним в Митаву — очень своеобразный тихий городок, выпьем кофе в тихом кафе, купим самовар для батареи и, собственноручно опустив письма в почтовый вагон, вернемся к вечеру обратно. Как я счастлив, что я в третьей батарее. Такая поездка для меня громадное наслаждение. А возможна она лишь в атмосфере той исключительной свободы, которую Иван Владимирович гостеприимно предоставляет своим офицерам. Какой ужас был бы сейчас сидеть у К. в четвертой и заниматься хозяйством или писать денежный журнал.[96]
К жене. 5-го августа 1915 года. Лесничество «Буле Муйжа».
Много тяжелого, много грустного дарит нам жизнь за последнее время. Ожесточилась судьба, и лицо войны становится с каждым днем все суровее и непроницаемее. В прошлом письме я сообщал тебе о наших тяжелых потерях. После небольшого периода, о котором телеграфировал тебе: «Живу уютно», на нашу долю снова выпали очень тяжелые дни.
24-го, в четыре часа утра началось наше наступление. Помнишь ли ты Вархаловского? Кажется, ты его мимолетно видела в Куртенгофе: маленький, коренастый, крайне молчаливый и медленный в своих движениях, с детски упрямым затылком, с ясными детскими глазами, с прекрасным детским смехом, внезапным и светлым, и с совершенно неожиданными при всем этом громадными, жандармскими, рыжими усами, приклеенными у него под носом, как я не сразу понял, лишь затем, чтобы играть со своими детьми «в бибику». Он крепко любил свою семью, свою жену, свою далекую Читу, в которой тихо и счастливо жил инспектором и преподавателем какого-то землемерного училища.
Двадцатого июля, возвращаясь из отпуска, он, успокоенный и просветленный, тихо въехал на своем красивом Асмане в ворота того лесничества, из которого мы 23-го повели наступление. Два дня он тихо прожил среди нас и, раньше мало мне понятный, да и мало приятный, как-то сразу приблизился и понравился очень.
В день наступления, рано утром, командир дивизиона потребовал от каждой батареи по одному офицеру в передовую разведку. Последний раз ездил я, очередь была за Вархаловским, и Владимир Иванович предложил ему поехать. Он спокойно сказал: «слушаюсь», потом «лошадь», взял у меня мою карту и маленькою рысцою поехал вперед по шоссе.
Прошло три часа. Авангард вел легкий бой, — главные силы еще не развертывались, командир был уже впереди, а мы с Г-м стояли около батареи, которая в ожидании вызова на позицию расположилась в лесу. День был синий и жаркий, лес был смоляной и благоуханный. Немец очевидно планомерно отступал, впереди лишь изредка слышались разрывы гаубиц. Настроение у нас было довольно спокойное. Ничто не предвещало беды. Вдруг[97]прискакал разведчик с криком «скорее санитарную двуколку и носилки, одним снарядом четырех офицеров ранило». Г-й поскакал за автомобилем, а я остался при батарее.
Прошло с полчаса или больше: среди редеющих на опушке сосновых стволов показались колышащиеся на солдатских плечах громадные холстяные носилки. Я пошел им навстречу и увидел, что головою вперед несут несчастного Вархаловского. Верный себе, он закрыл свое лицо новою, только что купленною в отпуску фуражкою; уже как у покойника бледная рука придерживала край фуражки, ревниво блюдя тайну нечеловеческих страданий, которые он должен был испытывать. Невольно ища раны, я увидел, что колена Вархаловского и холст под ними буквально залиты кровью. Я ничего не смог сказать, ничего не осмелился спросить и велел нести скорее и осторожнее к автомобилю. Носилки всколыхнулись и тронулись в глубину леса. Я посмотрел им вслед. Ступни бедного Зиновия Войцеховича с невероятно жестокой выразительностью лежали в полном несоответствии с поворотом всего его тела. Я понял, что у злосчастного раздроблены обе ноги.
До Риги санитарный автомобиль его не домчал, он умер от потери крови.
За Вархаловским на руках пронесли очевидно легко раненного командира дивизиона соседней бригады, с которым мы работали с самого Куртенгофа, милого человека с бесконечно грустными глазами, очень красивыми аристократическими руками и несколько вычурною внешностью, Густава Адольфа. Его появление живо напомнило Ивану Владимировичу и другим строчки Пушкина: «В качалке бледен, недвижим, страдая раной, Карл явился...», которые, как это ни странно, кто-то тут же продекламировал.
Старый и добросовестный служака, он, и раненый, сделал замечание ездовым, зачем они отошли от лошадей.
Тою же дорогою, что пронесли к перевязочному пункту Вархаловского, пронесли и полковника. С темной тяжестью в душе ходил я мимо запряжек и ждал, и думал, кто же будет третий?
Минут через десять, подпрыгивая по корням и кочкам лесной тропки и раскачивая свой белый балдахин, показалась санитарная двуколка (поистине орудие пытки для раненых). Когда она поравнялась со мною, меня по[98]фамилии окликнул какой-то давно знакомый мне голос. Я подошел: почерневший от боли на свежем сене, с крайне оживленным и улыбающимся лицом, лежал Коля К., с которым я долгий ряд школьных лет просидел на одной скамье.
В отличие от бесконечно выдержанного, не проронившего ни одного слова Вархаловского, он был истерически оживлен и, поверишь ли, духовно кокетничал и утешал себя своим «присутствием духа». В минуту ранения Вархаловский не издал ни звука, а Коля, говорят, ужасно кричал. С изумительным спокойствием описал он мне, как и где его ранило, сказал, что у него было предчувствие сегодняшней катастрофы, пожелал мне «лучшей участи», расспросил подробно дорогу к ближайшему перевязочному пункту, отказался от предложения донести его на носилках, говоря что и «их (т.е. солдат) тоже ведь не на носилках носят», затем прибавил: «Христос с тобою, Николай Федорович» и двинул двуколку. По пути ему встретился Г-ий. Он громко поздоровался с ним, крикнув: «Привет георгиевскому кавалеру». После этого напряжения ложная сила честолюбивого духа оставила его, и он снова начал ужасно кричать.
Да, не думали мы с ним, сидя на уроке математики, о том, как мы увидимся в последний раз...
Он уже умер от заражения крови. Его красивое породистое, сухое лицо уже вторую неделю гниет в дешевом гробу.
Это письмо я пишу ужасно медленно. Начал его часа два тому назад, но сейчас же меня оторвали: пришлось стрелять. Пострелял, сел писать — взяли наш единственный стол — чай пить. За чаем снова пришло приказание открыть огонь — снова я кричал команды, снова оглушительно ревели пушки, и снова соблазненный нашими выстрелами «немец» старался «нащупать» нас. Батареи он не нашел, но зато зажег наш наблюдательный пункт, выкурив оттуда наблюдателей, да сильно засыпал пулями и горячими осколками пехотные окопы, наскоро вырытые и совершенно никого и ни от чего не защищающие ямки. Непонятно, почему так зря идут на свою погибель русские люди: минутами кажется, что это глупая лень, минутами — что это великая покорность обреченных.
Вчера ночью мы не спали. Готовилось наступление, которое мы с 9-ти часов вечера начали подготовлять[99]нашим огнем. Нервы были слегка напряжены; чувствовалось и виделось, что когда станет темно и догорит подожженная нашими гранатами занятая немцами мыза, то «обреченные» 3-й и 7-й роты пойдут под неприятельские ружья и пулеметы, чтобы зачем-то (зачем, никто из получивших приказания не понял) занять эту мызу и оставить по пути к ней десятки раненых и убитых.
В эту ночь у Ивана Владимировича отчаянно болели зубы. Он не вставал с постели и на меня легла неприятная обязанность всех ночных переговоров с начальством. Дабы не бегать ежеминутно из своего окопа к окопу телефонистов, я поставил свою койку рядом с телефоном прямо в лесу и прилег на нее одетым.
Сквозь жидкие макушки сосновых мачт мерцали тихие, неяркие звезды Большой Медведицы. Я лежал и думал о Москве, о том, что уже давно не было мне писем. Вдруг среди темной ночи совсем близко от моей постели раздалось конское ржание, показалось мутное пятно светлой лошади, послышался знакомый голос Е...ча (он был в отпуску): «Земляки, где тут позиция третьей батареи?» — «Здесь, Александр Борисович!» — радостно отвечали ему, предчувствуя в его кармане запоздавшие письма.
Быстро зажгли мы маленькую лампочку, разложили костер, повесили над ним чайник, стали поить, кормить Е...ча, а он стал рыться в своем багаже и так ожидаемо и так неожиданно выпорхнули у него из-под рук два белых, дорогих, привычных конверта, — мамин и твой...
Началась сильная перестрелка. Боюсь, что этой ночью немец ответит нам наступлением за наступление. Пока кончаю.
K жене. 14 октября 1915 г. Лесничество «Бли».
Газеты оповестили тебя о наших событиях. Я не писал, так как совершенно не было своего угла. Теперь стало иначе. Пять дней мы потратили на постройку окопа-дачи и вчера переселились. У нас очень хорошо. Полуподземное жилище состоит из пяти комнат. Одна «кают-компания» и четыре маленьких комнатки вокруг. Пока братья Г-ие в отпуску, я блаженствую, живя один в большой комнате.[100]
Мой «письменный» стол стоит у большого окна без переплета. На стене против стола висит наша акварель. По мою левую руку хорошая крашеная полка с книгами, а за спиной кровать, розовая, у зеленой стены; на стене висит оливковое одеяло. В углу старые, привычные галицийские теплые вещи: полушубок, валенки, кожаная куртка, у левой пуговицы которой висело красное пасхальное яичко.
Я смотрю в окно — за окном стоит старый строевой лес, слегка оснеженный; снег и сейчас падает медленными хлопьями.
Есть в первом снеге что-то совсем особое. Третьего дня в половине девятого утра я выехал в экипаже в Ригу. Не знаю, смогу ли тебе передать, какое это было громадное удовольствие.
Было совсем тепло и солнечно; в ранней зиме чувствовалась ранняя весна. Снег шел большими, пушистыми хлопьями. Первые, ниспадая на землю, вспыхивали на солнце золотыми искрами, — затем таяли. Но небо все продолжало усыпать землю белыми звездами, и, наконец, старые ели, меж которых долго вела меня далекая дорога, стали сереть, туманиться и серебриться. Весь мир заметно притаился и затих. Все предметы вошли в какую-то свою раковину: все они потеряли свою форму и тем самым схоронили свою душу.
Медленно на мягких рессорах катилась моя коляска. Медленно и тоже бесформенно думались в сердце какие-то длинные думы, и душе тоже так хотелось куда-нибудь спрятаться, так хотелось приветного осенения нежным, белым крылом.
А в глазах все рябил да рябил ниспадающий снег. «Все течет, все проходит», вспоминался мне Гераклит; с ним вместе вспоминался Фрейбург, «Логос», Мелис, Кронер и наш прекрасный юный энтузиазм дружбы и философии.
Где же вся эта молодая, святая красота! Как быстро, как ужасно быстро во зле состарился мир. Какой страшный памятник этому злу и этой старости такая злосчастная, такая преждевременная смерть, быть может, гениального Ласка.
Как грустно мне было ехать, Наташа, и все же какое было наслажденье быть одному с «отходящей» природой и со своими скорбными мыслями и воспоминаниями.[101]
14-го октября, 8 ч. вечера.
Утром раздумался и перестал писать. Читал «Воскресение» Толстого. Изумительно, до чего сильна эта вещь и до чего слаба. Сильно все, кроме Неклюдова, но он портит решительно все. Это не человек, а краткий конспект истории развития взглядов Толстого на суд, общество и земельную собственность. Перечел больше половины романа и все еще не вижу Неклюдова. Долго не мог понять: в чем дело. Потеряй Толстой, благодаря своей нравственно-теоретической заинтересованности, дар искусства вообще, я понял бы неудачу Неклюдова. Но ведь сказать нельзя: все петербургское общество, весь чиновничий высший свет нарисован так, как умеет рисовать только Толстой. Почему же генерал немецкого происхождения с беленьким крестиком не утратил ни одной йоты своей эстетической реальности от того, что Толстой создавал его при участии своей нравственно-общественной точки зрения и явно осветил его откровенным светом тенденции, а Неклюдова та же тенденция решительно превратила в силуэт и тень?
Мне кажется, что неправда образа Неклюдова не в том, что он написан тенденциозно, а в том, что образ его ложен в своей этической структуре.
Ко времени написания «Воскресения», тенденция, т.е. эстетическая ложь, была для Толстого его большой, внутренней правдой, а потому она в общем и не испортила эстетической правды романа.
В Неклюдове же чувствуется ложь в той области жизни и мысли, в которой ложь для Толстого никак не перерождается в иную, своеобразную правду — в области этической.
Катюша прекрасно видит основную безнравственность Неклюдова, которая очевидно заключается в том, что воспользовавшись ею сначала для своего физического наслаждения, он ею пользуется и дальше для своего нравственного спасения.
Толстой эту ложь лишь как будто видит, полного же понимания того, что Неклюдову не должно жениться на Катюше и не должно следовать за ней, у него нет.
Толстой совершенно не замечает, что Неклюдову решительно нет никакого дела до Катюши, а есть дело лишь до своего отношения к ней, а потому всякое нравственно[102]вполне правильное сомнение Неклюдова в том, стоит ли ему жениться на Масловой и ехать с ней в Сибирь, сразу же заподазривается в эгоистическом своекорыстии.
Пойми Толстой безнравственность неклюдовского отношения к Катюше (т.е. того отношения, которое Неклюдов от себя требует к ней), он должен был бы поставить Неклюдова в глубоко трагическое, безвыходное положение. В этой безвыходности он и нашел бы живую ось личности и жизни Неклюдова.
Но Толстой этой безвыходности умершей любви не видит и, указывая Неклюдову нравственно правильный выход из его безвыходного положения, заменяет живого человека мертвой прописью.
Я хочу сказать, что Неклюдов не живое лицо не потому, что он написан тенденциозно, а потому, что этическая тенденция Неклюдова безнравственна.
Впрочем, я прочел еще только половину «Воскресения». Когда кончу, напишу, какое мое окончательное впечатление.
Я совершенно не намеревался писать о «Воскресении», это вышло как-то мимовольно. Я решил писать меньше, но чаще, потому заклеиваю это письмо, дабы оно не задержалось, и отправляю его в резерв, а завтра буду писать новое.[103]
К жене. 16-го октября.
Вот уже минут тридцать, как я сижу у своего письменного стола. Смотрю из окна окопа на ели и снег, хочу писать и не пишу, пытаюсь читать и не читаю. На душе и очень хорошо и очень грустно. Хорошо потому, что я сижу один в отдельной комнате, потому что немцы не стреляют, хорошо потому, что сегодня воскресенье и светлый, синий, снежный день. А грустно и очень грустно потому, что память знает такие же светлые, синие, снежные дни и в пору раннего моего детства, когда нас с Л. нянюшка водила гулять мимо избушки Ираиды Ивановны и краснокаменного трактира Никиты Никодимовича, и в пору школьного возраста, когда так остро хотелось взять с угла Гранатного нарядного извозчика по первопутку, и в пору краткой Гейдельбергскои зимы, когда мы с покой-
ной Анечкой катались по горам и вдоль Неккара, и в пору нашей с тобою жизни в Поповке, когда мы весело ходили на лыжах, когда я вез тебя на резвой паре на станцию...
Грустнее же всего потому, что нельзя эту печаль воспоминаний таким привычным мне образом незаметно перелить в сладость надежды, ибо ныне, как еще никогда не было в жизни, между прошлым и будущим стоит ужасное настоящее. Вот сейчас оно врывается в мою комнату раскатом тяжелых снарядов, скороговоркой пулеметной дроби и ужасным сознанием того, что во вчерашнем «блестящем» деле, батальон «молодцов латышей» под началом георгиевского кавалера, выбив из передового редута две сотни немцев и взяв тридцать человек в плен,заживозасыпал в нем несколько десятков раненых. Пусть не по злобе, а по необходимости — все равно. Ну как же мне не грустить? Быть может, такою смертью умер Ласк, Грацианов; быть может, такою смертью умру и я. Я пишу тебе все это и бесконечно удивляюсь тому, каким образом мне только грустно; почему я не бьюсь головою о стену, почему я еще не сошел с ума, и больше: я удивляюсь тому, почему мне не только «только грустно», но и «только грустно» далеко не всегда. Вчера после ужина во второй батарее, где за очень вкусно изжаренной дикой козой и за предложенной М-ти сигарой «artistikos» говорили о заживо засыпанных немцах, я вместе с Ю. с яркой и ясно осознаваемой радостью в душе и теле «шел» домой коротким, мерным галопом, отчетливо воспринимая красоту залитой лунным светом снежной поляны и всю стремительную энергию застоявшейся на холоде лошади. И сейчас вот я также очень рад тому, что Иван Владимирович купил в Риге очень удачные обои, и что завтра к утру я буду сидеть уже в оклеенной оливковой бумагой комнате. Да, бесконечно широк диапазон души человеческой. Впрочем, все радости наши, конечно, крайне хрупки. Весело, весело, а вдруг — вдруг так и глянет на тебя «Оно»...
Мое письмо прервал обед. — К обеду пришел командир Н-ой батареи Такаршевский. Очень больной человек, страстно любящий музыку, знающий наизусть все русские оперы, состоятельный помещик, владеющий майоратным имением с нимфами и амурами... Когда-то он знал мечту, а теперь окончательно загублен «водкой», «бабой» и болезнью. Три часа он беззвучными остатками своего надорванного голоса орал те арии, которые он мечтал петь[104]в опере, когда служил в оперетке. Переставая петь, он начинал сквернословить так, как не может себе представить никто, кто не слыхал его. При всем этом он прекрасный человек: чистый, суровый и мужественный.
Когда он ушел, мне стало не только грустно, но совсем невыносимо на душе.
...Я зажег было лампу в своей комнате, думал было продолжать писать, но решительно не смог прибавить к написанному утром ни одной строчки. Боже мой, до чего же может быть изуродован человек!
Я повертел перо, потушил лампу и пошел гулять в лес. Лес подымался в ночь величественный и торжественный; он таинственно шумел и задумчиво осыпал меня медленно ниспадающим снегом. Я прошел на конюшню: кони стояли в своих денниках такие милые и чистые. Они дышали на меня своим чистым животным духом и так целомудренно смотрели мне в глаза своими грустными, покорными глазами.
Я долго стоял и слушал, как шумит лес, как дышат и жуют лошади. И понемногу становилось спокойнее и легче. Странно, что только одному человеку среди всех существ и созданий дана возможность осквернять Божий мир. Ведь вот Чадре я мог бы показать твою фотографию, а Такаршевскому, хотя он в сущности и очень хороший человек, никак нельзя.
Ходил я по лесу и много думал о том совсем непонятном, что значит жизнь и любовь. Я остро чувствую, что жизни никогда не сдержать тех обещаний, которые она дает человеку в любви. В сущности это ясно: ведь любовь обещает мне избавление от жизни. Как же жизни сдержать такое обещание?
Что-то очень режет глаза. Во всем теле гудит какая-то ломота, в ушах звенят телеграфные провода, которые сквозь ночь бегут куда-то. Мыслей у меня нет, хотя я весь в мыслях, как вершина горы в облаках. Картины и образы толпятся вокруг меня, но и разбиваются о меня, как волны о скалистый берег.
Ни над чем у меня нет власти, и все владеет мною.
Я каждую минуту перестаю писать и застываю в каком-то бесплодном оцепенении. Полчаса тому назад сел на постель и в минуту заснул. Проснулся от сердцебиения.
Встал, прошелся по комнате, освежился одеколоном, закурил папиросу и вышел в столовую, которую светлыми[105]обоями «ампир» оклеивают Иван Владимирович с Е-м. Иван Владимирович посмотрел на меня своими темными, хитрыми, несколько калмыцкими глазами и, улыбаясь, заметил, что, когда я пишу письма, я решительно не пригоден для общежития. Чувствуя вину своего неучастия в оклейке окопа, я взял большие ножницы и стал обрезать кромки обойных полос.
У Киркегорда есть лирическое обращение к обоям своей комнаты; я мог бы сейчас обратиться с целой философской поэмой к обоям нашей будущей квартиры. Мимолетное как вечное, интимное — как вселенское, лирика — как космогония — вот волнующая меня тема.
К матери. 28-го октября 1915 г.
Случилось страшное несчастие.
Убиты Калиняк-Грычановский и Вильзар. Калиняк убит наповал. Вильзар, у которого врачи насчитали около тридцати ран, жил еще несколько часов.
Как бесконечно грустно, как совсем некуда деваться, какое последнее отчаяние на душе. Ни одна смерть здесь не потрясала меня так, как смерть незабвенного, прекрасного Вильзара. Почему он умер, почему именно он?
Ты не знала его, но если бы тебе довелось познакомиться с ним, я знаю, ты полюбила бы его от всей души, ты была бы покорена его внутреннею красотою.
Он не был настоящим русским, как ушедшие до него Рыбаков и Грацианов, он не был и немцем, — особенно не был тем современным немцем, победа которого над миром, если она будет, неизбежно рухнет, потому что она основана на измене своей подлинной сущности и на ложном утверждении себя. Но он не был и космополитом, т.е. индивидуальностью вне нации. Нет, он принадлежал к тем новым людям Европы, которые являются живыми центрами кристаллизации всего значительного и положительного в сущности и творчестве отдельных наций. Быть русским — означало для него прежде всего служить Германии. Быть немцем — означало прежде всего служить России. Но это двойное служение, которое он осознавал как свой долг, не было в нем служением двум Богам; оно было служением тому Богу нового, и в[106]многообразии национальных индивидуальностей, единому человечеству, которого он с немногими другими был тихою, прекрасною зарей.
Как русский немец, он воссоединял в себе лучшие элементы германского и славянского начал; как инженер, физик и скрипач — он объединял собою практическую жизнь, науку и искусство. Эта сложность и многосторонность его национального и духовного облика придавала всему его существу формы какой-то совершенно исключительной округлости и мягкости.
Прекрасно было его лицо: большой лоб, умные и добрые глаза, над которыми еле виднелись маленькие дужки приподнятых к переносице, почти бесцветных бровей, — все это чем-то очень особенным и характерным живо напоминало лица гуманистов. В несколько вагнеровском подбородке явно обозначалась энергичная волевая линия.
Не понимая вражды и не признавая войны, Вильзар воевал, как герой, как герой, он и умер. Мне кажется, что внутренним мотивом его сознательного и покорного пребывания на опасном посту было чувство, что относительно невинным во всем совершающемся на земле ужасе можно оставаться лишь при условии поставленности на карту и своей жизни. Впрочем, все догадки темны; о своем тайном диалоге со своим долгом и со своею судьбой он никогда не говорил. Как все истинно аристократические натуры, он при всей своей общительности и открытости был в известном смысле сдержан и замкнут. В нем была тверда его большая мужская воля, но одновременно он был во всем жизненном обиходе женственно нежен и мягок. Сколько прекрасного чувства жизни, сколько тонкого понимания таинственного смысла самых обыкновенных дней и часов ушло с ним в вечность могилы. Он как никто понимал умную беседу полупризнаний, полунамеков, тихую прогулку, задумчивость полуосвещенной комнаты, психологичность самовара... Во всей его манере жить — делать свое маленькое дело в батарее, мечтать о своем большом деле в науке и жизни; вставать утром, ложиться вечером с книгой в руках, сидеть над шахматной доской, насвистывая арию графини из «Пиковой дамы», незаметно примирять меня и командира, терпеть тяжелую хмурость Митрофана Евгениевича и уверять, что ишиас вовсе не болезненная вещь, стоять на батарее под огнем[107]и рассказывать об этом так, будто это столь же легко и просто, как стоять под дождем, требовать от себя самого сурового отношения к долгу и делу и отговаривать других от такого же отношения, называя его бездарным педантизмом. — было так много благородной формы и строгой красоты.
Если война имеет какой-нибудь смысл, если ее защитники мечтают, что она в борьбе противоположных тенденций и интересов выкует нового гармоничного человека, то этот человек окажется неизбежно человеком типа Вильзара. В нем она как бы убила свою цель, свой идеал, свой смысл. И потому с его смертью все кругом стало темным, слепым и безумным. Ах, как тяжело жить, как бесконечно тяжело.
Вчера тело Вильзара перевозили в Ригу. Двадцать верст мы ехали верхом за гробом, который вздрагивал и кренился, дурно привязанный к лафету. На крышке гроба ненужно, мертво символично трясся конец шашки и убогая пальмовая ветвь георгиевского венка. К концу пути мы ехали дождливыми сумерками. Прошли весь город, перешли через свинцово-мрачную, суровую Двину, и, наконец, внесли гроб на своих плечах в маленькую кладбищенскую часовню, уставленную тропическими растениями и наполненную медлительно-грустными звуками органа. После холода и мрака дороги часовня показалась райской обителью. Гроб, одинокий и трагический в пути на лафете, встал в цветную нишу спокойным и таинственно благообразным.
В часовне все было неимоверно странно и спутано. Война с немцами. Немцами убитый полунемец Вильзар. Немец пастор, благодарящий на немецком языке Господа Бога за то, что он удостоил Вильзара пасть смертью храбрых за правое дело русского царя. Боже мой, какая бесконечная, беспросветная ложь! и где же?
Рядом с потрясающей, лютой правдой безумной смерти Вильзара. И такое соседство лжи и правды не где-нибудь в миру, а в храме Божьем...
Вильзар был убит через три дня после нашего батарейного праздника. К вечеру этого шумного дня мы: Вильзар, M-и, братья Г-ие и я, забрались в отдельную комнату нашего окопа и «под сурдинку» выпили бутылку Редерера. Этот эпизод праздника был крайне уютен. Мы весело пили, с грустью и радостью слушали игравший за окном[108]военный оркестр и нежно, душевно и весело болтали друг с другом. Вильзар был в этот вечер предметом общих симпатий: М...и, впервые ближе познакомившийся с ним, был им прямо-таки увлечен; одухотворенный шампанским, Г-ий объяснялся ему в любви. А через три дня мою еще живую голову отделяло от его уже мертвой, изуродованной головы всего только тонкое средостение гробовой доски (я шел у изголовья)...
Это у нас! А там, у немцев, убит Ласк. Это ужасная, в сфере философии, быть может, мировая, потеря. Он был крайне странный и глубоко оригинальный человек. Небольшой, сутулый, с опущенной и слегка на сторону склоненной, как бы к чему-то прислушивающейся головой, весь какой-то напряженный и нудящийся. В нем все было крайнею противоположностью легкости и радости. Его отношение к философии было роковою присужденностью к ней. Он любил только философию, но эта любовь при всей своей продуктивности была в известном смысле безблагодатна. Он страшно мучился ею. Она заставила его отказаться от той пышности и того богатства многомотивной жизни, соблазн которой жил у него в душе. Она надломила непосредственность его воли к личному счастью. Она заперла его одного, без прислуги, в его маленькую квартиру на одной из самых поэтичных улиц Гейдельберга.
Когда он думал, он ходил на цыпочках, дабы не спугнуть своей нарождающейся мысли. В это время его правая рука каким-то судорожным движением старалась не то что-то схватить, не то что-то отстранить от себя, а тяжелый взор больших, темных, еврейских глаз неподвижно повисал в пустоте. Особенно же характерна была его манера говорить: взойдя на кафедру, он вначале долго молчал; в эти минуты лицо его застывало в египетской неподвижности; затем по лицу пробегала какая-то скорбная тень: то была мука мысли, принуждаемой войти в звуки и образы слов; наконец, у него раздвигались усы (усы, как у Ницше), раскрывались толстые, почти негритянские губы, и лишь много позднее с громадным трудом разжимались крепко стиснутые зубы. Первые слова он выталкивал с громадным трудом, но затем он начинал говорить все углубленнее, страстнее и вдохновеннее. Его лекции были бесконечно изощрены. Он запечатлевал в изумительно находимых им словах не то чтобы мысли, но[109]как бы заревые отблески будущих мыслей. Он говорил со страшною пластичностью о царстве невидимых истин; он был визионером логических схем — и эти схемы цвели у него в мозгу с яркостью каких-то фантастических цветов, пролетали над ним в образах фантастических птиц...
Насколько я слышал, Ласк убит во время большого немецкого наступления от Горлицы к Сану. Тело его не найдено.
Не приходило ли тебе в голову, читая и слыша, как много за последнее время умерло выдающихся людей, что они умерли все не от болезней, а от того безумия и страдания, что война принесла в мир?
К жене. Рига, 22-го ноября 1915 г. Дивизионный лазарет, палата № 5.
...Вчера я послал в Москву телеграмму, извещающую тебя о моем злокачественном падении из саней. Сейчас нога, слава Богу, что-то затихла, и я хочу попытаться написать тебе хотя бы несколько слов.
18-го с вечера Иван Владимирович получил приказание явиться в штаб дивизии для выяснения обстоятельств, при которых попала в плен в деле при Альт-Ауце 6-я батарея нашей бригады. С ним должны были поехать и те офицеры, которые участвовали в этом позорном и тяжелом для нас бою.
Погода в последнее время стояла ужасная, дороги никакой: ни пройти, ни проехать. Утром девятнадцатого подали самодельные узкие санки без отводов с привязанными в качестве сидений ящиками. Заложены они были по распоряжению старшего по конюшне парою мудрых, пожилых лошадей переднего выноса.
Нам с Владимиром, однако, не понравилась эта степенность выезда, и он, вопреки желанию торопившегося Ивана Владимировича, приказал запрячь в сани молодых вороных жеребцов.
Заложили с осторожностью, подали шажком, мы сели в сани и Иван Владимирович сказал: «трогай». Смущенный ездовой как-то нерешительно буркнул: «того гляди разнесут», и шевельнул вожжами. Жеребцы с места рванули и пошли трепать нас по узенькой дороге между[110]высокими сосновыми стволами. Несколько секунд мы скакали прямо, потом жеребцы круто повернули направо к конюшне. В это мгновение я вдруг почувствовал какой-то тупой удар по лбу, словно прокатившийся по всему телу, увидел над собою веселое, смеющееся лицо Г-го, почувствовал, как словно пьяные сначала ринулись куда-то от меня, а потом обратно на меня красные, сосновые стволы, вскочил, вскрикнул от боли в ноге и понял, что она сломана. Тут же сверкнула счастливая мысль: значит, домой, с этой мыслью меня опрокинуло в какой-то туман. Издали, как сквозь сон слышались какие-то голоса. (Мне потом сказали, что это были голоса несших меня в окоп солдат). Потом все окончательно пропало...
Очень устал, да и нога снова заныла. Пока до свидания. Завтра постараюсь написать тебе снова. Когда окончательно выяснится, как и куда меня будут эвакуировать, дам тебе телеграмму о выезде мне навстречу...
К жене. 25-го ноября 1915 г. Рига.
Сломана ли моя нога или только порваны связки, пока неизвестно. Завтра меня повезут в рентгеновский кабинет, и тогда этот вопрос выяснится. Боли временами крепнут, но все же остаются в пределах терпимого. Доктор предлагал на ночь понтапон, но я пока что решил воздержаться. Кроме ноги меня волнует то, что мне на три части разорвало ноздрю. Если висящие ныне вместо ноздри три тряпки не срастутся или срастутся кое-как, мой лик будет очень опозорен, а я сам глубоко огорчен.
Сегодня ночью не спал и думал, как скверно должны себя чувствовать тяжело, т.е. смертельно раненные. За эти несколько дней я «наблюл», как говорят артиллеристы, целый ряд мелочей, которые, будь я в мыслях о своей смерти, причинили бы мне вероятно большую душевную боль.
Было очень забавно видеть, как вызванный ко мне полковой врач, приехав к нам в окоп, под предлогом, что он с холода, а потому боится меня простудить, не посмотрев моей ноги, принялся за только что присланные нам из Москвы коньяк и закуску.[111]
Было еще забавнее видеть, как под столь же прозрачным предлогом, что меня надо бережно доставить в Ригу, к моему автомобилю примазались наш бригадный врач и казначей, лишив меня возможности свободно вытянуть изувеченную ногу. Менее забавна и гораздо более неприятна была та привычная грубость, с которой наши лазаретные санитары потащили меня вверх по лестнице вниз головой и, обронив, вторично ушибли раненую ногу. Очень странным показалось то, что знакомый врач, видевший, как меня привезли, но уже окончивший в этот день свой обход больных, пришел ко мне в палату лишь к вечеру следующего дня, и пришел с сестрой, которая ему очевидно серьезно и по-хорошему нравилась. Когда они вдвоем, склонившись, стояли над тем красно-лиловым бесформенным бревном, что было моею ногой, то я ясно чувствовал, как они оба бессознательно радовались необходимым касаниям их плеч и рук. Удивительно, каким образом такая красота, как восходящая над душами людей любовь, может организоваться при помощи изуродованной и гноящейся ноги.
Со мною вместе один сифилитик и одно острое воспаление легких. Днем в соседней офицерской палате почти неустанно заливается граммофон, а по ночам плевритик совсем без всякой фантастики, очень связно бредит своим родимым, тихим городом и своею матерью, которая все сидит у окна, ждет его и смотрит на падающий снег. С 10-12 в перевязочной стонут, а иногда и страшно кричат раненые. Ранним же утром, в час, когда, по словам доктора, даже и тяжелые обыкновенно засыпают, батюшка в передней деликатно, вполголоса, отпевает покойников.
Решено, что меня эвакуируют, вероятно, в Псков. Когда будет санитарный поезд, еще неизвестно.
К матери. 27-го ноября 1915 г. Рига.
Моя телеграмма и два маленьких письма, отосланных Наташе, известили тебя о моем ранении. Дополнительно могу сообщить, что кости, как выяснил снимок, целы. Я отделался лишь очень сильным ушибом, который,[112]нарушив кровообращение в ноге, послужил причиною образования трех ран-язв, и разрывом связок. Температура не очень высокая, боли терпимы. Если ко всему этому прибавить возможность со временем попасть в Москву и невозможность очень скоро вернуться на фронт, то должно признаться, что я выиграл двести тысяч.
Где-то, конечно, как будто обидно после годового пребывания в боях, после галицийского отступления и остервенелых дней на Сане под Ярославом, быть раненным на позиции не неприятельским снарядом, а собственными санями. Есть, говоря с веселостью и все же патетически, в таком жребии какое-то неудостоение нарядной участи героя и страдальца.
Думаю, однако, что судьба была вполне справедлива. Все мое отношение к войне было столь отрицательно и прозаично, что лучшим даром судьбы только и могло быть временное избавление меня от войны, но никак не увенчание меня, как доблестного воина, поэзией страданья и ранения...
Дня через два, три обещают вывезти меня в Псков. Должен сказать, что я несколько побаиваюсь этого путешествия. Совсем еще неизвестно, к каким попадешь врачам, в какой лазарет. А врачи и лазареты, говорят, на Руси разные есть.
Ну, пока до свиданья...
В 3-ю батарею N. Сиб. Стрел, арт. бригады. Псков, 10-го декабря 1915 г. Евгеньевский госпиталь.
Воскресенье. За окном настоящая русская метелица. На окнах канареечно-желтые занавески: это, чтобы у больных было солнечно на душе. На стене карта с обозначением наших неудач: это, чтобы питать энергию и мстительность раненого русского офицерства. В дальнем углу образ с лампадой; я его вблизи еще не видал, и мне приятно знать, что в этой комнате есть еще нечто, просмотренное мною не до дыры. За стеной стройно поет хор молодых епархиалок (идет обедня), и все не носилочные офицеры, носилочный только я один, сидят там и смотрят на их косы и спины. Этих созерцателей, т.е. находящихся в госпитале офицеров, четверо.[113]
Сорта все они самого захолустного, и мне с ними после нашей компании бесконечно скучно.
1) Пехотный прапорщик из замухрыжных чалдонов, которого я сильно подозреваю в том, что он баба н служил до войны у иркутских мещан прислугою «за одну». Он целый день раскладывает пасьянс.
2) Герой «Берземюнде», помешан на произведенной им атаке, только о ней и говорит. Роста совсем маленького. Голова — арбуз. Лицо как у галчонка. Позвоночник длинный, как у рыбы. Ноги тонкие и кривые. До войны — сельский учитель под Самарой, жалованья 22 р. 50 к. Харчевался бесплатно у какой-то старухи.
3) «Полуторагодовалый» артиллерийский подпоручик N-ой Сиб. бригады. Красивый 18-летний упитанный молочный теленок-барчук.
4) Длинный, худосочный телеграфист-чиновник из Либавы. На лице уныние и робость эротического солипсиста.
Вот и все.
Сестра моя, не военного, а мирного времени, очень милая, простая, дельная, ровная, душевная, с красными от сулемы руками. С 15-ти лет она среди постелей и халатов, и в этом ее настоящий жизненный смысл. Говорить с ней можно только о ее тяжелых.
Жесты рук у нее красивые, круглые, русско-плясовые, а глаза и фамилия итальянские. Во всем облике есть, пожалуй, нечто мадонническое.
Везли меня сюда ужасно, в «приспособленном для перевозки тяжело раненных» вагоне 4-го класса. Вся приспособленность заключалась в том, что вагон выкрасили в белый цвет и повесили в углу икону. Рессоры, отопление железной печкой и удобства были оставлены в полной скотовагонности. Хороши были также и сестры.
1) Одесситка на шесть пудов с еврейски-негритянским лицом, представлявшая собой менее сестру, чем чистую грядковую культуру лука, чеснока и других специй.
2) Баронессообразная балтийка Клара с бледным лицом, поджатыми губками и печальными глазами старого сеттера; деятельности она никакой не проявляла, ибо была решительно от подбородка и до колен забронирована в какой-то корсет-панцирь.
3) Длинная и желтая, как спелый колос в урожайный год невеста «героя». Жеманная, привередливая, кокетливая, влюбляющаяся и боящаяся, что в нее все влюбятся.[114]
4) «Вся — энергия», но вся энергия только в быстрой походке, больше ни в чем. Ее подлинное назначение — изображать ветер за кулисами провинциального театра. Но с изобретением театральных машин она почувствовала себя лишней на земле и. как все лишнее, пошла в сестры.
Фельдшера — франты и мясники; тяжелобольных называют «безвредными». Безвредность понимается двояко: 1) тяжелые безвредны потому, что никакой уход не может им повредить, а 2) они безвредны потому, что не смогут ни на что пожаловаться и жалобой повредить персоналу.
Но довольно повествовательной формы. Давно пора кончать письмо. Всех крепко целую. Привет от Натальи Николаевны, которая 8-го приехала сюда.
P.S. Нога ухудшается. Мои четыре раны увеличились и углубились. Каждый день горячие компрессы выгоняют бездну гноя и сукровицы. Эвакуационная комиссия постановила мою эвакуацию в Петербург, так как в 6 недель я невосстановим. Но все нет санитарного поезда, одиночным же порядком носилочных не отправляют. Я же на костыли встану не раньше, чем через месяц.
1916 год
В третью батарею N Сиб. стрлк. арт. бриг. 20-го января 1916 г. Москва, Евангелический полевой госпиталь. Александру Борисовичу Е-чу.
Уже больше месяца, как я в Москве. Лежу в одной из лучших лечебниц. Раза два в неделю выезжаю на костылях домой или в театр. От 2 — 8 ежедневно меня навещают свои и знакомые. По утрам я регулярно читаю, по вечерам играю в шахматы. Дни — один за другим, один как другой — быстро скатываются куда-то под гору.
Иной раз вечером в большую палату прыжками, словно воронье, собираются все костыльные и однорукие обитатели нашего лазарета поиграть на балалайках, попеть и посмешить друг друга совсем несмешными анекдотами. Особенно хорошо два одноруких играют на одной гармонике. Истинно русские протезы!
По окончании литературно-музыкальной части начинаются обыкновенно нескончаемые позиционные рассказы. Тут все наперебой берут немецкие окопы, режут[115]проволоку, обходят фланги, бьют немца в лоб и т.д., и т.д. без конца, пока не придет сестра, не потушит электричества и энергично не прикажет расходиться по палатам.
Прислушиваясь к этим рассказам, я не раз удивлялся тому, с какой большой любовью, и больше, с какой благодарной памятью люди из вечера в вечер заново переживают то, что всем им причинило по меньшей мере боль и страданье, что многих лишило руки или ноги, что, очевидно, наложит отпечаток тяжести и неудовлетворенности на всю их долгую, короткую ли жизнь.
Невероятно, что эта привязанность к фронту жива даже в душах умирающих. Я часто по утрам, пока убирают палату и перекладывают моего соседа по койке, захожу к одному совсем молодому, очень красивому поручику, который вот уже скоро год, как медленно и неизбежно умирает невероятно тяжелою смертью. У него прострелен позвоночник, потому полный паралич ног. Весь в пролежнях, он лежит на водяном матраце и не может без чужой помощи ни привстать, ни повернуться. Все физиологические отправления совершаются искусственно. И что же? Он целыми днями молча играет в преферанс, не выпуская изо рта папиросы; когда же не играет и не молчит, говорит только о фронте и говорит без ненависти и без проклятия, говорит как о лучших, отлетевших днях, совсем не связывая их почему-то со своим увечьем и с неизбежною скорою смертью.
Связь эта впрочем всегда появляется у всех раненых, как только они начинают совсем выздоравливать, и уже всецело завладевает их душами в ту минуту, когда эвакуационный пункт предписывает возвращение в свою часть. Я наблюдал здесь целый ряд офицеров, готовившихся к вторичному отъезду на фронт. Почти все они были слегка бледны, временами задумчивы и молчаливы, временами слишком воинственны и шумны.
Есть, очевидно, в позиционной жизни нечто значительное и большое, нечто, за что душа остается по гроб жизни благодарной судьбе, но к чему сознательно стремиться, чего хотеть у нас не хватает душевных сил и духовной значительности.
Определить то, чем наша боевая жизнь столь существенна и богата, — трудно, но думается мне, что дело в том, что фронт перекладывает ось нашей жизни из положения горизонтального в вертикальное, превращая все обыкновенное в необычайное.[116]
Вспоминаете ли вы, дорогой Александр Борисович, хотя бы изредка те дни. что мы, по просьбе Ивана Владимировича, просиживали с вами вместе на наблюдательном пункте, дабы «до конца выбрехаться» и не мешать ему нашими вечными философскими спорами.
Сиди я сейчас с вами на «наблюдайте», я бы, вероятно, глубоко возмутил ваш последовательный и радикальный пацифизм моим утверждением великих ценностей войны, которые мне отсюда, с моего нового наблюдательного пункта, с больничной койки, как-то по-новому, ярко и отчетливо видны. Не думайте, что я изменил вам и себе и собираюсь защищать войну,как таковую, —нет, я остаюсь ее величайшим противником и ненавистником, ее непримиримым врагом. Но ведь вражда не должна ослеплять, не должна мешать видеть даже и во вражьем облике черт красоты и значительности. Я думаю, что эти намеки достаточны, чтобы вы поняли, в какой перспективе я ставлю вопрос о смысле войны и утверждаю ответ — ее ценность.
Верите ли, бесконечно ценными кажется мне сейчас месяцы, проведенные на фронте; как первая любовь, вспоминаются первые осенние бои. Уютными и почти поэтичными кажутся отсюда стоянки и окопы. Любовь и войну роднит ошеломляющая необычайность как той, так и другой, и непосредственное отношение обеих к последней тайне жизни, к самой сущности, к абсолютному. Как бы страшна ни казалась нам смерть — диалоги, что ее именем ведут с нами немецкие снаряды, все же диалоги с вечностью. Высшего же наслаждения души смертных, очевидно, не знают, как прислушиваться к «песням небес».
Не думайте, что я впадаю в ненавистный вам романтизм московскою славянофильства. Нет, «песни небес», что поют нам шрапнели, я подслушал здесь, в лазарете, в необычайно ярких подчас рассказах солдат и офицеров о лобовых атаках и фланговых обходах.
Как это ни странно, это все-таки так, и одновременно это отнюдь не противоречит другому моему утверждению, что никто не возвращается на фронт с ничем не омраченным и безоговорочным желанием вернуться. Это потому, что царствием небесным люди обречены нудиться, что вечность нас так же страшит, как и пленяет, ибо стражем в светлое царство ее поставлена темная смерть.[117]
Сохраню ли я по возвращении на фронт ту объективность созерцания войны, которая сейчас, как мне кажется, мною владеет, я. конечно, не знаю; но если нет, если не сохраню, то пусть будет это аргументом против ценности моей личности, но не против той ценности войны, которую я ныне, вопреки всему, вижу и осязаю.
Пока кончаю. Буду очень рад, если выберете время написать мне несколько слов.
В 3-ю батарею, N. Сиб. стр. арт. бриг. 12-го февраля, 1916 г. Москва, Евангелический полевой госпиталь. Владимиру Александровичу Г-ну.
Лучше поздно, чем никогда, а потому, хотя уже целая вечность прошла с тех пор, как я получил ваше письмо, я все же хочу вам ответить.
Читая ваше послание, я слезно жалел Асмана. Такой он был молодой, могучий и нарядный конь. Хотя время вас, вероятно, утешило — какая вульгарная сила, это время! — примите все же, родной, мое искреннее сочувствие и соболезнование.
Мое падение из саней оказалось делом крайне сложным. Уезжая из Риги, я думал, что вернусь через месяц. Навещавший меня тогда П. предсказывал, что я пролежу месяца четыре. Боюсь, что он окажется прав.
До сих пор раны все еще гноятся. Их каждый день жгут йодом и ляписом. Кровоподтек не окончательно опал, а стопа ввиду ущемления нерва опущена вниз и неподвижна. Хожу на костылях. В общем приспособился, изредка бываю даже и в театре; очень только скучно каждый раз к 12-ти ночи возвращаться к себе в пахнущий эфиром, скучающий, стонущий лазарет и являться сестре, которая в конце коридора над полуосвещенным столом из ночи в ночь вяжет какую-то бесконечную фуфайку. На ночь же ни за что не отпускают.
15 февраля.
Со вчерашнего дня мое положение ухудшилось. Ввиду того, что опухоль стала усиливаться, доктор предположил[118]у меня тромбофлебит и предписал мне полный покой и задранность больной ноги к потолку.
Если его предположение оправдается, то мое дело очень осложнится, ибо тромбоз распространяется по всему организму и становится в области мозга и сердца очень опасным. Ну, поживем — увидим. Тромбофлебит во всяком случае пока что только возможность, а возможностей я уже давным-давно привык никогда не пугаться. Хуже предстоящая операция пересадки кожи. Это уже неизбежность.
Мое настроение, поскольку оно обусловлено не моим личным миром, а обстановкою войны в тылу, много хуже, чем на позиции. Госпитально-эвакуационный тыл решительно ужасен и отвратителен. Я не знаю более гнусного и подлого учреждения, чем 1-й московский эвакуационный пункт. Помещается он за городом, куда извозчик берет не менее 5 р. в конец. Помещается на 3-м этаже, на который ведет лестница без перил, обледенелая, скользкая и ничем не посыпанная. Ждать своей очереди приходится в грязном, узком коридоре, в котором стоит один рваный диван и очень ограниченное количество венских стульев. Многие раненые офицеры принуждены потому сидеть на подоконниках. При этом в спину так сверлит холодом, что, ей-Богу, кажется, что у тебя в самом позвоночнике свистит ветер. Просиживать в такой обстановке доводится целые часы, пока старческая, шамкающая и, очевидно, бездельная комиссия соизволит тебя принять.
Кроме визита во врачебную комиссию приходится два раза в месяц, 1-го и 20-го, отправляться в канцелярию, в хозяйственную часть за получением жалованья. Канцелярия помещается, конечно, как нарочно не в том же громадном доме, и даже не на том же казарменном дворе, а в совершенно особо стоящем на другом конце площади офицерском собрании, и опять-таки во втором этаже. Нужно, таким образом, два раза подняться на костылях на второй этаж, два раза спуститься с него и два раза пересечь широкую, снежную площадь. Своего жалованья, однако, на эвакуационном пункте, несмотря на все эти мытарства, получить нельзя. После двухчасового ожидания, неизбежного потому, что десятки прошений толпы офицеров пишут за маленьким столом всего только в две ручки, ты снова получишь не деньги, а всего только[119]аттестат, который надо везти в казенную палату, дабы после нового стояния в двух хвостах выручить наконец причитающиеся тебе 56 р. Таково обращенье с офицерами, каково же с солдатами?
Скажите же на милость, что это все, как не прямое надругательство над теми людьми, которые как-никак жизнь свою отдавали за спасение родины и престиж русского государства. Ей-Богу, удивляться надо и рабьей долготерпимости русского человека и махровому хамству нашего административного аппарата...
Нигде война не производит такого страшного впечатления, как в лечебнице. Здесь у нас в «тяжелых» палатах царствует голое, тупое и совершенно беззащитное страдание. Мне никогда не передать вам того жуткого инквизиционного холода, который каждый раз леденит мою душу, когда я прохожу мимо светлых, чистых, теплых, белых операционных комнат. Верите ли, операционная много страшнее всякого окопа. Всякой опасности на войне вы можете оказать сопротивление своею свободною, нравственною личностью. Одним из главных элементов этой личности является ваша вера в вашу судьбу, которая, вам кажется, не хочет вашей гибели, вашего страдания. Если не хотите веры и судьбы, вопрос можно повернуть проще. В каждой опасности на войне есть элемент случайности. Всякая шрапнель, шумя на вас, может и не попасть в вас, и в этом «может» и коренится в значительной степени ваша сила противоборства и сопротивления.
В лазаретах нет ничего подобного. Над каждой душой, как ястреб над выводком, здесь висит обреченность. Каждый тяжелый, прислушиваясь к шагам санитаров по коридору, определенно знает, что сейчас придут за ним и возьмут на мучительную перевязку, не его соседа по койке, а неизбежно его самого. Людей как субъектов воли и действия здесь почти нет, все они превращены в объекты воздействия чужой воли. Измученные и изнервничавшиеся, они почти не люди, а всего только придатки к своим раздробленным конечностям и кровоточащим ранам. То один, то другой восходит в свой «канун», в свой последний вечер, тупо упираясь мыслью в неотвратимо тупой факт, что завтра его положат на стол, заставят задохнуться под зловонной маской и, превратив в тушу, отрежут ногу или продолбят череп, а быть может, отправят и на тот свет. Изо дня в день тяжелые живут[120]исключительно нежеланием перевязок; изо дня в день они подымают одеяло и. морща нос, принюхиваются к своему зловонию, в страшной тоске боясь бича всех хирургических, заражения крови.
Слава Богу, у нас в лазарете все эти страхи, благодаря исключительно хорошей постановке дела, только порождения мнительной фантазии больных. Но если бы вы знали, что делается в военных госпиталях, где больные мрут, как мухи, а здоровые кутят и безобразничают.
Потом, едва поправившись, недавние тяжелые поедут во врачебную комиссию на описанный мною эвакуационный пункт, поползут на костылях на третий этаж по обледенелым лестницам, где благополучные тыловики встретят их, как прикидывающихся ловчил и вымогателей казенных субсидий.
Да, милый друг, все это большая и грустная песнь.
Одни успешно устраиваются, нагло ловчатся, открыто откупаются, другие беспомощно бьются в тупиках смерти и ужаса, по два и по три раза, еще не окрепшие, возвращаясь на фронт...
Ну кончаю. Шлю свой привет всей 3-й батарее. Напишите поподробнее, как вы живете, переменили ли позицию, есть ли надежда на резерв, кого назначили взводным вместо убитого Аникаева? На ком вы теперь ездите? Как здоровье моей Чадры? Какова покупка А.К.? Напишите, если сможете, поскорее.
В заключение обращаюсь к вам с большой просьбой. По прибытии на эвакуационный пункт я честно и абсолютно точно доложил о методах моего ранения. Меня посчитали контуженным, и я все время получал полевые порционные. Свидетельства же о ранении, т.е. о контузии, у меня из бригады не было. До сего времени пункт удовлетворялся свидетельством о контузии, выданным мне в Пскове. Теперь же он затребовал у меня позиционное свидетельство, а потому мне крайне важно, чтобы бригадное управление как можно скорее выслало мне его. Я думаю, что препятствий к этому быть не может. Раз пункт квалифицировал мое падение, как контузию, то то же может сделать и бригадное управление.
Моя просьба к вам лично и ко всей третьей батарее заключается в том, чтобы вы насели на наше инертное управление и принудили бы его к высылке бумажонки. Если я оную не получу, то мне, как больному, скоро[121]прекратят выплату жалованья и полевых порционных. Положение же мое станет тогда вовсе безрадостным.
Согласитесь, что лежать на спине с ногой, подвешенной к потолку, и расходовать на такое веселое времяпрепровождение за невыплатой казенного жалованья свои деньги, которых по существу нет. ибо они есть только как запродажа своей будущности, — очень скучно.
Еще раз до свидания.
К Сергею Г ну.25 марта 1916 г. Москва. Евангелический полевой лазарет.
На днях в Москве началась весна. Самая первая, самая тихая, самая моя любимая. Я сижу ранним утром (по больничному ранним — 10 часов) у большого окна, и яркий луч весеннего солнца горячит мое левое ухо, золотит желтый тюльпан, который стоит у меня на столе, играет в стакане «ижевского источника», который мне приказали пить ввиду взыгравшей подагры и бросает на белую бумагу яркую теневую сеть моих отросших в больнице волос.
Мне страшно хочется за окно! В нем видно несколько, как говорят у вас в Петербурге, «кварталов» Москвы, 12 церквей и сине-лиловую опушку загородного леса. Переулки и сады Таганского холма уж почернели, синие дымки при выходе из труб уже не подымаются вверх, как в недавние зимние дни, а нервно треплются в порывистом весеннем ветре. Луковки церквей, влажные места железных крыш и некоторые стекла окон горят и лучатся, как крылья жар-птицы в няниных сказках.
Очень извиняюсь, Сережа, за совершенно неожиданное для себя самого написание в строгий и дельный Петербург (хотя весной он бывает много безумнее Москвы) моей весенней московской маниловщины.
Расскажу тебе лучше кое-что о московской жизни, к которой начал было присматриваться, но которая теперь почти скрылась от меня за стенами лечебницы, которую я не покидаю вот уже скоро шесть недель из-за образовавшегося у меня тромбофлебита.
Чаще всего я видаюсь с П.; эти «сношения», как он почему-то именует все наши телефонные и изустные[122]разговоры, происходят у меня в больнице, куда он заходил вот уже 3 раза. Он крайне мил. любезен и внимателен ко мне. За невозможностью по нынешним временам ездить работать в Берлин, он отправляется в подмосковный монастырь, где. ходя по ковру широкого коридора монастырской гостиницы, заканчивает свою книгу. Его манера говорить, несмотря на большое количество лекционных часов, все еще по-старому трогательно-беспомощна, растрепанность жестикуляции характерна и убедительна. К старости он может превратиться в подлинного чудака в моем положительном смысле этого слова. К сожалению, в Москве мало кто чувствует его стилистическую оригинальность. Мне кажется, что он сейчас более одинок, чем был прежде, что впрочем вполне понятно, ибо в вопросах войны в философской и общественно-политической жизни Москвы можно найти сочувствие какой угодно ереси, но только не простой правде честного, бескорыстного и справедливого научного ума.
Был я тут как-то на одном философском заседании. Мое первое появление на костылях вызвало по отношению ко мне громадный приток ярко выраженных симпатий, но... видел бы ты, как быстро эта прибойная волна отхлынула от меня, как только выяснилось, что я не ранен, а выброшен из саней. Мне кажется, что если бы я умер от моей ноги, мне все равно не простили бы такой ненарядной смерти. Это общее настроение было так сильно, что я остро почувствовал себя виноватым в том, что разбил представление о поэтичности страдающего фронта. В заседающем обществе, за немногими исключениями, была решительно оскорблена психология серошинельного Грушницкого.
Доклад на религиозно-философскую тему читал известный профессор, экономист и богослов. За столом сидели все старые знакомые: румяный и совершенно поседевший с отросшими волосами и бородой N., большой и несколько неуклюжий, барственно-простонародный в жестах и говоре Z., в писаниях очень воинственный, в личном общении неожиданно миролюбивый ярый славянофил У.; молодой приват-доцент О., вечно почему-то обеспокоенный во время своего «слова» нежеланием своих белоснежных манжет высовываться из черных рукавов щегольской визитки и, наконец, друг против друга, на противоположных узких концах зеленого стола нескладный, сутуловатый[123]взъерошенный М. и длинный, худой Л. Общая школа и общая точка зрения явно связывала их во время чтения и прений тождественными переживаниями, и потому, когда, втягивая свою голову в сутулые плечи, М. демонстративно откидывался назад, Л., подаваясь всем телом вперед, далеко выбрасывал на зеленый стол свои сложенные как бы для молитвы руки. Через несколько секунд Л. снова откидывался назад, а М. снова подавался вперед. Они оба были ужасно смешны и живо напоминали известную кустарную игрушку: медведь и мужик куют железо или пилят дрова (есть разные варианты).
В стороне ото всех, не за столом, но лишь у стола, сидел мой любимый поэт X. За войну, как мне показалось, он постарел и несколько осунулся. Он, видимо, слушал рассеянно и временами насквозь освещался какою-то своей прекрасной пронзительной скорбью.
Доклад профессора не удовлетворил решительно никого. С научной точки зрения он показался большинству не научен, с формально-логической — не логичен, с эстетической — местами безвкусен, с религиозной — не целостен, с метафизической — не трансцендентален, с вероисповедальной — не нужен как всякая философия, с эротической — (вне оной в Москве, кажется, сейчас ни о чем не говорят) недостаточно интимен и недостаточно экстатичен.
Сам профессор в ответ на все эти обвинения в неотчетливости его методологии отвечал, что он надеялся «изваять статую», и это уже недостаток таланта, если у него вышла книга.
Быть может, тебе этот словесный турнир непонятен? Так знай же, что самое позорное занятие — это писать книги. Пол, эрос, Платон, София, статуя — вот лозунг религиозно-философской Москвы. Это настолько всем теперь понятно, что никто не удивился, когда, парируя обвинение У. в книгоделаньи, докладчик заметил, что у самого У-а не только вместо статуй выходят книги, но даже статьи смахивают на «Lehrbuch'n»; а что может быть позорнее для статьи, как, говоря эротическим жаргоном Москвы, — подмигивать хотя бы одним глазом книге. Прения затянулись далеко за полночь, и мне было на этот раз определенно тяжело и неприятно их слушать.
Все время перед глазами стояло озеро Бабит и бурые болота боевых участков под Ригой. Куда-то проходили[124]цепи серых сибирских стрелков, все время в ушах трещали пулеметы, раскатывались орудийные выстрелы, стонали раненые — и не ладно врывались во все это на все лады произносимые слова о святой Софии. В моем оторванном от ученой жизни сознании голубая София превращалась в голубое озеро, а голубое озеро в озеро Бабит. Казалось, что сидящие вокруг зеленого стола ученые и философы сидят вокруг голубого озера Бабит. Казалось, что вокруг стола-озера сидят не то знакомые ученые, не то солдаты-сибиряки, и вместо того, чтобы идти наступать, все говорят, спорят, кричат. Все сливалось в какой-то мучительный хаос, в тяжелый кошмар.
Несколько дней спустя после доклада я был у X., который живет вместе с У., застал там кроме них еще и профессора-референта. Говорили почти все время на темы реферата. Многое, что в публичном заседании меня определенно коробило, производило в уютной и одухотворенной квартире поэта гораздо более приятное впечатление.
В этот вечер я узнал между прочим главную причину нашей войны с немцами. По словам У., она заключается в том, что Лютер отверг культ Богоматери, на что, конечно, нельзя возражать указанием, что половина Германии католичка; X. же видит причину в том, что Гретхен не замолила греха Фауста. Наши сибиряки кончают таким образом молитву Гретхен и спасают душу Фауста.
Я знаю, что обо всем рассказываю тебе сегодня несколько односторонне и заранее соглашаюсь, что в формуле X. есть и своя глубина, и своя красота, и своя историко-философская правда. Но все же мне сейчас глубоко чужд такой метод мышления. Реальность войны, реальность вещей и сущностей так властно стоит передо мной в последнее время, что я решительно отказываюсь рассматривать войну как дополнительную молитву Гретхен. Все это полно блестящей талантливости и субъективной виртуозности, но все это не то перед лицом суровой, трагической действительности. Гадает X. «по звездам», но иной раз я боюсь, что все его слепительные формулы в конце концов лишь прожекторы, заливающие искусственным светом сложно отточенные грани его изощренной личности.
Протестую и протестую окончательно я лишь тогда, когда возвышенная мистика оказывается в совершенно невероятном для меня соседстве с фельдфебельской[125]моралью. Когда мне приходится выслушивать мнения вроде того, что мой протест против командира N Сиб. полка, отдающего за картами приказание, чтобы попавшийся в карточной игре солдат был бы выпорот и отправлен в первую очередь в разведку, — основан лишь на моем интеллигентском непонимании русской души и склада военного быта. Я не понимаю! — Но, ей-Богу, я об этом думал глубже моих собеседников, когда хоронил подпрапорщика, который при ужасной обстановке глубоко в тылу получил пулю в лоб за то, что стоял в этих вопросах на их точке зрения.
Боюсь, что мое письмо очень набухает, того гляди не дойдет. Но у меня всегда так, или не пишется, или уж распишешься.....
Собирали у нас тут в Москве «артисты» на помощь раненым «солдатам». Боже, что было на Кузнецком мосту. Стоял прекрасный весенний день. По только что подсохшей мостовой снова впервые подпрыгивали дутые шины. Послеобеденное солнце красиво играло на граненых стеклах окон и витрин. Мальчишки настойчиво продавали мимозу. Нарядная и веселая толпа густо струилась вверх и вниз по Кузнецкому мосту. Среди нее повсюду мелькали бритые актерские лица. На углу Кузнецкого и Неглинной стоял К-в с опущенным взором, продавая за большие деньги нарядным красавицам возведение на них своих прекрасных очей. Громадный успех имел М-в, не раз повисавший на забрызганных пеной вожжах и уздечках степенно подымавшихся в гору орловских рысаков. Веселою шуткой вымогая у проезжающих деньги, он провожал своих клиентов ударом нарядной трости по жирной спине. Мужчины шутили, дамы смеялись, а он коршуном бросался в их толпу, чтобы найти ту, которая взором и смехом воздавала должное его энергии, веселости и остроумию. Москва превратилась в Венецию — на ее главной улице кипел карнавал. Ну, и слава Богу! Не можем мы скрутить своего настроения ужасами войны — честь нашей искренности. Зачем же приклеивать фиговые листы к вавилонской блуднице.
Но нет! — на следующий день все газеты рассюсюкались на тему о «бедном солдатике» и отзывчивой душе «русского работника сцены».
Господи Боже мой, неужели же не понимают люди, что так нельзя; что достаточно сопоставить в мыслях и[126]чувствах веселый смех жертвовательницы со скрежетом и молитвой умирающего в бурых болотах раненого, чтобы сойти с ума. Но нет, публицисты не сходят с ума, а получают построчно. Не думай, что я чувствую в себе хотя бы только сравнительно высокую нравственную силу. Ничего подобного. Будь я сам двуногим, мне было бы страшно весело. Я только к одному неспособен — к лицемерию и наивному самообману.
Вчера приехала Ольга Александровна, привезла мне твой привет, твое прощение моего длительного молчания и новый обо мне слух, что я не вернусь на фронт. Никак не могу открыть фабрику этих слухов. То меня награждают Георгием, то заставляют служить в крепостной артиллерии, то прикомандировывают к штабу Московского округа... Мне нечего тебе говорить, что я не устраивался и устраиваться никогда не буду. Наоборот, я все время делал и буду продолжать делать все, что меня сможет скорее вернуть на фронт. Но болезнь моя осложнилась. Я могу окончательно поправиться месяца через два, но могу просидеть еще и месяцев 6. В сущности перспектива не из веселых, хотя все же жаловаться не приходится. Итак, судьба очень милостива ко мне.
Ну, Сережа, кончаю. Напиши, что делаешь и как живешь. Я сейчас, главным образом, занят Толстым. Купил себе полное собрание его сочинений и зарылся. Сокрушает и восторгает его единственный дар искренности. Нравственно и жизненно не знаю ничего полезнее Толстого. Чувствую, что раньше страшно недооценивал в нем все, кроме художника. Пренебрежительное отношение к нему наших соловьевцев сплошное недоразумение. В жизненных корнях Толстого более иррациональной глубины, чем у всех нас вместе.
Ну, до свидания пока, жду твоего ответа...
Сергею Г-ну. 18 апреля 1916 г. Москва. Евангелический полевой лазарет.
Вместе со мною в палате лежат еще два офицера. Более противоположных существ я еще никогда не видал. Однако больничная атмосфера превратила их в добрых приятелей.[127]
Первый — круглый, плотный и короткий, второй — острый, худой и длинный; первый — регент деревенского хора, второй — лицеист и помещик; первый — пермский крестьянин, второй — курляндский барон; первый — рваный пехотинец, второй — красноштанный гусар; первый все время раскатисто хохочет, второй — натягивая губы на зубы, беззвучно открывает рот и улыбается одними глазами. Сошлись они только в одном пункте: оба пошли на фронт добровольцами. Однако причины добровольчества снова у обоих совершенно различны. Макарыч, так все мы зовем учителя, пошел по недовольству собственной жизнью и по лютой ненависти к неведомым немцам. Барон пошел по верноподданническим чувствам к глубоко чуждой ему России, да еще потому, что в N-м гусарском полку спокон веков служили все члены наиболее аристократических ветвей его рода, переселившегося с Рейна в Курляндию в 13-м веке.
Просыпаясь, Макарыч сразу же хватает гитару и на всю палату поет: «Она милая моя-а, Волга матушка река-а...». Покончив с Волгой и в придачу с солдатом из Китая, он принимается за кофе. В это время контуженный в спину барон, напившись кофе, занимается своими холеными, элегантными ногтями. Полчаса спустя Макарыч добродушно громит немцев, а барон по прекрасным рельефным картам в «Illustration» тщательно и ревниво следит за всегда неизбежными, по его мнению, успехами немцев. По вечерам они занимаются решением аграрного вопроса. Макарыч, который был изгнан из третьего класса губернского реального училища за то, что перерезал инспекторских индюшат и подговорил пьяного ямщика вломиться в директорскую квартиру и выругать по-русски директоршу, считает себя социалистом. В биографическом смысле социализм означает для него, что его били нагайками казаки, а в программном, что после войны необходимо будет отобрать земли как у пермских Строгановых, так и у всех немецких баронов. Барон, выдержанный и воспитанный, не поддается на эту провокационную выходку Макарыча и, бросая ему «социализм — это вздор, Макарыч», начинает уже мне рассказывать о круглом зале в их замке, где стоят 10 оригиналов Торвальдсена, о старой мебели и севрском фарфоре, об редкостных деревьях в их парке, выводных лошадях и племенном скоте. Любовь барона к своему имению, замку и фарфору[128]потрясательна, причем это не материальная любовь владельца-стяжателя, но какая-то любовь-предание, предание-легенда, нечто глубоко одухотворенное и по-своему красивое. Ценность, разрушение которой социализму будет, во всяком случае, не легко возместить.
Макарыч (лет ему столько же, сколько и барону) уже вдовец и снова жених. Барон, наоборот, в брачных делах, как мне кажется, еще ни разу даже и в мечтах не приближался к женщине. Впрочем, мечта — это неправильное в отношении барона слово. Брак для него по существу вполне рациональная, светски-экономическая комбинация, которая должна послужить на пользу его мистической связи с его родом и майоратом, с которыми он и состоит, в сущности, в подлинно-брачных отношениях.
Однако при всем своем аристократизме барон индивидуально искренне скромен, прост и очень услужлив. Макарыч с утра до вечера таскает его по город\, заставляя то покупать себе помочи, то возить себя по ресторанам и в театр. Барон все послушно исполняет, всюду ходит с ним и по-видимому даже доволен, что временная оторванность от «своего круга» дает ему право на некоторую свободу бытового самоопределения.
Недавно кто-то из наших врачей видел их вместе на улице. Говорят, они были очень смешны. Приуставший Макарыч, сложив костыли, сидел на тротуарной тумбе и отдыхал. Несколько шокированный барон терпеливо стоял поодаль спиною к нему. Напоминали они, по словам доктора, Дон-Кихота с его знаменитым слугой. В результате всех этих совместных скитаний оба доблестных офицера русской армии пришли к неожиданным для каждого из них выводам. Барон решил, что и среди «простых» русских есть очень симпатичные люди, а Макарыч, что если «дельных немцев» вроде наших лазаретных врачей да таких помещиков, как барон, погуще по России пустить, то из этого, пожалуй бы, и толк вышел.
Писать больше не могу, так как уже пришли санитары нести меня на перевязку. Я теперь целыми днями лежу, читать все время надоедает, а потому ты не удивляйся, если после долгого молчания я начну отсылать тебе длиннейшие послания. Пока до свидания, до завтра.[129]
23 апреля 1916 г.
Ну, Сережа, продолжаю. Пускать густо в Россию немецких врачей и помещиков я бы, пожалуй, не стал. Такой трудовой союз Германии и России мне не улыбается. Я боюсь, что он усилит отвратительную заносчивость современной деловой и, с моей точки зрения, даже антигерманской неметчины и то бесконечно-ленивое разгильдяйство, от которого Россия и без немцев сгнивает на корню, как хлеб в дождливое лето. Русский человек работает и работает ладно, бойко и ловко лишь тогда, когда ему неоткуда ждать помощи. Абсолютно необходимо потому, чтобы Россия в результате войны не попала в экономическую кабалу к Германии. Пока у нас под боком будет дешевый немецкий товар, мы неизбежно будем лежать на боку. Конечно, я не разделяю ходячей точки зрения, что враги немцы — люди, которые хотят торговать с нами ради своих выгод, а друзья англичане — люди, которые хотят торговать с нами ради наших выгод. Разница есть, но она не так велика; она. по-моему, заключается только в том, что старый английский" капитал ходит и шествует, а молодой немецкий бегает и скачет. Англичане доставляют нам товары только «английские», а немцы, кроме немецких, еще и «английские сукна» и «русские иконы». В общем же в каком-то измерении вся энергичная промышленная Европа глубоко враждебна России. И не потому только, что в России все еще много Калинычей, но и потому, что из всякого русского Хоря при соприкосновении с Европой, где-нибудь нет-нет да и выглянет азиатская харя. Много еще воды утечет до тех пор, пока мы научимся безболезненному общению с Европой, пока оно перестанет превращать нас то в певчих птиц, то в скотов. И. знаешь, я с самого начала войны не перестаю бояться того, что к концу ее все народы Европы — и наши союзники, и наши враги — чем-то своим «европейским» перекликнутся между собою и тем самым в каком-то, сейчас еще невидимом смысле, встанут все против несчастной России. Вот помяни мое слово!
Но я не совсем об этом собрался тебе написать. Смотря на барона с Макарычем и рассказывая последнему о немцах, которыми он очень интересуется, я невольно много думал о России и о Германии. Не в плоскости экономических отношений, конечно, но в плоскости духовного сродства и духовной чуждости обеих наций.[130]
О чуждости говорить не приходится. Она очевидна и ясна каждому русскому, пожившему два-три месяца в Берлине или Франкфурте-на-Майне. Она переживалась и тобою, и мной, как некое специфическое ущемление русской души всем правопорядком и бытовым укладом современной немецкой жизни. Начну с мелочей. До чего, например, раздражает и запугивает законодательствование всевозможных надписей. Во-первых, надписи запретительные: «не ходить», «не сидеть», «не стоять», «не плевать», «не открывать», «не прислоняться» и т.д., и т.д. без конца. Во-вторых, надписи предупредительного характера: «не забыли ли вы еще чего-нибудь, «привели ли вы в порядок свой туалет», «горячий хлеб вреден для здоровья». Наконец, надписи сообщения: так в вагоне на мыльнице написано, что она мыльница, на полотенце напечатано, что оно полотенце... А если войти в квартиру немецкого ремесленника или профессора, то там уже все предметы хором кричат о себе. Перец кричит, что он перец, сахар — что он сахар, соль что она соль, личное полотенце — что оно для лица, ручное — что оно для рук, подушки просят на них заснуть, большая кофейная чашка заявляет, что она для мужа, средняя — что она для жены, а малая — что она для ребенка. Но совсем непереносимыми становятся надписи, когда они приобретают поэтический или высоко философский характер. Так знаменитое: «Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, denn bose Menschen haben keine Lieder»{1}, красующееся обыкновенно в кабаке, где за кружкой мартовского пива галдят подвыпившие извозчики, в качестве членов местного Gesangverein'a. Или вариант кантовского категорического императива во всех уборных Германии: «Man bittet den Abort so zu verlassen, wie man ihn anzutreten wunscht»{2}...
До чего все это кажется русскому интеллигенту бездарным, смешным и безвкусным. И это впечатление смешной и безвкусной бездарности очень долго тяготеет для всякого русского глаза над всею немецкою жизнью. Я помню первые годы своего пребывания в Германии. Я решительно ничего не понимал. Страна музыки! Вся покрыта[131]хоровыми обществами! Но ведь где соберутся десять русских студентов — там хор; а когда в унисон взвоет немецкая корпорация, или в горах на лужайке захрипит дед, который не поет от старости, запищат дети, которые не поют от малости, и кто в лес, кто по дрова, затянут песенку, толстенький супруг без пиджака и остроугольная супруга, неизбежно сидящая на земле на нижней юбке, с верхнею поднятой к талии, то ведь надо не только «святых вон выносить», но и Баха, Шумана и Вагнера куда-нибудь подальше спрятать.
А пожилые, солидные, очкастые приват-доценты, спешащие в качестве офицеров запаса в день рождения Вильгельма в сознании важности и торжественности момента, без малейшей иронической улыбки, хотя бы только над своею внешностью в «мундирах кайзера» по Гейдельбергской «Anlage» — разве это для русского глаза не сплошная карикатура?
А белобрысые немецкие курсистки в «реформах» и сандалиях с косичками на ушах — разве они не верх безвкусицы?
А чудовищная размеренность в жизни немецких студентов, которые первый семестр все как будто по заказу мало учатся, много пьют, ухаживают за кельнершами, принципиально не целуют дочерей тех профессоров, у которых они бывают на официальных семестровых обедах, которые не избирают ученой карьеры, если у родителей нет капитала, и очень успешно превращают по окончании курса свою корпорацию из органа дружбы и любви в рекомендательную контору германской бюрократии. Разве это не отвратительно в наших глазах?
Наконец, «протоплазма» современной немецкой жизни «феррейн» — что это за чудовищный институт!
Благодаря моему короткому знакомству с извозчиком Фрицом, я ближе всего знаю извозчичий «феррейн», а потому пишу о нем. Думаю при этом, что извозчичий феррейн, как феррейн, ничем не отличается от феррейна инженеров или адвокатов.
Философия феррейна следующая. Дабы извозчику быть первоклассным извозчиком, ему необходимо безусловно верить, что назначение человека быть извозчиком. Так как извозчик, встречаясь с людьми других профессий, не может не поколебать в себе этой веры, то необходимо, что бы он встречался только с извозчиками. Для того же,[132]чтобы общество извозчиков, в целом, не усомнилось в извозчичьей природе всех людей, извозчичьи интересы извозчиков в пределах феррейна расширяются некоторыми общечеловеческими интересами. Отсюда извозчичьи хоровые общества, извозчичьи балы, извозчичьи Früh-schoppen'bi... В результате такого усложненного социального препарирования извозчиков получаются действительно первоклассные извозчики, т.е. не только люди, занимающиеся особой профессией, но люди вполне определенного извозчичьего миросозерцания, люди убежденные, что солнце ярче всего играет не в бриллианте, а на лакированном крыле пролетки, что последние минуты Гете менее значительны, чем рекордные секунды американского рысака, что в России известен отнюдь не граф Толстой, а граф Орлов Чесменский, создатель знаменитой породы рысаков, снимки с лучших экземпляров которых я, к слову сказать, видел на стенах фрицовой комнаты.
Я не защитник дилетантизма и глубоко ценю профессиональное знание и умение. Выше меня ценят его, конечно, немцы. А потому я не понимаю, как они забыли то. что когда-то прекрасно знали, забыли, что жить — это тоже профессия, которая требует и своего вдохновения, и своего мастерства. Боже, какие все немцы: извозчики, профессора и даже актеры — дилетанты жизни. Я хотел было привести тебе еще один пример, но, пожалуй, воздержусь; всего все равно не переберешь. Я хочу только сказать, что вполне понимаю, как чужда для русского интеллигента с его артистизмом и широтою, с его исканием не столько знания, сколько миросозерцания, с его традиционным антимилитаризмом, с его культом женщины и любви, с его мятежным духом свободы, родственным, правда, зачастую духу безалаберности и разгильдяйства, — современная Германия с ее бронзовыми шуцманами, чиновниками олимпийцами, завершенным профессионализмом и вытаращенным взором назойливой закономерности
Однако будем справедливы. Ведь совершенно очевидно, что набросанная мною распространенная характеристика Германии при всей поверхностной верности в своей глубине определенно неверна.
Ведь совершенно очевидно, что все рассказанное мною и в тех или иных выражениях постоянно повторяемое всеми туристами, когда речь заходит о Германии, с[133]какою-то последнею близорукостью игнорирует все наиболее характерные явления германской культуры. Игнорирует и глубинную мистику Беме и Эккехардта, и онтологизм гетевского символизма с его культом вечной женственности, и то, почему Германия — духовная родина музыки и немецкая музыка насквозь религиозна, и то, почему в области философии только немецкая метафизика и немецкий трансцендентализм могут считаться достойными преемниками положительного и сущностного умозрения Греции, игнорирует, одним словом, основную черту Германии: предопределенность духовного облика и жизненных путей немецкого народа ценностями абсолютного, религиозного порядка. А ведь игнорировать все это нельзя, ибо во всем этом по меньшей мере тоже вскрывается сущность Германии.
Но, быть может, ты меня спросишь, как же тебе слить обе эти характеристики в едином образе германского народа?
Многое в моей первой характеристике объясняется, как это ни странно, второй. То, что объясняется, составляет положительную сущность Германии. Многое же не объясняется и своей необъяснимостью указует на ту болезнь немецкого народа, от которой он, Бог даст, исцелится войной, если она только будет им не безусловно выиграна.
Я не могу писать тебе обо всем этом подробно; это тема на целую книгу; однако: немецкая педантичность, аккуратность, профессиональная ограниченность и тупая методичность — разве ониничемне связаны с мудростью Гете: «In der Begrenzung liegt der Meister», или «Wenn ihr Baume pflanzt, so tut's in Reihen, denn sie lasst Geordnetes gedeihen»{3}, и разве тайна его личности совсем не объясняет бесконечно великого значения мелких черт его народа? Не думай, что я не чувствую банальности гетевских изречений (особенно второго). Чувствую ярко и определенно. Но ведь тем и отличаются значительные люди от людей только очень интересных, что первые, становясь банальными, становятся мудрыми, а вторые — плоскими. Я, конечно, не мыслю связать этими замечаниями в каждом немце Гете с почтовым чиновником, но думаю,[134]что они все же объясняют связь рядового немца с единственным Гете в духе и образе немецкого народа.
Немецкая корпорация и семья поют в унисон! — Но разве это ничем не связано с принципом церковного пения Лютера, отвергшего полифонический хор католической церкви? Конечно, связано. Семья, корпорация и церковь поют в унисон, чтобы могли петь все. А вот у нас дома, когда иной раз поют хором, меня заставляют молчать, потому что у меня не хватает слуха. Очевидно, что немцы домашнее пение ощущают ближе к пению церковному, чем к концертному, и выше эстетической ценности звукового феномена ставят процесс слияниявсехприсутствующих в самом акте пения в определенном внутреннем переживании.
Немецкие приват-доценты в мундирах кайзера, конечно, нелепы, но ведь их нелепость слеплена Гегелем, ибо Вильгельм глава немецкого государства, а государство, по Гегелю, воплощение объективного духа. Объективный же дух первая манифестация духа абсолютного. И в то время, как наши приват-доценты пишут сейчас патриотические статьи, немецкие дерутся, как слышно, с патриотизмом, который, вероятно, упрочит веру немецкого народа в то, что «победу творит прежде всего школьный учитель».
Немецкие курсистки в «реформах», конечно, уродливы, но ведь мадонны Дюрера и Кранаха (беру нарочно художников, испытавших наиболее сильное влияние итальянцев) тоже уродливы. Ведь уродство вообще глубоко характерно для немецкого изобразительного искусства. Причина, вероятно, в том, что громадный художественный гений германского народа совершенно чужд всякого артистизма и эстетизма.
Не обвиняй меня в чрезмерном германофильстве; я очень далек от него. Я уже сказал и снова повторяю, что прекрасно вижу нерастворимый в абсолют остаток глубоко чуждой нам немецкой действительности. Нет сомнения, что в восходящей через 71-й год к зениту своей материальной силы и славы молодой промышленной неметчине Берлина, Франкфурта и Эссена есть элементы, грозящие гибелью милой моему сердцу Германии Йены и Веймара. Нет сомнения, что в неметчине есть шуцманы, не спасаемые в Гегеле, промышленный империализм, глубоко чуждый идее богопомазанности монарха, еще[135]вполне живой у Фридриха Вильгельма IV, что в ней нарождается отвратительный, сытый «маммонизм» и его спутник — бытовой позитивизм, тупой, приземистый, надменный и самонадеянный.
Войну нам, конечно, объявила молодая восходящая «неметчина». Но ведет она ее, умело эксплуатируя идеалистические силы старой Германии. В этом я не раз убеждался, беседуя с пленными и видя, как немцы идут под огонь.
Если в истории есть смысл и справедливость, то смысл этой войны должен для Германии вскрыться в возвращении немецкого народа путем страдания и испытаний наших ужасных дней в лоно его подлинной духовной сущности, в победе Веймара над Ессеном, в победе Канта над Крупном.
«Dinge vergehen, verm sie ihrem Wesen untreu werden»{4}, писал когда-то Шеллинг. Дабы Германия не погибла, она должна преодолеть в себе современную неметчину.
И если наша вооруженная мощь могла бы помочь еще живым духовным силам Германии в их борьбе против Крупна за вечную сущность германизма, то наши военные победы над Германией могли бы осмыслиться, как неоценимые дружеские услуги.
Подчеркиваю, что я имею в виду исключительно победы русского оружия. Ни Англию, ни Францию лучшие люди подлинной Германии никогда не смогут ощутить, как родные и близкие себе лики. Не смогут потому, что полет германского гения всегда был чужд духу этих «передовых демократий». Глубоко значительны слова Стендаля, что немецкая философия — это самосознание германизма — вид «тихого и безвредного помешательства».
Не так обстоит дело с Россией. Я, ни минуты не колеблясь, утверждаю, что в плоскости того, что Гете определял термином «Wahlverwandtschaft»{5}, из всех народов Европы наиболее близки друг другу Россия и Германия. Сродство обеих наций заключается в том, что Россия, так же как и Германия, определена в своем духовном облике и в своих жизненных судьбах ценностями абсолютного[136]религиозного порядка. Все религиозное, философское и художественное сознание России согласно свидетельствует об этом. Не опровергает этого положения и позитивизм нашей радикальной и социалистической интеллигенции, так как на дне его почти всегда таилось устремление к нравственному преображению социальной жизни. Я не стану тебе подробно развивать эту мою тебе известную, в общем славянофильскую концепцию России. Напомню только мимоходом, что я всегда усматривал разительное сходство между немецким романтизмом и нашим славянофильством. Это сходство не простое влияние — оно выражение глубокого духовного сродства, сродства-избрания.
Что всякое сходство предполагает различие и что любое родство возможно при громадных противоположностях — это банальности, которые не требуют доказательств.
Нет потому ничего удивительного и для моей точки зрения непреодолимого в том, что при всем утверждаемом мною родстве России и Германии я, вполне владеющий немецким языком, чувствую себя в Германии на улице и в кафе инопородным иностранцем, а в любой таверне Флоренции или Рима, несмотря на то, что по-французски говорю слабо, а по-итальянски лишь жестикулирую, совершенно как дома.
Но это так, мимоходом. Мне хочется наметить иную разницу. Важно то, что абсолютное постигается Германией прежде всего в его рационально-духовном аспекте. Отсюда эллинизм Эккехардта, критицизм протестантизма, трансцендентализм и метафизика, как господствующие формы немецкой философии, морализм немецкой этики и жизни.
России же, наоборот, абсолютное дано прежде всего в его иррациональном аспекте. Оно у нас не столько постигается, сколько изживается. Мы его не столько созерцаем, сколько томимся и нудимся им. Ясный свет логоса, словно чаша цветка в лепестках венчика, часто исчезает у нас в темном пламенении непросветленного эроса. Наряду с высочайшими духовными прозрениями Россия все время не оскудевает сумрачными вспышками душевного подполья. Нет вопроса, — слова о «Святой Руси» никогда не станут пустым звуком, ибо подлинно верно, что всю Россию «в рабском виде Царь Небесный исходил благословляя».[137]Но верно и то, что в недрах народных таится еще много вулканической, языческой мистики, а где-то и темный звериный лик.
Я мог бы, конечно, в доказательство правильности этой характеристики привести «обильный материал», но я этого не делаю, ибо знаю, что все фактические указания и исторические справки могут быть, во-первых, с успехом заменены другими, противоположными им, а во-вторых, истолкованы в смысле, обратном тому, которым они светятся для меня. В сущности ведь никто не пользуется фактописью, как доказательством, а все пользуются ею, как условным языком для сообщения того, что ясно помимо всяких фактов. Я давно и сознательно усвоил себе такое чаадаевское отношение к фактам, а потому смело характеризую с тою упрощенностью, которую допускает письмо, родство и противоположность Германии и России, как родство и противоположность метафизики и мистики.
В заключение еще одна мысль. Мне думается, что Германия уже прошла через зенит своего духовного развития. В ней все больше и больше гаснет пророческий дар откровения и все больше и больше оттачивается во всех областях культуры острие критической совести. Это, быть может, яснее всего видно на примере современной немецкой философии, которая из системы постижений все определеннее перерождается в систематизацию непостижимостей.
Россия, наоборот, еще только восходит к своему зениту. Правда, она насквозь хаотична, но ее темный хаос светится откровением. Отрицательный же дух критики и запретительная сущность совести ей пока совершенно чужды.
Германской совести грозит опасность критического окаменения. Над русским откровением повисает сумрак хаоса и бессовестности. Спасение Германии в России. Спасение России в Германии.
Обо всем этом я очень много думал на войне. Как я ни желаю помочь победе Веймара над Эссеном нашею победой над немцами, я все же частенько сомневаюсь в осуществимости моего желания. Не знаю, видишь ли ты, насколько нам труднее воевать, чем немцам? Видишь ли ты, насколько Россия, с одной стороны, ниже войны, с другой — выше ее, насколько она, во всяком случае, не[138]на ее уровне? Ниже войны Россия всею своею чудовищной эмпирической бессовестностью, выше — всем своим неподкупным и сокрушительным даром правды.
В Германии нет ни того, ни другого. При этом важно, что деление это не столько раскалывает всех русских людей на два стана, сколько раздирает каждого русского человека на две части. Веришь ли, я знал изумительных по гениальности совести солдат, которые воистину отрицали войну и воистину жалели немцев, как братьев, но одновременно вырезывали из телефонной сети и жгли вместо свечи телефонные провода, оставляя тем самым пехоту без связи с артиллерией, т.е. беззащитною перед самой простой реальной смертью.
Перед лицом таких фактов иной раздумается, как бы наше русское откровение вне совести не привело бы нас к откровенной бессовестности и только.
Ну, Сергей, кончаю. Страшно устал писать; неудобно в постели. Писал это письмо целых три утра. Думаю, что ответил почти на все затронутые тобою вопросы. Ты спрашиваешь, как мое здоровье. Скверно. Флебит осложнился за последнее время в почках. Несколько дней были безумные боли. Теперь легче. Через месяц, другой, если обрету подвижность и если постановит эвакуационный пункт, отправлюсь в Ессентуки, где буду ходить на водопой, как буйвол сидеть в грязи, как англичанин на заокеанском пароходе трястись на Цандеровском аппарате и, как Лермонтов, ходить на музыку.
К жене. 12 ноября. 1916 г. Шумляны. Галиция.
Вот уже 4 дня, как я прибыл на батарею. Ехал я целых пять дней.
После того как поворот платформы Брянского вокзала окончательно скрыл от моих взоров всех провожавших меня и последнюю тебя, я долго стоял у окна в коридоре вагона и смотрел в темную ноябрьскую ночь.
Было и страшно грустно уезжать, и радостно возвращаться в свою батарею; где-то на окраинах души минутами возникала, не устрашая, но все же глубоко волнуя, почти что забытая «мелодия боя»; но прежде всего было[139]хорошо и спокойно оттого, что сделал правильно: победил все соблазны, и, в сущности, добровольно решил оставаться до конца «на посту».
В моем купе ехало еще два офицера. Пожилой корнет из запаса с лицом грузинского князя и совсем еще молодой пехотный прапорщик, возвращавшийся из отпуска на позицию. Разговор, как всегда почти среди офицеров, вертелся вокруг женщин. Корнет, стоя в дверях купе, развивал теорию, что вся поэзия жизни только в женщине, по его терминологии в пупсе, и что все пупсы делятся, как лошади по статьям, на три основных сорта: на «чистокровных пупсов», на «полупупсов» и на «вовсе не пупсов». Прапорщик уныло доказывал, что «бабы — одно несчастье», в подтверждение чего и приводил «факт», что он из-за них «пролечил в Москве последние цельные сапоги» и возвращается в дырявых.
Слушать все это было решительно невмоготу, я забрался к себе на верхнюю полку и, кажется, скоро заснул.
До Киева ехал с некоторыми удобствами. Дальше, и особенно по Галиции — отвратительно. Последний перегон в 25 верст поезд шел битых 4 часа. В вагоне четвертого класса было невероятно тесно и душно. В Козове на этапе, где пришлось ночевать, холод, грязь, клопы. Возвращающиеся в части по предписанию раненые офицеры ждут навозные мужицкие подводы иной раз по нескольку суток, а возвращающиеся из отпуска так и «шпарят» по 50 верст пешком. Одним словом, все то же беспросветное хамство русской государственной власти, которое меня так возмущало в Москве.
Я сделал большую оплошность, не сообщил на батарею, чтобы мне выслали лошадей прямо в Козов, и потому был вынужден страшно медленно передвигаться на этапном галицийском крестьянине. Относительно приятно ночевал в Подгайцах в совершенно неожиданно благоустроенной офицерской ночлежке. Утром встал рано, часов в 7 и вышел на крыльцо. Было почти совсем темно и очень холодно. Весь окутанный свежевыпавшим снегом, маленький городишко спал крепким тыловым сном. На противоположной стороне улицы трепетало несколько лазаретных флажков. В одном из окон госпиталя горел свет. От загородного моста в гору тянулся двуколочный обоз сибирского полка. Над всею картиной нависала глухая, глубокая тишина. И вдруг она, словно занавес, разорвалась[140]сверху донизу: где-то, совсем далеко, привычным гулом глухо прокатились два пушечных выстрела...
Тебе это, быть может, покажется странным, но эти два выстрела произвели на меня громадное впечатление. В них, словно в глубине морской, утонула моя тыловая душа, и в них же, словно на гребне волны всплыла моя фронтовая. Я быстро вернулся в ночлежку, послал солдата за булкой, попросил заварить чаю и в предчувствии того, что уже завтра утром буду на батарее, стал с нетерпением ожидать моего этапного возницу.
По пути в Завалув я встретил фейерверкера своей батареи. Страшно обрадовавшись ему, я, конечно, засыпал его вопросами; ответы были печальны. Последние бои дорого обошлись бригаде. Оказалось, что вторично ранен Вериго, что убит «маленький кучерявенький офицер 2-й батареи», — я сразу догадался, что Шидловский, — что мы стоим отвратительно — «деревню каждый день обстреливает», что «оба дивизионных новые», что у нас в батарее выбиты и ранены все офицерские лошади, что Владимир Г-ий в Питере на курсах генерального штаба, Евгений в отпуску, а командир «слышно, тоже уходить собираются».
Сразу стало скучно, одиноко, темно и совсем грустно. Взяло тяжелое раздумье, не напрасно ли я возвращаюсь. Есть ли к чему стремиться обратно, не распадается ли уют и дух нашей батареи? Сердце ныло в тоске по несравненном шутнике Шидловском, было жаль Вериго, жаль и убитых лошадей...
Переночевав последнюю ночь в головном отделении нашего парка, я на следующее утро на парковом «чалдоне» двинулся к себе на батарею, решив по пути заехать в управление к нашему бригадному генералу, у которого, помнишь, мы с тобою в Куртенгофе пили красное вино с медовыми пряниками.
Старик ничуть не изменился. Он крепко расцеловал меня, как всегда засуетился, как всегда почему-то сконфузился и, привычно понизив голос, стал с места же, нервно расправляя свои холеные бакенбарды и играя пенсне, ругать на чем свет стоит нового начальника дивизии.
Потом он сверил мои часы с четырьмя своими, как всегда тикавшими у него над постелью, заставил на плане Москвы показать, где живет его жена, только что переехавшая из Иркутска в Москву, и, сказав, что он меня[141]сейчас же представит в поручики, если только ему напомнит об этом его адъютант, который, однако, у него все всегда забывает, — отпустил с Богом на батарею.
По пути к ней я поравнялся со знакомым мне разведчиком того полка, который участвовал в деле под Альт-Ауцем. Мы сразу же узнали друг друга и, двигаясь рядом шажком, естественно разговорились. Он сообщил мне страшно поразившую меня вещь. Быть может, ты помнишь, что при командире батальона, высланного выручать попавшую в плен шестую батарею, находился офицер генерального штаба, очевидно непосредственно виноватый в ее гибели, так как он утверждал, что в том лесу, в котором немцы «взяли» несчастного Грацианова, «противника быть не может».
Так вот разведчик и рассказал мне, что при входе в лес командование батальоном принял этот офицер генерального штаба.
Выстроив весь батальон в несколько шеренг и расположив их одну в спину другой, он начал подавать очевидно нелепые команды: «На коле-ни!» «На жи-вот!» «Молитесь Бо-гу!»
После этого он стал рассказывать, что немцы могут появиться только справа, но отнюдь не слева; в это время, однако, как раз слева раздались немецкие выстрелы.
Эта часть рассказа была для меня не нова: я слышал ее от одного офицера вскоре после Альт-Ауца. Но чем-то совсем новым и потрясающим повеяло на меня от заключительных слов добродушного рассказчика: «Ну мы тогда скоро разбежались, а офицера-то этого ребята, кажись, что тут же и прикончили».
Я раньше слышал версию о его помешательстве и самоубийстве.
Убийство солдатами офицера было, конечно, всегда возможно; но ничем не вызванное признание в этом убийстве было бы год тому назад совершенно немыслимо. В связи с этим рассказом я вспомнил секретные сообщения штаба корпуса о том, что одна из наших частей была вне очереди срочно сменена с позиции в предупреждение самовольного ухода, — невольно связал эти оба факта и решил, что в психологии армии произошел, вероятно, какой-то не совсем благополучный сдвиг.[142]
В таких, несколько неожиданных для себя самого, думах, подъезжал я к батарее. Спустившись с глинистого косогора и миновав какой-то расстрелянный завод, я выехал на главную улицу Шумлян. Проехав по ней всего только несколько халуп, я увидел во дворе одной из них моего Семешу. В ту минуту, как я заворачивал на двор, в дверях уже появился Александр Борисович, а в окне Иван Владимирович. Не успели мы еще по-настоящему поздороваться и перецеловаться, как из соседней халупы прибежал Юркевич. Из офицерского отделения я перебрался к денщикам, со всеми поздоровался, посмотрел, что готовится к обеду, удивился, что обед стряпает мой Семеша (оказалось, что нашего повара Савельева на днях легко ранило, и он в лазарете), и, вернувшись к Ивану Владимировичу и Александру Борисовичу, принялся по всеобщему требованию рассказывать о Москве, лазарете, Петербурге, «веяниях в сферах» и, наконец, о самом главном, о всех веских точках зрения на возможный конец войны.
О том, как я рассказывал, о том, как меня слушали, ты не имеешь настоящего представления. Так рассказывают и так слушают только на позиции.
Одна из «господствующих» точек зрения, а именно та, что война может затянуться и кончиться только к осени 18-го года, вызвала со стороны Ивана Владимировича решительный отпор. Он крепкими бытовыми мазками сочно рисовал все углубляющуюся разруху страны и армии и решительно утверждал, что еще два года войны вконец изотрут Россию.
Из всех его слов, а больше по всему его настроению, я сразу понял, что фронт, за год моего отсутствия материально безусловно улучшенный, в своей духовной силе и спайке сильно пошатнулся.
Я сидел и внимательно слушал. Слушал и остро чувствовал всю бесконечную разницу тыловой отвлеченности и фронтовой действительности.
А Иван Владимирович все говорил, говорил как всегда и мягко, и зло, с большим юмором и с жестокой правдивостью.
«Воевать два года абсурд, потому что мы уже давно перестали воевать. Штабы не воюют: они «приказывают» вниз и «доносят» вверх, втирают очки и стяжают чины. Я воюю, но меньше с немцами, чем с начальством, потому[143]что начальник дивизии пехотный самодур, а командир бригады — махровая шляпа, потому что глупо требовать, чтобы наблюдательный пункт представлял в день по 10 схем в штаб, когда этими схемами ни один черт не интересуется, кроме дивизионных денщиков, которые их крутят на цигарки.
Пехоты у нас нет. Пополнение с каждым разом все хуже и хуже. Шестинедельной выпечки прапорщики никуда не годятся. Как офицеры, они безграмотны, как юнцы, у которых молоко на губах не обсохло, они не авторитетны для солдат. Они могут героически гибнуть, но они не могут разумно воевать.
Продовольствие, фураж — да ведь нам, в сущности, ни того, ни другого не доставляют, все это надо промышлять, за всем надо охотиться, как за дичью, и, ей-Богу, я, батарейный командир, чувствую себя более помещиком в неурожайный год, чем строевым офицером.
Нечего удивляться, что при таких условиях даже у нас, у кадровых офицеров, начинают иной раз опускаться руки и подыматься мысли: не плюнуть ли на все и не податься ли куда-нибудь поглубже в тыл.
Я, конечно, очень рад, что вы приехали, но если бы вы меня спросили, я бы, пожалуй, посоветовал вам оставаться подобру-поздорову в Москве.
Иван Владимирович вообще не склонен к монологам. Его специальность — споры, и в особенности споры с оптимистически настроенным ретивым начальством. Такая тирада, как только что приведенная, для него большая редкость.
Закончив ее, он захлопал в ладоши и велел накрывать обед. Появились пирожки, сардины, разведенная Александром Борисовичем водка. Чокнулись, выпили. Бросили резонерствовать, стали вспоминать. Уют третьей батареи заслонил разруху фронта, и за послеобеденным крепким чаем у меня на душе было уже совсем хорошо.
Ну вот, Наташа, как обещал, так и исполнил. При первой же возможности тщательно описал тебе и мое путешествие, и мой приезд. Смогу ли и впредь писать столь подробно, не знаю.[144]
К жене. 15-го ноября 1916 г. Шумляны. Галиция.
... Мне сейчас писать трудно. Очевидно с непривычки очень сильно действует горячий, сырой, банный воздух еще не просохшего маленького и низкого окопа.
Когда я спустился в него и, зажегши свечу, лег на нары, я как-то сразу заснул. Проснулся к семи вечера с сильным сердцебиением, совершенно туманной головой и острою резью в глазах. Чтобы освежиться, вышел наружу, но страшная тоска пустынных, грязных галицийских холмов, мрак, дождь и опостылевшие одинокие выстрелы винтовок (звуки, не пули) быстро загнали меня опять под землю.
Начал было читать, но не мог. Полистал Чехова, полистал письма Пушкина и снова лег на нары. В голове словно мельничные колеса вертелись и стучали думы и воспоминания. Стена окопа то набегала на меня как качельная доска, то мерещилась вдали. Жизнь, словно река, вышедшая из берегов, затопляла душу. Ее эпохи и часы, мечты и реальности вне всякой перспективы, все одинаково близкие и настоящие, толпились в окопе около моих нар. В ушах стоял несмолкаемый звон, в висках стучали колеса, и стена окопа все не переставала налетать и отлетать качельной доской. Мне казалось, что я лежу в каюте, а в море подымается буря. И было у меня очень нехорошо на душе.
Паршивая у нас позиция, а как бы не пришлось на ней зимовать. Третьего дня опять обстреливал наши Шумляны. Пустил всего только десять, двенадцать снарядов, а своего добился: четырех убил, трех ранил. Ранил кроме солдата еще и пятилетнюю девочку, галичанку. Лежит несчастный ребенок, пьет клюквенный сок — ни врача, ни помощи, ни ухода. Знаю, что нет ни на что, ни от кого ответа, но все-таки она-то за что помирает?
20-го ноября.
15-го не закончил тебе письма. Дежурство мое вышло неспокойным. Мы все время понемногу постреливали и не было у меня потому хотя бы более или менее сосредоточенного настроения. Сегодня я снова дежурю ночью, но уже на наблюдательном, и вот снова пишу тебе.[145]
У нас все несчастья: третьего дня на правом пункте (я ночую на левом, так что ты не волнуйся) убило нашего старшего телефониста. Вчера мы его хоронили. Не знаю, быть может, я уже забыл впечатление первого года войны, но только вчерашние похороны произвели на меня очень тяжелое и жуткое впечатление.
Отпевали у нас в резерве. Я приехал к назначенному часу, все было уже готово. На скорую руку сколоченный из неструганых тесин гроб стоял прямо на земле, на косогоре, среди голых деревьев. Тело лежало закутанное в овсяной мешок. Лицо закрыто. Простуженный батюшка что-то шамкал, чихал, кашлял и, обходя гроб по невылазной грязи, поскользнулся, почти упал и попал рукой в покойника. Отчитав, он долго рылся в кармане, вынул напечатанную бумажку и велел вложить ее в руку покойника. Кто-то из солдат откинул мешок и, обнажив страшное, желтое, изуродованное лицо несчастного Лопатина, стал настойчиво всовывать ему в окоченевшую руку листок с молитвой.
Все время, пока шло отпевание, налево, в нескольких саженях, происходило другое дело. Убивали и рассекали корову. Слова «со святыми упокой» и особенно почему-то дорогие мне «упокой, Господи, раба твоего» перемешивались с мычанием и ударами топора.
Все же церковь, обряд, красота очень смягчают лик смерти. В своем неприкрашенном виде он бесконечно ужасен.
Сейчас мое письмо прервал телефонист. На правом наблюдательном пункте, где третьего дня убило Лопатина, опять несчастие. Только что прибывшему из запасного батальона телефонисту оторвало не то руку, не то пальцы, точных сведений у меня пока нет.
На левом, с которого я сейчас пишу, много тише. Конечно, летают шалые пули, иной раз «обдаст», как говорят разведчики, из пулемета, а вообще, слава Богу, пока что хорошо.
Бригада наша все тает. На днях нас покидает наш мечтательный звездочет Романыч, который едет в Одессу принимать аэропланную батарею. Из близких людей остаются Иван Владимирович, братья Г-ие, Александр Борисович и Вериго, который еще не вернулся. Хорошо что в нашей же деревне стоит Иван Дмитриевич. Я частенько заглядываю к нему; мы с ним всегда пьем чай под[146]граммофон и перебираем наши воспоминания. Ну пока кончаю. Дымит печь, дым ест глаза... Нога в смысле отека так себе, но вот уже третий день остро болят колена. Сегодня что-то прихрамываю. Прыгать совсем не могу. По дороге на наблюдательный хотел перескочить окоп с водой, но попал в воду-
К матери. 23-го ноября 1916 г. Шумляны. Галиция.
Сегодня на мою долю выпало громадное счастье: тишина и одиночество. Все разошлись по дежурствам, и вот я один в халупе. Вчера вечером, когда я лежал на нарах в батарейном окопе и следил от нечего делать за маленькими полевыми мышами на потолке, ко мне внезапно вошел телефонист и сообщил, что с квартиры по телефону передают, что мне пришла посылка. Я приказал тотчас же распаковать ее, вынуть и прислать мне письма. Через час у меня в окопе уже лежал твой громадный серый конверт.
Если бы я мог тебе передать, как мне было радостно и уютно, медленно перебирая всю нашу с тобою жизнь, читать 108 страниц твоего письма-дневника. Как хорошо, что письмо пришло в вечер моего дежурства, и что на этот раз дежурство протекало исключительно спокойно. Ни разу не открывая огня, я совершенно забыл о войне и окончательно переселился в касимовский домик, который во время чтения словно живой стоял передо мною во всем внешнем однообразии и во всей взволнованности и сложности его внутренней жизни.
В моем первом письме я писал тебе, что по пути в Киев много мучился тем, что в день моего отъезда из Москвы не был с тобою достаточно нежен и душевно внимателен.
И вот, еще не получив этого моего письма, ты мне сама пишешь, как грустно тебе было вспоминать, что я в день моего отъезда был как-то замкнут в себе и далек от тебя. Что мне сказать тебе в свое оправдание?
Видишь ли, если бы я в день моего отъезда был бы еще в Москве, я вероятно заметил бы все то сложное и тяжелое, что в связи с моим вторичным отъездом на фронт должно было происходить в твоей душе.[147]
Но ведь в Москве меня уже не было за много дней до моего отъезда. Я ехал в общем радостно и спокойно и так, как будто не могло быть ничего проще и обыкновеннее, как ехать на войну. Однако, как мне теперь видно, на создание этой спокойной радости ушло много сил, понадобилось много душевного творчества. Думается мне потому, что мое невнимание к тебе было лишь следствием некоторой душевной усталости. Это объяснение причины, конечно, же снимает с меня вины. А потому прости меня, родная.
К жене. 5 декабря 1916 г. Шумляны. Галиция.
...Сегодня мне что-то очень весело. Быть может, оттого, что вчера получил твое письмо, в котором пишешь, как ты в мыслях устраивала наш деревенский флигель и как ездила в Каменку за седлом. Я ошибочно написал «за седлом» вместо «за письмом». Ошибка произошла, вероятно, потому, что во время начертания первых фраз этого письма я был весь в мечтах о нашей будущей жизни, а при слове «Каменка» представлял себе наши летние прогулки верхом.
Заметив описку, я хотел было просто вычеркнуть слово «седлом» и надписать над ним «письмом», но тут мне стало обидно и жаль, что мы не проскачем в твоей голове легким галопом по березовой роще так, как мы только что проскакали в моей. В результате этой моей жалости к тебе получилось нечто совершенно обратное тому, что обыкновенно наблюдается в случаях жалости мужа к жене: вместо того, чтобы скрыть от тебя свое заблуждение, я решил в корне выяснить его тебе, и через выяснение — исцелиться.
Кажется, мое остроумие пустилось галопом и притом далеко не легким. Надеюсь, что это знамение того, что я куплю не чистокровную скаковую, а тяжелого гунтера, но и боюсь, что я распустил мое остроумие в предчувствии того, что мне придется скакать на старом безногом Ворончике. Извиняюсь за всю написанную ерунду и немедленно перехожу к углубленному рассмотрению и мистерии и техники расстановки нашей мебели во флигеле.[148]
Прежде всего я очень счастлив, что так хорошо обстоит дело с пианино, и что ему нашлось прекрасное место. Жизнь в деревне с музыкой — удвоенная жизнь. Ты знаешь, музыка для меня больше, чем только искусство. Она для меня прежде всего преображенная плоть моей тревоги и моих мечтаний. Если ты станешь воплотительницей моей мечты, а моя мечта потому перестанет быть во мне моим раздвоением, то проблема брака будет нами не без остроумия решена, и нам с тобою не придется опасаться, что райская птица мечты обернется черным вороном, который, каркая, совьет свое гнездо на старом тополе у нашего светлого флигеля.
Если после этих провокационных слов ты не станешь по крайней мере Бузони или Гофманом, то я перестану верить в силу любви на земле. Полагая целостность своей личности и судьбы в упорство твоей воли и беглость твоих рук, я временно прерываю это письмо и иду стрелять по немцам, так как на пороге появился телефонист и произнес свое стереотипное: «по цели № 22, ваше благородие».
Отстрелял. Хотел было продолжать письмо, но что-то оборвалось в душе... Наружу веет ласковый ветер. Падает крупный медленный снег и быстро тает на бурых буграх. Идет редкая, унылая, ни на что не надеющаяся перестрелка тяжелыми бомбами. Изредка в пехотных окопах глухо ухают мины. Временами в снежно-туманной дали, как в сонном удушье, что-то скороговоркой пробредит пуле мет... Потом снова все тихо. Тихо, как тихое помешательство.[149]
К жене. 10-го декабря 1916 г. Шумляны, Галиция.
Мне очень грустно, что два моих больших письма, отправленных около пятнадцатого ноября с одним из наших офицеров, все еще не доставлены тебе. Вероятно, над ними придется уже окончательно поставить крест. В них я подробно писал между прочим о том, как тяжело пришлось нашей дивизии в тех боях под Свистельниками, за которыми мы так внимательно следили по газетам накануне моего отъезда, и о гибели Шидловского.
Недавно с аукциона продавали его вещи. Маленькая халупа второй батареи была битком набита народом. Шумел веселый разговор. Офицеры до начала торга присматривались к вещам покойного: кто-то примерял полушубок, кое-какие мелочи ходили но рукам. В окно халупы смотрела старинная деревянная церковь, за оградой которой всего только месяц тому назад зарыли несчастного Шидловского.
Принесли молоток. Один из друзей покойного уселся за стол и. потрясая в воздухе новыми шпорными ремнями, торжественно провозгласил: «Три рубля, кто больше?» — «Пять, семь, десять, пятнадцать» — раздалось со всех сторон.
Ремни за пятнадцать рублей приобрел молоденький поручик, который через день уезжал в отпуск с тайным намерением жениться.
Иван Владимирович наметил себе кожаное пальто. Прапорщик Вася седла и оголовье. Кто-то ловчился на полушубок. Аукцион протекал шумно и весело. Зная, что деньги с продажи пойдут очень нуждающейся матери покойного, все старались заплатить как можно дороже. Это благородное стремление обертывалось, однако, настоящим азартом; конкуренты тщательно подсиживали друг друга, и когда кто-нибудь из разжигателей внезапно попадался на свою собственную удочку и за крупную сумму покупал ненужную ему вещь, то раздавались залпы дружного хохота.
По окончании аукциона, когда денщики разносили по халупам раскупленные вещи, ко мне подошел штабс-капитан Ю. и задумчиво сказал: «Да, дорогой мой, дожили мы: когда убили Рыбакова, как было грустно, что вот был человек, и не стало человека; а теперь ничего-то мы с вами не чувствуем, и нет для нас большой разницы в том, где сейчас живет Шидловский — на батарее или под землей».
Шестого в Николин день мы справляли два батарейных праздника. Утром были в четвертой, вечером во второй батарее. Как все до неузнаваемости изменилось! В четвертой из иркутского офицерского состава не осталось ни одного человека. Рыбаков и Вильзар в могилах, раненый Вериго в Петербурге, Колесников принимает снаряды в Америке. Сильно изменился также и солдатский состав. На молебне в строю между старыми знакомыми людьми[150]всюду стояли какие-то зеленые пустышки недавно присланного пополнения. Конечно, среди него тоже найдутся хорошие люди, но я чувствовал иное поколение, и мне было очень грустно.
Не веселее было и вечером на празднике второй батареи. Такаршевский болен — в Киеве. Шидловский за церковной оградой. Очень тяжело раненный Тарасевич в Петербурге. Слепительный М. — любимый адъютант популярного командующего армией. Как видишь, почти вся бригада переродилась. На празднике, который, кстати сказать, протекает крайне бездарно, была почти исключительно молодежь. Вся она как-то быстро, не поев, перепилась и, не поговорив путем, стала сразу кричать и петь. Пели скверно, хрипло и цинично «Дунин сарафан». Кто-то дирижировал стаканом с шампанским и лил вино прямо на скатерть. Сильно выпивший батюшка держал большую речь о «бабе-дуре Франции» и о «святой Руси-матушке».
Сидевший рядом со мною Женя Г-ий, вспомнив наш красивый батарейный праздник накануне смерти Вильзара — музыку, речи и дружеские беседы — наклонился ко мне и тихо сказал на ухо: «Как непохоже!» — Я кивнул головой. Он крепко стиснул под столом мою руку и глаза его внезапно наполнились слезами. Мы чокнулись и молча выпили неизвестно за что.
В десять вечера мы с ним и с Александром Борисовичем тихо ушли с «не нашего» праздника в нашу батарею. Остальная публика разошлась лишь к четырем утра. Мы были счастливы, что не видали конца.
Завтра снова дежурство и снова батарейный окоп. Он уже давно сложился в аккорд из раза в раз неизменно повторяющихся явлений. Левому боку жарко от печки, а ногам холодно. На потолке пищат мыши, а по небу пролетают снаряды. Направо по фронту оглушительно бьет наша тяжелая, а налево звонко стреляет Иван Дмитриевич. Ночью больная земля, словно от приступа кашля, сотрясается от страшных минных разрывов, а наша батарея озаряется красными вспышками ночных выстрелов. Утром я умываюсь наруже, а дневальный готовит мне чай. По берегу небольшой речонки, позади батареи в это время неизбежно проходят санитарки. Ежедневно, как хлеб в окопы, так раненые из окопов. Если бы ты знала, до чего все это тупо привычно, как совсем не производит[151]никакого впечатления, как совсем не будит ни мыслей, ни чувств. Каждое дежурство я провожу за стрельбою по немцам, за письмами тебе и маме. Иногда я мало стреляю и много пишу, иногда много стреляю и мало пишу. В пять часов вечера меня каждый раз сменяет или Женя, или Вася, или Александр Борисович. Я еду домой и с наслаждением обедаю. Потом страшная толчея в тесной комнате, в которой постоянно чьи-нибудь носки окажутся на столе рядом с хлебом, и непрерывное поступление никем не исполняемых распоряжений и никому не интересных запросов. Вечером некоторое оживление при чтении газет и писем. Затем снова дежурство. Левому боку горячо, а ногам холодно и т.д., и т.д.
К жене. 12 декабря 1916 г. Шумляны — Галиция.
Немец за последнее время что-то очень развозился. Все время не смолкает раскатистая стрельба по нашей пехоте; нам, артиллеристам, тоже слегка влетает. Вчера выбило шрапнелью окна в халупе второй батареи и убило на наше счастье двух крестьянских коров, которых артельщик не преминул поспешно купить по дешевой цене.
Вчера мы целым отрядом во главе с командиром дивизиона ездили на рекогносцировку позиции. День выдался на редкость прекрасный: теплый и тихий; на синем небе ни одного облака. Неприятная сторона таких прекрасных дней — громадное количество немецких аэропланов. Так как наш отряд был довольно многочислен, коней в тридцать, то мы естественно ожидали, что немцы сбросят нам на головы несколько бомб. Некоторая неприятность этого ожидания увеличивалась тем, что наша артиллерия, желая предупредить немецкое бомбометание, усиленно обстреливала аэропланы и потому неустанно обсыпала нас шрапнельными пулями, трубками и стаканами.
Рядом со мной ехал капитан Ю-ч. Когда совсем близко от него зарылся в землю шрапнельный стакан, его маленькая жокейская фигура как-то инстинктивно съежилась на седле. Искренне удивленный таким неожиданным поведением своих мышц, он смущенно посмотрел на меня и сказал: «Да, родной мой, уж не тот человек стал, —[152]бояться, пожалуй, меньше боишься; чем в начале войны, — всё все равно стало, — а ежишься так, как раньше бы себе никогда не позволил».
Знаешь, мне кажется, что все мы стали одновременно и много храбрее, и много трусливее. Храбрее в смысле возможности все перенести, а трусливее в смысле нежелания что-либо переносить. Храбрость окончательно утратила всякое родство с духом самозабвения и с нарядностью поведения, превратившись в пустую душевную нудность, в тупую привычку терпеть, в ужасное «все все равно». Нервы же, конечно, у всех ослабли. Ю-ч один из самых храбрых офицеров, а вот уже и он ежится.
Произошло это, думается мне, оттого, что постоянная опасность перестала ощущаться душою, как новое и значительное переживание, как некая духовная ценность.
Когда-то в страшные минуты в моей душе звучала мелодия, теперь опасность наполняет мою душу лишь отвращением к войне. Раньше мне казалось, что моим ранением и моею смертью ведает мудрая судьба, теперь мне часто сдается, что весь я всецело во власти какой-то идиотической случайности. Раньше свист шрапнели будил во мне метафизическую мысль о человеческой судьбе, возмездии, загробной жизни, — теперь он приводит мне на память запах гнойных бинтов, стоны и крики в перевязочных.
Эта загрязненность фантазии тяжело тяготеет надо мною, прекращая мое духовное неприятие войны в чисто физиологическое к ней отвращение. Вот вчера, например, когда я возвращался с разведки позиции мимо деревни, которую немцы как раз «драли» девятидюймовыми, и слушал безумное кряканье рвущихся чудовищ, у меня разболелась голова и поднялась тошнота. Ничего подобного я раньше никогда не испытывал.
Нога моя совсем нехороша, и я все больше убеждаюсь, что доктор Финк был прав, утверждая, что служить в строю я все равно не смогу. Бродили мы, разыскивая позицию, всего ничего, но все же у меня к вечеру появились сильные боли, и Семеша еле стащил сапог. Очень может быть, что отвращение к войне и состояние ноги заставят меня подать рапорт о переводе в парк.[153]
К жене.20-го декабря 1916 года. Позиция под Тростянцем. Галиция.
В последнем письме я сообщал тебе, что мы ездили разведывать позицию. Это письмо я пишу уже с нового места. Расположились мы очень уютно в лесу в овраге. Окопы построили, благо за лесом недалеко ездить, крепкие и просторные, великолепные конюшни врыли прямо в гору и покрыли крепким грабом. Через овраг перекинули два легких и очень элегантных моста. Вся батарея: позиция, окопы орудийной прислуги, конюшни, помещения ездовых, служба связи, кухня — все в сборе, все размещено целесообразно и красиво, как службы на дворе хозяйственного барского имения.
Первые дни внешней живописности новой позиции далеко не соответствовала внутренняя уютность нашего помещения. Между бревнами пола хлюпала подпочвенная вода, потолок отчаянно протекал, печи дымили и кисло пахло сырой глиной. У меня скучно ныли ноги, ломило локти, я ходил в валенках и фуфайке. После того, однако, как мы вырыли дренажи, отвели воду, высушили окоп беспрестанной топкой при открытых окнах, обтянули стены зелеными палатками и повесили на них несколько мраморных нимф и открыток, стало совсем уютно.
Стало уютно, а мне нужно все это дня через два покидать, ибо я сегодня утром получил от командира бригады бумагу, гласящую, что я «для пользы службы» прикомандировываюсь на два месяца к парковому дивизиону. Пришедшая бумага не неожиданность. Она только неожиданно быстрый ответ начальника дивизии на мой рапорт командиру бригады, в котором я ходатайствовал о переводе в парк «ввиду ухудшающегося состояния здоровья». Рапорт я подал вскоре после того, как написал тебе, что думаю его подать.
Причины, которые меня заставили решиться на уход в тыл, очень многообразны. Уже в последний раз я мимоходом писал тебе, что война перестала меня внутренне интересовать, перестала обогащать меня существенными переживаниями, перестала представлять собою своеобразную духовную ценность. Писал я тебе также и о том, какое я испытывал к ней в последнее время инстинктивное и почти физиологическое отвращение.[154]
Но, конечно, дело не только в одном моем нежелании воевать. Подал я рапорт прежде всего потому, что после месячного пребывания на батарее окончательно убедился, что нести строевую службу серьезно и добросовестно мне все равно не под силу. В последнее время я занял в батарее как-то незаметно для себя самого несколько привилегированное положение: Женя Г-ий и Е-ч решили не пускать меня на передовые наблюдательные пункты, так как дежурства на них связаны с обязательным обходом всего нашего большого боевого участка. В нашей старой третьей батарее такое положение меня хотя и смущает, но все же не тяготит. Но ведь и Иван Владимирович и Е-ч смотрят в лес и, может быть, скоро уйдут. Им на смену придут чужие люди, и тогда в новой третьей батарее мое привилегированное положение станет уже положением ложным. А уйти впоследствии, быть может, и нельзя будет. Сейчас же дело складывается очень удачно: в парке некомплект офицеров, в батарее излишек, и кому-нибудь из нас все равно надо переселяться в тыл. Кандидатов же немного, — молодых прапорщиков не пускает начальник дивизии, а кадровым офицерам переход в парк невыгоден, так как он тормозит производство.
Несмотря на все эти обстоятельства и соображения, я все же долго колебался и на первое предложение начальника штаба дивизии перейти на службу в парковый дивизион ответил отказом. Думается мне, что отказ был неправилен, и что я не буду жалеть о том, что, перерешив вопрос, решил «податься в тыл».
Тактика моего отношения к моему участию в войне была всегда пассивною. Ведь не пошел же я, будучи артиллеристом, добровольцем в пехоту. Почему же мне не идти в парк, раз судьба уводит меня с позиции. Ответ возможен только один: «от ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови, уведи меня в стан погибающих»...
Но ведь это путь героический. Я же совсем не герой. Правда, несмотря на все доводы в пользу парка, какая-то сила во мне долго упорствовала в своем нежелании разрешить мне покинуть фронт. И мне нужно было очень глубоко и искренне заглянуть себе в душу, чтобы понять, что в ней не все обстоит вполне благополучно в отношении самолюбия и даже некоторого духовного кокетства. Как только я рассмотрел эти мотивы, переход в парк стал для меня нравственно обязательным.[155]
Дня через два я нагружаю свою двуколку, забираю моего закадычного Семешу и, садясь в последний раз в качестве полноправного властелина на мою Чадру, которая переходит к Жене, отправляюсь в «парчек». С батареей надеюсь сохранить самую тесную дружескую связь. В конце концов она расположена всего только в трех верстах от головного и в пятнадцати от тылового парка.
Итак, начинается новая жизнь.
К жене.27 декабря 1916 г.Рудники на Золотой Липе.Галиция.
22-го вечером я прибыл в парк и устроился в отдельной халупе. Одиночество меня радует, можно будет много читать и писать. Мой командир, прапорщик запаса из московских коммерсантов, человек милый и покладистый. Наиболее важно для меня то, что он не любит ездить верхом. Это значит, во-первых, что у меня будет лучшая в парке лошадь и, во-вторых, что он будет сидеть дома, так как на экипаже по здешним дорогам далеко не уедешь, а я буду часто ездить на батарею и знакомиться с окружающим меня тылом. Эту программу я уже начал проводить в жизнь. 24-го утром уехал на батарею и вернулся лишь 25-го к вечеру. Сочельник и первый праздник мы провели очень уютно. В окопе горела большая елка. На столе все время появлялись разные яства. Немцы не стреляли. Большего, право, нельзя требовать от праздника на позиции. Уезжать со своей батареи в чужой парк было грустно. Утешала мысль, что в парке встретит Семеша.
У нас с ним очень странные отношения. Когда мы вместе, мы не ощущаем никакой особой привязанности друг к другу, но врозь мы решительно скучаем друг по другу. Еще не было случая, чтобы я приехал и застал Семешу спящим, а если я куда собираюсь без него, то всегда уезжаю с чувством, будто я что-то забыл взять с собою. Когда он получает письма от жены, он мне всегда докладывает об этом, и с неизменною радостью на своем чахлом, скуластом и снулом лице приносит мне из канцелярии твои конверты. За моими вещами он следит с[156]чрезвычайною заботливостью, доходящей порою до попыток стянуть в мою пользу носки Г-го или платки Е-ча... Будучи от природы мужиком хозяйственным и не считающим так же, как и Аркашка Счастливцев, «стяжание» чужого добра «за грех» — Семеша, бесконтрольно владея моими деньгами, не только никогда не взял у меня ни одной копейки, но, часто тратя на меня свои, еще ни разу не напомнил мне о моем долге ему. Мораль у него чисто русская, т.е. конкретная. Он не принимает отвлеченного принципа «не укради», а считает, что обокрасть казну — должно, галицийского помещика — можно, а меня — нельзя. С тех пор, как я принял парковое хозяйство, он исполнился страшной заботой, как бы я не прохозяйничал своих денег, и все время напоминает мне записать то один, то другой расход. Среди паркачей он уже успел охарактеризовать меня как «очень доброго барина», так что у меня отбоя нет от солдат, желающих получить новые рубашки и сапоги.
В общем Семеша не красноречив, и сам редко затевает какой-нибудь разговор. А потому я очень поразился, когда после моего возвращения с батареи, он, стащив с меня сапоги, стал вдруг доказывать, что нам совершенно необходимо замириться, во-первых, потому, что скоро на деревне «исть» нечего будет, во-вторых, потому, что бабы очень вольничают. Насколько я мог заметить, его особенно волновала вторая тема. Он решительно не принимал никаких моих аргументов в пользу борьбы до конца, очевидно, чувствуя их мертвый педагогизм, и упорно продолжал рисовать мне падение нравов в Пермской губернии: «вот у нас, ваше благородие, одна солдатка спуталась с парнем. А он себе еще втору полюбовницу взял. За околицей, кои полюбовницы обе встретимшись, — подрались. Лошадей друг у дружки пораспрягали, волосы и одежу друг на дружке порвали, и обе как есть голые, космачами на деревню прибежали. Тут, конечно, староста обех на двое суток под арест посадил. Только такого дела на деревне сейчас никак не перевесть, потому баба без мужика, без хозяина соблюсти себя никак не может. Опять же парни оченно озорничат и никакой на них управы нетути».
Рассказывал Семеша все это с большим волнением и, кончив, долго не уходил из комнаты, долго мешал огонь в печке. Кажется, хотел он мне еще что-то сказать, да не[157]сказал. Боюсь, не случилось ли какого греха с его Акулиной Алексеевной.
Не знаю, — все это требует проверки, но. судя по всему, что слышишь и видишь вокруг, не только солдатки Пермской губернии не в силах соблюсти себя. Кажется, явление эротической разрухи широко разлилось сейчас по России.
К жене.29-го декабря 1916 г. Рудники на Золотой Липе. Галиция.
...Подлая военная цензура меня решительно душит. Из твоих писем я не получил, правда, всего только четырех, но зато все полученные приходили с большим опозданием и с раздражающей наклейкой, говорившей о том, что они были бесцеремонно вскрыты чьими-то бездельными руками и прочитаны наглыми мужскими глазами. Оказий же в Москву становится все меньше и меньше, так как наши нужды удовлетворяет Киев. Вот я и решил, что начну тебе писать большое письмо без мысли о сроке его отправки, зато и без мысли об отвратительной цензуре.
Да, верно говорят солдаты: «кому война мать, а кому и мачеха». Моя теперешняя жизнь настолько тиха и спокойна, что в сущности я совершенно не понимаю, почему тебя нет от мною. Было бы так просто и так естественно, если бы ты жила здесь. Сегодня на моей утренней прогулке верхом я заехал в первый парк и застал наших паркачей в обществе «эпидемических» сестер из Ухринува. Почему не ты была одною из них? Как я был бы счастлив внезапным появлением тебя здесь.
Моя халупа очень уютна. Она выкрашена в фисташковый цвет, а печь в ней бледно-розовая. Над входной дверью висят шесть глиняных тарелок, из которых одна, вероятно, новейшего происхождения, так как на ней изображено распятие, под которым два австрийца, опустившись на одно колено, спускают курки винтовок. Помнишь аналогичную икону в магазине Журина, что мы рассматривали с тобою в мои последние московские дни? Остальные три стены под самым потолком охвачены[158]каймою вплотную сдвинутых икон. Под ними висят фотографии тех солдат и унтер-офицеров, жены и сестры которых беспрестанно весело смеются в соседней комнате с фельдфебелем, трубачом и Семешой.
Старому «диду». свекру солдатки Констанции, все это очень не нравится. Он страшно дрожит за честь своего сына и, как Цербер, целыми ночами сторожит молодух. Ложится он в 4, 5 утра и тревожно спит всего только до 9-10 часов...
Вчера я был в Подгайцах, небольшом городке верстах в 25 от позиции и в 5 от нашего тылового парка. На рижском фронте таких городков не было, а по возвращении в Галицию я проехал прямо на батарею и как-то не заметил тыла. Вчера же мне так живо вспомнилась зима 1914/15-го года. Город, кроме некоторых кварталов, разбит дотла. Кирпичные развалины загажены, как птичья клетка. По базару и лавочкам праздно шляется типично тыловой солдатский сброд. Среди него грязные, рваные, забитые, пронырливые и насыщенные характерностью фигуры галицийских евреев и евреек. На площади сидит безногий, кривой, с кровоподтеком на месте вытекшего глаза бандурист и что-то жалобно не то рассказывает, не то поет. Вокруг него солдатская толпа, но никто ничего не дает, и совершенно непонятно, как и чем он живет. Впрочем, быть может, он вовсе и не живет, а всего только умирает со своею бандурой на краю вонючей лужи.
На типичной для галицийских, как впрочем и для русских уездных городов, административно базарной площади, в так называемом московском магазине хищно и расторопно торгует — солдатам на наличные, офицерам в кредит — носастый, губастый, жирный армянин, с глазами, ежеминутно утопающими в беспредельной улыбке.
По главной, хорошо сохранившейся улице, где расположены тыловые учреждения, красно-крестные и земские организации, все время «фланируют» земгусары, чиновники, тыловое офицерство и так называемые «кузины милосердия». Кузины кокетничают, мужчины «ярятся», и так безнадежно ясно, что все они хотят «любви», и что для всех них эта «любовь» подобно самим Подгайцам, загаженная клетка, из которой давно вылетела певчая птица.
Один из блестящих представителей этого ближайшего тыла недавно обедал у нас в парке. Кажется, я писал тебе[159]о нем. Ввалившись в комнату в прекрасном полушубке и настоящем каракуле, он дебютировал приказанием выставить ездового под винтовку за то. что тот так бил лошадь по морде, как он частенько бьет своего денщика, о чем он сам рассказал несколько позднее, наивно прибавив, что если денщик не жалуется на инспекторском смотру, так только потому, что он хорошо оплачивает ему шишки и синяки. Затем, раздевшись (новенький гороховый френч казенного сукна и прекрасно сшитые в дивизионном обозе хромовые сапоги «надо уметь дешево одеться на фронте») и усевшись за обед, он предался размышлениям на темы высокой политики.
«На днях Австрия заключит с нами сепаратный мир, потому что император Карл влюблен в свою жену, а жена влюблена во Францию. По заключении сепаратного мира Австрия подарит нам Галицию; мы разъединим Берлин с Турцией и Болгарией, присоединим к Польше и Галиции Познань, получим Константинополь и Дарданеллы. Германия потеряет Эльзас и Лотарингию, все колонии и заплатит громадную контрибуцию. Австрия будет уничтожена, а Турция изгнана в Азию. Произойдет все это через три, четыре месяца»...
Однако с этой серьезной темы и с этой политической программы максимум он быстро перескочил на тему более легкую, на свою эротическую программу минимум.
Вспомнив не без сентиментальности какое-то свое «чистое» школьное увлечение, он с наглой откровенностью рассказал несколько похождений с «кузинами» и кончил тем, что в припадке благородно-либерального негодования обругал «наше правительство», которое не дает чиновникам достаточно частых отпусков и «развращает, не понимая, что оно творит, не только нас, но и наших жен».
Ну, что ты на все это скажешь?
Ведь и такой тип в Петрограде «фронтовик». Ведь и он с апломбом будет рассказывать, что все сестры продажны, что фронт во всех отношениях полная чаша и что наши «серые герои», которых он только что видел «в окопах», требуют «борьбы до конца».
Три термина и одна песенка, созданные, вероятно, фронтом, ярко характеризуют тыловые нравы «великой освободительной войны 1914 г.». «Земгусар» — интеллигент, либерал и защитник войны до конца; внешность под офицера, душа под героя. Звенит шпорами и языком, а[160]на самом деле всего только дезертир, скрывающийся от воинской повинности в общественной организации. «Кузина» — сестра милосердия военного времени. Из-под черного платка выбиваются кудряшки, глаза и губы непомерно подкрашены, лицо напудрено, как у Пьерро. За ранеными и больными солдатами ухаживает между прочим, главным же образом заражает здоровых офицеров, которые «ухаживают» за ней. «Сестрит» — самая распространенная на фронте болезнь, обещанием бесследно излечить которую обыкновенно пестрят последние листы газет.
Песенка тебе, вероятно, известна. «Как служил я в дворниках, Звали меня Володя, А теперь я прапорщик, Ваше благородие. Как жила я в горничных, Звали меня Лукерья, А теперь я барышня Сестра милосердия».Не находишь ли ты, что в приведенных терминах и в этой скверной песенке скрыт целый ряд тем для очень мрачных социологических исследований?
Конечно, не все деятели земгора земгусары, не все сестры милосердия кузины, не все прапорщики военного времени Володи. Но разве трети или даже всего только четверти недостаточно? Конечно, историей уже давно доказано, что войны во все времена имели своим результатом чрезвычайное падение нравственности. Но что мне делать, если я не хочу объяснять историческими законами моральную сущность наших земгусаров, кузин и Володей? Что мне делать, если я равнодушен к истории, но не равнодушен к тому, что раненые солдаты умирают от любви земгусаров к кузинам, а Володи губят нашу армию? Правда, давно сказано, что «все понять значит все простить», но это верно только для разума; нравственно же верно обратное: «все простить значит ничего не понять».
Есть в жизни вещи, в отношении которых понимать значит не прощать, а возмущаться. И подлинный ужас нашего тыла понимают сейчас только те, которые совершенно[161]не понимают этого тыла, не принимают разврата, карт, пьянства, воровства, полной беспечности и полной безответственности.
На позиции все-таки дело совершенно другое. Конечно, в ротах и батареях тоже и играют, и пьют (да почему и не пить, почему не играть), конечно, офицеры фронта, попадая в тыл, в район корпусных штабов и всяких земсоюзных и краснокрестных организаций, не ведут себя как святые, но все-таки есть в самочувствии фронта и тыла громадная разница.
Когда я, бывало, с позиции приезжал в тыл: в полевое казначейство, на почту, в лазарет, в питательный пункт и т.д., то я никогда не воспринимал этого тыла в его подлинном и самодовлеющем облике, но всегда лишь в категории его сходства с той моей настоящей жизнью, от которой меня оторвала война.
Мне, как и каждому окопному офицеру, в образе сестры в окне лазарета виделся образ другой, родной женщины, в образе земсоюзного доктора — доктор Астров и вся поэзия чеховского мира, в скатерти и самоваре питательного отряда — символ душевности и уютности, быть может, невозвратной для меня простой жизни.
Всего этого восприятия для тыловика, хотя бы вот для меня теперь, нет и нет по двум причинам. Во-первых, он слишком глубоко погружен в тыловую жизнь, чтобы обманываться насчет ее подлинной сущности, а во-вторых, он не знает той смертной опасности, которая одна превращает простую и незаметную жизнь каждого маленького человека в ту красоту, намеками на которую и светится для фронтовика тыл.
Сегодня я пил шампанское, встречая Новый год... А завтра меня, быть может, убьют!.. Сегодня я выиграл две тысячи рублей... А завтра меня, быть может, убьют!.. Сегодня мне отдалась сестра милосердия... А завтра меня, быть может, убьют!..Вот фронт.
Я все время играю в карты, часто пью водку и шампанское и время от времени навещаю сестер...
Рядом же со мной, в 15-20 верстах все время убивают людей!..[162]
Вот ближайший тыл.
Это разница и разница страшная. Я ее живо ощущаю, когда приезжаю на батарею. Здороваясь со мною, Женя каждый раз крепко целует меня. Я ему очень благодарен за это. Как-никак я все-таки чувствую грех своего ухода из батареи. И потому благодарен каждому, кто готов отпустить мне мое прегрешение.
1917 год
3-го января 1917 г.
...Тридцатого, не в пример 1914 г., шел дождь. 31-го я ехал на батарею без шинели в одной кожаной куртке и в плаще. Грязь на дороге стояла потопная. Воздух на вкус был совершенно весенний. В темно-шоколадных лужах рябили и искрились солнечные лучи, а дали и леса пряталась во влажных туманах. Голова и ноги моей лошади, мокрые от дождя, казались суше и породистее обыкновенного, и я с наслаждением двигался по холмам и лощинам к знакомым Шумлянским высотам. Версты за 3 до штаба дивизии я встретил пленного немца, который сначала хотел было отдать мне честь, но, подумав, решил лишь вытянуться и прошел мимо, «пожирая меня глазами».
Потом на кавалерийских носилках провезли несколько раненых. Бледные и сосредоточенные, они напряженно смотрели на дорогу, очевидно, боясь, что их вывернут. Взглянув на них, сразу вспомнил, как меня тащили вверх ногами в рижском лазарете и как выронили на лестнице, вспомнил, как, выгружая в Пскове, просовывали на носилках между колесами товарного поезда, и как я, вспоминая в жару Анну Каренину, боялся и протестовал, вспомнил свои ежедневные путешествия на носилках «на перевязку» из второго этажа в первый в Пскове, в Москве, — и тут и там мимо громадного зеркального окна, из-за которого звал надолго заказанный мир, вспомнил все ужасные соседства по перевязочным столам, все темное отчаянье светлых, чистых, белых, теплых операционных... и стало мне очень скверно на душе, ах как скверно...
Внезапно раздался знакомый мечтательный вальс... Корявые, бородатые, заскорузлые, забрызганные грязью сибиряки в подоткнутых шинелишках, сидя на пнях у[163]дороги, дули в медь и перебирали черными пальцами клапаны труб. Оркестр «репертил» встречу Нового года штабом дивизии, куда была заказана музыка...
С ранней юности знакомый, любимый вальс на холмах Галиции... на войне... Господи, какая боль в том, что жизнь проходит; счастье еще, что есть в этой боли и своя красота.
На батарее все готовились к встрече Нового года. Иван Владимирович, уже побрившись, подстригал свою ассирийскую бороду. Вася С., милый и дельный двадцатилетний прапорщик, назначенный к нам в батарею за мое отсутствие, во всем до смешного подражающий своему командиру, страдал, как его дразнили, от невозможности постричь отсутствующую бороду. Все, что он мог, он уже сделал — побрил безусую губу. У принаряженного Ё-ча ласково светились его большие, грустные глаза. Женя Г-ий был красив, нервен и мрачен: убит, уничтожен газетой.
Матрашилов морозил шампанское, у печки подогревалось красное вино. В углу столовой стояла серебром украшенная елка.
В окоп 3-й батареи был приглашен весь первый дивизион.
Уже третий год встречала батарея Новый год на позиции. Из тех, что вышли из Иркутска, в первом дивизионе осталось всего только 4 офицера, во втором — ни души...
Часам к десяти публика стала собираться. В 10½ сели ужинать. Настоящего настроения ни у кого не было. Царила обыденщина и скука: в стуке тарелок не было звона, в звоне стаканов не было песни...
Как-никак, начались тосты, всякие, разные, и под Рождество обойденный молчанием тост Е-ча «за свободную Россию» был на этот раз покрыт громким «ура».
«Пошлемте телеграмму Родзянке, Андреев едет в Петроград и передаст прямо в руки», — предложил Женя Г-ий. «Пошлемте, пошлемте», не слишком, впрочем, убедительно отозвалось несколько голосов.
Закуски, гусь, яблочный крем были давно уже съедены. Водка, вина были также уже уничтожены. Было, вероятно, около двух часов ночи. Е-ч и Женя Г-ий удалились в «дортуар». Я прошел к ним и застал их за составлением телеграммы Родзянке. Женя Г-ий, типичный русский студент, несколько раз сидевший по[164]участкам, подлинная русская «больная совесть», хотел текста более радикального. Е-ч, гораздо более зрелый и по существу и по воспитанию более дипломатически ориентированный человек, настаивал на форме более мягкой.
Я принял сторону Жени, и мы втроем набросали приблизительно такой текст: «Мы, офицеры первого дивизиона, собравшиеся на позиции для встречи Нового года, в тяжелую минуту, переживаемую нашей родиной, в минуту, слившую воедино народ и армию, шлем вам, председателю Государственной Думы, как представителю всей Руси, свой привет. Готовые здесь на фронте исполнить наш долг до конца, мы ждем от Государственной Думы, что она в решительную минутудейственно встанет во главе всех живых сил Россиии осуществит внутри страны тот строй и те начала, без которых все наши усилия здесь тщетны».
Составив эту телеграмму, мы вышли в столовую, и я прочел ее нашей публике. (Подчеркиваю, что все ответственные люди были абсолютно трезвы, «выпивши» были только несколько молодых офицеров).
Первым должен был подписаться подполковник Счастьев, георгиевский кавалер, очень интересующийся политикой человек и, конечно, левый, правых теперь нет.
Прослушав телеграмму, он. однако, отказался ее подписать, сказав, что с содержанием он согласен, но с отправлением нет. так как это может иметь неприятные последствия.
Сидевший на противоположном конце стола Женя Г-ий при этом ответе сразу побледнел, глаза вспыхнули, рот передернулся, и, охваченный лирикой своих тюремных воспоминаний и той «veritas», которая подлинно есть в вине и в истерике, и, наконец, настоящим героическим порывом, он сразу же в упор поставил Счастьеву основной вопрос: «А завтра вы пойдете на наблюдательный пункт или, ввиду того, что это может иметь для вас печальные результаты, — нет?»
Полковник Счастьев смешался. Начав мотивацию своего отказа вполне правильно и искренне нежеланием поплатиться за телеграмму, он возражением Жени Г-го был как бы заподозрен в своей чисто офицерской храбрости. Этого он перенести не мог и стал потому горячо доказывать, что о трусости среди нас, рискующих каждый день своею жизнью, не может быть и речи, что он не[165]подписывается исключительно потому, что такая телеграмма ни к чему не приведет и ничего не сделает. Но тут уж я вступился за Женю и, не пуская Счастьева в желаемую для него лазейку, стал убеждать, что приведенная им первая причина искренна, а вторая нет. На вопрос же Г-го он должен, положа руку на сердце, отвечать так: «На наблюдательный пункт я пойду, потому что мне некуда податься, не становясь мерзавцем, пойду по чувству рабства, принимая это за чувство долга. Телеграмму же я не подпишу, хотя рискую меньшим, потому что подписывать меня никто не принуждает, потому что подпись была бы свободным нравственным творчеством. Но ни чувства свободы, ни чувства творчества я не знаю. Я, господа, не герой, ибо я герой постольку, поскольку я обреченный».
Атмосфера становилась несколько напряженной. Иван Владимирович пытался было, как хозяин дома, свести спор на нет несколькими шуточными замечаниями, но Счастьев слишком остро чувствовал себя задетым, а Г-ий был слишком объективно взволнован, чтобы спор мог так легко погаснуть. Дипломатическое замечание Е-ча, что он вполне понимает Счастьева, что дело в том, «что все мы тратим здесь на фронте такое количество духовной энергии на ведение войны, что требовать от нас еще и общественного и политического творчества просто нельзя, потому что это свыше сил человеческих», — тоже не помогло и спор разгорался.
Полковник Счастьев был очень выдержан. Г-ий крайне несдержан. Оба были очень грустны и оба мне очень нравились. Мое возражение Счастьев пропустил мимо и все больше стал подчеркивать идею «безрезультатности».
Я восхищался Женей. Совсем не диалектик и человек отнюдь не слишком распорядительного ума, он исключительно на почвепредметной объективностисвоего волнения совершенно интуитивно находил на каждое возражение единственно правильную линию ответов.
Так и тут он отвечал, ни на полтона ни в чем не детонируя: «Мы не дипломаты, не политики, не общественные деятели, мы не преследуем нашей телеграммой никакой цели. Совсем просто: Родзянко шлет нам привет и говорит: стойте до конца, спасайте Россию; почему же нам не сметь послать ему ответный привет: мы стоим, стоите и вы и спасайте Россию. Зачем произносить чужое,[166]холодное слово политика, когда есть родное и прекрасное слово Россия».
Ты знаешь, Женя Г-ий единственный человек, в котором я вижу настоящуюболь России.
Газета с разоблачением Протопопова и с известием о взятии Бухареста полна для него той личной, конкретной боли, которую другие люди испытывают лишь при известии о смерти матери или ребенка, об измене жены или о потере всего состояния.
Эта «боль России» в нем так остра прежде всего связанным с нею чувством «вины перед Россией». Периодами он все ходит, ходит по окопу и все спрашивает: «Но что же делать? Что можно сделать?» Весь декабрь он мучился этим вопросом и потому был страшно взвинчен к моменту встречи Нового года.
На его горячую тираду Счастьев не находил ответа и потому упорно повторял трафарет: «Все это так, я никому не навязываю своего мнения, но повторяю, армия не может заниматься политикой. Политических мнений так много, что если каждый пойдет за своим мнением, то армия утратит единство своего духа и настроения».
«Вот это всегда мне говорят», —уже определенно истерически воскликнул Г-ий и, судорожно вскинувшись всем своим существом, выбежал наружу.
Всем стало сразу как-то неловко. Наступила пауза. Я вышел вслед за Женей, но не пошел за ним, а остался на лестнице, ведущей в окоп.
За время ужина и споров лицо природы изменилось до неузнаваемости. Я приехал в абсолютном мраке; сейчас было светло, как белою ночью. Вся грязь и слякоть были похоронены под только что выпавшим нежным снегом. На чистом небе стояла высоко луна, горели звезды. Стволы деревьев четко и строго подымались ввысь. Стояла глубокая тишина. Немцы, вероятно, в связи с их мирными переговорами, не желая нам портить праздника, не стреляли, а только усиленно освещались зеленоватыми ракетами.
Когда я через минуту-две снова вошел в окоп, я как-то вдруг заметил, что многие совершенно пьяны, что скатерть залита вином и кофе, засыпана пеплом и ореховой скорлупой, что в окопе душно, смрадно, что по нему от конца в конец ходят сизые волны табачного дыма.
Е-ч старался объяснить Счастьеву Женю Г-го, а прапорщик 1-й батареи — агроном и «знаток народа» с лицом[167]провинциального трагика «трогал» на балалайке записанную им в таком-то году в таком-то уезде оригинальную народную песню.
Минут через пять вернулся Женя. Он очень искренне просил Счастьева извинить ему его горячность. Счастьев отвечал: «Пожалуйста, ради Бога, — прежде всего свобода мнения. Я ведь думаю, что лично мой отказ ничего не расстраивает», и т.д.
Несмотря на этот призыв к свободе мнений, никто не отзывался; тогда я стал ставить вопрос о подписи каждому поодиночке ребром. Иван Владимирович, не желая, как хозяин, вносить раскол, сумел как-то снять вопрос с очереди; кто-то трезвый дипломатически ответил, что ответит завтра, когда протрезвится. Два молодых офицера кадета всецело присоединились к Счастьеву. «Знаток народа» повернул в максимализм: «Все эти речи имели бы смысл только тогда, если бы мы завтра могли повернуть наши пушки на Петербург»...
Дальнейший опрос не имел смысла: было безнадежно ясно, что резолюцию хотели три радикальных студента и один доктор политической экономии, и что слова о слиянии народа и армии были несколько преждевременны.
Шел уже пятый час утра. Вася С. мертвецом лежал в дортуаре. Сотоварищ Жени Г-го по тюрьмам и участкам вольноопределяющийся Б. и еще кто-то из молодых ходили по очереди в чудный, лунный лес облегчаться от винной перегрузки. Женя, грустный и недовольный собою, сидел, обнявшись со мною, под елкой и временами вскидывался то на того, то на другого отдельными замечаниями: «Е-ч, к черту политику, не будьте дипломатом», или «да, Василий Александрович (полковник Счастьев), наши пути расходятся: после войны я опять в тюрьму, а вы будете командовать дивизионом». Выпивший прапорщик, студент-технолог, наставительно произносил какую-то речь, — аналогию из эпохи французской революции. Но, покрывая всех своим могучим басом, раскатисто громил Россию «знаток народа». «А я вам говорю, вы не можете поручиться, повернете ли вы завтра пушки на Петроград, потому что, имея дело с русским мужиком, вы вообще ни за что поручиться не можете! Спросите-ка вы наших развращенных либерализмом солдат, пойдут ли они за 100 р. в стражники? — Пойдут с... д... все как один пойдут».[168]
«Вы не смеете так говорить», — снова вспыхнул и вскинулся Г-ий. поддержанный Е-м.
«Нет, уж позвольте мне это лучше знать», — продолжал громыхать и жестикулировать «знаток народа». «В качестве агронома (это его постоянный припев) я-то уж вплотную подошел к нашему мужичку. Пятнадцать лет, слава Богу, выбивал я у него соху, навязывая плут, пятнадцать лет я с ним косил и сеял. Нет в нем ни культуры, ни воли, нет для него и слова, а все почему — потому нет у него привычки и уважения к труду. Разве не Русь православная выдумала, что «дело не медведь, в лес не убежит?» Разве не Русь православная говорит, что «работа дураков любит?» Разве не крестьянство наше подменило слово «труд» словами «хозяйство» и «страда?» Не слыхал я что ли, как хвастают наши мужички: «я сам себе хозяин, хошу страдаю, хошу — нет, а хошу и вверх пупом ляжу!» Да, что взять с нашего мужика, посмотрите на нашу интеллшенцию: развращенная, исковерканная, слякотная», — и понес, и понес своим резвым, но неподкованным умом по заезженным потугинским большакам, пока совершенно неожиданно не остановился у славянофильского шлагбаума: «А все-таки она, Русь-матушка, всем народам народ». Схватил балалайку и заиграл «записанную» песню.
Часам к шести все разошлись. Мы остались в своей комнате, поговорили минут с 10 и стали раздеваться. Женя достал мне из своего чемодана белье, сам быстро разделся, натянул одеяло на голову и отвернулся к стене. В 8½ ему нужно было уже вставать, чтобы сменить Л. в «Яме».
Часам к десяти, праздничным снежным солнечным утром, мы все стали помаленьку одеваться. Напившись чаю, я пошел с Е-м на заново оборудованный на могучем дереве наблюдательный пункт нарисовать по просьбе Ивана Владимировича «перспективку». Из этого предприятия, однако, ничего не вышло, ибо забраться на десятисаженное дерево, растущее еще к тому же на краю глубокого оврага, по обледенелым лестницам, переброшенным с сука на сук, я при всем желании решительно не смог; уже на половине лестницы у меня стала кружиться голова и слабеть руки. Странно, что робость душевная преодолевается совершенно легко. Сидел же я, ну хотя бы под Ригой, на такой же вышке у самых передовых окопов, на вышке,[169]пристрелянной немцами, а на эту, в смысле огня еще девственную, необстрелянную и притом тыловую, взобраться не мог. А все потому, что рижская была сделана между четырьмя деревьями и бока ее были забраны елкой, так что лезть надо было как бы внутри башни, а наша новая сделана на одном дереве, и все кругом открыто. Смутилась душа — ничего, ее можно взять в руки, ну, а смутились руки — ничего не поделаешь, их в душу не возьмешь.
Около часу дня, предварительно снявшись на Чадре, я двинулся к себе в парк. Ехать было очень хорошо и весело. Во всех лучших халупах всех деревень, через которые лежал мой путь, были еще спущены шторы. На фоне их виднелись целые баррикады бутылок. Хотя было около двух часов дня, тыл еще не вставал.
К жене.15-го января 1917 г. Рудники на Золотой Липе.
Мое последнее письмо привез тебе солдат нашего дивизионного лазарета. После него я ничего не писал. Одолевают люди. Паркачи говорят, что мой перевод к ним страшно усилил циркуляцию парковой жизни. И действительно, у нас то и дело гости. Сам я тоже за последнее время ездил на батарею, а теперь, вероятно, буду ездить еще чаще, хотя немец и начал ее сильно обстреливать. Последний раз он выпустил 400 тяжелых снарядов. Слава Богу, все обошлось вполне благополучно: контужены только два солдата, да и те легко. Лес же кругом окончательно иссечен, как пилою, срезаны громадные деревья. Наши окопы однако постояли за себя. Е-ч говорит, что после обстрела ему захотелось спеть гимн окопам и хозяйственно-строительной энергии Ивана Владимировича.
Ты не сетуй на меня за то, что буду чаще ездить на батарею, хотя она усиленно обстреливается. Думая о тебе, я, конечно, думал и над тем, что, быть может, оно и правда глупо бесцельно подвергать себя хотя бы и небольшой опасности. Исходя из принципа, которым я всегда руководился при разрешении всех вопросов моего участия в войне, из принципа пассивности и покорности, я мог бы, конечно, прийти к решению не ездить туда,[170]откуда меня увела судьба. Но так рассуждать я совершенно не могу. Такой софистической логике мешает мое отношение к тем людям, которые волею судеб еще долго, быть может, останутся на батарее. Весь этот «глубокомысленный» анализ я произвел исключительно для тебя. По мне же дело обстоит гораздо проще. Я страшно скучаю по батарее, по милым, сердечным людям, с которыми много пережил, и езжу к ним как домой в каждую свободную минуту, совершенно не думая, что батарея обстреливается.
Вчера я был на ужине в штабе нашего корпуса. Ужин был сооружен Владимиром Г-м, который назначен старшим адъютантом штаба корпуса, в честь его брата Евгения, получившего Владимира. Кроме братьев и меня, был еще Е-ч. Остальная публика — обер-офицеры штаба, почти все прошедшие сквозь строй, перераненные; типично штабных тыловиков не было никого.
Ужин был очень наряден. Было много хорошего вина, было уютно, весело душевно и по-боевому сердечно. «Боевое крещение» — - не пустые слова; их реальность видна хотя бы в том, как пьют «боевые друзья» и как «тыловые товарищи». Есть в людях, «видевших войну», нечто особенное, какое-то свое «царство духа»; отмеченное затаенною грустью и тоскою, оно никогда не тонет в вине.
Был между прочим на вечере один еще в 1915 г. раненный поручик запаса Б. Надменный, брезгливый и ломаный, он произвел на меня сначала очень неблагоприятное впечатление. Особенно неприятно было то, что во время ужина он, не стесняясь присутствием среди нас еврея, неустанно и малоостроумно издевался над евреями и не переставал жаргонировать и жестикулировать под одессита. Однако после ужина, когда большинство уже разошлось, он начал вспоминать, как ходил в атаку, и весь изменился. Лицо стало грустным, слова непокорными, а движенья пальцев, собиравших крошки, такими беспомощными и нервными.
Особенно поразил меня следующий эпизод штыковой атаки — перед ним тяжело раненный немецкий офицер; и вот, несмотря на то, что кругом идет бой, а на то, что и он сам может быть ежеминутно и ранен, и убит, он испытывает острое чувство стыда перед немецким офицером за то, что он, поручик Б., здоровый и сильный, стоит над ним, умирающим. Немецкий офицер отдает ему каску[171]и револьвер; Б. оставляет при нем своего ротного фельдшера; они крепко жмут друг другу руки. Атака развивается. Перед ним сдающийся немецкий офицер. Подняв руки, он кричит «Gnade», но в каком-то последнем остервенении тот же Б., который только что обменялся рукопожатием с таким же немецким офицером, ругает этого, сдающегося, последнею поганою русскою руганью, кричит, не помня себя, «бей его, ребята» и слышит страшный крик поднятого на штыки немца.
«Я этот крик потом два месяца слышал и все боялся глаза закрыть, потому что, как закрою, так и вижу проклятого немца», — закончил Б. свой рассказ, причем нервная судорога, словно молния, передернула и осветила его бледное, красивое лицо.
За три года войны я, конечно, много слышал подобных рассказов, но все же я никогда не встречал «героя», так тяжело вспоминавшего о своих подвигах, так определенно сознававшего себя почти что преступником.
Знаешь, Наташа, хотя я и испытываю иногда некоторую ущемленность души по причине моего тылового бытия, я в конце концов все-таки очень счастлив, что кончил воевать.
Думается мне также, что для меня при «моем отвращении к войне» лучшего места, чем парк, сейчас не найти. В штабе было бы еще много хуже, чем в батарее, ибо участвовать в отдании нелепых приказов еще бесконечно отвратительнее и тяжелее, чем в их исполнении. Мы же в парке, слава Богу, не получаем и не отдаем никаких боевых приказаний. У нас просто извозчичий двор для перевозки тяжестей и больше ничего. Я же лично не касаюсь даже и нарядов на гранаты и шрапнели. Как старший офицер, я заведую хозяйством: выдаю сапоги, шинели, куртки, жалование, — забочусь о солдатской еде, хожу на чистку лошадей, — а вообще говоря — решительно ничего не делаю. И это ничегонеделание есть для меня единственное условие некоторой сносности, а временами даже и некоторой приятности моей жизни. Пользуясь им, я иной раз целыми днями шатаюсь верхом, ибо могу только или сидеть у себя в комнате в полном одиночестве — читать и писать, или ездить по гостям, заезжая по возможности ненадолго всегда к новым людям. А людей кругом очень много, и я еще далеко не со всеми перезнакомился.[172]
Так вот и гублю день за днем. Снаружи все как будто и ничего, ну, а по существу дела, конечно, и тяжело, и скучно. Страшная тоска по концу войны, по реальности жизни, по распадению во прах всей призрачной атмосферы клубящейся над миром безумной лжи.
А война становится все ожесточеннее и все ужаснее. Удушливые газы, огнеметатели, горны, минные галереи, бесчисленные аэропланы — всего этого в 15-м году мы не знали, а теперь у нас прямо-таки французский фронт. Что же мы всему этому противопоставим? Техника и организация нам никогда не давались, и те некоторые усовершенствования, которых мы на третьем году войны с грехом пополам добились, решительно ничего не значат по сравнению с тем. что за это время сделали немцы. Каратаевский дух «серых героев» и беззаветную храбрость «суворовских орлов»? Но ведь это фраза — факты же говорят о другом.
У нас в бригаде недавно получен приказ стрелять по своим, если стрелки будут отступать без приказания. В N-ой дивизии опять беспорядки и опять расстрелы. Отношения между артиллерией и пехотой с каждым днем ухудшаются: недавно пехотинцы забросали ручными гранатами наш наблюдательный пункт, а разведчика 5-й батареи нашли мертвым в пехотных окопах со штыковой раной (немецкой атаки в это время не было). Сама же пехота сейчас никуда не годится; необученная, неспаянная и трусливая, она все меньше и меньше выдерживает натиск первоклассных немецких ударных батальонов. Как-никак, все это свидетельствует о такой степени падения пресловутого духа русской армии, при которой продолжение войны становится почти что невозможным.
Но если ослабли наши «баттанты», то уже совсем слабы наши «комбаттанты», как всех «творчески горящих о войне» интеллигентов называет наш препаратор смысла войны И.А.Ильин.
Читая журналы и газеты, получаешь впечатление полной утраты нашей интеллигенцией всякой свободы мнения, страшной штампованности мыслей и слов, поголовного лицемерия и поголовного исповедания готтентотской морали, которое процветает у нас сейчас в двух направлениях: во внутренней политике и во внешней. Во внутренней политике мы в очень многом, к сожалению, похожие на наше правительство, виним во всем одно[173]правительство и думаем, что, свалив Николая, немедленно исцелим Россию от всех бед и напастей, а во внешней, отнюдь не отличаясь политической добродетелью, виним за все «проклятых немцев» и ждем, что Николай-чудотворец во имя свободы и справедливости, дарует нам над ними блистательную победу.
Какая во всем этом ужасная ложь. Порою мне кажется, что облики идей отливаются на всю Россию из какой-то особо тягучей резины. Не теряя в себе потому намека на свою подлинную сущность, они как-то гнусно и произвольно растягиваются и съеживаются в ужасные рожи. Так русский пацифизм превращается сейчас в требование войны во что бы то ни стало, — отсутствие завоевательных тенденций и теория защитительной войны — в стремление уничтожить немцев и получить Константинополь с Дарданеллами, — борьба за угнетенные нации — в военное предательство Сербии, дипломатическое насилие над Грецией и упорное непровозглашение автономии Польши. Мирным русским деятелем почему-то называется человек, хрипнущий от крика «война до конца», а русским солдатом — существо, жаждущее замирения во что бы то ни стало.
Не знаю, может быть, я не прав, но иной раз, внутренне созерцая Россию и всю накопившуюся в ней ложь, я решительно не представляю себе, как мы доведем войну не до победного, конечно, но хотя бы до не стыдного, приличного мира.
Да и кому ее вести?
Единственная сила, способная в принципе на продолжение войны, — самодержавие — стремится с откровенным цинизмом к сепаратному миру. Руководящая интеллигенция в лице прогрессивного думского блока и группы московских славянофилов, все еще исполненная завоевательных тенденций и плененная пустыми фразами о народности войны и «исконных» задачах России, решительно не замечает, что она штаб без армии и, в случае падения самодержавия, во что я мало верю, войны до конца довести не сможет; ибо армия, т.е. весь народ русский, не только с интеллигенцией против своего врага — самодержавия, но и с самодержавием против интеллигенции — за сепаратный мир.
Но над всем этим мало кто серьезно и, главное, искренне думает. Вокруг неразрешимых вопросов[174]внутреннего бытия России царствует полная отрешенность ее сынов от всех задач сознательного национального строительства, кружит какая-то бескрайняя свобода в разрешении себе безудержной спекуляции, лихого воровства, шантажа, кутежа и разврата.
К жене.19-го января 1917 г. Рудники на Золотой Липе.
...Уже скоро месяц, как я в парке. Разница между батареей и парком огромна и определима одним словом. В батарее — война, а в парке войны нет. Причем дело не в том, что, служа в батарее, ты ежедневно рискуешь жизнью, а служа в парке, можешь быть до некоторой степени спокоен за нее. Такое разрешение вопроса было бы несправедливым его упрощением.
Так как сущность войны не в том, что на войне люди учащенноумирают,иначе она ничем не отличалась бы от эпидемии, а в том, что на ней люди беспрерывноубиваютдруг друга, то и чувство войны есть прежде всего нечувство смертной опасности,ночувство участия в процессе взаимного убийства.
Если представить себе такое расположение парка, при котором он ежедневно подвергался бы обстрелу с аэропланов, и совершенно укрытую батарейную позицию, то и тогда служба в батарее была бы участием в войне, а служба в парке неучастием. Если хочешь, этот вопрос можно поставить еще острее. Если я поеду гостить на батарею, переживу там наравне с батарейцами жесточайший бой. то я так же мало смогу считать себя участником этих боев, как и нашего батарейного пса Кабыздоха, которого недавно убило осколком гранаты.
Конечно, это мое рассуждение совершенно не верно в той мистической плоскости, в которой каждый за всех и за все виноват. В этой плоскости в войне участвуют и все не воюющие. В этой плоскости я, подвозя на батарею снаряды, совершенно так же участвую в убийстве, как и батарейцы, выпускающие их. Причем моя вина усиливается тем, что, убивая, я не рискую быть убитым, т.е. убиваю как будто из-за угла.
Все это верно, над всем этим я много думал, все это не раз переживал. Но механизм ежедневной жизни[175]бесконечно силен, и в плоскости того поверхностного самоощущения, которым он окутывает и оплетает нас. все переживается много грубее и проще. Так и для меня сейчас важно то, что в парке один день, как другой, и все дни бесконечно бедны по своему содержанию. Когда на фронте «перестрелка и поиски разведчиков», у нас слышны гармоника, пляска, песни, да по конюшням мерное жевание лошадей. Величайшее боевое напряжение отражается у нас исключительно усилением движения снарядных ящиков по известной ездовым и лошадям, давно надоевшей дороге от парка к парку. Насколько примитивно парковое дело, можешь судить по тому, что у нас до сих пор нет телефонов. Это ли не рай, не обломовское ли царство сна среди нервного напряжения современного боя.
Ввиду такого полного отсутствия профессиональной техники в парковом деле, участие в бою для паркового офицера сводится в конце концов к отдаче приказаний о срочной высылке всех ящиков за снарядами, что не требует ни ума, ни знания, ни находчивости, ни присутствия духа.
Не то в батарее. Выбор позиции, ведение огня, дежурства на наблюдательном, — все это если и не всегда требует в свое распоряжение всего человека, то во всяком случае постоянно грозит возможностью внезапного предъявления такого требования. И от этого у меня на батарее никогда, даже в дни полного затишья, не бывало совершенно спокойно на душе. Каждое письменное приказание, каждый телефонный звонок всегда заставлял невольно настораживаться: — не случилось ли чего-нибудь, не придется ли сейчас выезжать, искать новую позицию, открывать огонь, напрягать свою душу, одним словом, воевать. А затем еще одно. Как-никак, настоящая война свершается только в передовых пехотных окопах, там, откуда враг доступен взору, там, где бой решается рукопашной схваткой, там, где минутами только и вспыхивает настоящая ненависть к вражьему стану. Батарея, как боевая единица, только и жива своею связью с пехотным окопом. Не говоря уже о постоянной координации боевых действий пехоты и артиллерии, т.е. о связи чисто технической, есть между передовым окопом и артиллерийской позицией и какая-то иная, более интимная, более душевная связь, создающаяся постоянными[176]дежурствами артиллеристов на передовых наблюдательных пунктах.
Здесь в парке я часто вспоминаю, как, бывало, возвращался после суточного дежурства в пехотном окопе к себе на батарею. Как каждый раз по возвращении чувствовал какую-то облегченность души, радовался, что часы повышенной ответственности миновали. К вечеру вторых суток это чувство легкости каждый раз исчезало: опять наступала моя очередь идти дежурить, опять моя очередь брать на себя ответственность. Когда же дежурил не я, то дежурил кто-нибудь из нас. Женя, Вася или Е-ч; это конечно разница, но все же дежурство каждого из них вызывало у меня в душе тень тех же забот и тревог, которые даже и в самые мирные дни не покидали меня во время дежурства. Ибо как бы тихо не было в окопе, все равно всегда ждешь, что «оно» вот-вот может начаться. Это чувство какого-то «вот-вот», какого-то кануна и есть то, чего совсем нет в парке, что постоянно присутствует на батарее, что и ощущается, по-моему, как чувство пребывания на войне...
Перечел написанное, думаю, что тебе вряд ли стало понятно, почему безмятежная жизнь в батарее — война; а ранение в парке — мир. Не письмо, а какая-то жвачка на заданную тему. Скучно мне страшно, писать не хочется, а потому ставлю точку и иду в конюшню.
К жене.22-го января 1917 г. Рудники на Золотой Липе.
Какие у нас стоят чудные дни. Вчера утром я с новым товарищем Виктором Павловичем Раген целых три часа, опьяненный всею окружающей красотой, шатался верхом по окрестным холмам и лесам. Какое безумие жить в городе и не видеть этого темно-синего неба, этого узора окристаллизованных и опушенных ветвей, сверкающих и лучащихся на солнце. А до чего ласков был вчерашний день, до чего нежно было в нем предчувствие весны. Ехавший с нами ординарец так и сказал: «На великий пост похоже, ваше благородие».
Сегодня такой же день, если не лучше. Виктор Павлович снова заезжал за мною, но, к сожалению, не смог[177]поехать с ним, так как были кое-какие хозяйственные дела. Раген единственный интересный человек в парке.
Вчера во время прогулки мы с ним много говорили на тему, которая меня сейчас очень интересует, а для него, ввиду некоторых особенностей его биографии, является, быть может, центральной проблемой жизни, — на тему о сущности Германии.
По своему происхождению Раген чистокровный немец, а по месту рождения и воспитания, если и не русский, то все же петербуржец. И вот крайне интересно, как доказательство того, что проблема нации есть прежде всего проблема духа, а не крови, что в то время, как брат Виктора Павловича кадровый офицер кавалерист настолько обрусел, что перевелся в пехоту, дабы крепче бить немцев, Виктор Павлович из русского гимназиста и студента к 25 годам своей жизни превратился в определенного и сознательного германца. Произошел в нем этот перелом в связи с его художественным дарованием. Как только он начал творить, он почувствовал, что его творчеству не хватает подпочвенных струй национальной традиции, и что его национальная двуликость разбивает в нем необходимую для художника цельность личности. Для обретения этой цельности он уехал в Германию, где путем очень глубокого опознания идеи германизма добился восстановления в себе своей исконной немецкой сущности.
Теперь этот рожденный и воспитанный в России человек, по всей своей манере жить и по всему своему внутреннему складу — чистейший немец, может быть, более чистопородный, чем его современники, взращенные Германией, ибо в нем воплотилась чистая идея Германии, а не ее история, в особенности не ее история от 1871-1914 г.
Любовь Рагена к Германии при всей искусственности своего насаждения очень сильна, а его точка зрения на нее крайне парадоксальна, в особенности для русского уха и для 1917 г. Основную сущность ее он видит в чрезвычайной скромности германского духа. Этою скромностью светятся для него и агностицизм немецкой мистики, и критицизм Канта с его отказом от постижения абсолютного, и протестантство Лютера, так выгодно отличающееся простотою и скромностью своего религиозно-нравственного устремления от метафизической выдумки и символической пышности православия и католицизма. Тою же скромностью и сдержанностью чувства отмечена,[178]по мнению Рагена, и любовь немцев к природе, которую они никогда не превращают ни в декоративный пейзаж французов и итальянцев, ни в мировую душу Тютчева, Достоевского и Соловьева. Сам Виктор Павлович ощущает природу, как единую большую семью божьих созданий, с братскою нежностью относится к лошадям, кроликам, собакам и целые часы проводит в упорном созерцании самых обыкновенных предметов, листьев, ушей. пней... Характерно, что он при этом в смысле изобразителя природы ставит Штифтера выше Толстого, ибо при всей своей любви к конкретной природе, к земной ее сущности, не переносит в художнике чувственного ее восприятия.
Среди душевных сил германского народа Виктор Павлович особенно высоко ценит добродушный и мудрый юмор, одинаково чуждый как сарказму Вольтера, так и русскому надрывному смеху сквозь слезы, и дар мужской дружбы, не оттесненный еще в Германии, подобно Франции и России, идеализацией любви к женщине. Идея мужской дружбы занимает в миросозерцании Рагена центральное положение. Так, например, он армию рассматривает, как форму организации мужской дружбы, как священный союз мужчин героев, готовых ежечасно умереть друг за друга, и видит в ней единственно возможную нравственную основу священной германской государственности. При этом, однако, он отрицает войну, как идею уже устаревшую, мертвую и не способную в будущем оправдывать существование армии. Путем такого парадоксального сочетания глубоко положительного отношения к армии и отрицательного к войне, Раген приходит к своей любимой проблеме, вечной цели армии, т.е. к проблеме вечной сущности и вечной цели священной мужской дружбы.
Что в войне повинны и немцы, он, конечно, не верит. Для него догмат, что вина за войну всецело ложится на Великобританию и что русские войска лишь сухопутные силы Англии. Для него ясно, что в России сейчас незаслуженно ненавидят Германию тою последнею религиозною ненавистью, которою Достоевский ненавидел евреев и атеистов-революционеров, для него ясно, что в Германии такой безусловной ненависти от человека к человеку нет, а есть лишь политическая вражда от немца к французу, к русскому и, в особенности, к англичанину.
Нельзя отрицать, что в концепции Рагена есть цельность, есть и правильность. Все его утверждения о Германии[179]в сущности верны. Не верны только его умолчания о ней. Он прекрасно видит, чем Германия держится и творится, и не видит, чем она разлагается и что ей грозит смертью. Он видит ее вечную идею и слеп в отношении ее новейшей истории. Вообще же идеализация Германии приводит его, конечно, к несправедливой оценке других наций. В результате чего ему, хорошо знающему Россию, невозможно внушить, что ненависть Германии к России отнюдь не менее абсолютна, чем ненависть России к Германии, и что в войне виновата не только «коварная» Англия, но вся Европа, ибо война есть нечто иное, как открыто сказанная правда о той невероятной лжи, в которой жили мирные народы культурнейшей Европы.
Когда я говорю с Рагеном и чувствую всю искренность его несправедливости и односторонности, мне каждый раз становится грустно: крепнет боязнь, что войны никогда не переведутся на земле, ибо люди, а потому и нации, так очевидно непрозрачны друг для друга.
К матери.6-го февраля 1917 г. Рудники. Золотая Липа.
Каждый день в 5 часов я прихожу с коновязи в свою халупу. Каждый день к 5-ти уже затоплена печь, и Семеша ставит на стол самовар. Небольшие полузамерзшие окна, вначале освещенные заходящим солнцем, начинают в это время гаснуть, а за стеной заводит свою ежедневную то протяжную, то веселыми переборами песнь фельдфебельская гармония.
Каждый день погруженный в свои воспоминания, безвольный и покорный, я сижу час-два за самоваром и прислушиваюсь к потрескиванью печки, к гармонии Голощапова.
В это время ко мне обыкновенно никто не приходит, и я наслаждаюсь своим одиночеством. За время моего пребывания в парке я страшно привык к этим моим часам. Они стали для меня чем-то вроде свидания для тайно влюбленного. Я знаю, тебе знакомы такие часы — вершины, с которых внутреннему оку как на ладони видно все пережитое: большие, широкие дороги, по которым пошла жизнь, и еле заметные тропы мечты, которых[180]убоялось ее тяжелое колесо, святые колодцы (помнишь святой колодезь недалеко от нашего парка?), увешанные ладанками-воспоминаниями и воспоминаниями-крестами, нетленные цветы в глуши душевной чащи и золотые замки на горных вершинах...
И знаешь, среди всего видимого с вершинного часа нет более таинственных, грустных и волнующих образов, чем образы детства и нежной, ранней юности. Почему это так — не знаю! Быть может, потому, что детской душе слышнее, чем зрелой и жившей, те «песни небес», что на протяжении жизни если и не заменяются, то все же сменяются «грешными песнями земли».
Как странно, как непонятно, что тоску о «песне небес» пробуждает во мне фельдфебель Голощапов, играя галицийским девкам на своей двухрядке затрепанного «Баламута». А все же это так, и так потому, что того же «Баламута» я слышал восьмилетним мальчиком с парома на Угре. Как сейчас помню. Вечер. Тихая, зеркальная речная гладь. Солнце садится. Запад в огне. На востоке небо и Угра синие и печальные. Я стою у столба, по которому, крутясь, бежит протянутый с берега на берег канат. Ты сидишь на скамейке. Лошади словно в каретном сарае переступают по дереву, звенят и побрякивают глухарями. Как-то необычайно пахнет свежестью и чистотою большой реки. С берега, с того берега, на котором при спуске к Угре на юру стоял маленький дом Чертовых (где теперь Кира?), доносится гармоника: тот же «Баламут», под который я сейчас пишу тебе письмо. У меня на душе восторг и неудержимая ко всем и ко всему любовь! Где это все? И как случилось, что я, переживший этот час, посылаю сейчас на батарею снаряды с удушливыми газами? Ничего никогда не понять!
А разве мало было таких часов? Помнишь, как в снежную пургу (сейчас за окном такая же пурга) мы неслись с тобою на Усердном и Рыбке по широкой улице Полотняного завода мимо жестяного черного скакуна на кузнице за моими рождественскими подарками. Всем существом, всем вот сейчас хлынувшим в душу приливом тоски по тебе помню, как я любил тебя тогда, как был благодарен тебе за теплую, душистую муфту, в которую я уткнул свое лицо. Как я хотел сказать тебе в лавке нянина родственника Василия Тимофеевича, что это ничего, что игрушек нет, что я и так счастлив нашей[181]поездкой, нашей любовью! И снова этот совсем особенный, только детству доступный восторг, порыв к добру и любви. Где теперь этот час?
А помнишь, как мы все трое, Липенька, Боря и я, лежали больными в нашей большой детской? В комнате царил почти полный мрак, в дальнем углу на комоде горел ночник. Нам делали гоголь-моголь. Мне сбивала ты. Липенька и Боря уже давно съели свои порции, а я все еще ждал. Ты сбивала дольше всех, но зато я знал, что мой будет самый лучший, и что я раньше всех выздоровлю. Как мне тогда было уютно и прочно, защищенно и безопасно за твоей заботой. Как я верил в тебя — как в Бога. Думается, что переживал я тогда то определенно религиозное чувство, которое Шлейермахер называет «das schlechthinnige Abhangigkeitsgefuhl»{6}. Где этот час?
А где тот самый, быть может, счастливый, когда уже выздоравливающий от тифа, я проснулся в Страстную субботу в твоей комнате, залитой светом множества свечей и наполненной врывавшимся в открытую форточку светлым пасхальным звоном: увидал на столе у постели твои белые розы, двенадцать томов Тургенева, тебя, выходившую меня, нарядную и счастливую и трогательно взволнованного Панечку. Господи, как ликовала душа! Как таяла она в пасхальном звоне, как возносилась вместе с ним... Где это все? И снова спрашиваю я, как могло случиться, что я, переживший такие часы и запомнивший их, посылаю на батарею снаряды с удушливыми газами? Никогда, ничего не понять!
К жене.12-го февраля 1917 г. Рудники на Золотой Липе.
Сегодня с утра собрался писать тебе. Весь день был свободен, много думал о тебе, но вот до поздней ночи не написал ни строчки. Не знаю почему, в последнее время мне часто что-то совсем не пишется. Душа моя не зачерствела, но иной раз устье ее словно чем-то заносит, и тогда она из быстрой реки превращается в стоячее озеро. Еще совсем недавно моя тоска была живой и галлюцинирующей.[182]Теперь она стала безжизненной и слепой. Еще недавно она дарила меня яркими образами, а теперь даже в мечте о тебе я не вижу тебя, а погружаюсь во что-то безобразное и беспредельное. Моя тоска как будто перестает быть формою общения и становится формою моего одиночества. Ее пути все чаще и чаще никуда не приводят. Огибая окружность моей жизни, она впадает все в то же мое одинокое я. Почему это случилось — не знаю. Может быть, я сам виноват. Может быть, сам тем погасил творческую силу моей тоски, что так страстно хотел в последнее время, чтобы она не только приводила с собою мечты, но вернула бы мне мою подлинную, мою настоящую жизнь...
Мне кажется, что если бы внезапно кончилась война, и я вернулся бы в Москву, то решительно не вынес бы своей прежней жизни: театральных репетиций, вернисажей, заседаний, вечного общества, вечных споров, всего того, что, быть может, и очень интересно, но сейчас, по крайней мере, кажется мне ненужным и незначительным.
За войну я страшно привязался к природе. Каждое утро мой первый вопрос Семеше, что на дворе, — мой первый визит еще до чая к лошадям. Как хорошо будет после войны поселиться в деревне и зажить тихой сосредоточенной жизнью. Быть может, впоследствии мое настроение изменится, но сейчас я решительно не представляю себе жизни без ежедневной прогулки верхом или пешком. Только природа вливает в душу то особое чувство мира, которого сейчас так жаждет душа. Какой был бы ужас, если бы война протекала не среди полей и лесов, не на земле и под небом, а внутри какого-нибудь серого бетонного куба.
Скоро снова весна. Как я ее жду. Как вспоминаю апрель 1915 г., мои одинокие поездки на постройку запасных позиций, первые весенние запахи и звуки, краски небесные и земные, тихие, мудрые закаты, уводящие из мира свет и формы, настороженную внимательность тихо переступающей лошади...
Я мечтаю о низких комнатах флигеля в Поповке, об углубленной научной работе, о твоей музыке по вечерам, о старом саде, о далеком благовесте гульневской колокольни. Если бы ты знала, как ждет душа этих полных, круглых, медлительных дней, что подобно солнцу в море будут тонуть в вечности.[183]
К жене.21-го февраля 1917 г. Рудники на Золотой Липе.
Сегодня утром проснулся очень рано. Долго не вставал: было так уютно и грустно смотреть в пылающую печь. Чай пил долго, раздумчиво, не отрываясь от окна, за которым кружил крупный пушистый снег. Потом курил трубку, смотрел, как синею спиралью подымался дым и таял под потолком. Листал присланные тобою книги, Тагора и Розанова, Софокла и Стриндберга. Перелистав, отложил все на полку. Читать не хотелось. В туманной и словно чем-то оглушенной душе тупо ныла разбитая надежда на скорый мир.
За последнее время я внутренне живу какою-то новою жизнью. Война куда-то далеко отошла от меня. Она уже не определяет собою содержания, строя и течения моей жизни. Но несмотря на такую фактическую свободу от войны, я сейчас больше живу и мучаюсь ею, чем раньше: как черная туча облегает мысль о войне весь горизонт моей жизни, как сиделка у постели больного дежурит она бессменно в моей душе.
Правда, мне теперь война уже не видится в образе физической смерти. И ложась по вечерам на свою койку, я уже не представляю себе, как иной раз на наблюдательном пункте, как в меня под утро попадет шрапнель, как я мучительно умираю и меня хоронят где-нибудь во дворе галицийской церкви.
Но ведь смерть мы знаем не только как приходящий извне конец нашей жизни, мы знаем ее еще и как постоянно происходящее внутри нас умирание оскудевающих стремлений, неосуществляющихся надежд, самых нежных мелодий в душе, самых пророческих наших чаяний. Смерть ведь не только в том, что все мы «сойдем под вечны своды», но и в том, что все мы уже при жизни «вечные своды», под которыми годы могильщики хоронят то, что «зачалось и быть могло, но стать не возмогло».
Этот второй образ смерти в последнее время постоянно стоит передо мной. Я не помню, чтобы я когда-нибудь так упорно чувствовал себя кладбищем всех своих жизненных сил и возможностей. Кажется, что каждый день что-то безвозвратно уносит с собою, что каждый день хоронит какие-то единственные возможности, что в тупой праздности моего паркового прозябания ржавеет мысль и плеснеет душа.[184]
А впереди решительно никаких перспектив: отпуск получу, вероятно, не раньше чем через 5-6 месяцев.
К жене.4-го марта 1917 г. Рудники на Золотой Липе.
Сегодня получил твое письмо, в котором пишешь, что прочла, будто я ранен и эвакуирован. Какое твое письмо грустное, какое усталое и какое любящее.
В ответ на твою телеграмму я уже давно телеграфировал тебе, что жив и здоров. Надеюсь, что ты телеграмму получила и очень обрадовалась тому, что тебе пришлось лишь удивиться, что у меня нашелся однофамилец да притом еще в том же чине. Писем я тебе давно не писал, последнее большое письмо послал с Е-ем.
Это письмо отправлю тебе, вероятно, с доктором Б. и с его женой, что 16-го поедут в Москву, на Тверскую.
Сейчас восемь часов вечера. Около двенадцати утра приехал с батареи, в которой пробыл полтора суток, и чувствую себя, несмотря на то, что спал после обеда, очень усталым и нервно свинченным. Глаза режет, голова словно проплывает сквозь какой-то туман, а в мозгу то темнеет, то светлеет. Своим правым ухом я отчетливо слышу совсем легкие потрескивания в печке, а левым какое-то комариное жужжание скверной лампы. Ежедневные резкие раскаты орудий и ребятюший лепет «мамуня, мамуня» за дверью меня сегодня почему-то страшно волнуют. Глаза внимательны, и через них на мозг болезненно давят все краски, пятна, блики и тени комнаты. Пальцам трудно держать ручку, и буквы лишь с трудом слагаются в читаемые слова. Сердце то стонет и бьется в груди какою-то вещею птицей, то кружит и вьется над всем пережитым, зорко высматривая в нем свое туманное будущее.
Как я устал, Наташа, как я хочу сейчас сесть с тобою на наш красный диван.
Сейчас уже не помню какого числа, но, кажется, это было в ночь с 21-го на 22-е. я проснулся в 2 часа ночи от страшного гула. Я засыпал под шум, треск и, знаешь, какой-то приливающий и отливающий вой топящейся печки. Проснувшись, я в первую минуту подумал, что[185]печка что-то очень разбушевалась, но во вторую сообразил, что она погасла, так как против постели на полу не дрожат красные пятна, на которые я так люблю смотреть по вечерам.
Стал прислушиваться и понял, что на нашем фронте разгорается страшный бой. Артиллерийская стрельба была так сильна, что ухо не различало отдельных выстрелов и разрывов: стоял какой-то слитный морской гул, стон, вой.
Сердце захолонуло, захватило дух, и перед глазами сразу и уже на всю ночь встали окопы, наши наблюдательные пункты. А в них кто? Вася, Евгений, Е-ч...
Здесь, в ближайшем тылу объективный ужас боя, боль свершающегося безумия чувствуется как-то особенно остро. Этой остроты я не знал ни тогда, когда был в первой линии, ни тогда, когда был в глубоком тылу. Думаю потому, что этот ужас и эта боль в первой линии заслонены от тебя образом твоей личной смерти, а в тылу образом твоей личной жизни. Тут же в парке, в боевой бездеятельности, вне жизни и вне смерти, я словно на наблюдательном посту всемирной войны.
До серого рассвета я не спал. Утром встал в десять и, выйдя на крыльцо халупы, увидел, как внизу по главной улице деревни тянутся длинною вереницею конные носилки с ранеными. Было страшно, грустно, тревожно и стыдно за свою тыловую праздность и безопасность. Пусть моя нога настолько слаба, что не позволяет мне ранить и убивать врагов, она все же достаточно сильна, чтобы я сам мог быть раненым и убитым. А ведь нравственную приговоренность к участию в войне я никогда не ощущал, как обязанность убивать, а всегда как обязанность быть с теми, что поставлены судьбою глядеть в лицо смерти. Думая все эти думы, я однако ясно сознавал, что все они бездеятельны и мертвы, и не столько потому, что я, конечно, хочу для себя жизни и счастья (эти желания в конце концов поборимы), сколько по совершенно не поборимому физическому отвращению ко всем военным действиям и орудиям войны: к пушкам, прицелам, картам, трубам, окопам и т.д. Но об этом я, кажется, уже писал тебе.
В три часа во время обеда пришел Семеша и доложил, что ко мне приехал поручик Г-ий и прапорщик Б. Я велел просить их обедать, а сам через насколько секунд пошел им навстречу.[186]
Когда я вышел наружу, они уже подходили к халупе. Женя Г-ий. сам какой-то совершенно необыкновенный, усталый, слабый, вел под руку еле переступавшего, согнувшегося, осунувшегося, бледного, с подведенными, как у актера, кровавыми глазами Генриха Б. Я не сразу понял, в чем дело. Оказалось, что страшная ночная стрельба означала для батарей нашего дивизиона невероятный газовый обстрел. Женя вез в лазарет Б. Кроме Б., как отравленные, выбыли из бригады Архипович, Куманин, «знаток народа», Грабовский и 150 солдат.
Все пережившие газы в один голос утверждают, что по силе нравственного потрясения никакой обстрел никакими калибрами не может сравниться с газовыми снарядами
Обстрел третьей батареи начался ровно в два часа ночи. Начали сразу же страшно интенсивно. От первой же очереди в окопе вылетели все стекла. Поручик Л. впопыхах выскочил было из окопа, но тут же с криком «газы» кинулся обратно.
Все схватились за маски, напялили их и бросились на батарею открывать заградительный огонь. Немцы все время вели обстрел отвратительно мерный и беспощадный, не меньше десяти снарядов в минуту.
Ты представь себе только. Ночь, темнота, над головами вой, плеск снарядов и свист тяжелых осколков. Дышать настолько трудно, что кажется, вот-вот задохнешься. Голоса в масках почти не слышно, и, чтобы батарея приняла команду, офицеру нужно ее прокричать прямо в ухо каждому орудийному наводчику. При этом ужасная неузнаваемость окружающих тебя людей, одиночество проклятого трагического маскарада: белые резиновые черепа, квадратные стеклянные глаза, длинные зеленые хоботы. И все в фантастическом красном сверкании разрывов и выстрелов. И над всем безумный страх тяжелой, отвратительной смерти: немцы стреляли пять часов, а маски рассчитаны на шесть. Прятаться нельзя, надо работать. При каждом шаге колет легкие, опрокидывает навзничь и усиливается чувство удушья. А надо не только ходить, надо бегать. Быть может, ужас газов ничем не характеризуется так ярко, как тем, что в газовом облаке никто не обращал никакого внимания на обстрел, обстрел же был страшный — на одну третью батарею легло более тысячи снарядов.[187]
Женя говорит, что утром, по прекращении обстрела, вид батареи был ужасный. В рассветном тумане люди, как тени: бледные, с глазами, налитыми кровью, и с углем противогазов, осевшим на веках и вокруг рта; многих тошнит, многие в обмороке, лошади все лежат на коновязи с мутными глазами, с кровавой пеной у рта и ноздрей, некоторые бьются в судорогах, некоторые уже подохли.
Б. передохнул у нас, попил чаю, и мы повезли его с Женей дальше в лазарет. В лазарете его сердечно встретили знакомые врачи, дали коньяку, поставили койку в своей комнате, ободрили, уложили. Пришел еще один офицер нашей же дивизии, пехотинец, с веселым, широко смеющимся лицом. Левая рука его была в большой повязке. Оказалось, что ему перешибло плечевой сустав и что он приехал из Панорского перевязочного отделения, где ему только что сделали операцию. Боли он не чувствовал и с невероятною дельностью, скромностью и юмором рассказывал, как он вел батальон, какой был шалый огонь, как его ранило, когда он уже почти что выскочил из полосы заградительного огня, и как ему было страшно, уже раненному, снова бросаться через этот же заградительный огонь, чтобы попасть обратно в тыл на перевязочный пункт.
Я сидел и слушал, и было все так хорошо, понятно и уютно. Был бой — в общем удачный для нас; немцы было заняли наши окопы, но были выбиты огнем нашей тяжелой артиллерии, — все вполне понятно. Потери наши в общем невелики, Б., Женя и другие отравленные офицеры отравлены, кажется, не очень сильно, операция руки Колодезникова удалась, он бодр и его не температурит — это хорошо.
Все мы сидим в теплой, чистой, хорошо обставленной комнате фольварка «Адамувка». За стеной тихая старушка, хозяйка фольварка, что молится за всех нас (я писал тебе о ней), раскладывает пасьянс. Мы пьем чай с коньяком и скоро двинемся с Женей по весеннему воздуху в Завалув, в штаб корпуса, где Евгений останется ночевать у брата Владимира, — все это совсем хорошо и даже уютно.
Так всегда чувствуется, пока душа как бы имманентна войне. Но в последнее время со мной все чаще случается, что я, как лошадь из оглобель, каким-то уже одним[188]выработавшимся прыжком выбиваюсь из этой гипнотизирующей имманентности, и тогда все кругом становится тем, что оно действительно есть. — сплошным ужасом и безумием —абсолютною непонятностью.
Непонятно, кто мы, где мы, и зачем мы вместе. Непонятна весна за окном и какая-то старуха за пасьянсом. Раскаты выстрелов за горами и жиденький рояль за дверью. Непонятно, почему на руке у веселого Колодезникова белая повязка, и что значит, что Генриха Б. отравили враги немцы, когда немцы — это Риккерт, Кронер, Мелис, фрау Грамлих, Гейдельберг и Фрейбург. Непонятно, что значит война, заградительный огонь, атака, и уже совсем, до спазмы в сердце, до обморока непонятно, что значит человек с чугунным дном шестидюймового снаряда вместо вырванного этим снарядом лица, который знаками просит доктора заживо похоронить его и радостно кивает головой, убедившись, что доктор после нескольких недоразумений, наконец-то правильно понял его.
О Господи, когда же, наконец, все человечество высвободится из тисков проклятого прагматического понимания и поймет, что для целого ряда вещей единственною формою адекватного постижения является безумие?
Было уже почти темно, когда мы с Евгением, расставшись с врачами и Б., сели в сани и по черному оттаявшему шоссе меж печальных белых холмов грязными деревнями в тусклых огнях потащились в Завалув. Лошади по камням шли почти все время шагом; правый полоз грозил стереться; мы боялись, как бы не пришлось добираться пешком. Говорили мало, лишь изредка Евгений добавлял какую-нибудь деталь пронесшейся над ними страшной ночи. Несколько раз он схватывался за сердце и говорил: «Опять газы». В голове и ушах у него все время свистели полеты и хлопали разрывы снарядов. Я знаю, как оно свистит в ушах, я сейчас еще помню Яблоницу, Походай, Ветлин н Ауц...
Я ехал, все чувствовал, все осязал глазами и душою, — все понимал: я ничего не понимал. Женя также все подлинно постигал непониманием всего, и потому сказал: «А ведь, может быть, Николай Федорович, за этим холмом будет Москва или Арзамас». — «Конечно, может быть», отвечал я ему, — мы подъезжали к Завалуву.
Владимира на квартире не было. Он был в своем оперативном отделении в штабе корпуса. Мы зажгли у[189]него на столе лампу и послали за ним денщика. Через насколько минут Владимир прибежал веселый и бодрый с ворохом интересных бумаг под мышкой, со свежими немецкими радиотелеграммами, возвещавшими о важных событиях в России; он, конечно, уже слышал о газовой атаке, но вот разница: он ее не пережил, она не застряла у него в утомленном мозгу, в сердечных спазмах, в накатывающих временами воспоминаниях запаха и шума, и потому она для него кончилась тем, что «мы удержали окопы». Она кончилась, и он деятельно и бодро перешел к очередным делам. Стоя у стола, он звонко читал немецкие радиотелеграммы, молодой и оживленный, — и совершенно не замечал, что Евгенийничегоне слушает и не понимает, что он не слушает потому, что у него в переносице стоит запах газов, а в ушах плеск и свист разрывов.
Когда Владимир кончил, Евгений сказал: «А знаешь, Володя, пожалуй, Челка падет, она сегодня лежала такая несчастная», на что тот ответил: «Ну она ведь глубокая старушка». А помнишь, Наташа, как мне тот же Владимир писал в лазарет о гибели Османа, сломавшего себе ногу, «о взоре лошади, которого никогда не забыть».
Да, бесконечно много значитвидеть.Не видевший, не переживший войны никогда в ней ничего не поймет, т.е. не откажется от понимания, объяснения и оправдания ее. Уж, кажется. Владимир пережил войну, пережил все ее ужасы, а и он начинает забывать.
Поужинав, мы прошли в оперативную штаба. Там сидело несколько офицеров: каждый засвоимстолом присвоейлампе и в ворохесвоихбумаг. За спиной у каждого карты, с синими и красными изображениями линий наших и немецких окопов. Во всем бросающаяся в глаза вытравленность всякой реальности — все: схема, цифра, сводка, исходящая, входящая, телефонограмма, радиограмма, «наштакор», «наштазап», но совсем не ночь, дождь, глина, мокрые ноги и горячий затылок, лихорадочная, бредовая тоска о прошедшем и сладкая мечта о грядущем, проклятие безответного повиновения и проклятие безответственного приказания, развратная ругань, «мордобитие» перед атакой, отчаянный страх смерти, боль, крики, ненависть, одинокое умирание, помешательство, самоубийство, исступленье неразрешимых вопрошаний, почему, зачем, во имя чего? А кругом гул снарядов,[190]адские озарения красным огнем... О Господи, разве кому-нибудь передать это.
Помнишь наши споры? Я всегда утверждал, что понимание есть по существу отождествление. Война есть безумие, смерть и разрушение, потому она может быть действительно понятна лишь окончательно разрушенным душевно или телесно — сумасшедшим и мертвецам.
Все же, что можем сказать о ней мы, оставшиеся в живых и в здравом разуме, если и не абсолютно неверно, то глубоко недостаточно.
Писать дальше не могу. Сейчас приехал командир из лазарета и прислал за мной своего денщика, который утверждает, что будто есть сведения, что в Петрограде революция...
О если бы это оказалось правдой![191]
Философ на бойне
Федор Августович Степун (1884-1945) принадлежит к славной плеяде русских философов Серебряного века. Он среди основателей международного журнала «Логос» и автор (вместе с С.И.Гессеном) программной статьи «От редакции». Логосовцы, в основном, ориентировались на западноевропейскую философию и противостояли неославянофилам, группировавшимся вокруг издательства «Путь».
С 1914 г. Степун в действующей армии. Он — прапорщик 5-й батареи 12-й Сибирской стрелково-артиллерийской бригады. Бригада формировалась в Иркутске, где Степун проникся евразийскими настроениями. Затем он воевал в Галиции. Через 6 месяцев после выступления в поход из Львова последовал разгром соседней Корниловской дивизии. Сильно пострадала и 12-я Сибирская бригада, после чего ее отвели для пополнения в Куртенгофский лагерь под Ригой. Затем последовали 4 месяца (с июля по октябрь 1915 г.) боев под Ригой. Здесь Степун получил ранение ноги, когда молодые жеребцы понесли сани по лесу и перевернули их. Далее следовали 11 месяцев лазаретов Риги, Пскова, Москвы, Ессентуков.
Находясь в госпиталях, Степун написал и издал по настоянию М.О.Гершензона под псевдонимом Н. Лугин эпистолярный роман «Из писем прапорщика-артиллериста» (Северные записки, 1916, № 7-9). Позже эти письма с выпущенными цензурой местами вошли в книгу, вышедшую в 1918 г. в Москве в издательстве «Задруга». Сюда же Степун добавил письма 1916-1917 гг. Эта книга, помимо «Писем» Степуна. содержала записки В.Ропшина (Б.В.Савинкова) «Из действующей армии (лето 1917 г.)». Книжное издание и представлено в настоящей книге. Беллетристический опыт Степуна оказался столь удачным, что последовал эпистолярный роман «Николай Переслегин» (Париж, 1929; Томск, 1997). Да и все послереволюционное творчество Степуна представляет прекрасную философскую прозу.
Западничество заводило иногда Степуна слишком далеко. И.А.Ильин записал беседу с вышедшим из госпиталя Степуном, который «развивал военный пессимизм» (И.А. Ильин. Собр. соч. Письма. Мемуары (1939-1954). М., 1999. С.345). Ильин почуял в нем «германофила-пораженца». Степун оказал ему, что он «с одинаковым отвращением относится как к идее победившей Германии, так и к идее победившей России» (там же). Ильин возразил, что «непобедившая Россия будет разгромленной, униженной и рабской Россией, лишенной правосознания и разнузданной» (там же). Степун ответил «со свойственной ему кощунственной насмешкой»: «Что же вы хотите, когда русский народ ноуменально предназначен к рабству?» (Там же. С. 346). Приводим это свидетельство для того, чтобы охарактеризовать настроения Степуна того времени, когда он писал свои «Письма». Позже Степун говорил о своей «славянофильски-Соловьевской» ориентации (Ф.А.Степун. Бывшее и несбывшееся. Т.1. Нью-Йорк. 1956. С.7).
Здесь же он писал, что «живущий ныне во мне образ войны далеко не во всем совпадает с теми ее зарисовками, что были мною в свое время даны в письмах с фронта» (Там же. С.358). Этот образ был несравненно более светлым, чем образ войны гражданской: «Конечно, и война 1914-го года была величайшим преступлением перед Богом и людьми, но она была преступлением вполне человеческим. Лишь с нарождением сверхчеловека появилась в мире та ужасная бесчеловечность, которая заставляет нас тосковать по тому уходящему миру, в котором человеку было еще чем дышать, даже и на войне» (Там же. С.361). Война дала Степуну и духовный опыт, который остался с ним на всю жизнь: «От войны осталась в душе молитва, чтобы в страшный час последнего боя со смертью Бог даровал бы мне силу и самую непобедимую смерть ощутить залогом бессмертия» (Там же. С.369). Книга Степуна уникальна философским осмыслением пережитого фронтового опыта. Философ на войне — не частое явление; еще более редкое — описание и осмысление личного опыта передовой.
С.М. Половинкин




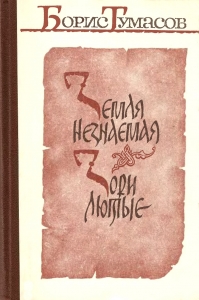



Комментарии к книге «Из писем прапорщика-артиллериста», Федор Августович Степун
Всего 0 комментариев