Иван Стаднюк
― ЛЮДИ НЕ АНГЕЛЫ ―
Роман в двух книгах
КНИГА ПЕРВАЯ
1
На Кохановку неуловимо надвигались синие сумерки. В окнах белостенных, под замшелыми соломенными крышами хаток еще жарко полыхали отблески заката, а из сизых лопухов, что столпились под ветхим, с поломанными ребрами плетнем, из-за бревенчатой спины клуни воровато выползала тьма. Недалекий сливняк в конце еще не одевшегося в зелень огорода, целый день сверкавший в лучах солнца изморозной белизной цветения, сейчас зарумянился, притушил пчелиный гуд и, казалось, стал ниже.
Семилетний Павлик чувствовал себя покинутым и одиноким. Он облокотился на бурый, в трещинах подоконник и сквозь распахнутое окно лениво наблюдал, как над садом в поблекшей синеве неба висел ястребок, мелко трепеща острыми крыльями. Когда ястребок, высмотрев что-то в саду, камнем упал в его подрумяненную кипень, Павлик еще некоторое время недоуменно пялил свои большие карие глаза на приобретший вдруг таинственность сливняк, а потом привычно вытер заскорузлым обшлагом рукава нос и перевел взгляд на Карька.
Карько — старый, невесть как державшийся на земле конь. Он стоял на затравелом дворе перед хатой, привязанный к телеге, и, открывая время от времени свой единственный глаз, сонно шевелил бархатными губами, с которых свисал клок сена.
Павлик поежился. За его спиной — пустая, неприбранная комната. Земляной неметеный пол, отдававший запахом глины, смешанной с кизяком; над непокрытым дубовым столом — образа в тягучем гуде мух, в простенке почерневший от времени мисник с глиняными мисками на полках… Павлик спиной чувствовал пустоту хаты и пугался черной пасти открытой печи. Высокая и объемная, печь выступала почти на середину комнаты и смотрела в затылок Павлику пустыми глазницами печурок — неглубоких, размещенных по бокам дымохода квадратных ниш для спичек, соли и мелкой кухонной утвари.
Мальчик высунулся из окна, чтобы хоть чуть быть поближе к Карьку единственному живому существу на подворье, единственному собеседнику, вдохнул крутой запах дегтя, донесшийся от телеги. Конь точно почувствовал настроение Павлика, скосил на него неподвижный лиловый, по-человечьи грустный глаз и мотнул головой, выронив из мягких, бархатных губ сено.
— Гы-гы, — неизвестно отчего засмеялся Павлик, махнув коню рукой.
Но вдруг испуганно примолк. Он вспомнил, что не закрыто заслонкой подпечье, представил его устрашающе-загадочную темноту и с надеждой посмотрел поверх ворот на улицу. Чего ж так долго не возвращается отец?
— Тату… Тату, — захныкал Павлик.
Обернувшись, он со страхом глянул на черную пасть печи и тут же, прижав животом подоконник, проворно перекинул босые ножонки во двор. Скользнул по стене на завалинку и, отряхивая с рубашки белую глину, побежал к телеге.
Вскарабкался по дышлу на телегу, полежал на пересохшем, утратившем все ароматы прошлогоднем сене. Затем, ухватив Карька за гриву, потянул к себе.
— Но! Но, Карько! — подражая отцу, басил Павлик.
Конь лениво переступил ногами и придвинулся к телеге. Павлик тут же уселся на его теплую широкую спину, остро отдававшую потом, и почувствовал себя уверенно, независимо. Обвел повеселевшим и даже бесстрашным взглядом подворье, несколько раз ударил пятками по мягким бокам Карька, и дремавшее воображение Павлика понесло его в безудержном галопе.
А слепой на один глаз Карько будто и не замечал на себе лихого наездника; он даже перестал шевелить губами и, склонив голову, забылся в сладкой дреме.
Павлик тем временем занялся делом: он увидел, что белое пятно на шее Карька сохранило следы смолы, и стал старательно очищать острыми, с черными каемками ногтями каждую шерстинку.
Белое пятно на шее лошади еще осенью замазал отец Павлика — Платон Гордеевич Ярчук. Для чего? О, Павлик хорошо помнит эту поначалу печальную, а потом радостную для него историю.
Карько на подворье казался Павлику таким же привычным и необходимым, как дверь и окна в доме, как колодец за воротами. Сколько помнит себя Павлик, столько помнит и Карька. И всегда конь был слепым на один глаз, всегда на карем фоне его шеи белым лишаем выделялось пятно.
И вот все чаще стали слышаться в доме разговоры, что пора купить нового коня: Карько и стар, и слеп, и люди смеются над ним. Прошлой осенью, когда натрудившаяся за лето телега была поставлена под навес, Павлик однажды утром обнаружил стойло Карька пустым. Опрометью бросился к матери, которая сердито совала в печь горшки, увидел ее заплаканные глаза и ни о чем не стал расспрашивать. Вышел во двор, влез на старую, высокую, словно тополь, грушу-гливку, какие растут только на Винничине, и долго смотрел поверх вдруг ставших маленькими, как пчелиные ульи, кохановских хат на сгорбившуюся дорогу, ведшую через опустевшие поля в местечко Воронцовку, на юлившую к далеким лесам речку Бужанку. Обычно Павлик любил на верхушке груши распевать песни и смотреть в зовущие, загадочные синие дали, мечтать о том, что хорошо бы иметь крылья и полететь бы вон туда, далеко-далеко, где уткнулась в небо труба сахарного завода, сесть бы на эту трубу и хоть раз плюнуть вниз, чтобы посмотреть, как долго плевок будет падать на землю.
Но в это утро не хотелось Павлику ни петь, ни летать. Небо, к которому он был так близко, казалось неласковым, холодным. Откуда-то приплыла паутина и стала назойливо липнуть к лицу. Даже случайно удержавшаяся среди опаленной осенью листвы, похожая на кривой огурец груша — зеленая и мокрая от росы — не казалась необычайно вкусной, как всегда.
А вечером отец вернулся с ярмарки без Карька. Повесил в сенях на гвоздь уздечку, зашел в хату и, перекрестившись на образа, уселся за стол…
Но детское горе забывчиво. Уже в следующее воскресенье Павлик с нетерпеливой радостью ждал отца, который ушел на ярмарку покупать нового коня. И вот она — радость! Конь, тоже карей масти, стройный и непривычно красивый, входит во двор. Выбежала из хаты мать. Вытирая фартуком руки, она счастливыми глазами смотрела на мужа — гордого и чуть смущенного. Хороший конь! Правда, и у него, кажется, один глаз не того…
Новый конь, как только отец закинул уздечку ему за шею, радостно заржал, уверенно подошел к корыту, попил воды, а потом так же уверенно направился к стойлу. Мать с недоумением глянула на отца и махнула на коня рукой, остановила его. Павлик первый рассмотрел на шее лошади затертое смолой белое пятно и радостно заверещал:
— Наш, наш!.. Карько! Карько домой вернулся!..
Отец развел руками и сердито пояснил матери:
— Там пропасть этих коней. Купишь черта, потом наплачешься. А этот работящий, дорогу домой знает… Если и перепьешь где, так сам привезет.
— За те ж самые гроши? — со смеющимися глазами спросила мать.
Отец сокрушенно поскреб в затылке:
— Три рубля переплатил…
Павлик оторвался от воспоминаний и только сейчас заметил, что до белизны вычистил пятно на шее Карька. Попробовал вытереть о рубашку пальцы, измазанные в смоле, и начал всматриваться через ворота в чуть укатанную, бугристую дорогу, которая пересекала выгон, а потом поворачивала за угол тенистого двора дядьки Кузьмы.
Почему ж так долго не возвращается отец?
Поблекли краски над далеким угрюмым лесом, спрятавшим солнце. В туманное облако превратился вишняк в конце пустого, в темных комьях земли, огорода. Из-за листвы не зацветшей в этом году груши выглянул белесый, тощий серпок месяца.
Чего ж батька не идет?!
— Та-ту-у…
Павлику до слез стало жалко себя… Никому нет дела, что он боится оставаться один, когда из всех уголков подворья подкрадываются потемки, пряча в себе что-то жуткое. Даже Карько больше не казался ему надежной защитой.
Мама… Нету у Павлика мамы и нет такой жизни, как у других мальчишек.
Умерла мама зимой. Умерла насовсем… Нет, Павлик не может поверить, что он никогда больше не увидит свою маму. Как же ему без мамы? И как мама может так долго не знать, не случилось ли с Павликом какой беды?..
Встал в памяти тот непонятный зимний вечер. Павлик, свернувшись калачиком, лежал на топчане, укутав босые ноги кожухом отца, и с любопытством следил за большой черной мухой, невесть откуда появившейся в хате зимой. Муха ползала по лампе, стоявшей посреди стола на перевернутом глиняном кувшине, билась о горячее, закопченное стекло и со злым гудом улетала куда-то в темный угол. Но вскоре снова возвращалась и кружилась над лампой…
У противоположной стены комнаты на деревянной кровати лежала мать. Павлик слышал, как она тяжело, с надрывом дышала.
В хате были еще отец и старшая сестра Павлика — Югина.
Несколько лет назад Югина вышла замуж за Игната — краснощекого, черноусого хлопца, который, когда переступал порог хаты, переламывался почти вдвое, чтоб не задеть головой притолоку. А начнет Игнат надевать кожух, так он даже трещит на его широченных плечах. И вот этот Игнат увез Югину из Кохановки на хутор Харитоньевский, где среди степи у трех высоких тополей приютилась его большая хата.
Третьего дня Югина пришла навестить маму, да так и застряла здесь. Сейчас она хлопотала у печи, невысокая, полногрудая, с тугим венцом каштановых волос на голове. Павлик замечал, что плечи Югины вздрагивают, будто в страхе перед безобразной, часто меняющей форму тенью, которая двигалась по стенам, наползала, резко изгибаясь, на потолок: это ходил по комнате мрачный, подавленный отец.
Югина громыхнула жестяной печной заслонкой, и мать, было притихшая, заскрипела кроватью.
— Юзя, — послышался ее слабый, похожий на стон голос. — Подойди ко мне, доченька… Простимся…
Югина замерла у печи, точно слова матери были обращены не к ней. Постояла, потом медленно повернулась к кровати, и свет лампы упал на ее бледное, какое-то чужое лицо с расширившимися неподвижными глазами и полуоткрытым, вздрагивающим ртом. Медлительно-робкими шагами подошла к матери и упада на колени, будто подрубленная, закрыв лицо руками.
— Югина… — тихо и строго произнесла мать.
Павлик увидел, как она выпростала из-под свитки, которой была накрыта, худую желтую руку и положила ее на склоненную голову Югины. Югина тут же прильнула лицом к груди матери, и плечи ее затряслись.
Глазам Павлика почему-то сделалось горячо, а к горлу подкатил тугой комок. Чтобы не расплакаться, он откинул с ног полу кожуха и соскользнул на холодный земляной пол. Не замеченный никем, юркнул в сени, прикрыв за собой дверь. Здесь постоял, прислушиваясь к невнятному гомону в хате, и, отыскав обжигающую холодом щеколду, открыл дверь во двор.
В сени упал сноп холодного, тусклого света луны. Заснеженное подворье искрилось, точно было усыпано крупно смолотыми звездами. Павлик, не чувствуя, как немеют на морозе голые ножонки и как улетучивается тепло из-под рубашки, стоял на пороге и, запрокинув голову, смотрел в пугающее своей холодной глубиной черное небо. Казалось, оно было подковано тысячами золотых гвоздей, шляпки которых — большие и малые — загадочно мерцали. Павлик присмотрелся к луне и впервые заметил, что она похожа на лицо красивой и очень доброй тетки: вон ее смеющиеся глаза, вон нос, улыбающиеся губы. И отчего ей весело, когда ему, Павлику, хочется плакать?
Передернув от холода плечами, он, бесстыже продолжая глядеть на лицо доброй тети, справил нужду, затем посмотрел на ставший ноздреватым у порога снег и неохотно вернулся в хату.
— Не ходи, Павлик, босым на мороз, — сказала ему мама знакомым строгим голосом.
Павлику показалось, что матери стало легче. Направляясь к печи, он с надеждой посмотрел в сторону кровати и почему-то остановился. Мама смотрела на него темными, как небо, которое он только что видел, глазами. И лицо ее было похоже на лицо луны.
— Подойди ко мне, — улыбнулась она ему бледным, как у луны, ртом. И от этой улыбки глазам Павлика опять сделалось горячо и опять стало трудно дышать, а ноги не хотели сделать и шага. Словно издалека слышал он голос матери:
— Сыночек… Я б небо тебе пригнула, если б могла… Расти без меня… Может, и счастье найдешь… Ну, подойди, перекрещу тебя…
— Не пугай его, Марино, — хрипло и непривычно тихо проговорил отец. Подрастет, сам все поймет.
И Павлик, содрогаясь от душивших его рыданий, торопливо взобрался на печь, где сушили просо перед тем, как отвезти его на крупорушку.
Глубоко зарыл в горячее просо озябшие ноги и затих, будто придавленный тяжестью.
Голос мамы опять стал слабым, прерывистым. Она о чем-то просила отца. Павлик слышал ее слова, что кому-то надо жениться, но искать не жену, а мать для сына. Смысл этих слов не доходил до Павлика, так как в его голове более явственно звучали другие мамины слова: «Сыночек мой, я б небо тебе пригнула, если б могла…»
И он увидел, как мама пригнула небо — с луной, со звездами. Павлик проворно взобрался на негр, уселся на краю, свесив ноги, и замер от восторга. Внизу виднелась родная Кохановка со знакомыми улицами, садками возле хат. А в центре села, на площади, бегали мальчишки, подпрыгивали, махали ему руками, что-то кричали…
Утром Павлик проснулся от чьего-то плача в хате. Некоторое время прислушивался к чужому, завывающему женскому голосу, бессмысленно глядя в пожелтевший, белоглиняный потолок. Надо было встать, взглянуть с печи в комнату. Что там? Но тело одеревенело от страха, от предчувствия чего-то ужасного. Его маленькое сердце трепетало от истошных, холодивших душу воплей, до краев переполнивших хату. Он захлебывался в них, чувствуя, что где-то внутри вопит уже и сам и вот-вот завоет во весь голос.
Вскоре на печь заглянула Югина, и Павлик увидел ее распухшее, с синими полукружиями под глазами лицо.
— Павлушка, — незнакомым хриплым голосом позвала она. — Вставай, Павлик, наша мама померли.
Набившиеся в хату женщины, когда он слез с печи, заголосили, а тетка Оляна — двоюродная сестра матери — больно сжала руками его голову и запричитала:
— Сиротинка ты несчастная!.. Такое маленькое, неразумное, как ты теперь будешь жить на белом свете? Кто досмотрит тебя, кто накормит?..
И он увидел маму… Непонятно было и страшно, что лежала она не на кровати, а на столе в желтом, убранном белыми бумажными цветами гробу. Почему на столе?..
Приблизился и стал смотреть на маму. Она была не похожа на себя, чужая и непривычно безразличная к тому, что он, Павлик, стоит совсем же рядом. Потом Павлик заметил вчерашнюю муху. И было тоже непонятно: вчерашний вечер, когда еще жила мама, казался таким далеким, давно прошедшим, а муха — вот она… летает…
Муха покружилась над гробом и уселась на белый бумажный цветок, став, кажется, еще чернее и больше. Павлик нахмурился и сердито смотрел на муху. Хотелось прогнать ее, но было стыдно людей. Вдруг муха, будто сама догадалась, что надо улететь, взвилась и полетела к дверям. Павлик повернул голову, провожая ее взглядом, и только теперь заметил, как много в хате свиток и кожухов: приехали из соседних сел тетки и дядьки, навещавшие раньше Кохановку только по большим праздникам, приехал с хутора Харитоньевского муж Югины — Игнат.
Во дворе, куда Павлика вскоре выпроводили, ему тоже все напоминало праздник: много саней, лошади под навесом, гурьба хлопчиков у распахнутых настежь ворот. А вокруг — белым-бело. Белая земля, белое небо, белые, опушенные инеем деревья, белые папахи на хатах. Дальние постройки казались диковинно смешными, приземистыми; их заваленные снегом крыши сливались с белесым небом и были незаметны для глаза.
Старшие хлопчики вытолкали со двора легкие сани-одноконку, на которых приехал Игнат, и начали на них катать по улице Павлика, потому что у него умерла мама. И Павликом безраздельно завладело хмельное чувство праздника, озорного веселья…
Как давно все это было! Сколько затем прошло тянучих зимних дней! А мамы нет. Павлик не маленький, он знает, что значит умереть. Дед Гордей тоже давно умер, и насовсем. Мама тоже умерла насовсем. Но это только так говорят. И Павлик так говорит. Однако как же все-таки можно столько дней быть без мамы? И он ждал. Нет, не он, а что-то в нем ждало, верило, звало. И если б мама вдруг пришла (говорят же, что мертвецы приходят), он бы не испугался. Чего ж мамы пугаться?..
…Карько переступил с ноги на ногу, запрядал ушами и тихо заржал, вспугнув безрадостные мысли Павлика. Павлик заметил, что по улице идет отец. И ему вдруг захотелось, чтобы отец шел подольше. Ведь Павлик только-только начал мечтать, как встретил бы он маму, если б она вдруг пришла.
Карько опять заржал, встречая хозяина.
Певуче заскрипела калитка, и во двор вошел Платон Гордеевич Ярчук среднего роста, лет за пятьдесят мужчина в запылившихся сапогах, в старом пиджачке поверх сорочки домотканого полотна. Округлая, с оттенком меди бородка и еще более рыжие, опущенные книзу усы придавали его лицу благообразие и степенность, в то время как колючие, насмешливые глаза были по-мальчишечьи молоды, отдавали серым блеском и наталкивали на догадку, что мысли этого человека подчас заняты такими земными делами, какие, казалось бы, не должны тревожить мужчину его лет, изнуренного каторжным крестьянским трудом.
— Эй, казак, ты куда скачешь? — с подчеркнутым удивлением спросил Платон Гордеевич у сынишки, снимая висевшее на суку груши ведро, чтобы напоить Карька.
— Никуды я не скачу, — обиженно хлюпнул носом Павлик. — Я боюсь…
Гремя ведром, Платон Гордеевич вышел за ворота, к колодцу, и, набирая воду, уже оттуда пробасил:
— Чего же ты, дурачок, боишься? Ты ж у меня храбрый.
— Черта боюсь.
— Черта? — удивился Платон Гордеевич, ставя перед лошадью ведро с водой. — Это, брат, плохо, если уж и ты стал черта пужаться. А я думал, что одна тетка Оляна не терпит чертей… Ну тогда давай закурим, предложил он, доставая кисет.
— Я уже бросил, — солидно ответил Павлик; ему нравилось отвечать на шутки отца шутками.
— Бросил? Уже? — Глаза Платона Гордеевича полыхнули смехом и довольством от находчивости сынишки. — А горилку небось еще хлещешь?
— Тату, вы никуда больше не пойдете? Я боюсь, — снова заныл Павлик, прислушиваясь, как внутри пившего воду Карька что-то уркает.
— Эт, какой ты! — уклонился от ответа Платон Гордеевич. — Что ж мне с тобой делать?..
Он взял Павлика под мышки, снял с Карька и посадил в сено на воз.
— Придется нам с тобой, Павлушка, жениться… Хочешь жениться?
— Не знаю. — Павлик весь превратился во внимание.
— Ну, не знаешь. Что же, я за тебя такие сурьезные вопросы решать должон? Ты на ком бы хотел жениться? На вдовице или на дивчине?
— На дивчине, — шмыгнул носом Павлик.
— Правильно толкуешь, — удовлетворенно отметил Платон Гордеевич. Стало быть, я женюсь на вдове какой-нибудь, а тебя женю… На ком бы тебя женить?.. На Вере Евграфовой!
— Не-е, она меня бить будет! — зябко передернув худыми плечиками, заерзал в сене Павлик. — Я вчера камнем в ее хате окно выбил.
— Э-эх, дурья голова! Кто же в стекла камни швыряет? Тогда пошлем сватов… к кому бы послать?
Разговор продолжили в хате, при зажженной керосиновой лампе. Хлебали из глиняной миски кислое молоко, закусывая черствым ржаным хлебом.
— Ну, а как ты, Павло Платонович, смотришь на Варьку?
— У-у… — отрицательно замотал головой Павлик; полный рот хлеба и кисляка не позволял ему быть многословным.
— Не по нраву?
— У-гу. — Павлик будто услышал визгливый голос Варьки, каким она скликает кур, и недовольно поморщил нос.
— Привередливый ты парубок, — покачал головой Платон Гордеевич. Весь в меня. И я, брат, не могу присмотреть в своем селе подходящей женщины. Языкастые все, брехливые… Борща толком не сварят. Придется мотнуться по соседним селам… И ты по-времени, приглядись к девчатам, может, и понравится какая. Добре?
— Добре.
— Ну, быть посему! Первым женюсь я… Ведь пока ты будешь холостяковать, мать тебе нужна, верно?
Павлик, перестав жевать, поднял на отца глаза.
— Трудно ж нам без мамы… Хочешь, чтобы у тебя была мама?
Павлик не успел ответить. Донесся чей-то настойчивый стук в ворота, послышался мужской голос:
— Платон! Пора на собрание!
— Иду, — высунув голову в окно, ответил Платон Гордеевич. — А задержусь малость, так и без меня смелется.
Павлик, положив на стол круглую деревянную ложку и отодвинув хлеб, испуганно смотрел на отца. Тот, захлопнув окно, за которым сумерки казались вязкими и черными как деготь, покосился на Павлика, вздохнул. Сел на топчан, потянулся ложкой к кисляку, но тут же приставил ее к краю миски.
— Ты знаешь, что такое ТСОЗ?[1] — неожиданно спросил у сынишки Платон Гордеевич.
— Не-е, — замотал головой Павлик, густо засопев.
— И я толком не ведаю. Знаю только, что на полях все межи полетят к едреной бабушке. Коней, кажется, придется держать на одном базу. — Платон Гордеевич помолчал, раздумчиво уставив в темный угол глаза, сделавшиеся вдруг недобрыми. Потом вздохнул и продолжил: — А скотина — она тоже с понятием. Скажем, наш Карько: продал я его в чужие руки и спать по ночам не мог. Он же, сердешный, томился по мне, скучал по моему голосу, даже по кнуту моему… Как же я его опять уведу со двора?.. Так что, Павлушка, надо тебе все-таки остаться одному. Пойду я на собрание…
Платон Гордеевич заметил одичалые, налитые слезой глаза сынишки, виновато крякнул, туго сдвинул выцветшие густые брови и с притворной бодрецой зарокотал:
— О-о… Павлик! Ты ж собрался жениться — и плачешь.
— Я боюсь… — Светлые горошины слез пробороздили на немытом лице мальчишки влажные следы. — Я с вами пойду, тату-у…
— Павлик… Ну… Ты же храбрый, ничего не боишься.
— Боюсь! — уже откровенно заревел Павлик, уловив в голосе отца неуверенность.
— Вот какой ты! — Платон Гордеевич в досаде сморщил лицо, растерянно потирая узловатыми пальцами лоб. Вдруг что-то вспомнил, и глаза его оживились, блеснули смешком. — Ну что ж, придется вооружить тебя винтовкой. Всамделишной!
Павлик стал плакать с паузами, расчетливо приглушая голос, чтоб расслышать слова отца, и кося при этом на него загоревшийся любопытством глаз.
— Да не плачь же ты! Никакой черт-дьявол не подступится к тебе, ежели ты с оружием боевым. Вот погоди.
По-бычьи изогнув жилистую, темную шею, Платон Гордеевич дробными шажками выбежал из комнаты в сени, загремел там лестницей. Павлик вскоре услышал, как заскрипели потолочные балки у него над головой, и подивился храбрости отца, не побоявшегося ночью лезть на чердак. Жадное любопытство окончательно завладело мальчиком, и он умолк, старательно вытирая шершавым рукавом слезы.
Отец возвратился в комнату с ружьем в руках. Самым настоящим! Маленьким, двуствольным, с двумя курками из красной меди, запыленным, захватанным паутиной и от этого еще более загадочным, желанным.
— На, держи. — Отец взвел курки и щелкнул обоими сразу.
Павлик дрожащими руками ухватился за драгоценную вещь.
— Только чтоб ни один чужой глаз не видел! — наставлял Павлика Платон Гордеевич. — Знаешь, что бывает за хранение оружия? Не знаешь? Тюрьма, брат. Ты еще не сидел в тюрьме? Ну и слава богу. Это, брат, яма с железной решеткой. Неба и то, говорят, только краюшка видна из нее…
Отец ушел на собрание, а Павлик, сидя на топчане, до одури щелкал курками невиданного ружьишка, по очереди прицеливаясь в горшки, миски, образа святой богородицы, Ильи-пророка, в портрет Тараса Шевченко. Ничего теперь он больше не боялся!
2
Через улицу, напротив Платонова двора, жил Захарко Дубчак. Фамилию «Дубчак» Захарко выхлопотал себе после революции. А до этого он по всем документам значился как Захарко Ловиблох. И хотя в губернской газете было напечатано объявление, что крестьянин Ловиблох Захарий Семенович, проживающий в селе Кохановке Брацлавского уезда Подольской губернии, меняет фамилию на Дубчак, его по-прежнему земляки величали Ловиблохом.
Захарко невысок ростом, но кряжистый, крепкий, будто из одних сучков скручен. Сейчас ему под пятьдесят, а он может взять любую лошадь за передние ноги и легко приподнять ее.
У Захарка два женатых сына и дочь на выданье. Все живут в одной хате, одной семьей, при одном хозяйстве. А хозяйство крепенькое у Захарка: двенадцать десятин земли, пара коней и пара быков, две коровы. Но если разделить все это на души, то не так уж и густо. Ведь три семьи в одной пятистенке. У сыновей — по двое детишек.
Многолюдная хата Дубчаков-Ловиблохов славилась в Кохановке тем, что нигде так шумно, как в ней, не праздновали пасху, рождество или троицу. Любили здесь попировать с веселым куражом и таким песенным ревом, что даже в соседнем селе собаки гавкали.
Но празднества в этом доме не были в убыток хозяйству. Захарко умел вести счет копейкам, знал, что и когда продать, когда купить. И никому из семьи не давал бездельничать ни одного буднего дня. Зимой с сыновьями ходил на лесозаготовки или на посменную работу на сахарный завод. А как только исчезал снег, начинал возить в поле навоз. В позапрошлом году нигде не уродилась сахарная свекла, кроме клина Захарка. После прорывки свеклы ударили дожди, потом так пригрело солнце, что земля покрылась глянцевой коркой. А затем опять пошел дождь, и на полях блюдцами засеребрились лужи. Земля не впитывала воду. Свекла гибла. Но не такой Захарко человек, чтоб пасовать перед бедой. Вывел он в поле все семейство: жинку, сыновей, дочь, двух невесток, малолетних внуков. Каждому дал в руки остро затесанную палку и велел протыкать «блюдца», чтоб вода уходила в землю. И нигде потом так ровно и буйно не зеленела свекла, как у него…
Из года в год все прочнее становилось на ноги хозяйство Захарка. Но сам он заметно сдавал, укрощалась его веселая забубенность. Еще лет пять назад, если Захарко возвращался с воронцовского базара, его песни издалека оповещали об этом Кохановку. И сельская детвора наперегонки мчалась за село встречать дядьку Ловиблоха, зная, что коль он горланит «Черноморец, матинко…», то бездонные карманы его наверняка набиты цукерками пахучими разноцветными леденцами.
Увидев мальчишек, окруживших подводу, Захарко хитро щурил узкие глаза, щедро, будто сеял горох, бросал в дорожную пыль леденцы и закатывался блаженно-пьяным смехом:
— Угощайтесь, хлопчики! Дядька Захарко гуляет! — И новая горсть леденцов, как градины, вздымала на дороге облачка пыли.
Однажды Захарко вернулся с ярмарки особенно оживленным. Причиной тому был случайный разговор с одним старым кузнецом из соседнего местечка Вороновица. Кузнец уверял Захарка, что помогал строить самому Можайскому, который жил некоторое время в Вороновице, первый аэроплан и видел, как тот аэроплан поднимался с Ганского поля над землей.
В тот день Захарко выгодно продал старого вола и на радостях выпил лишку. Еще за селом, когда одаривал мальчишек цукерками, с веселой загадочностью объявил им:
— Хлопчики-соколики! Сегодня дядька Захарко полетит на ероплане в гости к господу богу!
В Кохановке всегда с нетерпением ждали очередной потешной выходки Захарка. И разнесенная мальчишками весть о предстоящем его «вознесении» на небо, как и следовало ожидать, вызвала поток любопытных к подворью Захарка.
А Захарко к этому времени уже смастерил «самолет» и, взобравшись на соломенную крышу своей хаты, втаскивал его за собой. Это было огромное корыто, из которого поили у криницы скот. К днищу корыта и к его верхним закраинам Захарко приколотил крылья — две широкие сквозные доски, а вместо рулей управления привязал обыкновенные веревочные вожжи.
— Не плачь, дура! — кричал он с крыши на голосившую в хате Лизавету, яростно проклинавшую мужа-пьяницу. — Сейчас Захарий Дубчак полетит к господу богу и попросит у него чарку небесной горилки!
На улице же, у подворья Дубчака, людей как во время свадьбы. Будто и в самом деле ждали чуда. Смеялись, снисходительно шутили, давали веселые советы разгулявшемуся Захарку.
Наконец все было готово к «полету». Корыто поставлено поперек крыши. В него с искусством акробата-балансера уселся Захарко и обратился к толпе с речью:
— Граждане! У кого богато грехов, подавайте их сюда. Все грехи свезу на небо, чтоб списали!.. Пилип, ты здесь? Кайся, что с наймитов шкуры дерешь! Не хочешь? Пожалеешь!.. Сознавайтесь, кто у Платона Ярчука украл с поля копу[2] жита!.. Бог милостив!..
Корыто зашаталось, и Захарко испуганно умолк. Переждал порыв ветра и продолжил:
— Сейчас Захарий Дубчак натянет правую вожжу и полетит до хмар! Прощайте, люди добрые!
Осенил себя крестом, взял в руки вожжи, качнул корыто и… загремел вниз.
Корыто торчком врезалось в землю, и из него выпал Захарко. Поднялся, отряхнулся и так заржал, будто оставил в дураках всех, кто прибежал к его подворью.
— Не за ту вожжу потянул, едрена вошь! — сквозь смех объяснил он причину аварии. — Треба было за правую, а я за левую…
Больше года прошло, как Захарко совсем бросил выпивать. На этот счет в Кохановке ходили разные толки. Одни утверждали, что Лизавета — жинка Захарка — по рецепту знахарки Оляны дала ему на опохмелье горилки, смешанной с потом белого коня, и будто ту горилку купила Лизавета за гроши, которые три дня хранила в лесу под костью лошадиной головы. Другие полагали, что Захарко распрощался с зеленым змием после того, как угодил в больницу из-за пьянки. В позапрошлые рождественские праздники Захарко заночевал в соседнем селе у своего родича. Родич уложил совсем одуревшего от горилки Захарка на печь, не рассчитав, что она топилась целый день и была изрядно накалена. А тут еще Захарко в хмельном беспамятстве вышиб ногами окошко, которым смотрела хата родича с печи на огород, и выставил их на трескучий мороз. И в одночасье спек себе Захарко живот и обморозил ноги…
Давно откричали полночь первые петухи, а сходка в клубе продолжалась. Казалось, уже все обговорено. Представитель из района — быстрый на острое слово мужчина в синем, военного покроя костюме — убедил кохановчан, что есть им полный смысл объединиться к будущей весне в товарищество по совместной обработке земли. Весна еще далеко, и селяне одобрительно гудели, согласно кивали головами, надеясь в глубине души, что до ТСОЗа дело не дойдет.
Но когда Лелеко (такую фамилию носил районный представитель) напомнил, что этим же летом надо создать общественный семенной фонд, слово вдруг взял Захарко Дубчак. На сцену, где за столом, покрытым красной материей, сидел президиум, подняться он отказался. Стал в проходе между рядами скамеек, оглядел хитрым смеющимся взглядом знакомые лица мужиков и заговорил:
— Бабы все утекли до дому. Так я буду балакать без церемоний…
В зале засмеялись, зная, что Захарко и при женщинах не утруждает себя выбором деликатных слов.
— Есть у меня соседи, Левко и Гапка, — продолжал Захарко. — На сходку они не пришли все по той же причине, по которой часто сидят без хлеба, по своей дремучей лености. Так эта Гапка часто прибегает к моей Лизавете и просит: «Дайте, титко, кусочек шкурки от сала. Левко занозил пятку, и у нас немае чем размягчить». А у того Левка, или Ленька, как его все зовут, пятка что конское копыто: ее и гвоздем с молотком не проткнешь… Думаете, шкурка нужна Гапке? Надеется, что при шкурке будет трошечки сала, чтоб им борщ заправить… В каморе у Левка, кроме вони от подохших с голоду мышей, ничего. Огород весь в таком бурьяне, что, ей-богу, волки уже там развелись!.. Имеют две десятины земли — в аренду сдают. Ленятся сами работать. Левко, едри его в катушку, целое лето сидит с удочками на речке и смотрит на поплавки, как кот на мышиную дырку. Зимою с печи не слазят и все мастерят детей, которые, не будь дураками, не хотят рожаться у таких голопузых хозяев… Так я вас, дорогие граждане, спрашиваю: на кой хрен нужно мне такое товарищество, где будут Левко с Гапкой и многие другие, подобные им леньки, какими Кохановку господь бог не обидел?
Сходка заволновалась. Из разных углов зала послышались одобрительные выкрики.
Захарко переждал шум и заключил:
— Я у себя в хозяйстве сколотил уже товарищество по совместной работе. Два сына в нем с семьями и я с бабой и дочкой. Приму еще желающих, только чтоб земли, тягла и инвентаря было у них не меньше, чем у меня. А насчет работы — уже и не говорю. Работать заставлю столько, сколько и сам буду! — И Захарко направился к своему месту, сопровождаемый гулом множества мужских голосов.
Поднялся Платон Гордеевич.
Зал притих: к Платону Ярчуку кохановчане относились с почтением, как к человеку бывалому и мудрому.
— Захарко Семенович, — начал Платон, — сказал здесь сущую и чистую правду. А правда — не дым, глаза от нее не вылезут. Поэтому дозвольте и мне сказать правду, хоть, может, у кого-нибудь от нее засвербит в носу… Советская власть никого не обделила землей. Мерило было твердое: количество душ в семье. Но как могло случиться, что одни, имея ту же самую землю, стали зажиточными селянами, а другие и по сей день бедные, аж синие? Загадки тут никакой нема. Все дело в том, в какие руки попала земля. Есть селянин хозяин. А есть не хозяин… Бывает, держишь коней в одном стойле, кормишь одинаковыми корцами овса, а начнешь пахать — один конь надрывается, плуг тянет, а второй постромки по земле волочит…
— О чем вы говорите, Платон Гордеевич? — с горестным упреком тихо спросил из президиума районный представитель Лелеко.
Платон осекся. Удивился, что незнакомый человек назвал его по имени и отчеству. И смутился: глаза Лелеко смотрели на него с какой-то болью, словно на неразумного ребенка.
— Простите меня, я вас перебью только на одну минутку. — Лелеко поднялся за столом и обвел притихших людей укоряющим взглядом. Лицо у него было простое, с лестничкой складок на широком лбу, с паутиной морщинок у глубоких глаз. Поражало и располагало к нему его уверенное спокойствие. Я хуже вас знаю селянскую беду. Я рабочий. Партия послала меня в село помогать вам строить новую жизнь. Но понять вас мне никак не удается, товарищ Ярчук. Вы говорите, что есть селянин хозяин и есть не хозяин. Это правда. У нас тоже есть рабочие с золотыми руками, а есть такие, что еле выполняют план. Так мы посылаем отстающих рабочих на выучку к передовым. А у вас что получается? Захар Семенович Дубчак придумал, как спасти свеклу. Хорошо придумал. И тайком вывел свою семью в поле. А если бы он объявил всем селянам, как надо бороться с «блюдцами»? Вот и судите, почему, кроме хозяйства Дубчака, все хозяйства, и не только кохановские, понесли убытки от погибшей свеклы.
И еще два слова. Вы, Платон Гордеевич, объясняете бедность многих семейств только их нерадивостью. Но неужели вы позабыли, сколько в Кохановке вдов, чьи мужья сложили головы за советскую власть, ту самую власть, которая дала вам не только землю! Почему же вы хотите жить особняком от них? Их хозяйства, конечно, маломощные. А семья селькора Алексея Решетняка, зверски убитого врагами, тоже вам не подходит для ТСОЗа? Это бедная семья… Подумайте и о тех нынешних бедняках, которые, получив землю, не имели тягловой силы, плуга, бороны. Легко им было встать на ноги? Что вы на все это скажете, товарищ Ярчук? И что вы мне ответите на такой вопрос: кто из крестьян шел рука об руку с пролетариатом во время революции? Не бедняки ли? Кто первым стал рядом с рабочими под знамена Красной Армии? А роль комбедов на селе после революции? Неужели вы обо всем забыли? Или вас так ослепила кулацкая агитация? — И Лелеко сел на свое место, уставив на Платона Гордеевича ожидающие и негодующие глаза.
Платон растерялся. Ничего он не мог возразить рабочему. Метнул свирепый и беспомощный взгляд на Захарка, и тот в замешательстве потупился. А в зале — звенящая тишина. Казалось, люди даже перестали дышать.
Платон прокашлялся, виновато глянул на Лелеко и заговорил, с трудом подбирая слова:
— Зачем же так?.. «Кулацкая агитация»… «ослепила»… Да, мы тут с Захарком, кажется, поднаплели ерунды. Забыли, что и он и я до революции голым задом светили от бедности… Конечно, многие сегодня мыкают горе не по своей вине. И я не против, чтобы таких бедняков принимать в товарищество. И Захарко, наверное, не против.
— Да, я не против… — смущенно откликнулся Захарко.
Сходка закончилась тем, что было принято решение: организовать в Кохановке ТСОЗ и после жнив начать сбор семенного фонда.
Платон Гордеевич возвращался домой вместе с Захарком. Стояла та ночная пора, когда в дремотной тишине постепенно блекла, обретая пепельный цвет, темень. Под ногами мягко чмокала пыль. Молчали. Думали об одном и том же. Платон испытывал неловкость оттого, что так непродуманно выступил на сходке и, рассуждая о крестьянской жизни, был посрамлен человеком, который, казалось, этой жизни не знает вовсе.
На прощание Захарко сказал:
— А рабочий-то, едрена вошь, башковитый!.. Но в ТСОЗ я все равно не ходок.
— Мда-а, — неопределенно промычал Платон.
Захарко заскрипел калиткой, затем звякнул клямкой двери. А Платон присел на лавочке у своего подворья. Курил, размышляя о сходке, слушал, как над головой в листве ясеней стрекотали цикады.
В кухонном окне хаты Захарка горел свет, и было видно, как Лизавета хлопотала у столика, за которым сидел и о чем-то говорил, глядя на жену, Захарко.
В сердце Платона шевельнулась зависть: хорошо живет его сосед. А ему, Платону, и домой не хочется идти…
Близился рассвет. Гасли в небе звезды.
3
Проснулся Павлик поздно. Окна в хате были завешены ряднами. Сквозь дырку в одном рядне в комнату падал луч света, рассеиваясь на белой стене против топчана и рождая на ней «чудо». Стена, словно матовое стекло, красочно проецировала на себе часть подворья и ворота. Вот проковыляла по стене вверх ногами утка; за воротами шевельнулась от дуновения ветра опрокинутая вниз верхушка ясеня… Павлик пялил на это диво глаза, силясь понять своим умишком его причину. Разглядел на стенке, как открылась во дворе калитка и в ней повисли головой вниз Серега и Михась — сверстники и друзья Павлика.
Павлик вскочил с топчана, сдернул с окна рядно и крепко зажмурился от плеснувшего в комнату слепящего жаркого света. У печки дружно загудели мухи.
Когда открыл глаза, увидел… ружье! Сразу вспомнил вчерашний вечер. Павлик взвизгнул от радости. Еле сдерживая желание поскорее вырваться на улицу и пальнуть в Серегу и Михася сразу из двух стволов, он оглянулся вокруг. На столе стояла миска с кислым молоком и лежала краюха хлеба. Но до еды разве? Торопливо накрыл молоко и хлеб рушником, схватил ружье и ринулся в дверь.
А Платон Гордеевич Ярчук уже возвращался из соседнего села Лопушан, время от времени нахлестывая лениво шагавшего Карька. На телеге, застланной поверх соломы цветным рядном, сидела бок о бок с Платоном немолодая женщина, повязанная белым в горошек платочком. Из-под ее старомодной жакетки выглядывала вышитая на груди сорочка, празднично сверкало красного камня тяжелое монисто.
Женщина смотрела перед собой испуганными, казалось, ничего не видящими глазами, а на ее скорбно сомкнутых губах теплилась такая же испуганная, обращенная к каким-то радостно-тревожным мыслям улыбка. Не верилось, видать, хлебнувшей на своем веку вдовьего горя женщине, что снова для нее ясно засветило солнце, что рядом чувствует она плечо собственного мужа, едет на своем возу, едет в свою новую хату, где ждет ее хлопчик Павлуша, которому она должна стать матерью. Так ли все это? Или счастливый сон, каких много, ой как много уже видела она в томительно-долгие сиротливые вдовьи ночи?
Молчали, смущенные тем, что вот так просто все случилось. Приехал Платон Гордеевич к ее обветшалой хате, забил досками окна и двери, погрузил на телегу легкий узелок с одеждой, перекрестился и сказал:
— Поехали, остальное потом перевезем.
Весело тарахтели колеса. Весело клубилась вслед им пыль. По обеим сторонам дороги раскинулись узкие полоски наделов: одни из них радовали глаз влажной зеленью дружных всходов, другие мертвенно отливали заборонованным черноземом. Только межи везде одинаково щетинились молодой порослью голубой полыни да лебедой. И над всем этим — море пахучего тепла, благодатного света и неугомонная песня невидимого в синем океане неба жаворонка.
Платон Гордеевич вглядывался в цветущие сады, захлестнувшие белыми крутыми волнами недалекую Кохановку, вдыхал напоенный весенней сыростью дурманящий воздух и думал о том, что ему на шестом десятке жизни пришлось везти в дом вторую жену… И все из-за Павлика. Дичает сынишка, растет без материнского глаза, как былинка при дороге. И хата без хозяйки — что земля без весны…
Вот и Кохановка. Платону Гордеевичу хотелось скорее въехать в свое подворье: не любил он бабьих глаз, оживленных бездонным насмешливым любопытством.
Но дорога будто нарочно стала сильнее подбрасывать воз на выбоинах, громче заговорили колеса, и из всех подворотен им обрадованно ответил забористый собачий брех.
Еще издали заметил Платон Гордеевич у своего двора толпу ребятишек. Догадался: вытащил Павлик ружьишко на улицу. Дернул вожжами, сильнее погнал Карька.
Когда подъехал к подворью, дети вспорхнули испуганной стайкой и понеслись по улице. Один Павлик самоотверженно остался стоять на месте, держа в руках ружье и уставив настороженные, виноватые глаза на отца.
— Открывай ворота, казак, — усмехнулся в усы Платон.
Павлик с готовностью кинулся к воротам, уперся своими узкими плечиками в шершавые доски. Подошел отец, и они вдвоем распахнули ворота.
Павлик ждал возмездия, но глаза у отца были совсем не злые. Платон Гордеевич не торопясь распряг коня и сказал сынишке:
— Ну, Павлуша, веди в хату нашу новую маму.
Павлик и сам уже догадался, что за женщину привез отец. Он смотрел на нее растерянно, с разочарованием и открытой враждебностью. Какая ж это мама? Совсем не похожа на маму. Ну ни капелечки!
А отец торопил:
— Приглашай же в хату. Говори: мамо, идемте в хату.
— Идемте до хаты, — несмело повторил Павлик.
В это время взвизгнула от решительного толчка калитка и во дворе появились председатель сельсовета и участковый милиционер. Председатель смотрел на Платона Гордеевича почему-то испуганными глазами и болезненно морщил чисто выбритое, моложавое лицо. Милиционер же, сурово сдвинув тоненькие выцветшие брови и размахивая полевой сумкой, деловито оглядел подворье, задержал взгляд на Павлике, который инстинктивно спрятал за спину ружье.
— Покажи!
Павлик не двинулся с места. К нему подошел отец, взял ружье и протянул милиционеру. Тот подкинул ружьишко в руке, пробуя его на вес, и скосил насмешливые глаза на председателя сельсовета. Затем с любопытством начал рассматривать оружие. Вдруг, заметив на казенной части вычеканенные цифры номера и контуры царского герба, посуровел:
— Значит, в самом деле прячем оружие, гражданин Ярчук?
Разговор продолжали в сельском Совете — пустой, холодной комнате с голыми стенами. Милиционер, устроившись за председательским столом, писал протокол. Красный сатин, покрывавший стол, бросал на его лицо багровый отблеск.
— Как давно храните ружье? — спрашивал милиционер у Платона Гордеевича, сидевшего напротив.
— Пятый год храню. — У Ярчука под усами мелькнула едкая усмешка.
— Где взяли?
— Один добрый человек подарил.
— Кто?
— Не скажу.
— Скажете. У нас все говорят… Вы знали, что держать без разрешения оружие запрещается?
— Слышал, будто есть такой закон. Но видеть его не приходилось. Платон пожал плечами и виновато посмотрел на председателя сельсовета, который молча прохаживался по комнате и дымил вонючей самокруткой.
— Значит, не отрицаете, что прятали от советской власти оружие?
— Нет, не отрицаю. На чердаке прятал, в соломе.
Милиционер неторопливо записывал слова Платона Гордеевича, по-куриному свернув набок голову и кося глаза на лист бумаги, вырванный из какой-то старой конторской книги.
— Подпишите протокол, гражданин Ярчук, — наконец со вздохом промолвил он, распрямляя за столом спину и кинув укоризненный взгляд на председателя сельсовета. Этот взгляд как бы говорил: «Вот какие дела творятся у тебя под носом, председатель».
Платон Гордеевич с похрустыванием в коленях поднялся с табуретки, охнул, ухватившись руками за поясницу, и подошел к столу.
— Звиняюсь, товарищ милиционер… Значит, это как же? Тюрьма мне?
Милиционер развел руками и с сожалением посмотрел в заросшее лицо Платона.
— Стало быть, тюрьма, — крякнул Платон Гордеевич и взял ручку. — А в тюрьму мне… — он резко, так, что взвизгнуло перо, дважды перечеркнул страницу протокола, — не хочется!
Оторопелый милиционер откинулся на спинку стула, и стул жалобно заскрипел.
— Не хочу в тюрьму! — уже явно издеваясь, с хохотком говорил Платон Гордеевич, подчеркнуто вежливо положив на стол ручку. Тут же он обеими руками взял со стола ружьишко и со злостью хрястнул им об колено.
Ружье издало сухой треск. Изумленные представители власти увидели, что оба его ствола не что иное, как полые бузиновые палки, так искусно обточенные и обожженные на огне, что никакой острый глаз не мог заметить подделки.
На какое-то время в комнате воцарилась тишина. Затем взорвался густой, надсадный хохот, от которого со звенью дрогнули стекла в окнах. Председатель сельсовета, ухватившись руками за живот, стонал и корчился от смеха.
— Что же ты дурака столько валял, товарищ Ярчук?! — обозлился милиционер, но тут же и сам залился тонким, бабьим смехом.
Не догадывался Платон Гордеевич, что это сломанное игрушечное ружьишко еще будет «стрелять» по нему.
4
Степан уходил из Кохановки вечером, уходил, чтоб никогда не возвращаться.
А в левадах, которые только что прощально отшумели над его головой кружевами юной и влажной листвы, безумолчно куковала кукушка. Что ей надо, беспокойной сизой вещунье? Может, своим птичьим голосом звала она Степана вернуться в родную хату? Или умоляла вечернее солнце не спешить на покой? А слепяще-красное солнце неотвратно катилось к горизонту. Над немыслимо далеким краем земли оно боязно окунулось в широкую пелену дымчато-светлых облаков, зажгло их и растворилось в гигантском пламени немого пожара. Долго еще умирающее пламя заката лизало далекий край земли, растекалось по ее просторам, с каждой минутой все скупее расплескивая краски. И вот закат угас. Зачернела будто обуглившаяся земля, начав источать лиловые сумерки.
А в груди Степана по-прежнему горело, чтоб никогда, наверное, не угаснуть.
Левады остались далеко позади, и из них все доносился приглушенный расстоянием безутешный голос кукушки.
Куда же ты идешь, Степан? Что заставило тебя оставить родную хату, покинуть в неуемном горе старую одинокую мать? Ведь никто не ждет тебя в чужих краях, никто не обещает тебе там счастья…
Степан Григоренко слыл в Кохановке чудаковатым хлопцем. Всегда его занимали вопросы, которые другим и в голову не приходили:
«Отчего помидоры красные, а огурцы зеленые?», «Как ягненок отыскивает в отаре, где тысячи овец, свою мать?», «Почему не в каждый дождь бывают на лужах пузыри?», «Почему земля называется землей, а небо небом?»…
— Гляди, гляди, хлопче, свернешь мозги набекрень, — не раз предупреждали Степана люди.
Летом, как и большинство парней его возраста, Степан нередко ездил в ночное. По установившемуся обычаю собирали на выгоне за селом табун коней, затем после горячего спора выделяли самых лихих наездников, и они, вырвавшись из табуна, галопом устремлялись к лугам. Снедаемые мальчишеским тщеславием, пастухи упорно состязались за первенство. Но победа чаще других доставалась Степану; ее приносил ему единственный в хозяйстве конь — молодой и резвый Гнедко.
Но однажды Степанова Гнедка обскакала рыжая кобыла из конюшни Оляны известной во всей округе богачки. К величайшему огорчению хлопцев, на кобыле сидел не Назар, сын Оляны, а ее младшая дочь Христя. Казалось, один Степан не был уязвлен этим обстоятельством и в ответ на насмешки товарищей, донимавших его за то, что позволил Христе обогнать себя, смущенно улыбался.
Присутствие в ночном Христи нарушило установившийся ритм пастушьего быта. В эту ночь у костра не рассказывали похабных сказок, не матерились, хотя и не молчали: до полуночи хлопцы соревновались в острословии, поддевая друг друга насмешками. А Степан молча лежал на свитке и неотрывно глядел в бездонную глубину неба, усеянного льдинками звезд.
— Что ты там насмотрел, Степан? — насмешливо спросила Христя.
— Не ленись, сама посмотри, — ответил Степан.
Христя снисходительно засмеялась, расстелила рядом со Степаном стеганку и легла на спину. Озадаченные хлопцы тоже задрали вверх головы и начали всматриваться в высокую холодную черноту. У костра надолго наступила тишина. Сами не заметив того, пастухи поддались очарованию величественного зрелища: тысячами звезд из таинственной глубины смотрела на землю вселенная.
— Ужас… — точно выдохнула Христя.
И вдруг раздался взволнованный голос Степана. Тихо и нараспев он начал читать стихи, кто знает как забредшие в глухое село Кохановку:
…Да, я возьму тебя с собою И вознесу тебя туда, Где кажется земля звездою, Землею кажется звезда…Степан умолк. А вокруг будто никто и не дышал, боясь нарушить какое-то волшебство.
— Ты сам придумал вирши? — после долгого молчания дрогнувшим голосом спросила Христя у Степана.
— Не знаю…
— Почему не знаешь?
— Молчи…
— Почему «молчи»?
— Смотри в небо…
Завозились хлопцы, проворно укладываясь на спины. И опять воцарилась напряженная тишина, которую нарушал только мерный хруст травы в зубах лошадей.
— Чувствуете? — тихо и загадочно спросил Степан.
— Что?! — От страха у Христи лязгнули зубы.
— Как земля летит?
— Правда, — после томительной паузы изумленно шепнула Христя. Звезды плывут в сторону. — И она испуганно схватилась горячей рукой за руку Степана.
Долго еще у пастушьего костра не было слышно голосов. Может, впервые в жизни задумались эти дети земли о бренности человеческого бытия, попытались постичь своим не отягченным знаниями умом трудный смысл бесконечности. А когда заговорили, уже не слышалось шуток, язвительных насмешек. Распределили смены дежурств и, подбросив в костер трухлявого вербового корчевья, улеглись спать.
Возле Степана, ворочаясь на стеганке, вздыхала и что-то шептала про себя Христя. Степан сквозь дрему расслышал несколько слов:
Землею кажется звезда…Проснулся он от ощущения какой-то пустоты. Открыл глаза и увидел на рассветном фоне неба Христю. Девушка стояла у потухшего костра и сладко, широко раскинув руки, потягивалась. Степан понял, что и во сне чувствовал ее рядом с собой.
Христя сдернула с головы платок и проворными пальцами расплела длинную, тугую косу, желто-светлую, как жаркий цвет подсолнуха. Начала переплетать ее, но стеганка, в которую была одета, мешала, и она разделась, бросив стеганку к своим босым, красным от холодной росы, сильным ногам, Заплетала косу, высоко подняв девически-острые груди, и задумчиво смотрела на багровое перед восходом солнца небо…
Степану показалось, что он впервые видит Христю — какую-то по-особенному красивую, загадочно-молчаливую. Чуть загрубевшее на ветру и солнце лицо ее было отмечено не по-крестьянски тонкими чертами. Фигура горделиво-стройная, гибкая, движения плавные, выдающие сдержанность характера. Перед Степаном стояла уже не та Христя-подросток, какой привык ее считать.
Она повернулась и поймала на себе взгляд Степана.
— Вставай, Степа. Домой пора.
От мягкого и певучего голоса Христи у Степана сладко шевельнулось сердце.
— Сегодня воскресенье, можно не спешить. — Он вскочил на ноги, размялся и оглянулся вокруг.
На лугу дремала тяжелая роса. Но вот из-за далекой гряды черного леса выглянуло солнце и по седой росе скользнул еще холодный луч; тотчас же на траве вспыхнули миллионы искорок. Каждая росинка засветилась изнутри и, тронутая лучом, будто зазвенела золотым колокольчиком. Тут же из далеких левад, укутавших Кохановку, чеканным кличем отозвалась кукушка, словно извещая, что узнала она еще одну тайну, о которой ни Степан, ни Христя пока не догадывались.
Ежась от утренней свежести, Степан отыскал глазами среди пасшихся коней своего Гнедка и направился к нему, ощущая в сердце необъяснимую, трепетную радость.
— Степа, приходи вечером на улицу! — вызывающе крикнула вслед ему Христя.
Удивленный Степан повернулся к девушке, посмотрел в ее живые, неспокойные глаза и тихо засмеялся.
Вечерняя Кохановка всегда обвита венком из песен. Этот венок был наиболее цветист, звонкоголос в праздники: песенная перекличка вершилась тогда с необыкновенным накалом и такой гармоничностью, будто ею управляла рука невидимого дирижера.
На улицы в такие вечера высыпало все село. Грудились у завалинок, судачили, лузгали семечки. Слушали песни и угадывали, кто из девчат так тонко «выводит подголосника».
Девчата выходили на гулянку, обремененные одеждой и украшениями, как древние рыцари военными доспехами. Каждая надевала по три-четыре цветастые юбки, обшитые понизу кружевами, выпуская их одну из-под другой. Поверх юбок красовалась немыслимой расцветки плахта, а затем еще вышитый цветами по белому коленкору фартук. Полотняные сорочки тоже были расшиты богатыми узорами, со вкусом подобранными под цвет бархатной корсетки — красной, зеленой, черной, голубой. А мониста! Множество низок из тяжелых каменных горошин карминового цвета. Все это великолепие завершал венок цветов на голове, с которого ниспадал каскад солнечно-пестрых лент.
В те времена было модно носить хромовые, с густой шнуровкой ботинки-полусапожки на толстом, высоком каблуке. И обязательно, как свидетельство полного благополучия, резиновые калоши, хотя бы на дворе стояла июльская сушь.
Только девушки из богатых семей иногда позволяли себе уменьшить количество нарядов, как бы бросая вызов общественному мнению, которое наверняка не посмеет их осудить.
В тот воскресный вечер Христя вышла на улицу тоже одетая налегке. Может, поэтому, когда на сельской площади хлопцы и девчата играли в «третьего лишнего», она так стремительно, с заливистым, счастливым хохотом бегала по кругу выстроившихся пар и была недосягаема для преследователей. И каждый раз, обежав круг, становилась, на удивление всем, только перед Степаном или впереди его напарницы. Степан отвечал ей тем же, но был молчалив и бледен. Видать, сердце подсказывало ему, что на горькую свою беду полюбил он Христю — дочь мудрой и загадочной вдовы Оляны.
Тетка Оляна была не сродни Степану Григоренко. Муж Оляны — Трифон, ушедший в девятнадцатом году в петлюровскую банду, пропал без вести, и она вот уже шесть лет вела огромное хозяйство, состоявшее из двадцати десятин пахотной земли, участка леса, пасеки, шести пар коней и двух пар быков, множества овец, свиней, двух коров. Усадьба Оляны стояла особняком в излучине омывающей село Бужанки, среди огромного сада. Каменный дом в пять комнат глядел на Кохановку окнами с резными наличниками, выкрашенными белой масляной краской, и чем-то напоминал, находясь в окружении стройных ясеней, старую земскую больницу.
Имела Оляна свою конную молотилку, сеялку, триер. Охотно давала машины крестьянам в аренду за отработок.
Славилась тетка Оляна еще тем, что умела лечить травами людей и скотину, могла откатывать яйцом, отшептывать молитвами и заговорами болезни от простуды и дурного глаза.
А уж какая приветливая и внимательная к людям Оляна — другой такой не сыщешь! Прослышит, что в селе родилось дитя, спешит навестить роженицу и несет ей кварту меду и подол яблок. И тогда долго не умолкает в хате Олянин протяжно-певучий, сладкий голос:
— Слава богу, ой, слава богу! Под добрым знаком родился хлопчик. Только береги его от цыганского ока, и будет он расти здоровеньким и веселеньким на радость батькам, на зависть ворогам. И счастье и богатство выпадет ему на веку, если станет родителей почитать и богу молиться…
И пела, пела тетка Оляна, заставляя роженицу и всех домашних млеть от радости, что так повезло их семье, что родился на свет человечек с удачливой судьбой. Казалось, в хате становилось светлее от слов Оляны, которая уже спешила домой и на прощанье говорила:
— Ешь мой медок, милая, ешь яблочки. Они кровь обновляют, молока в груди прибавят и дитяти силу дадут. Это прошлогодние яблочки с антоновки, что на краю сада стоит и первой восход солнца встречает. Святая яблонька! Осенью, как дозреет сад, приходи собирать, отблагодаришь ее. И сыночка приноси с собой. Пусть напитается духом анисовки — есть и такая яблонька у меня. Целую зиму потом не будет простуды бояться. Только, чтоб польза была тебе и дитяти, неделю в саду моем поработаешь…
Провожали Оляну за самые ворота и всё кланялись ей в пояс.
Или, случится, у кого заболеет корова, Оляна уже тут как тут. На весь двор слышатся ее причитания:
— Ах ты, несчастье мое, бессловесная ты божья тварь, как же тебя угораздило соединить в чреве своем язь-траву с травой-буркуном?..
Затем с досадой прикрикивала на растерянных и испуганных хозяев:
— Что же стоите? Спасать надо скотину! Скорее грейте воду! Да пусть кто-нибудь сбегает ко мне за свячеными конопляными семенами!..
И тут же, прогнав подальше всех любопытных, становилась возле коровы на колени и начинала шептать только ей ведомые молитвы.
А когда была нагрета вода, поджарены и растерты конопляные семена, Оляна собственноручно замешивала в цибарке пойло, осеняла его крестом, кидала какое-то зелье и давала скотине.
Уходила с подворья усталая, молчаливая, но без горделивого чувства исполненного долга. Вроде все так и должно быть. Хозяевам, которые на прощанье норовили поцеловать ей руку, доверительно давала наставления, как смотреть за больной коровой, и со снисхождением говорила:
— Даст бог — оклемается… Тогда будет не худо прислать на мой баз вашего старшего. Пусть возле здоровой скотины походит да поможет навоз в поле вывезти. Не мне это надо, а добрым духам, что животину опекают…
Бывало, что корова подыхала после врачевания Оляны.
— Бог дал, бог и взял, — скорбно объясняла она беду и предлагала взаймы денег, чтоб купить другую корову.
Никогда Оляна не отказывала в помощи кохановчанам и деньгами, и зерном, и мукой, и лошадьми, чтоб вспахать поле. Мед с ее пасеки во всей округе считался целебным, и ходили за ним к Оляне как за лекарством.
Конечно — да иначе, казалось, и быть не должно — вела она строгий учет своих должников. Но никаких процентов не брала. Смиренно, почти с унижением, просила, кроме возврата долга, отработать десяток дней на ее полях во время жнив или обмолотить копну-другую снопов в ее клуне… И получалось так, что все село круглый год работало на Оляну да еще благодарило ее за удивительную доброту и небывалую отзывчивость.
Оляна — женщина дородная, с открытыми, большими, жалостливо смотрящими в самую душу темными глазами, с приветливым лицом. Ей было за пятьдесят, но выглядела она куда моложе, всегда румянились ее щеки, а в черно-смоляных волосах — ни одной серебряной нити.
Казалось, Христя переняла все лучшие черты лица матери, утончив их своей безмятежной юностью, веселым нравом и добротой чуткого сердца.
И вот Христя полюбила… Полюбила впервые в жизни! А прожила она на белом свете не так уж мало: целых девятнадцать лет…
Какое это счастье все время думать о Степане! Стена… Степушка… Только проснется Христя, а сердце сразу же испуганно и сладко «тук-тук!» о нем напоминает. И чем бы потом ни занималась, Степан неразлучно был с ней — в ее сердце, в мыслях, во вздохах, в беспричинном смехе ее. Удивительно, как она раньше могла жить без этого? Все время была сама по себе, а теперь — она и Степан.
…На дворе уже зима, а весной Степан пришлет к ней сватов. Ничего, что он бедный. Проживут! Только бы мама не противилась. Мама ведь любила свою младшенькую. Разве захочется ей сделать Христю несчастной?
И все ждала случая, чтобы заговорить о своем замужестве с мамой, которая ну никак не могла догадаться, что она давно уже любит!
Однако Оляна знала обо всем. Да не такой она человек, чтобы вставать дочери поперек дороги. Как-то в конце зимы, когда Степан уехал на заготовку леса, Оляна сказала Христе:
— Доченька, сбегай к Григоренчихе и отнеси ей кринку меду. Слышала я — болеет бабка.
Христя покраснела так, что на глазах ее выступили слезы.
— Не червоний, доця, земля слухом полнится, — с легким укором и грустью сказала Оляна и пошла в камору за медом.
Христя оделась и, сгорая от смущения, побежала на другой край села, где жил Степан.
Возвратилась оттуда подавленная, растерянная.
— Как там у Григоренчихи? — с деланным безразличием спросила Оляна.
— Ой, мамо, страшно… — с надрывом шепнули пересохшие губы Христи.
— Что страшно?
— Хата маленькая… В половину хаты — ткацкий станок. Пол земляной. Окна — с кошачий лаз.
— Что ж поделаешь, — вздохнула Оляна. — Беднота темная. С того и живут, что старая наткет людям полотна.
— А сколько земли у них?
— Разве Степан не хвалился? Десятина, да и та на глине… Так что пирогами не объедитесь.
— Мамо, а вы нам не дадите земли?
— Ого! На чужую землю женишков много найдется! Почище Степана! Ты, Христина, не дури. У тебя братья есть. Им земля принадлежит. А твое то, что в скрине. Ну, корову дам, грошей трохи. Но в богачи вас не выведу, не надейтесь.
— Как же будем жить, мамо?..
— В бедности. Работать будешь от зари до зари, копейки считать, кусок хлеба экономить. А ты как думала? Любовь тоже должна быть мудрой.
— Она и есть мудрая…
— Нет, твоя любовь неразумная, потому что не держала сердце на поводку. Молодое сердце рвется к красоте, как глупый щенок к детям. Так вот, надо знать, доченька моя, когда отпускать щенка, а когда нет. Можно было попридержать сердце для равного себе, а не тянуться к этому голодранцу, да еще придурковатому.
— Мамо… он умный, добрый… Мамо, что делать мне? — Христя горько заплакала.
— Сама решай, — спокойно сказала ей Оляна. — Насиловать не могу. Сватаются ж добрые люди.
— Вы об Олексе?
— А то о ком же? Хозяйский сын, не глупый, здоровый, не рябой. В достатке будете жить.
— Лучше повешусь!
— На все воля божья. Но разумные люди и вешаются не с горячки.
Христя убежала в свою горенку, закрылась там. Проплакала день, ночь, а потом явилась на глаза матери черная вся, исхудалая. По-детски жалко и виновато улыбнулась и чужим, огрубевшим голосом сказала:
— Мамо, пошлите в лес за Степаном. Как он скажет…
Но Оляна знала свое дело. Степан не возвращался из лесу до самой пасхи. А когда вернулся, его Христя уже была просватана за Олексу Якименко — старшего сына богатого кохановского мужика Пилипа.
Узнал Степан о своей беде и повеялся по свету.
Кроме старой матери, у него остался в Кохановке родной дядя — Платон Гордеевич Ярчук. Не сознался Степан Платону, что покидает село. На прощанье только зашел в его хату и принес крохотное двуствольное ружьишко, которое собственноручно смастерил ради забавы в длинные зимние вечера.
— Подарунок Павлику, — сказал Степан озадаченному дядьке, ища глазами своего двоюродного братишку.
Но Павлика в хате не было. Платон Гордеевич взял в руки двустволку и с удивлением крякнул, рассматривая искусную работу.
— Да-а… — только и сказал. — Мал еще Павлик такими игрушками забавляться. — И спрятал ружье на чердак.
5
— Утекла! — с торжествующей радостью сообщил отцу Павлик, как только Платон Гордеевич возвратился из сельсовета.
— Кто утекла?
— Эта!.. Ну, что мама. Говорит, бандиты мы! — И Павлик даже подпрыгнул от удовольствия.
— Бандиты?
— Эге, бандиты! Говорит, пусть лучше эта хата сгорит, чем ей здесь бандитским байстрюкам прислуживать.
— Байстрюкам?!
— Эге. А что оно — байстрюк?
Платон Гордеевич вдруг так хохотнул, что Павлик испуганно притих. Он-то знал, что предвещает этот отцов смешок.
Отойдя на всякий случай подальше, Павлик с тревогой косил глаза в сторону отца, который стоял у телеги и молча дымил на привязанного Карька махрой, о чем-то напряженно думая. Под его усами в опущенных уголках губ гнездилась недобрая улыбка, а из глаз под вздрагивающими косматыми бровями почти зримо выплескивалась закипающая в сердце лютость.
Покачав головой каким-то своим мыслям, Платон Гордеевич затянулся едучим дымом и, отшвырнув под грушу цигарку, начал отвязывать Карька.
Взяв коня за уздечку, вывел за ворота и, пропустив вперед себя, навалился грудью на его острую, бугристую хребтину. Павлик даже хихикнул, так комично подкинул отец зад и правую ногу, чтобы сесть верхом. Карько будто почувствовал настроение хозяина. Задрав голову и мотнув хвостом, он поплясал на месте и от свирепого удара каблуками в бока перешел в намет невиданной для него прыти.
Настиг Платон Гордеевич беглянку уже недалеко от ее села, Лопушан. Она с жарким ужасом глянула в темное лицо всадника, поднявшего над головой кнут, и отшатнулась с дороги. И тут же свистящий удар ошпарил ей спину. Женщина с хрипящим воем побежала к селу напрямик, через вырубленную леваду. Ее провожал судорожный хохоток Платона Гордеевича и хищный посвист кнута.
И увлекся старый Ярчук, ослепленный лютостью. Не заметил он, как вскочили на коней лопушанские мужики, бороновавшие невдалеке свои поля. Четыре босоногих бородатых всадника окружили разъяренного Платона Гордеевича и, не пытаясь даже разобраться, что происходит, учинили скорый и праведный суд.
Привез Карько своего хозяина домой чуть живого — исполосованного, окровавленного, задыхающегося от бессильной ярости…
Так Павлик лишился своей второй матери и чуть было не лишился отца.
6
Ох и ненасытно женское любопытство! Но Павлику это на руку. Бывает, зазовет его к себе в хату сердобольная соседка Ксеня или Мотря, Палажка или Фенька — и давай выспрашивать, что да как. Павлик ковыряет пальцем в носу, искоса бросает небезразличные взгляды на полку, где стынут пироги или пшеничные коржи, и молчит. А о чем рассказывать? Подумаешь, и третья мама не удержалась в их доме! Так Павлик об этом нисколько не жалеет.
Наконец соседка сует ему в руку добрый кусок горячего пирога, и он неохотно начинает отвечать на вопросы. Павлику даже нравилось, что он мог заставить баб охать и ахать, всплескивать руками и неистово креститься. Нравилось, что они жалели его, гладили по нестриженой голове и вздыхали.
Павлику тоже было очень жаль самого себя. Но почему? Ведь он действительно был рад, когда третью маму, вдовицу Явдоху, спровадил батька из дому на второй день после того, как привез ее.
Утром подала Явдоха на стол обед — вначале борщ в глубокой глиняной миске. Молча хлебали его почерневшими от времени деревянными ложками, пока ложки не заскребли о дно миски. Мама пошла доставать из печи пшенную кашу, а Платон Гордеевич тогда и шепнул Павлику:
— Наша покойная мама добрее борщ варила. Правда?
— Угу. — Павлик старательно облизывал ложку.
Судьба Явдохи была решена. Съели кашу, чуть пахнувшую дымком. И когда Явдоха вымыла посуду, расставила ее под печью и на миснике, подмела земляной пол, Платон Гордеевич открыл сундук, отмерил от толстого рулона десять «локтей» выбеленного еще покойной хозяйкой полотна, свернул его и, подавая Явдохе, сказал:
— Возьми и… звиняй. Ты нам не подходишь.
Явдоха остолбенело стояла посреди хаты, держа в руках полотно, а отец уже запрягал Карька, чтобы везти ее к вдовьему дому в село Галушники.
Четвертая мама варила и вкусный борщ и кашу, которую Павлик уминал так, что за ушами трещало. И вообще оказалась она доброй хозяйкой. Хату при ней стало не узнать: точно стены раздвинулись, света прибавилось; все засверкало чистотой. Испеченный ею хлеб, остывая на скамейке, дышал таким пахучим, теплым ароматом, будто это сама сытость обрела запах и навсегда поселилась в ярчуковском доме.
Только уж очень хлопотала она вокруг Павлика. На улице жара, а Варвара (так звали четвертую маму) квохчет: «Застегнись, золотце мое, а то простудишься, хлопчик мой славный». После сытного обеда спрашивала: «Ты, может, голодненький? Чем тебя еще покормить?» А то еще хуже: «Гляди, в криницу не упади», — хотя Павлик и сам не дурак, чтобы падать в криницу.
Избегая чрезмерных забот новой мамы, он старался целыми днями не появляться ни в доме, ни на подворье.
А Платон Гордеевич ходил по хозяйству, молчаливый, насупленный, точно день казался ему темной ночью. И его потаенные мысли тоже, видать, были темными.
Невдомек было Павлику, что отец, породивший его на пятом десятке своей жизни, любил своего меньшого тяжелой, приносящей страдания любовью. Болела у старого Ярчука душа, тлело сердце от мысли, что помрет он вдруг, а Павлик останется на белом свете один-одинешенек и пойдет скитаться меж чужих, безразличных к сиротской доле людей.
Что-то в этом роде и наворожила ему несколько лет назад цыганка. Хоть и не верил Платон гадалкам, но страх все-таки затаился в душе. Запомнились слова наряженной в цветастый платок и красные мониста ворожки: «Жену похоронишь — не женись на чернявой. Ищи судьбу в чужих краях, в светлых глазах. В шестьдесят лет берегись смерти, думай о кровном чаде своем. Трудная доля ему выпадет…»
Платона Гордеевича душили слезы, и сердце начинало биться в самой глотке, когда он представлял своего Павлушку голодным, босым, оборванным, бредущим с кнутом в руках по чужому холодному полю, за чужим стадом. А то вдруг виделся ему сынишка спящим в сенях чужой хаты, на груде тряпья, взвизгивающим от голода и холода, как бездомный щенок… Ведь и у самого Платона Гордеевича было такое страшное детство…
И старый Ярчук искал для своего Павлика настоящую мать, которая согрела бы его своей не напускной, а настоящей материнской любовью, не прогнала его из дому или не оставила одного, когда, не дай бог, с ним, Платоном, случится то, что случается на старости с каждым человеком. Надеялся Платон и на большее. Грезилось ему, что Павлик окончит школу, будет затем учиться в городе, пока не выбьется в люди, не найдет свое место в жизни подальше от черного селянского труда.
Поэтому так бессердечен был Платон Гордеевич в своих на первый взгляд сумасбродных требованиях к каждой вдове, которую выбирал для Павлика в матери.
Выбирать же было из кого. В Кохановке, в окрестных селах, как и по всей Украине, мыкали горе много, ой как много вдов. Одни бедовали еще с времен русско-японской войны, с тех проклятых времен, когда тысячи солдат Русской империи укрыли своими телами сопки Маньчжурии. Других осиротила империалистическая война. Третьи овдовели в гражданскую, захлестнувшую было в своем водовороте все мужское многолюдье.
А жизнь продолжалась, годы текли, зарубцовывались сердечные раны. Смирились вдовы со своей горькой судьбой, забылись в работе, в заботах о детях, о хлебе. Но кто не подвержен земным человеческим порывам? Кто не ждет счастья? Ждали его в потаенных мечтах и вдовы. Как знать? Ведь разное случается на белом свете.
В рождество, на пасху или в другие праздники, когда можно было разогнуть спину, дать отдых рукам, посидеть без дела у покрытого чистой скатертью стола, вдова особенно чувствовала свое женское одиночество, и ей казалось, что вот-вот произойдет чудо, именно в праздник — если не в это рождество, так в следующее, — но должен же заглянуть в ее вдовий дом мужской хозяйский глаз, должна она склонить в женском покорстве голову перед своим мужем… И сердце трепетало, стучало в груди, зовя счастье.
Многие кохановские вдовушки опускали непослушные глаза при встрече с Платоном Гордеевичем, после того как овдовел он; здоровались с ним трогательно-напевно, выражая смирение и почтение. Но старый Ярчук был глух к зовущим вдовьим голосам. Он твердо решил для себя: нет ему пары в родной Кохановке. И дело даже не в советах цыганки. Ведь Павлику нужна мать, которая и после смерти Платона Гордеевича не покинула б ярчуковской хаты, чтобы Павлику не пришлось переселяться на жительство к многодетной сестре Югине, живущей на Харитоньевском хуторе.
Не хотелось Платону, чтоб его сынишка шел в наймиты даже к родным людям.
Черные мысли гнездились в голове Платона Гордеевича. При всей своей рачительности, бережливости, умении ценить нажитое крестьянским трудом имущество он дал себе слово: как только привезет в свою хату вдову, которую Павлик полюбит, признает матерью, тут же тайком сожжет ее дом, сожжет, чтоб не было вдове возврата из его, Ярчука, хаты, даже если он помрет.
Среди кохановских вдов были и бездетные, вполне подходившие ему, Платону, в жены. Но как на беду, их дома стояли по соседству с дворами Ярчуков — многочисленных родичей Платона Гордеевича.
И Ярчук привозил вдов из соседних сел. Привозил и настороженно присматривался к ним, следил краем глаза за Павликом, старался помочь ему привязаться своим доверчивым детским сердцем к новой маме.
Но в самом большом трудно обмануть детское сердце. Этого не мог понять Платон Гордеевич. Ему показалось, что Варвара, которая начала хозяйничать в его доме, и будет настоящей матерью для Павлика. Ведь сколько теплоты и заботы о мальчике в ее голосе! И Ярчук, отчаявшись, жестоко выпорол ремнем Павлика, добиваясь, чтобы тот называл Варвару мамой… Назвал Павлик, но только один раз, сквозь слезы. И хотя ремень всегда висел на видном месте, у дверей, мальчишка ухитрялся или вовсе не обращаться к Варваре, или обращаться так, чтобы обойтись без самого дорогого для него слова «мама».
Однажды опять взялся Платон Гордеевич за ремень. Павлик, сдерживая слезы, не убегал. И тут старый Ярчук заметил, как брезгливо передернулись плечи Варвары, когда у Павлика заблестело под носом и он по извечной привычке деревенских мальчишек вытер нос заскорузлым рукавом.
Не подозревал Павлик, что он уже решил судьбу Варвары. Отец, вдруг махнув на него рукой, швырнул ремень за топчан и как ни в чем не бывало сказал:
— Достань, Варвара, гороху да намочи. Воскресенье же завтра, пирогов надо испечь.
Варвара взяла сито, поставила возле печи табуретку, намереваясь лезть за сушившимся там горохом.
— Э-э, не-ет! — Платон Гордеевич отодвинул табуретку. — Без табуретки на печь попади.
— Ты что, сдурел, Платон? — взмолилась Варвара.
— Не можешь без табуретки на печь взлезть?! — с радостным изумлением простонал Платон Гордеевич и облегченно вздохнул.
— Не могу!
— Не можешь? И вот так не можешь? — И он, пряча в усах шельмоватую улыбку, примостил ногу в нижнюю печурку, ухватился рукой за кирпичный выступ и тут же оказался на печке.
— Я тебе не коза! — Варвара обиженно поджала губы.
— Чего же раньше молчала? — не слезая с печи, с притворным огорчением качал головой Платон Гордеевич.
Соскочив на пол, отец открыл сундук и начал отмеривать полотно. А повеселевший Павлик с готовностью побежал выводить из стойла Карька. Он уже твердо знал, что сейчас Варвара будет грузиться на телегу.
Вскоре в доме появилась пятая мама. Павлик с тревогой наблюдал, как она благополучно выдерживала все экзамены, которые устраивал ей батька. Оставался самый последний — доставание с печи гороха, — и на этот экзамен больше всего надеялся Павлик.
Наконец он наступил. Отец, усевшись на единственную в доме табуретку, потребовал, чтобы завтра были пироги с горохом.
Павлик весь напружился в готовности бежать на конюшню и выводить Карька. Но мама, не вспомнив о табуретке, вдруг проворно взобралась на печь и начала нагребать там в сито гороху.
Павлик даже засопел от огорчения и с досадой отвернулся к окну. Но тут же услышал голос с печи:
— Платон, придвинь табуретку, а то упаду.
— А без табуретки слезть не можешь? — насторожился отец.
И эту маму постигла участь всех предыдущих, столь недолговременных хозяек дома.
7
Если б кохановским женщинам дали власть, они бы наверняка заставили своих мужиков детей рожать. До чего же упрямое и лихое зелье! Любая из них среди бела дня может доказать мужу, что сейчас глухая ночь, и тот поверит, да еще спать уляжется.
Затеяли кохановские мужики, организацию товарищества по совместной обработке земли, да позабыли спросить согласия у своих женушек. И «от ТСОЗа не осталось ни коня, ни воза». Целую зиму митинговали, заседали, готовили к севу зерно и инвентарь, а весной, кажется не без Оляниных советов, вспыхнул бабий бунт, и большинство членов ТСОЗа, особенно те, у которых были лошади, вышли каждый на свое поле. Сельские комсомольцы потом и сходки созывали и по хатам ходили, образумливая людей, но время было упущено.
А летом прокатился слух, что будущей весной в Кохановке начнут создавать колхоз.
Люди были наслышаны о колхозах разного. Бабы с преувеличенным ужасом рассказывали друг другу о коммунии, где всех заставят жить в одном огромном доме одной большой семьей. Дети в этой семье будут ничьи, и содержать их станут почему-то в яслях, в которые кладут скотине корм. Богатые мужики посмеивались, полагая, что из колхоза выйдет такой же толк, как из ТСОЗа.
Но недавно с сахарного завода приезжали трое рабочих. Бывшие крестьяне, они горячо убеждали сельскую сходку, что артелью сподручнее покупать машины и обрабатывать землю, повышать урожаи и в случае засухи отбиваться от голода. Доказывали, почему выгодно обобществлять тягловый скот, создавать единый семенной фонд. Говорили и о том, что в колхозе труд крестьян не будет таким каторжным, как в единоличном хозяйстве, обещали шефствовать над колхозом и помогать в механизации.
Кохановчане, которые в зимние месяцы работали на сахароварне, отнеслись к словам гостей с завода сочувственно и с доверием. А многие, особенно те, у которых хозяйство было покрепче, отмалчивались или откровенно заявляли, что проживут как-нибудь и без колхоза.
Платон Гордеевич Ярчук решил с колхозом повременить. Пусть другие попробуют, пусть узнают — жарко там или холодно. Спешить ему некуда, тем более что вступление в колхоз — дело добровольное. Наконец, сперва он должен найти для дома подходящую хозяйку.
И хотя впереди еще были осень и зима, на всякий случай пошел за советом к мудрой и осторожной Оляне.
Когда переступил порог богатого Оляниного дома, увидел, что хозяйка стоит перед сидящим на табуретке Серегой — сверстником Павлика — и, что-то шепча, катает по его нестриженой голове куриное яйцо. В стороне, на краешке стула, сидела, благоговейно наблюдая за происходящим, Серегина мать, Харитина — не старая, но с изможденным, серым лицом женщина.
Молча кивнув головой на приветствие Платона, Оляна указала ему какими-то чужими глазами на длинную лавку с украшенной резьбой спинкой. Платон присел, а Оляна, разбив яйцо над стаканом и долив туда из бутылки свяченой воды, начала рассматривать стакан на свет.
— Зачем же ты, хлопчику мой любый, спал на сырой земле? — ласково спросила она Серегу. Потом указала на плававший в стакане желток, на кисельные разводья белковины и пояснила: — Вот дерево, а вот ты, неразумное дите, спишь на траве.
— Под грушею, наверное, спал, шибеник! — сверкнув на Серегу сердитым взглядом, сказала Харитина. — Теперь возись с ним. Кашляет, в жару весь.
Оляна что-то пошептала над Серегой, потом наставительно изрекла, обращаясь к Харитине:
— На все воля божья… Грех на детей ожесточаться. Ты вот что: вечером свари липового цвету, напои хлопчика отваром и уложи спать под кожухом.
— Сделаю, тетка Оляна… Большое спасибо вам.
— Надо бы хлопчика к делу пристраивать. Мог бы уже телят пасти, ответила Оляна.
— Мал еще, пусть на улице поиграет.
— Улица добру не учит. Собираются вот такие неразумные и чужие сады обносят, деревья калечат. Ну скажи, хлопчику, лазил ты в мой сад?
— Н-нет, — боязливо ответил Серега, пряча глаза.
— Вот, золотце, вот, славный мой. А если захочешь яблок — приходи, угощу. Не жалко. И колядовать на рождество приходи. Будут конфеты, орехи… Добрый пастушок из тебя выйдет, шустрый.
Когда Серега и Харитина ушли, Оляна, точно впервые увидев Платона Гордеевича, закудахтала:
— Здравствуй, вдовая головушка! Рада видеть тебя, рада слышать слова твои. С чем пожаловал: с добром или злом? Ой, Платоне, Платоне! Бога гневишь. Вон в селе сколько разговоров о тебе: бают, меняешь жинок, как цыган коней. Зачем же так неразумно? Бог — он все видит, все запоминает. Но пока до его суда дело дойдет, люди уже сами строго судят тебя.
— Не об этом разговор, — хмуро ответил Платон. — Ты скажи, Оляно, свою думку насчет колхозов. Что тебе твой бог говорит?
— Не трожь бога, Платон! Не то совсем лишит тебя разума.
— Ты же сама знаешь, что всякая власть от бога. А власть скоро потребует записываться в колхоз. Как ты мыслишь?
Оляна заморгала своими большими, глубоко сидящими глазами и тяжело вздохнула, будто прощая Платону Гордеевичу его легкомыслие.
— Не забывай, Платоне, — раздумчиво произнесла она, — власть — это люди. А людей всегда нечистый путает. Вот и колхозы — от нечистого.
— Ты советуешь не вступать?
— У совести своей спроси, Платоне. А вот хлебушек припрятать подальше советую. В нем — кровушка твоя. Обмолоти урожай и половину на черный день схорони.
Оляна помолчала, окатила Платона Гордеевича с ног до головы испытующим, изучающим взглядом и улыбнулась, заиграв толстыми бровями:
— Женишок!.. Ты хоть бы бороду укоротил.
— Боюсь, тогда молодые да шею станут вешаться, — засмеялся Платон.
— Так уж и боишься… И чего тебя по чужим селам носит? Мало баб в Кохановке?
— Кохановских совестно будет прогонять.
— Какая ж нужда заставляет прогонять?
— Что поделаешь, — развел руками Платон. — Не могу подобрать хорошей хозяйки.
— Может, я тебе подошла бы? — то ли всерьез, то ли в насмешку спросила Оляна, глядя Платону в лицо.
— Ты не по моим зубам, — отшутился Платон, — не тем цветом вышла…
Хотел еще что-то сказать, но в хату зашел младший сын Оляны, двадцатилетний Назар.
— Добрый день, — бойко поздоровался он, швырнув на лавку картуз.
8
Платон Гордеевич внял совету Оляны и стал готовить тайник для зерна. Придумал очень просто: сделать изнутри сарая двойную стену. В полуметровый простенок можно ссыпать хоть весь урожай.
Работал ночами при керосиновом фонаре, чтобы не обратить внимания соседей и избежать расспросов Павлика. Но недремлющее око села было больше занято семейными делами Платона, чем хозяйственными.
В субботу он особенно долго задержался в сарае, поэтому в воскресенье проснулся, когда солнце поднялось уже высоко.
Заспанный и отупелый после долгого сна, Платон вышел на порог и прищурился от плеснувшего в глаза света. Тут же услышал, как у ворот с визгом взорвался многоголосый бабий хохот. Увидел на улице у своего подворья целое войско женщин с пустыми ведрами. Опешил… Мелькнула дикая мысль: «Может, без штанов вывалился во двор?..» Трусливо и суматошно оглядел себя, вызвав новый взрыв смеха.
— По какому случаю ярмарка? — глуповато улыбаясь, чтобы скрыть растерянность, спросил Платон Гордеевич, направляясь к воротам.
— Пришли на старого кобеля поглядеть, — насмешливо ответила за всех Ксеня — высокая, повязанная белым платком молодица.
— Какого кобеля? — изумился Платон. — Где он?
— А вы очи продерите! Читайте на хате!
Платон Гердеевич обернулся и похолодел. Вдоль белой стены, ниже окон, от угла до самых дверей дегтем полуаршинными корявыми буквами было написано «В цiй хатi проживає старий кобель».
В глазах Платона потемнело от толстых, жирных, с потеками букв. Почувствовал, как вспыхнуло лицо, как медной звенью ударило в висках, а в сердце наступила холодная немота. Такое позорище на старости лет!.. Ведь дегтем мажут только ворота и хаты девчат-потаскух.
За спиной — гнетущая тишина. Примолкнув, женщины ожидали, что скажет Платон Гордеевич.
Он повернулся к ним — спокойный, со злой усмешкой под усами. Достал из кармана кисет и неторопливо начал скручивать цигарку. Затем с издевкой сказал:
— Не знал я, бабоньки, что вы все такие. Прослышали о кобеле и сбежались…
Женщины ответили смущенным смешком.
А Платон Гордеевич продолжал:
— Ну, заходите в хату! Только по очереди… Кто хочет быть первой?
Женщин точно сквозняком сдунуло. С хохотом и визгом, плюясь и ругаясь, они устремились к кринице. А Платон взял в сенях лопату и с ожесточением стал соскребать въевшийся в стену деготь.
«Какая лярва могла это сделать?» — с лютостью думал он.
У него не было ни малейшего сомнения, что клеймо позора на его хату наложил кто-то из озлобившихся кохановских вдов. Но кто именно? Кто мог не пожалеть на пустяк целого ведерка дегтя? И вдруг кольнула догадка: «Оляна!..»
И чем больше размышлял Платон Гордеевич над этой догадкой, тем прочнее утверждался в мысли, что именно Оляна подослала к его хате кого-нибудь из своих наймитов. В ином свете встали перед ним слова Оляны, брошенные будто в шутку, о том, не подошла ли бы она ему в жены.
«Облагоразумить меня хочет, короста сладкая! — со злостью думал Платон Гордеевич. — Я ее облагоразумлю!..»
А Оляна была здесь ни при чем. Не догадывался Платон Гордеевич, что сегодня ночью хозяйничали у его хаты хлопцы из Яровенек, которых подпоила и прислала в Кохановку вдова Варвара — четвертая неудачливая мачеха Павлика.
Платон Гордеевич, вдыхая густой дегтярный аромат, уже соскребал остатки черных следов на стене, как с улицы его весело окликнул чей-то басовитый голос:
— Дядьку Платоне, бог на помощь!
Лютость с новой силой горячо полоснула по сердцу Платона Гордеевича. Он резко повернулся, готовый ответить на насмешку крутым словом, и увидел у ворот высоченного, грудастого мужика с молодым, загорелым до черноты лицом. Знакомые смеющиеся глаза под сумрачными бровями, знакомая белозубая улыбка. Из-под капелюха выбивалась, курчавясь, непослушная прядь темных волос. Да это же Степан!
— Степан Прокопович?! Откуда ты свалился? Да заходи скорее, а то я заикаться начну! Вот не ожидал!
Степан с радостной торопливостью распахнул калитку и вразвалку, широко переставляя длинные ноги в сапогах невероятной величины, по-медвежьи зашагал к Платону. Они долго тискали друг другу руки, как бы вкладывая в рукопожатие всю теплоту взаимной симпатии, и, смущенные этой откровенной, не по-мужски проявившейся симпатией, сдержанно похохатывали, не зная, с чего начать разговор.
— Где же ты пропадал столько лет? — с веселым недоумением спросил, наконец, Платон Гордеевич.
— Долго, дядьку, рассказывать… А вы зачем хату скоблите?
— Понимаешь, — Платон с чувством неловкости поскреб в затылке, какая-то стерва дегтем обляпала.
— Спьяну, что ли, перепутали? — удивился Степан.
— Не иначе… Да ничего, я ее, болячку, арапником так обляпаю… Ну, рассказывай, где же тебя носило?
9
Думалось Степану, что не переживет он измены Христи. И уж если изводиться от тоски, так не на глазах родного села. Не хотел, чтоб жалели его люди, да и стыдился беспомощности своей. Поэтому подался в свет — аж за самую Волгу, на Саратовщину, куда, как говорили в Кохановке, в давние времена перекочевали на вольные земли многие украинцы.
Прижился Степан в селе Алексеевском, поразившем его добротностью рубленых домов и широтой дремотных, заросших сизой муравой улиц. Понравилось Степану, что к селу полукружьем подступал звеневший птичьим щебетом лес, тесня к гумнам, к огородам застенчиво-тихую речку Баландинку. С другой стороны Алексеевского расхлестнулись заливные луга, пестро кричавшие весной яркими красками цветов. За лугами чуть горбились слизанные ветрами и временем древние курганы, а за курганами до самого горизонта распластались пахотные земли. Добрая землица — как на Украине: воткнешь оглоблю — телега вырастет.
Да и многим другим напоминало Алексеевское Украину: сладким цветением садов весной, голосистыми песнями девчат, изнурительным трудом крестьян особенно в жатву, шалыми мартовскими вьюгами, колокольным звоном на пасху. И люди там добрые, душевные, честные. Правда, были и другие, как в Кохановке: черные души. Скрываются они подчас за сладкой улыбкой и притворно-добрым словом. Вот и Степан поверил такой улыбке и такому слову. Нанялся в батраки к богатею Даниле Зубову, всю свою силушку вкладывал в его землю, но шли годы, а так и не смог накопить денег, чтоб обзавестись хоть клочком собственной земли.
…Слышал где-то Степан, что в человеческих жилах текла когда-то белая кровь. И лилась она реками в жестокой борьбе людей за лучшее место под солнцем, лилась, заполняя земные чаши. Но возмущенная земля не впитывала белую кровь, а возмущенное солнце не испаряло ее. Тогда наполнившая земные чаши белая кровь обернулась в белых голубей, белых лебедей и белых чаек. Птицы с трубным кличем поднялись в небо и устремились к солнцу. Летели они к питающему земную жизнь светилу до тех пор, пока не сгорели в его огненном дыхании. Прах белых птиц упал на землю белым снегом, остудил горячие головы людей и заставил их глянуть на себя мудрым, просветленным взглядом.
И тогда трудовой человек похитил у Вечности мысль о всеобщем равенстве и братстве. Сквозь века он нес ее в своем сердце, в своей белой крови. Но были на земле черные силы, которые огнем и мечом стремились сломить дух вольности в человеке и отнять у него мысль о братстве и равенстве. Тогда человеческая кровь, по-прежнему лившаяся по земле реками, вспенилась и стала красной. И в тот же час красный цвет обрел ничем не заглушаемый голос, который неустанно звал людей к непокорству злым силам и напоминал, что похищенная у Вечности мысль о братстве и равенстве должна обрести живую плоть.
Черные силы стали прятать от человека солнце, чтобы не видел он красного цвета, и оглушать его каторжным, подневольным трудом, чтобы не слышал он голоса свободы. И тогда человечество родило великих сынов, наделив их мудростью, накопленной в сердцах многих поколений. Они гением своим оплодотворили похищенную древними предками у Вечности мысль о братстве и равенстве и указали, как превратить земную твердь в счастливую обитель людей. Вздрогнули от ликующего клика революций материки, затрещали давившие их царские троны…
Первыми обрели свободу и равенство люди страны Ленина…
Шли годы. Раскрепощенный народ строил новую жизнь, в которой не было бы места для самого страшного зла — неправды. Но неправда еще жила. В селах и деревнях были богатые и бедные, были счастливые и несчастные. И чтобы убить неправду, решили люди порушить каменные стены, разделявшие голод и пресыщение.
С корнем начали выкорчевывать кулацкие гнезда — отродье тьмы, стремившееся занять место изгнанных революцией властителей земли.
Степан ходил по селу хмельной от счастья. Пришла правда… Он указал властям, где спрятал хлеб Данила Зубов, и записался в колхоз. После этого земля стала будто ближе к небу и сделалось вокруг светлее; чувствовал себя так, словно надел прочную обувь на озябшие и натруженные ноги, уделом которых была нагота. Раньше тяжелым грузом давила несбыточная мечта: жить в достатке. А теперь Степан почувствовал себя богатым.
И все же в сердце закрадывалась тревога. Новая жизнь вроде глубоко пускала корни в селе, но древо ее зеленело робко. Покончили в Алексеевском с кулаками, а колхоз все еще стоял на четвереньках. Не спешили середняки обобществлять свое хозяйство: трудно им было расстаться с добром, которое приобреталось десятилетиями, приобреталось ценой лишений, надорванных в тяжком труде жизней.
И началось непонятное…
«Не хочешь записываться в колхоз? Плати деньгами или натурой налог! Уплатил? Вот тебе еще налог. Нечем платить? Давай сюда избирательные права и пошел вон из села…»
Многих упорствующих середняков причислили к кулакам и во имя святого дела раскулачили неправедно.
Если б обрела голос земля, та самая земля, которая без человеческих рук дичает и лишается материнской силы… Надо было вовремя разбудить убаюканную мудрость. Но мудрость дремала, и поэтому пахали горе, бедой засевая. Что ж вырастет?..
Над крестьянским морем разгорался погожий рассвет, а оно, мятежно-неразумное, мелело… Обмелело и Алексеевское. Над многими дворами повисла немота. Окна домов тоскливо смотрели на мир из-под крест-накрест приколоченных досок. Напуганные раскулачиванием, десятки семейств тайком снялись с насиженных мест и, навсегда порвав с хлебопашеством, перекочевали в поволжские города.
Степану стало не по себе, стало страшно за землю, которая лишалась рабочих рук, страшно за далекую Кохановку. Знал он, что на Украине только-только приступили к коллективизации. А вдруг и в его родном селе люди, как глупые телята, которых надо силком тащить к коровьей сиське, заупрямятся, не пойдут в колхоз?
И тут он представил себе Христю, которую вместе с ее детьми увозят в незнакомую и холодную Сибирь…
Как ни странно, Степана вернула в Кохановку так и не увядшая за годы любовь к Христе.
Он уже прослышал от людей, что Христя живет с Олексой в мире и дружбе. Отделились они от старого Пилипа, построили на краю села хату, обзавелись крепким хозяйством. Христя родила Олексе двух дочек — Тосю и Олю — и любила их какой-то неистовой, почти животной любовью. Соседи Олексы диву давались, видя, как его жинка до одури забавлялась детьми. Начнет, бывало, ласкать их, целовать, тискать и, казалось, совсем рассудок теряет. Олексе не раз приходилось силой отнимать у Христа вопящих дочурок.
А однажды она до полусмерти избила соседского мальчишку, обидевшего на улице ее старшую, Тосю. Потом с яростью срубила под окном хаты молодую сливу, о колючки которой поцарапалась девочка.
Можно было подумать, что Христя никогда и не любила Степана. А он все-таки решил предупредить ее и Олексу о неотвратимо надвигавшейся беде.
Солнце щедро лило на землю горячее золото, и оно, ударяясь о лиственный навес ясеней, расплескивалось по ярчуковскому подворью жаркими пятнами. Платон Гордеевич и Степан сидели в тени сарая на почерневшей от времени колоде и вели неторопливый разговор. Платон, слушая горький рассказ Степана, дымил цигаркой, шумно вздыхал, охал, зло матерился или с удовольствием прищелкивал языком, если Степан говорил о событиях, радовавших хлеборобскую душу Платона.
— Значит, крути не крути, а другой дороги, кроме как в колхоз, нет, сказал Платон Гордеевич, будто подводя черту под услышанным.
— Да, дядьку Платоне, — с убеждением знающего человека ответил Степан.
— И ты думаешь, что и Оляну могут принять в колхоз?
— А почему нет, если успеет раскассировать свое хозяйство?
— Молод ты еще, Степане… На черта мне такой колхоз, где рядом со мной будут Оляна, Пилип, Лысаки, которые имеют земли сейчас больше, нежели все кохановские мужики? Пилип же скорее удавится, чем станет работать вместе с бывшими своими наймитами!
— Леший с ними — и с Оляной и с Пилипом! — в сердцах воскликнул Степан и, смущенно уткнув взгляд в землю, каким-то виноватым голосом сказал: — Христю мне жалко…
Платон помолчал, будто не придал значения последним словам Степана, потом продолжал:
— Конечно, все они могут податься в колхоз. Спустят на торговице скот, распродадут хозяйство, закопают в землю гроши, припрячут зерно, а потом, может, и запишутся. Только не для того, чтобы на ноги колхоз поставить. Уж постараются богатеи доказать, что проку от колхозов никакого.
— Ничего не поможет! — Степан зло засмеялся. — Скрутим им рога!
— Попробуй перехитри Оляну. Она как кошка: как ни брось — все на ноги встанет. — Платон Гордеевич дружелюбно покосился на Степана и, пригасив под усами улыбку, спросил: — Так, говоришь, Христю тебе жалко?
Степан тяжело вздохнул, хотел что-то сказать, но Платон перебил его:
— Олексу, думаю, не раскулачат. Хозяйство, правда, у него справное, но не кулацкое. Наймитов не держит. Можно, конечно, предупредить…
— Сделайте доброе дело, дядьку Платоне!
Степан уже собирался уходить, когда у ворот ярчуковского подворья остановился всадник — босоногий лет двенадцати парнишка на разгоряченном пегом меринке. Запинаясь от смущения, он сказал писклявым, девчоночьим голосом:
— Мне нужен… дядько нужен — Платон Ярчук.
— Ты из Березны? — с непонятной тревогой спросил у парнишки Платон Гордеевич, вставая с колоды.
— Ага…
— Я и есть Платон. Что там?
Парнишка, сдерживая пляшущего меринка самодельной ременной уздой, выпалил скороговоркой:
— Тетка Ганна уже собралась. Велела сегодня приезжать за ней.
Платон Гордеевич досадливо поморщился, оглядел свою хату, будто подпоясанную безобразно обтрепанной рыжей тесьмой, и ответил:
— Добре… Скажи, что приеду.
Парнишка на месте развернул меринка, и тот, скосив набок голову, понес его посреди улицы, взбивая копытами дымчатую пыль.
Платон Гордеевич, чтобы упредить расспросы Степана, пояснил:
— Присоветовали мне одну вдовицу из Березны. Месяц уламывал… Потом согласилась, а переехать никак не соберется.
— Я уже смекнул, в чем дело. — Степан засмеялся, сверкнув крепкими, белыми зубами. — Только хата ваша не готова к свадьбе. — И он указал глазами на облупленную стену.
— Какая там свадьба! — поморщился Платон. — А хату заставлю побелить того, кто дегтем ее обляпал.
Торопливо попрощавшись с озадаченным Степаном, Платон Гордеевич направился будить заспавшегося Павлика.
10
На кухне Оляниного дома стоял теплый и густой бражный дух. Оляна, сгорбившись, сидела на низком стульчике и, поглощенная тревожными мыслями, подкладывала небольшие пучки соломы в лежанку. Солома горела неторопливо; острые языки огня лениво лизали черное днище вмурованного в лежанку железного куба с закваской. От залепленной тестом крышки куба протянулась к бочке с холодной водой труба змеевика. Спиралью ввинтившись в воду, труба у самого днища протыкала деревянный бок бочки, и из нее тонкой струйкой сбегала в стоящую на полу бутыль самогонка.
От долгого сидения у Оляны ломило спину. Позади — бессонная ночь: много ведь надо нагнать самогонки, хотя Оляна и не была намерена устраивать для Назара шумную и вызывающе-богатую свадьбу.
Можно бы Назару еще годок-два парубковать, но Оляна решила женить сына этой осенью. Нужно дробить хозяйство, делить землю, продавать скот. Получила Оляна от старшего сына Ивана письмо из Харькова. Иван пошел далеко: закончил в прошлом году Киевский кооперативный институт и работал сейчас инспектором кооперативного союза. Много раз читала и перечитывала она Иваново письмо. И непонятно, о ком сын больше тревожится: о себе или о матери? Наказывает как можно быстрей женить Назара и выделить ему самостоятельное хозяйство; советует продать волов, половину коней, рассчитать всех наймитов. А как только объявят в Кохановке об организации колхоза — вступать в него первой и звать за собой людей. «Не дай бог, пишет Иван, — чтоб я оказался сыном раскулаченных. И вас заметут на Соловки, и меня погонят из партии».
Может, не послушалась бы Оляна сына, если б те же советы не дал ей еще один верный человек. Оляна не знала ни его имени, ни места жительства. Впервые появился он в ее хате лет шесть назад.
Стояла осень с докучливой дождливой мглой. В одну из глухих ночей Оляна была разбужена остервенелым лаем пса. Кто-то стучался в ворота. Вскоре в ее хате снимал с себя брезентовый дождевик крупный мужчина со смуглым, цыганским лицом. Оляну поразили черные пронизывающие глаза незнакомца, в которых светился какой-то устрашающий ум.
Мужчина потребовал завесить окна. Затем сел за стол и тоном хозяина приказал дать поесть и выпить. Оляна ни о чем не расспрашивала — сердцем чувствовала, что человек этот прибыл к ней неспроста. Заметив, как бросил ночной гость недовольный взгляд на проснувшегося Назара, догадалась, что предстоит какой-то важный, тайный разговор. Велела Назару перейти спать в соседнюю комнату.
Когда на стол были поставлены миски с едой и графин настоянной на смородине самогонки, мужчина достал из-за пазухи конверт и протянул Оляне.
Она увидела на конверте знакомый корявый почерк и чуть не сомлела. Это было письмо от мужа, ушедшего в девятнадцатом году с петлюровцами и пропавшего без вести.
Из письма узнала Оляна, что ее Трифон жив и здоров, находится в Польше и готовится к «вызволительному походу» на Украину. Писал Трифон, что какая-то украинская национальная рада требует от земляков материальной поддержки и что Оляна должна эту поддержку оказать — и раде и ему. Не знала она, что в углу каморы, под полом, закопан глиняный кувшин с золотом, которое Трифон награбил у богатых местечковых евреев. Он велел откопать это золото и передать человеку, привезшему письмо.
Ослушалась Оляна мужа: отдала только половину золота. Но через год снова нагрянул знакомый посланец из Польши: Трифон требовал вторую половину клада. Пришлось отдать…
Потянулись мучительно долгие годы ожидания, годы затаенной, как у лесного зверя, жизни. Блекла питавшая раньше силы надежда. Стал забываться Трифон. И вдруг в самые жнива, в короткую августовскую ночь, к Оляниному подворью подкатила одноконная бричка. Приехал тот же самый мужчина постаревший, обрюзгший; только черные глаза его оставались живыми и острыми.
Письмо от Трифона не привез; сказал, что границу переходить очень трудно и в случае провала, если письмо попадет в руки ГПУ, ей, Оляне, несдобровать. Встревожилась… Расспросила о муже. Затем до утра слушала гостя.
Гость долго рассказывал. Потом спросил о неожиданном: слышала ли она что-нибудь о старинных подземных ходах, которые где-то есть под Кохановкой и под примыкающим к ней лесом. Оляна, конечно, слышала, будто есть такие. Как-то на огороде Захарка Ловиблоха обвалилась во время пахоты земля и в образовавшуюся яму чуть не влетел конь. Захарко затем целую весну засыпал тот провал. А еще раньше мальчишки раскопали в лесной гущавине обвалившийся погреб, сквозь него проникли в подземный ход. Но прошли по нему недалеко: тухли свечки, и не хватало воздуха, да и гадюк боялись, которых там было видимо-невидимо.
Попросил гость исподволь подробнее разузнать о ходах, а затем посоветовал самое главное: пускать по ветру хозяйство, записываться в колхоз и звать за собой всех кохановских богатеев. Но чтоб через два-три года в колхозе не осталось ни одной лошади, ни одной пары быков. Урожай сжигать на корню и в скирдах. Нужен голод. Нужен мужичий бунт. Тогда придет на помощь заграница. Войска украинской национальной рады наготове. Трифон в этих войсках ходит в чине полковника.
Оляна смотрела гостю в самую душу. Проговорился он, что Трифон заболел чахоткой. Почувствовала — и еще чего-то недоговаривает; не помогал ему и грозный ум в глазах — отводил их под ее пытливым и чутким взглядом. К утру гость захмелел от выпитой самогонки, пустил слезу, со злобой заговорил о том, что трудно украинцам на чужбине. Много черной зависти среди них, звериной лютости, беспощадности друг к другу. Грызутся как пауки в банке. И это на глазах у поляков… А откуда полякам знать, что настоящий характер Украины совсем не такой? Вот и получается, что из-за выродков добрые люди холодными глазами смотрят на украинский народ.
Потом грузно поднялся, подошел к ней и, дохнув в лицо тяжелым самогонным духом, грубо облапил, потянул к кровати. Она беспомощно отталкивала его, а он горячо шептал на ухо, чтоб плюнула на Трифона и не ждала, ибо он не лучше других, да и не жилец на белом свете. Сказал, что и золото, которое она передала Трифону, пошло дымом в варшавских и краковских ресторанах.
С тех пор лишилась Оляна покоя. Как никогда, почувствовала себя одинокой, почувствовала жалость к своей серой судьбе. А ведь когда-то думала, что счастье — в богатстве. И вот она купается в нем, а счастья нет… Если б взгляд оставлял следы… Сколько смотрела с мольбой на строгую икону во влажных бликах лампадки, сколько выстояла перед ней на коленях и отвесила поклонов! Краска сошла на полу в том месте… И душа Оляны истончилась, обмелела. Не принесло богатство счастья. А вокруг плещется оно…
Вон живет по соседству Дмитро Шевчук. Любит Оляна слушать говорливый, дробный перезвон молотков, доносящийся из его кузницы. Слышит в том перезвоне какие-то слова — радостно-оживленные, подчас насмешливые, обнадеживающие. У Дмитра — три сына, три молодых кузнеца. И сколько там они зарабатывают? Копейки! Корову держат старую-престарую, давно менять пора, но никак не стянутся средствами… А счастье все-таки живет в хате кузнеца. У Оляны слезы выступают на глазах, когда видит, как по субботам чумазая, закопченная семья Шевчуков отправляется в баню на сахарный завод. Идут хлопцы улицей вслед за батькой, сверкают глазищами, скалят в улыбке белые зубы — довольные собой и своей жизнью. А возвращаются домой, ковалиха (так зовут в селе жену кузнеца) встречает их у ворот и кличет в хату к столу, где дымятся вареники, стынет холодец, краснеет графин сливянки. Счастливая ковалиха… Кругом много счастливых, а она, Оляна, бесталанная. И ведь еще не совсем старая.
Просыпалась в Оляне задремавшая было женщина. И это человеческое вызывало в сердце тревогу и тоску не меньше, чем надвигающаяся опасность для ее семьи, для ее богатства, которая таилась в том, что в Кохановке будет создаваться колхоз.
И Оляна, ничем внешне не нарушив обыденности своей жизни, уже жила жизнью другой, другими делами. Осенью она решила женить Назара и переписать на него половину хозяйства. Затем надо было распорядиться зерном нового урожая и уполовинить на базу скот. И последнее — женить на себе Платона Ярчука.
Платон нравился Оляне своей степенностью, основательностью, цепким мужицким умом. Можно будет передать ему часть земли и скота. Если к зиме все это осуществить, Оляна станет середнячкой, каких в селе большинство.
Надеялась Оляна, что Платон понял ее намек. И небось сейчас ходит, пережевывает услышанное, дозревает. Ничего, поговорит она с ним еще раз-другой, созреет мужик окончательно. Ведь не выцвели еще ее черные брови, не слинял румянец, не утратили блеска глаза. И голос не лишился той сердечной теплоты и, если надо, лукавства, которые ломают перегородки отчужденности. Да и на богатство позарится любой…
Богатство… А что там, в тех подземных ходах, если уж заграничные гости ими интересуются?.. Вспомнилось, как в двадцатом году в Кохановку ворвался отряд польских улан. Полдня солдаты меряли огороды под лесом, рассматривали какие-то карты, затем длинными железными щупами кололи землю. К вечеру поляки спешно ускакали: в село вступили красные…
Заскрипела кухонная дверь, вспугнув мысли Оляны. Зазвенели ведра. Это Христя принесла свежую воду.
Самогонку гнали тайком. Время ведь ненадежное, даже наймитам нельзя доверяться. Поэтому Христя, оставив дома детей на Олексу, целую ночь хлопотала в хате матери.
Оляна сунула в лежанку пучок соломы, поднялась со стульчика и подойником стала вычерпывать из бочки со змеевиком нагревшуюся воду.
— Мамо, Платон сейчас заходил, — певучим грудным голосом сказала Христя, опорожняя ведро над дымящейся паром бочкой.
— Зачем?! — встрепенулась Оляна, вопросительно глядя в округлившееся, но не потерявшее привлекательности лицо дочери.
— Не знаю. Нарядный, в новых чеботах, побритый. Куда-то поехал возом и остановился возле наших ворот.
— Что ж ты меня не позвала! — всплеснула руками Оляна.
— Я сказала, что вас нет дома.
— А он?
— Говорит, важный разговор к вам имеет.
«Ну вот, наконец-то», — обрадованно подумала Оляна, пряча от дочери улыбку.
А Христя, поправляя выбившуюся из-под белого платка золотую косу, продолжала:
— Какой-то чудной он. Молотит кнутищем до траве и говорит: передай маме, чтоб пришла и побелила снаружи мою хату… Я чуть ведро не утопила в кринице! Спрашиваю: «Почему мама?», а он отвечает: «Она знает почему». Я говорю: «Может, наймичку прислать?», а он смеется: «Лучше, — говорит, твоей мамы никто не побелит…»
К крайнему удивлению Христи, Оляна, оставив на нее самогонный аппарат и захватив с собой кринку меда, ушла из дому.
11
— Павлушко, сыночек мой славный, куда ж тато поехал? — допрашивала Оляна Павлика.
— А я не знаю, куда они поехали, — ответил Павлик, с вожделением косясь на кринку, стоящую посреди стола и накрытую засаленным рушником. Над кринкой тучей роились мухи, наполняя хату густым звоном.
Павлик спросонку не запомнил, что говорил ему отец, уезжая из дому. И теперь он с удивлением наблюдал, как Оляна, подогрев в печке на треноге чугун воды, хлопотливо мыла посуду.
«Новая мама», — сообразил Павлик и с нетерпением стал дожидаться, когда же она, наконец, усадит его за стол к этой кринке, до ужаса вкусно пахнущей цветом гречихи.
Но Оляне было не до Павлика. Увидев изувеченную стену, по которой будто плуг прошелся, и рассмотрев на завалинке ошметки глины с въевшимся в них дегтем, она догадалась, что все это значит, но никак не могла понять, почему Платон, не сказав самого главного и уехав неведомо куда, позвал ее белить стену. Оляна испытывала томящую тревогу и не решалась на виду у людей выходить на подворье браться за работу, которая сейчас приобретала далеко не простой смысл.
А Павлик изнывал от нетерпения. Дивясь недогадливости Оляны, он взял на миснике тарелку, ложку и демонстративно подошел с ними к столу. Затем положил рядом с кринкой полбуханки зачерствелого хлеба.
Оляна вдруг всполошилась:
— Ты есть хочешь, золотце мое ненаглядное?
— Угу… — с готовностью кивнул головой Павлик.
— Чем же тебя покормить, сыночек? Сейчас посмотрю в печь, погляжу, что там батька твой наварил.
Терпение Павлика лопнуло, и он, уткнув глаза куда-то в угол, с отчаянностью выпалил:
— Я меду хочу, мамо!..
Оляна остолбенела. Будто помолодело ее лицо; темные глаза смотрели на Павлика с радостным изумлением.
— Ты меня мамой назвал? — почти шепотом переспросила она.
Павлик молчал.
— Тебе тато велел звать меня мамой? — Оляна старалась заглянуть мальчику в глаза, которые он не смел поднять на нее.
Павлику уже было все равно, и он, храбро посмотрев на Оляку, с легким сердцем соврал:
— Эге, тато. Велели вас звать мамой…
Оляна с облегчением вздохнула, ощущая, как в груди разливается тихая радость…
Павлик сидел за столом, макая ломоть хлеба в мед, налитый в тарелку, и, вдыхая его чистый, пьянящий запах, сопел и даже чавкал от удовольствия. Временами он поглядывал в окно, за которым на подворье месила желтую глину, сдабривая ее овсяной половой, Оляна. Затем она проворными и сильными руками стала замазывать на стене широкую, рваную борозду…
А Павлик, отбиваясь от мух, все лакомился медом и часто бегал к стоявшему на лавке ведру с водой, чтоб запить пахучую сладость. Когда он, сытый и усталый от еды, с сияющими, блаженными глазами вышел из хаты, Оляна уже размешивала в корыте белую глину.
— Павлуша, поищи щетку, сыночек, — попросила Оляна.
Павлик степенно направился в камору, разыскал на полке связанную из седого ковыля щетку и вынес ее на подворье. Затем взял лопату и, поощряемый неумеренными похвалами Оляны, стал счищать с завалинки окрошку из глины и дегтя.
К вечеру стены Ярчуковой хаты засверкали в лучах солнца подвенечной белизной. Оляна уже вымыла щетку, поставила ее на плетень сушиться, ополоснула руки, и в это самое время к воротам подъехал воз, на который были погружены узлы и деревянный сундук, расписанный по черному фону тускло-белыми и красными цветами. Поверх узлов сидела немолодая женщина в белом платке, а рядом с ней худенькая, с испуганными глазами девочка. Платон Гордеевич, распахнув ворота, под уздцы ввел впряженного Карька на подворье.
Окинув оживленным взглядом побеленную хату, Платон довольно засмеялся и обратился к оцепеневшей у порога Оляне:
— Ну вот, так-то оно будет лучше. — И вдруг осекся. Его поразили глаза Оляны, горевшие сухим и страшным блеском, поразило побледневшее до голубизны ее лицо.
Неожиданно заверещал, заставив всех вздрогнуть, Павлик:
— Тату! У нас уже есть мама! — Мальчик подбежал к Оляне, судорожно схватил ее за руку. — Мамо, идемте до хаты! Мамо!..
Платон Гордеевич потерянно стоял посреди подворья, не в силах осмыслить происшедшее. Затем с жалкой, виноватой улыбкой оглянулся на женщину, сидевшую на возу, и неуклюже пошутил, обращаясь к Павлику:
— Ты что ж, стервец, без меня меня женил?
Павлик мучительно сморщил лицо и, отстранившись от Оляны, вдруг побежал за угол дома, а Оляна, не проронив ни слова, медленно пошла со двора, глядя перед собой все такими же страшными, ничего не видящими глазами.
Из-за угла хаты раздался зверушечий рык. Это судорожно блевал объевшийся меда Павлик.
12
Догорало хлопотливое крестьянское лето. Вслед ему уже хрипло и задиристо пели молодые петушки — те, что в весенние дни только проклюнулись из яйца и впервые недоуменно глянули на ослепляющий, еще холодный для них мир. А кому не известно, что не ласкающий слух голос бесхвостых петушков-молодыков — это голос осени, с ее блеклыми красками, буйными и холодными росами поутру, с ленивыми туманами и таким подчас небом, что как глянешь в него, зябко делается на душе и хочется побыстрее под крышу, в дом, хоть к какому-нибудь уюту.
Но Павлика в дом не тянуло. За свое, столь недолгое по сравнению с человеческой жизнью сиротское одиночество он уже привык оставаться наедине с мыслями и вопросами, которые рождались в его еще зеленой голове. А к тому же, по мнению Павлика, сейчас сделалось в доме тесно и неспокойно после того, как появилась в нем Настька — лупоглазая, драчливая, завистливая девчушка, дочь новой мамы.
Павлик лежал на сеновале, спрятавшись от Настьки, и вдыхал переселившиеся сюда вместе с сеном дурманящие, с горчинкой запахи луга, смотрел сквозь разорванную ветрами соломенную крышу навеса в небо. По небу ползли гривастые тучи, зловеще-темные, холодные. Между тучами проглядывала пугающая своей глубиной синь.
Павлик был сердит. Он прислушивался к размеренным ударам цепа, глухо ухавшим в клуне, где отец молотил ячмень, и нежно ощупывал пальцами большую, с грецкий орех, шишку на лбу. Павлик только что посадил ее цепом, попытавшись на спор с насмешливой Настькой вымолотить хоть один сноп ячменя, когда отец вышел из клуни подымить цигаркой.
Шишка на лбу ширилась, горела, а где-то совсем недалеко, на подворье, слышался ехидный смешок Настьки. И Павлик чувствовал себя несчастным… Не везет ему на белом свете. Ведь все могло так хорошо устроиться!.. Зимой в селе организуется колхоз, и батька тоже собирался записаться в него. А дядька Пилип, богатый и самый знающий в Кохановке человек, до того интересно рассказывал о длинном бараке, в котором будут жить одной семьей все колхозники, что у Павлика дух захватывало от радости. И почему только взрослые никак не могут уразуметь всей прелести жизни в бараке? Ведь тогда Павлику не пришлось бы одному оставаться тянучими вечерами в пустой хате… А спать на одних нарах с сельскими мальчишками — друзьями Павлика — что может быть веселее?! Нет, о другой жизни для себя он и не мечтал.
И все рухнуло. Взамен райской жизни — шишка на лбу и эта заноза Настька в доме. А кто виноват? Батька во всем виноват. Услышал от дядьки Пилипа о бараке, который будто бы районное начальство собирается строить для колхозников за Чертовым яром, на том самом месте, где ведьмы ищут бесовское зелье, и сказал, что пусть в тот колхоз записываются цыгане. А ему пока там нечего делать. Глупые же люди смеются над батькой. Павлик сам слышал, как тетка Харитина, жена Кузьмы Грицая, болтала, будто Платон боится жить в бараке — с женщинами на одних нарах спать боится. Чего же там страшного?.. Обозлился батька. Сказал, что пусть женщины сами его остерегаются. И вот привез из Березны вдовицу Ганну вместе с этой лупоглазой Настькой. Теперь ремень опять висит в хате на видном месте, опять требует батька, чтоб Павлик называл чужую тетку мамой… Уж лучше бы Оляну: у нее хоть меду целая криница. Правда, после того как Павлик съел полкринки меду и потом два дня болел, ему не очень хотелось сладкого. И все равно тетку Оляну он бы звал мамой, а эту сердитую Настькину мать никак не будет звать.
Мысли Павлика прервал пронзительно-певучий женский голос, скликавший к порогу кур:
— Тю-тю-тю-тю-у… Тютеньки-тютеньки-тю-тю-тю-тю-у!..
Затем голос обратился к Настьке — сердито, повелительно:
— Настуська! Зови Павла обедать!
— А он сховался, Павлик-то! — с визгливым смехом ответила Настька, стоявшая где-то возле самого сеновала. — Он огрел себя цепом по лбу, а теперь боится!
— Я его сховаюсь! Сейчас же обедать! Батьку зови, а то борщ выстынет! — И Павлик услышал, как грохнула дверь.
— Чтоб тебе тот борщ прокис! Чтоб тебе каша пригорела! — с ожесточением посылал он страшные проклятия. — Чтоб ты на печку без табуретки не взлезла!..
Уже давно умолк в клуне цеп, а Павлик придумывал, какие еще беды послать на голову своей новой мамы, чтобы и ее выпроводил отец со двора. Но вдруг, вспомнив привычку Настьки первой вылавливать ложкой из борща шкварки, торопливо соскользнул с сеновала на землю.
…Когда Павлик приоткрыл дверь в хату, сердце его встрепенулось от радости: он услышал, что отец посылает Ганну на печь за горохом. Ганна сняла со стены висевшее на гвозде сито, подошла к отцу, который сидел у стола на табуретке, и спокойно сказала:
— А ну, старенький, марш сам за горохом. Только без табуретки!
— Ты что? — Платон Гордеевич поднял на Ганну изумленный взгляд.
— Быстренько, а то борщ выстынет! — И Ганна, крепкой, жилистой рукой взяв Платона сзади за ворот рубахи, легонько подняла его с табуретки и так толкнула к печке, что он, зацепившись ногой за чугунок, с грохотом полетел к подпечью.
— Мамо!.. — испуганно заорал Павлик. — Не бейте тата, мамо!
Ганна резко повернулась к Павлику, и ее крутые темные брови над карими насмешливыми глазами испуганно взметнулись вверх.
— Господи! — воскликнула она, всплеснув руками. — Что ты с собой сделал, поганец!.. Посмотрите на него, люди добрые! Какой синячище на лбу посадил! — И Ганна, сняв с гири часов кусок свинца и усевшись на табуретку, притянула Павлика к себе. — Так же глаза повыбивать можно! Она приложила к синяку свинец.
— Мне не больно, мамо, — оправдывался Павлик, стыдливо отталкиваясь от колен Ганны. — Совсем не больно! Ну, мамо-о-о, отпустите!..
Платон Гордеевич, взобравшись на печку, молча нагребал в сито горох.
А за столом похихикивала Настька, проворно вылавливая ложкой из борща шкварки.
13
Зима будто страшилась людских глаз. Днем она смирно дремала под ярким солнцем, голубея и искрясь снегами, в которых по колени загрузли черные деревья и белостенные хаты, утонули улицы вместе с плетнями и заборами. А ночью, когда село засыпало, зима начинала шумно дышать звонким, студеным воздухом. Небо покрывалось стремительно летящими рваными тучами, появлялся ветер, словно оброненный ими на землю, и начинал яростно вихрить снег, швырять его в окна хат, биться о стены, жалобно выть в печных трубах.
Степан недавно пришел домой, поел толченой картошки с кислым молоком и, задув лампу, улегся на узкой скрипучей кровати. Ветер за окном заскулил еще сильнее, будто просился в хату, и от этого под свиткой, которой накрылся Степан, казалось особенно уютно и тепло.
На печке ворочалась и тяжело вздыхала старая мать. К Степану сон тоже не шел. С тех пор как избрали его членом сельского Совета, беспокойными стали ночи. О чем только не передумаешь, уставив открытые глаза в мягкую темень потолка! Вот и сейчас думал он о том, что наступило время браться за выкорчевывание кулаков. До поздней ночи заседал сегодня сельский Совет с активистами-бедняками… В список раскулачиваемых первыми внесли Оляну и Пилипа.
Степан с группой комсомольцев завтра будет раскулачивать Пилипа. И он думает о Пилипе, загадочном чернобородом дядьке, который маленькими зеленоватыми глазками всегда смотрит на мир с хитрецой и каким-то снисхождением. Эти глаза сидят на розовом, с синими прожилками морщинистом лице глубоко и близко друг к другу, и порой кажется, что кто-то другой выглядывает из Пилиповых глазниц. Бывало, разговаривает он с соседом, сочувствует его беде, вздыхая и горестно качая головой, а глаза прячут холодную искорку безразличия и мечутся по сторонам, словно боясь потеплеть при встрече с чужим болезненным взглядом. И при всей мудрости Пилипа люди угадывали в нем недоброго человека. Может, поэтому не к нему, а к Оляне или другим богачам обращались за помощью.
Степану вспомнился один пасхальный день, когда был он еще мальчонкой. Через зазеленевший выгон, где детвора играла в лапту, проходил, сверкая хромом сапог, подвыпивший Пилип.
— Хлопчики, а ну скачите ко мне! — позвал он, накручивая на палец бахрому шелковой опояски, обхватывавшей красную сатиновую рубаху.
Босоногая ватага мальчишек, вспыхнув любопытством, устремилась к Пилипу.
— Вы конфеты любите? — спросил Пилип, запуская руку в карман нового пиджака.
— Любим! — с готовностью откликнулись мальчишки, не скрывая жадности, полыхнувшей в их веселых глазах.
— И я люблю… — Рука Пилипа загребла что-то в кармане. — А конфет хотите?
— Хотим!..
— Я тоже хочу. — И Пилип, довольно засмеявшись, достал из кармана кисет с махрой, закурил и пошагал дальше.
Обескураженные мальчишки провожали его по-зверушечьи злыми глазами. Степан помнит, как подхватил с земли камень, но кинуть не посмел. А надо было. Ведь ничего Пилипу не стоило, хоть ради святой пасхи, одарить конфетами и пряниками хлопчиков и девчаток. Богат же он, как тетка Оляна, но, видать, скупой, как ни один человек в Кохановке. Не зря покойный отец Степана говорил, что если б жадность вдруг обрела человеческий лик, она бы в точности была похожа на Пилипа Якименко.
Жадность однажды сыграла с Пилипом злую шутку. Может, этого и вовсе не было, а может, случилось не совсем так, как об этом рассказывает Грицай Кузьма — кохановский балагур и пьянчуга, который поддерживает, несмотря на свою серую бедность, приятельские отношения с Пилипом и даже называет его без всякого на то основания кумом. Но об этой истории прослышали все, и пошла она по белу свету, как веселый анекдот. Степан в пору своих скитаний по Саратовщине не раз потешал друзей, рассказывая им об этом приключении Пилипа, а затем уже сам слышал из чужих уст ту же историю, приправленную доброй долей вымысла.
А случилось все, если верить дядьке Кузьме, вот как.
Встретились в Воронцовке на торговице богатый Пилип и бедный Кузьма.
— Кум, что будем покупать? — насмешливо спросил Пилип, зная, что у Кузьмы в кармане, кроме дырки, ничего нет.
— Да все к жеребцам присматриваюсь, — уклончиво ответил Кузьма.
— Ну и как?
— Чуть было не купил доброго меринка, да вдруг увидел такую телочку сердце зашлось. Картинка!.. Породистая, откормленная. Через год будет не корова, а речка с молоком.
— Чего же не купил? — В голосе Пилипа уже не слышалось насмешки, а глаза метнулись к телегам со вздыбленными оглоблями, возле которых стояли привязанные коровы, телки, бычки. Пилип как раз пришел на торговицу купить телку.
— Не той масти телка, — выкручивался Кузьма. — Рыжая… А в моем хозяйстве рыжий скот не держится. Такая примета.
Пилип знал, что никакого рыжего скота, кроме пары свиней да козы, у Кузьмы сроду не было. Но сделал вид, что поверил, и сказал:
— Покажи, где она, телочка. Может, я куплю.
— А магарыч будет?
— Будет. Помоги только выторговать…
Под вечер Пилип и Кузьма возвращались в Кохановку. Оба выпившие, с довольными, раскрасневшимися лицами. Пилип вел за собой на веревке купленную телку, которая и впрямь была отменной породы.
Кузьма часто оглядывался на телку, завистливо осматривал ее и восторженно прищелкивал языком.
— Нравится? — самодовольно похохатывал Пилип.
— Добрая коровка будет.
Телка в это время замедлила шаг, и сзади нее на пыльном шляху пролегла дорожка из дымящихся темно-зеленых «медяков».
Пилип остановился и, стрельнув в Кузьму насмешливыми глазами, сказал:
— Отдать тебе ее, что ли?
— Ты отдашь… Повесишься скорее!
— А почему? Ты же мне вроде кум? Могу я раз в жизни сотворить благо? Могу! Вот только условие.
— Какое? — недоверчиво насторожился Кузьма.
— Съешь вот эти коржики — и телка твоя.
— Не брешешь? — С лица Кузьмы даже схлынул румянец.
— Ей-богу.
— Стань на колени и сырой землей поклянись!
— Чем хочешь поклянусь. Детьми своими. — И Пилип, давясь от распиравшего его смеха, стал на колени…
— Эх, стаканчик бы горилки перед этим! — Кузьма вздохнул, достал из-за голенища деревянную ложку и деловито уселся посреди дороги…
Пилип, наблюдая за кумом, корчился от смеха. Но вскоре смеяться перестал, и глаза его округлились в испуге. Кузьма страдальчески покосился на Пилипа, увидел его испуганные глаза и через силу засмеялся:
— Что, кум, жалко телки?.. Если жалко, садись на мое место, и я откажусь от твоего подарка.
Не говоря ни слова, Пилип уселся на дорогу и взял у Кузьмы его ложку…
Вскоре кумовья снова продолжали путь на Кохановку. Все осталось как было. Следом за Пилипом брела на веревке телка. Молчали, отрезвевшие и сгоравшие от нетерпеливого желания быстрее избавиться друг от друга.
На второй день утром Кузьма, проходя мимо подворья Пилипа, увидел, как Пилип медленно брел к скотному базу, придерживаясь за плетень. Лицо у него было бледно-серое, под глазами налились мешки.
— Кум, что это ты такой зеленый? — не без иронии спросил Кузьма.
Пилип остановился, посмотрел на Кузьму, будто не узнавая. Потом в его глазах сверкнуло жалкое подобие смешка, но ответил вполне серьезно:
— Знаешь, кум, вчера я с тем кизяком что-то поганое слопал — муху или другую заразу. Целую ночь рвало…
И когда эта история повеялась по белому свету, Кузьма не раз всеми святыми присягал перед людьми, что может показать на дороге под Воронцовкой то место, где страдал он, надеясь получить за это от кума телку.
И вот теперь Степан размышлял над тем, как будет держать себя Пилип, когда начнут уводить с его двора быков, лошадей, коров, телок. Сколько, должно быть, душевных мук испытает он, расставаясь со своим добром, накопленным за многие годы. А земля Пилипа, а просторная хата, могучие надворные постройки, сад — все это завтра станет собственностью колхоза, вернее, уже стало; надо только вытряхнуть Пилипа с его семейством из села, рассчитать и распустить наймитов и наймичек, закрепить актом с описью имущества все содеянное.
14
Утром не успел Степан побриться, как в хату вихрем влетела запыхавшаяся Христя. Она дохнула на него морозной свежестью. Румяные от холода и волнения щеки, блестящие, расширенные глаза, сбивчивая речь… Это была его первая встреча с Христей, первая встреча после тех, напоенных восторженным счастьем хмельных вечеров.
Степан, вернувшись с Саратовщины, не раз видел Христю издали. И она его видела. Но оба боялись посмотреть друг другу в глаза, не знали, какие слова надо сказать. Христя чувствовала неискупимую вину перед Степаном, не хотела ни ему, ни себе сознаться, остался ли в ее сердце тот жар, который так щедро расплескивала при давних, полузабытых, как сон, встречах с ним. А жар, наверное, остался, осталась мучительно-сладкая боль первой любви. Она притупилась временем, заслонилась любовью к родившимся у нее детям, привязанностью к доброму и заботливому Олексе…
А Степан по-прежнему любил… Любил ту далекую Христю, какая осталась в его сердце, любил без всякой надежды, безрассудно, понимая, что зря проходят его молодые годы, что попусту растрачивает он душевные силы, воскрешая в памяти невозвратное. Но ничего не мог поделать с собой. Был счастлив только прошлым и тушил острую боль в груди, когда голос рассудка напоминал ему, что человеку отмерено не бесконечное число весен на его веку.
И вот она, Христя, перед ним, в распахнутом полушубке, в сбившемся на голове клетчатом платке. Но блеск в ее глазах — не от радости встречи, а от муки и горечи.
— Степа… Степушка, — с надрывом зашептали ее губы. Потом Христя примолкла, заметив, как засуетилась Степанова мать, надевая свитку, чтоб уйти в погреб за картошкой.
Когда дверь захлопнулась за старой Григоренчихой, Христя сдернула с головы платок и уткнулась лицом, своими желтыми, пахнувшими свекловичным квасом волосами Степану в грудь.
— Степушка, — зарыдала она. — Я виновата… И ты виноват… Почему вовремя не приехал? Мать поедом меня ела…
— Зачем пришла? — поборов волнение, спросил Степан, чувствуя, как покрываются сухой коркой его губы, как разгорается в груди нестерпимо горячий уголек.
— Степа, ты добрый, — зашептала Христя, подняв голову и умоляюще уставив на него глаза. — Ты мне поможешь, Степа!.. Спаси маму… Я помру без нее.
— Христя, это лишние слова. — Степану казалось, что он сойдет сейчас с ума. Он отстранился от Христи, усадил ее на лавку и потянулся к столу за махоркой. — Чем я могу помочь?
— Вот смотри! — Христя суматошно достала из-за пазухи измятый лист бумаги. — Подпиши первым, люди тоже подпишут.
— Что это?
— Чтоб из села маму и свекра моего, Пилипа, не высылали. Пусть забирают все. А зачем же угонять на край света? — Христя объясняла сбивчиво, как бы страшась каждой минуты промедления. — Говорят, если село возьмет на поруки, не сошлют.
— Успокойся, Христя. — Степан искал нужные слова. Он боялся быть чрезмерно сухим в разговоре с Христей и в то же время не хотел выказать все то, что происходило с ним в эту минуту, когда она, необыкновенно красивая в своем волнении, беспомощная и жалкая, сидела перед ним и смотрела на него умоляющими глазами. — Ничего не поможет… Так надо… И раскулачивают правильно. Все правильно.
Он не находил больше слов, а она все смотрела расширенными глазами в его лицо, пытаясь сердцем уловить — говорит ли Степан правду или мстит ей за измену, за то, что причинила ему столько страданий.
Тем временем Степан собрался с мыслями и снова заговорил:
— Христя, послушай меня… Я тебе зла не желаю. Скажи своему Олексе, чтоб записывался в колхоз, иначе и вас раскулачат. Вы же оба из куркульских семей.
— Какой ты злой… — со стоном промолвила Христя и, бессильным движением набросив на голову платок, медленно направилась к порогу.
В этот же день свершилось в Кохановке то, чему надлежало свершиться. Имущество пяти кулацких хозяйств было конфисковано, а кулацкие семьи погружены на подводы и отправлены в Воронцовку для высылки в отдаленные районы страны.
Первый раз в своей истории Кохановка увидела, что богатство не имеет никакой силы. Кулаки же впервые почувствовали, что были чужаками в селе. Даже Оляна, тихая, потерянная, усаживаясь на подводу, не нашла слов, чтобы проститься с земляками и родичами. Увидела, что в большинстве людских глаз — ни искорки тепла, ни тени сочувствия. Это потрясло не меньше, чем потеря богатства. Только при выезде из села Оляна, будто опомнившись, безутешно заголосила, забилась в истерических воплях.
И начала разматываться пестрая и горячая лента нового времени.
15
Степану казалось, что с каждым месяцем перед его взором расширяется горизонт и он уже видит недалекое завтра Кохановки — лучезарное, в сытой истоме по воскресеньям и бурлящее созиданием в будние дни. Надо только побыстрее завершить коллективизацию!
А многие крестьяне-середняки еще думали по-иному. Мое поле! Моя межа!.. За межой — чужое. На своей земле никто не обидит. На своем огороде можно убить чужую курицу… Мой дом, мой двор, мои кони… Здесь витает дух предков…
Краткое словцо «мое». А какую же силу имеет оно над человеком!.. Вспомнилось Степану собрание, где впервые был прямо поставлен вопрос: «Кто записывается в артель?», вспомнились бесхитростные вопросы Хтомы Заволоки.
Да и не мог Хтома обойтись без этих вопросов. Ведь главный смысл крестьянского бытия — иметь землю и заставлять ее родить хлеб. Далеко не платоническая эта любовь к земле и к плодородию. Но и будто бы не чрезмерно расчетливая. Здесь арифметика самая простая: крестьянину надо кормиться, одеваться и иметь запас про черный день. А все остальное, что врывается в крестьянскую жизнь, подчинено этой арифметике. Даже страх перед богом. Сотворишь грех, бог накажет болезнью, неурожаем, мором на скот… Придет бедность, голод. Значит, надо беречься греха, надо молиться небу.
Казалось бы, зачем жить на земле, если эта жизнь не приносит радостей? Нет, крестьянин на радости не беден. Ни у кого так не богато детство, как у селянских детей. Богато впечатлениями и ощущениями. Рано познают они самое великое чудо на земле — пробуждение природы. И вместе с ней будто пробуждаются сами, радуясь первой проталинке в снегу, первой травинке под окном, первому зеленому листку, первой несозревшей, но с удовольствием разжеванной ягоде, первому украденному из птичьего гнезда яичку. Бедность семьи как бы отступает перед цветением детства.
Потом раннее приобщение к труду и чувство гордости человека, впервые севшего верхом на коня или взявшего в руки кнут. Но если бы все в меру… Нередко детство тускнеет от чрезмерного труда. И тогда его питают мечты.
А когда наступает юность и приходит первая любовь, когда село становится не только местом обиталища, а песенной столицей всего мира тогда нет берегов у радостей…
Потом радости меркнут под непрерывным иссушающим ветром забот. Заботы приходят, когда уходит юность. Надо становиться хозяином, кормить и одевать семью, надо изо всех сил отбиваться от бедности. Остается только одна общая для всех потаенная радость: надежда разбогатеть. Не безгрешна? это надежда… Родная она сестра хищному зверю, именуемому честолюбием. Обязательно просыпается этот зверь в крестьянине, если удается ему создать прочные заслоны от бедности. А если и не удается, если и остается селянин забитым нуждой, все равно где-то на самом донышке его сердца дремлет этот лютый хищник. И чем больше иной крестьянин презираем за свою бедность и темноту, тем подчас глубже бездна его честолюбия и самолюбия. Стоит только замутить этот омут хоть какой-то удачей или счастливой случайностью…
Не было в Кохановке беднее хлопца, чем Хтома Заволока. Родители его жили до революции в той тяжкой серости, когда лишний рот в семье считался божьим наказанием.
Может, потому, что мать Хтомы надрывалась непосильной работой, когда носила его в чреве, недоедала и недосыпала, а может, потому, что родился Хтома в лютую стужу в холодной бедняцкой хате, природа наделила его лицо далеко не привлекательными чертами.
С самой молодости на носатом и угристом лице Хтомы Заволоки прочно и беспощадно грубо угнездились морщины. Уже в сорок лет он выглядел старым дедом, лишь сохранившим молодую осанку, твердую поступь да полон рот больших и желтых от табака-самосада зубов. Рот у Хтомы большущий, подвижной; если засмеется Хтома, так кажется, что и уши его видят друг друга, и нос в зубы заглядывает. Правда, редко Хтома смеялся. Вечно ходил с насупленными бровями и по-обезьяньи вытянутыми в трубочку толстыми губами, отчего они морщились, как стянутый шнурком кисет.
Женился Хтома, когда ему было за тридцать. Взял в жены такую же некрасивую, как и сам, давно засидевшуюся в девках дочку зажиточного мужика Гриця Манжулы. Гриць на радостях, что сбывает, наконец, со двора старую деву, щедро одарил ее приданым — выделил большой клин земли, дал корову и коня-двухлетка.
Старый же вдовый батька Хтомы оставил сыну после смерти только ветхую хатенку в садку да огород.
И стал Хтома хозяйничать. Никогда его хата не знала белого хлеба, не слышала песни, не видела достатка. Работал Хтома с женой, поначалу бездетной, день и ночь. Экономил даже на том, что ходил босиком, начиная с весенней распутицы и кончая первыми заморозками. С годами накопил деньжат, приобрел еще одного коня, и постепенно его хозяйство стало набираться сил.
Натерпелся за свою жизнь Хтома беды. Больнее всего ранило людское презрение. В селе даже поговорки ходили: «Бидный, як Хтома Заволока» или «Страшнющий, як три Хтомы». И ничего так не желал Хтома, «як утерты людям носа», богатством своим доказать, что он не хуже других. И старался изо всей мочи.
Была у Хтомы заветная мечта — приобрести новую телегу, но не обыкновенную, как у большинства кохановчан, а на железных осях, со звонкоголосыми тарелками-шайбами, отделяющими люшни от одетых в железные шины колес; Чтоб, если погонишь впряженных в нее коней по улице, даже богатей зеленели от зависти. Долго копил он деньги, откладывая после каждой удачной ярмарки рубли и полтинники. И собрал, наконец, нужные девять червонцев. Можно было покупать новую телегу!
Но не так легко расстаться с накопленными деньгами. Будто согревали они душу Хтомы. Не было для него большего удовольствия, чем в свободную минуту тайком достать из-за образа кожаную мошну, уйти в клуню и, рубль за рублем, понянчить их в руках, считая и пересчитывая. Казалось Хтоме, что никогда он еще не был таким богатым и независимым. Все время помнил о деньгах и словно прочнее стоял на земле. Даже появилась какая-то горделивость в его походке, а некрасивое лицо часто просветляла загадочная улыбка.
И медлил с покупкой телеги.
Однажды среди ночи Хтома завопил «караул», переполошив всю семью. Приснилось ему, что выпал золотой дождь. Все люди, кроме Хтомы, набрали по мешку червонцев, и он даже во сне сообразил, что не купить ему телегу за свои жалкие, никому теперь не нужные девяносто рублей.
Это был самый страшный сон в жизни Хтомы. В первый же базарный день после этого сна он въехал в Кохановку на «железном ходу».
Не успел Хтома усладить свое сердце дорогой покупкой, не успел наслушаться звона тарельчатых шайб, как разнеслась весть о колхозе.
И вот первое собрание… Хтома пришел на него из любопытства. Для себя он решил заранее, что ни в какой колхоз не запишется.
Случилось так, что Хтому Заволоку избрали в президиум. Это Захарко Ловиблох потехи ради выкрикнул его фамилию, тут же пояснив соседям, что если Хтома со своей страхолюдной рожей будет сидеть на сцене и смотреть оттуда на людей, в зале не посмеют ни шуметь, ни курить.
Не знавал раньше Хтома, что сидеть в президиуме — такая тяжкая пытка. Поначалу не давал ему покоя то насмешливо-подбадривающий, то удивленный взгляд Ловиблоха. Хтома испуганно осматривал себя, зажимал коленями свои огромные непослушные ручищи и с вопрошающей мольбой смотрел на Захарка. Потом ему показалось, что не один Ловиблох щекочет его глазами, а и все набившиеся в клуб селяне тем и заняты, что насмешливо рассматривают его. И на грубом, словно испеченном лице Хтомы блуждала жалкая, виноватая улыбка.
Но потом Хтома обвыкся и позабыл о людях. Собрав в морщинистую трубочку губы и часто моргая глазами, он напряженно слушал, что говорили о колхозе. Своим практичным крестьянским умом начал улавливать: артель действительно дело выгодное, и можно прогадать, если останешься в стороне от нее… И опять на виду у всего села стал страдать Хтома, раскидывая умом. Шутка ли: добровольно отказаться не только от своей земли, но и отдать «железную» телегу, коней, плуг, бороны… Хтома не догадывался, что эти душевные муки кривили в страшных гримасах его и без того безобразное лицо. Он то округлял в испуге глаза, то шевелил толстыми губами и мотал головой, будто отбивался от мух. В зале уже слышались сдержанные смешки…
А когда наступило время вопросов, Хтома, побагровев от смущения, поднялся с места и сбивчиво спросил у Лелеко — знакомого кохановчанам районного представителя:
— Будьте ласковы, какой, к примеру, дадите ответ на мой вопрос… Я в артель, может, и записался бы. А телегу и коней отдать не могу. Буду держать дома, а работать ими на колхоз… Так можно?
— Нет, так нельзя, — спокойно ответил Лелеко. — Вся тягловая сила, как и транспорт, поступают в распоряжение правления артели.
— Это как же? — Хтома так осклабился, что уши его заглянули ему в рот. — Значит, на моей телеге кто захочет, тот и будет раскатывать?
— Не кто захочет, а кому поручат, — терпеливо разъяснял Лелеко. — И не раскатывать, а работать на колхоз.
— Ну нет, — замотал головой Хтома, и глаза его налились лютостью, а губы судорожно вытянулись, будто он собирался свистнуть.
Собрание дружно засмеялось.
— Чего регочете?! — Хтома, так и не сев на место, свирепо уставил в зал зрачкастые глаза.
Свет большой лампы бросал на лицо Хтомы неверные тени, и оно, как никогда, казалось неприятным. У многих дрогнуло сердце: ведь урод на крестинах — к бедам и трудной жизни новорожденного.
— Чего регочете?! — громко повторил свой вопрос Хтома, хотя зал утих, словно испугавшись. — Вот ты, Олекса, отдашь своих коней, сбрую, землю свою в артель?
— Будет видно, — уклончиво ответил Олекса Якименко, муж Христи.
— Повесишься скорее, чем отдашь. Я тебя знаю… А ты, Дмитро Шевчук, отпишешь колхозу свою кузню?
Дмитро Шевчук в молодости сбежал из дому с проходившими через село цыганами, бродяжничал с ними несколько лет и научился от них мастерству кузнеца. А когда вернулся в Кохановку, построил сараюшку, смастерил в нем горн, поставил на дубовом чурбане наковальню, и полился окрест песенный перезвон молотков.
Ничего не ответил на вопрос Хтомы Дмитро. Отмолчался.
Хтома еще собирался задавать кому-то свои злые и трудные вопросы, но его остановил Лелеко:
— Товарищ Заволока, вы нарушаете порядок сходки.
— И нехай нарушаю! — выкрикнул Хтома. — А без телеги и коней не останусь!..
И вот надо было столько прожить крестьянству по законам своей нехитрой арифметики — земля, хлеб, одежда, — прожить мелкими и в то же время каторжными заботами о своей хате, своем подворье, прожить в темноте, в страхе перед богом и властями, прожить без тех радостей, которые возвеличивают человека, пока, наконец, не пришел новый век, рожденный вихрем Октября. Потом пришли колхозы.
Простое, прозаичное и будто казенное слово «колхоз». Но, может, человеку, который первым нарек небесное светило Солнцем, название это тоже не ласкало слух? Возможно. Однако он знал, что солнце дает тепло, жизнь, свет. Но солнце также палит землю, не орошаемую водой…
А что дадут колхозы? Хватит ли теперь, с их приходом, той живительной влаги, которая вызовет к новой жизни скованные рутиной народные силы? Действительно ли удастся вырвать крестьян из замкнутого круга их однообразной жизни, наполненной заботами только о том, чтобы дольше продержаться на белом свете?
Степан верил: хватит! Хватит мудрости и хватит сил. Только в колхозе крестьянин почувствует себя человеком равным со всеми, нужным всем. Раздвинутся горизонты его забот от ворот подворья до границ государства. При этом будет навсегда укрощена мелкобуржуазная стихия, способная свести к нулю завоевания революции.
Но что делать с упрямством людей, идущим от их темноты? Некоторые кохановские мужички, словно клещи, впились в свою землю, в свое призрачное богатство, страшась колхоза.
Степан негодовал. Он уже стал председателем сельского Совета, вступил в партию. Частые поездки в район на совещания и собрания, обязательное чтение газет и брошюр перед тем, как самому выступать перед кохановчанами, — все это приподнимало его в собственных глазах над людьми и обязывало осознанно быть в ответе за них. Нет, теперь для него было в порядке, вещей вызывать в сельсовет того же Олексу Якименко или Захарка Ловиблоха и, грохнув кулаком по столу, требовать от них платить «твердый» налог, если не хотят записываться в колхоз. Теперь Степан умел рассуждать по-иному. Он уже понимал не одним умом, а и сердцем, что колхозы — не только благо для крестьян, но и новый этап революции, новый гигантский шаг социального переустройства государства. И более предметно мыслил: без коллективного хозяйства держава не прокормит армию, не поставит на ноги свою тяжелую промышленность, для которой многое надо купить у капиталистов за хлеб, и тогда — крышка! «Гидра капитализма» раздавит советскую власть.
Часто думал Степан об этой зловещей «гидре». Казалось, что там, за границей, все не такое — и земля, и небо, и деревья. Там — чужой, непонятный мир, который угрожает близкому, родному и теплому миру. Содрогался душой оттого, что «заграница» может наползти на родную землю и придушить ее своим мерзким телом. Чудились холодные глаза и железные загребущие руки буржуев. Готов был на любые испытания, лишь бы ничего не изменилось здесь, где все так привычно и дорого, где даже боль твоя кажется необходимой и неизбежной.
А главное, первый кохановский коммунист Степан Григоренко понял, что наступило великое время рождения нового селянина, лишенного духа стяжательства и злой корысти. Степан верил, что такой человек родится если не завтра, то послезавтра, но обязательно родится, и он, Степан, будет его повивальной бабкой. Только надо торопиться…
И когда из района дали клич — форсируя коллективизацию, в недельный срок раскулачить наиболее злостных противников колхоза, — у Степана защемило сердце только о Христе. Ее Олекса стоял первым в списке середняков-подкулачников. Затем — Захарко Дубчак, Хтома Заволока… Но что поделаешь? Рубят лес — щепки летят. И хотя люди вовсе не щепки, а середняк — если иметь в виду его численность и возможности лучше обрабатывать землю — главный корень села, Степан верил, что иного пути нет.
Сбылись черные слова Хтомы Заволоки… Олекса Якименко, когда его начали раскулачивать, не выдержал: заперся в клуне и повесился.
О случившемся Степан ничего не знал. Он сидел в сельсовете и разговаривал с только что приехавшим из Винницы представителем краеведческого музея. Небольшого роста лысый человечек в пенсне, одетый в мятый полотняный костюм, доказывал Степану, что под Кохановкой имеются тайные подземные ходы и погреба, вырытые крепостным людом в незапамятные времена. Если верить документам, разысканным в архивах, в тех погребах можно найти старинное оружие и, может, кое-что другое, представляющее научную ценность. Работник музея просил вызвать в сельсовет старожилов: не знает ли кто-нибудь из них, в каком месте можно проникнуть в подземелье?
Рассказ музейного работника заинтересовал Степана. Шутка ли: родная Кохановка имеет такую интересную историю, ее земля хранит в себе неслыханные тайны.
«Но что там творится на подворье Христи?» — неотвязно мучил вопрос. Как-то не хотелось верить, что Христю с Олексой и детьми навсегда увезут из села. «А может, так будет лучше, легче? Забуду Христю…» шевельнулась подленькая мысль.
Вдруг с шумом распахнулась дверь. На пороге встала Христя: ни кровиночки в лице, жгучая, как у змеи, темнота глаз, а в руках — топор.
— Подкопался, гад ползучий?!. — Голос у Христи был чужим и страшным. — Загнал в петлю?.. Иди и ты за ним!
И она, подняв топор, со звериным, потрясающим душу воем кинулась к столу, возле которого сидели Степан и работник музея.
Еще секунда, и случилось бы непоправимое. Но Христю успели схватить за плечи вскочившие в сельсовет мужики, которые гнались за ней от самого ее подворья. Во время этой короткой схватки стало дурно представителю музея. Страдавший, как потом выяснилось, болезнью сердца, он при виде взметнувшегося в руках разъяренной женщины топора упал без чувств. Его отвезли в районную больницу и вскоре забыли о нем, как и забыли в повседневных заботах о подземных ходах, на которых якобы стоит Кохановка.
…Христю с двумя дочурками оставили в ее хате. Похоронив Олексу, она зажила бесцветной и тихой вдовьей жизнью.
16
Не одна из кохановских красунь тайком вздыхала по Степану — ладному, доброму парню с черным вьющимся чубом, чистым, румяным лицом, карими глазами, смотревшими на людей с той приветливостью, которая неизменно рождает ответное теплое чувство. Правда, высокий пост Степана как председателя сельсовета не позволял девчатам откровенно выказывать ему свои симпатии. Но наиболее дерзкие находили случай, чтоб задеть его ядреным словом или обратить на себя внимание заливистым смешком, высоким подголоском в песне, а то и шаловливым подмаргиванием глаз, в которых не был притушен греховный блеск.
А сердце Степаново оставалось немым.
Через год после того как повесился Олекса, Степан заявил матери, что хочет жениться на Христе.
— Опомнись, сынку! — с испугом перекрестилась старая Григоренчиха. Зачем тебе чужих детей растить?!
— Дети здесь ни при чем, — с досадой ответил Степан.
— Степа… — заплакала мать. — Бога побойся, меня пожалей. Я надеялась родных внуков понянчить…
— Нянчить внуков — это забава. А мне пора семьей обзаводиться.
— Давно пора! Разве мало девчат гарных?
Степан жалостливо и виновато посмотрел на мать. Мог ли он объяснить ей все? Ведь столько лет был не в силах побороть тоску по Христе, столько лет ходил пришибленным и будто угорелым. Казалось, в груди одни головешки остались.
После того как Христя набросилась на него с топором, Степан стал надеяться, что безрассудная любовь перестанет ломить его душу, что наконец-то наступит в его сердце рассвет. Нельзя же любовью отвечать на лютую ненависть.
Но однажды Христя подстерегла Степана, когда он проходил улицей мимо ее подворья. По-старушечьи закутанная в черный шерстяной платок, хотя было лето, Христя стояла на пороге хаты. Увидев Степана, позвала до боли знакомым ему и родным голосом:
— Степа, задержись на минутку!
— Какой я тебе Степа? — с бледной усмешкой ответил Степан, останавливаясь у ворот и не смея глянуть в лицо приближавшейся к нему Христи, будто страшась расплавить своим взглядом разделявшую их ледяную стену.
— Степой для меня был, Степой и останешься, — напевно и чуть снисходительно ответила Христя.
Степан укоризненно посмотрел на нее и впервые заметил, что годы почти не тронули ее лица. Только несколько морщинок лучиками раскинулись от уголков больших и глубоких глаз. И то, что Христя осталась по-прежнему молода и красива, почему-то обозлило его.
— Может, в хату зайдешь? — с вызывающим смешком спросила Христя.
— А топор приготовила? — В голосе Степана послышалась откровенная враждебность.
И тут же он пожалел о своих словах. Увидел, как отхлынул румянец от лица Христи, как мелко задрожали ее губы, а из потемневших глаз брызнули крупные слезы. Не проронив ни слова, она круто повернулась и с девичьей легкостью побежала к хате. Захлопнула за собой дверь с такой силой, что из крайнего от двери окна вывалилось стекло и, со звоном упав на завалинку, брызнуло осколками.
С тяжелым сердцем удалялся Степан от Христиного подворья. В душе его вместо ожидаемого рассвета еще больше сгустились потемки. Он чувствовал себя стоящим на краю пропасти, в которую хотелось броситься со щемящей радостью.
Кажется, никогда еще не было так тяжело Степану. Мысль о Христе даже в часы самой горячей занятости неотступно витала где-то рядом, всегда готовая вытеснить все другие мысли. И он решился, Однажды в глухую ночь направился на край села и с каким-то восторгом непокорства самому себе решительно постучался в ее хату.
И вот этот нелегкий разговор с матерью…
— Мне уже двадцать семь лет, мамо. Для девчат я стар, — доказывал Степан.
— Говоришь — стар, а ума не набрался. Только в самый раз жениться!
— Женюсь на Христе. Вот мое последнее слово!
Григоренчиха посмотрела на сына болезненным, неспокойным взглядом и строго ответила:
— А мое последнее слово такое: на Христе женишься только после моей смерти.
17
Кузьма Грицай был знаменит в Кохановке тем, что страдал загадочной, непривычно-страшной болезнью — лунатизмом. Его так и звали в селе: Кузьма Лунатик. Не раз видели соседи дядьки Кузьмы, как в светлые лунные ночи он в одном исподнем, босой вскарабкивался на соломенную крышу своей хаты и медленно бродил по гребню или неподвижно стоял на уголке конька, выделяясь на вороненом фоне звездного неба жутким светлым пятном.
Кузьма с затаенной гордостью не раз объяснял мужикам:
— В такую минуту меня не тревожь — ни словесами, ни, оборони бог, камнем. Проснусь и сразу или от страху врежу дуба, или загремлю вниз головой и сломаю шею.
В свои сорок лет Кузьма имел истинно дьявольский лик: он до самых глаз зарос аспидно-черными курчавыми волосами.
Хата Кузьмы Лунатика стояла недалеко от подворья Платона Ярчука, на берегу Бужанки. Не бедно жил он в ней со своей Харитиной, или Кузьмихой, как звали ее в селе, и с сынишкой Серегой. И все было бы хорошо, если б не страшная хворь Кузьмы, от которой не находилось лекарства ни у врачей, ни у бабок-знахарок.
Как-то Кузьма, крепко подвыпив (за ним это водилось), пошел в лавку не столько за покупками, сколько для куражу. Был воскресный день, и на крыльце лавки сидели, дымя самокрутками, лениво переговариваясь, мужики. Среди них сидел и Андрон Ярчук. В империалистическую войну он был на фронте санитаром и теперь слыл в Кохановке знатоком медицины.
Андрон Ярчук выделялся среди мужиков тем, что по субботам брил бороду, а в праздники одевался хоть и не богато, но без малого по-городскому. Был он высок, строен, немногословен. В загрубелом, но не мужицком лице его проглядывало что-то грустно-загадочное, в глазах светился цепкий ум и притушенное чувство собственного достоинства.
Кузьма, подойдя к крыльцу лавки, стал здороваться со всеми за руку. А когда очередь дошла до Андрона, он с пренебрежением обошел его и едко заметил:
— С докторами я не ручкаюсь. Толку от них, что от прошлогоднего снега.
Мужики неодобрительно загудели, а Андрон насмешливо спросил:
— Чем же я тебе, Кузьма Иванович, не догодил?
— Сам знаешь. Сколько мне еще лазать, как шкодливому коту, по крышам? Почему нужных лекарств твоя медицина не гонит из трав или из каких-нибудь козявок?
— А ты ко мне разве приходил за лекарствами? — удивился Андрон.
Кузьма, чуть отрезвев от такого вопроса, уставил мутные глаза на собеседника:
— Неужто имеешь лекарство?
— Лекарств нет, а средство против твоей болезни придумать можно. Пришли ко мне жинку.
— Жинку? Это для какой такой надобности?
— Расскажу ей, чем из тебя дурь вышибать…
На второй день, проспавшись, Кузьма позабыл о вчерашнем разговоре, но о нем прослышала от людей Харитина и немедля побежала к Андрону.
Андрон дал ей необыкновенно простой совет:
— На ночь клади на порог мокрый мешок или рядно. Будет Кузьма в приступе болезни выходить из хаты, наступит на мокрое и проснется.
Харитина не знала, как и благодарить Андрона. Да и сам Кузьма, избавившись от лунатизма, до того уверовал в Андронову мудрость, что стал ходить к нему за советами, ничего не имеющими общего с медициной.
Кузьма не спешил записываться в колхоз. Бывало, вызовет его Степан Григоренко в сельсовет и говорит:
— Кузьма Иванович, вроде вы и авторитетный человек в селе…
— Не отказываюсь, — охотно соглашался Кузьма.
— Честный, работящий, — продолжал Степан. — А сознательность вашу куры расклевали.
— Ты насчет колхоза?
— А то как же? Заканчивается коллективизация, а вы задних пасете. — И Степан начинал пространно, со знанием дела объяснять Кузьме, какие блага ждут его в колхозе и какие подстерегают беды при единоличном ведении хозяйства.
Кузьма терпеливо слушал, согласно кивая головой, и ерзал на табуретке, а потом отвечал одной и той же неизменной фразой:
— Человече добрый, я за колхоз всей душой, да вот жинка не хочет.
Степан опять принимался убеждать Кузьму, но, видя тщетность своих усилий, предлагал ему пересесть в угол на лавку и подумать.
Часа через два-три вспоминал о Кузьме:
— Ну как, не надумали?
— Давно надумал, но жинка не хочет.
— Подумайте еще, Кузьма Иванович.
— Да меня работа ждет, человече добрый!
— А Харитина? — притворно удивлялся Степан. — Раз она у вас такая хитрая, пусть сама и работает!
Много томительных вечеров просидел Кузьма в сельском Совете.
Однажды в его присутствии зашел в сельсовет приехавший из района представитель — высокий мужчина с сухощавым лицом и жесткими черными волосами Швырнув пухлый потертый портфель на стол, из-за которого поспешно поднялся Степан, он нервно зашагал по комнате, затем остановился перед столом и, негодующе глядя усталыми серыми глазами Степану в лицо, заговорил:
— Ты что, Григоренко, себе думаешь? Весь район позорит твоя Кохановка! Почему саботажников, которые срывают коллективизацию, в тюрьму не сажаешь? Или хочешь партбилет положить и сам сесть за решетку?
Кузьма, насмерть перепуганный, незаметно выскользнул за дверь…
А когда на второй день Степан опять вызвал его в сельсовет, он, не успев переступить порог, с самоотреченной готовностью выпалил:
— Записываюсь в колхоз!..
Но жинка Кузьмы Харитина по-прежнему и слышать не хотела о колхозе. Только Кузьма отведет свою кобылу на колхозную конюшню, Харитина тут же тащит ее за уздечку домой. Целую неделю потешалась Кохановка над состязанием Кузьмы и Харитины.
Кузьма, наконец, не выдержал и пошел к Андрону Ярчуку:
— Советуй, что делать, а то Харитину убью и себя кончу.
— Продай коняку, купи новую и с торговицы, чтоб не видела Харитина, веди прямо на конюшню, — не задумываясь, посоветовал мудрый Андрон.
Кузьма так и поступил. Безутешно плакала Харитина, разыскивая потом свою кобылу среди колхозных коней. А Кузьма хранил молчание, терпеливо снося ругань и проклятия жены.
Помиловала Харитина Кузьму только осенью, когда он привез из колхоза на заработанные трудодни столько зерна, сколько они не собирали со своих двух гектаров земли при самых больших урожаях.
Но следующий год принес разочарование: колхозники получили только небольшой «аванс» из заработанного хлеба, а основного расчета не дождались. Кохавовке дали дополнительное задание по хлебопоставкам, чтобы покрыть недобор в соседних артелях, собравших низкий урожай.
Как ни странно, вскоре после этого к Кузьме Грицаю возвратилась его загадочная болезнь. Соседи снова стали замечать белеющую фигуру на гребне крыши Грицаевой хаты. Нередко Кузьму встречали ночью бредущим в исподнем белье по задворкам села и в ужасе шарахались от него.
Болезнь заметно прогрессировала. Случалось, что и в безлунные ночи Кузьма появлялся в самых неожиданных местах. Побродив однажды возле стога колхозного сена, он нагнал такого страха на сторожа, что тот с воем убежал домой. Утром оказалось, что кто-то унес от стога несколько вязанок сена.
А то был случай, когда бригадир застукал Кузьму у колхозной каморы. Набрав мешок семенной пшеницы, Кузьма взвалил его на плечи и понес в направлении своего подворья. Бригадир окликнул Кузьму, но был не рад этому. Бросив на дорогу мешок с пшеницей, Кузьма так истошно завопил, что кохановские псы до утра не могли успокоиться. А Кузьма грохнулся на спину и, закатив глаза, стал молотить босыми ногами по земле, как подстреленный конь. Три дня отлеживался он потом дома в тяжелой лихорадке.
В селе стали посмеиваться, утверждая, будто Харитина, видя, что в сарае кончается сено или в сусеках мало зерна, нарочно забывает положить на порог хаты мокрый мешок.
Вскоре появился в Кохановке еще один лунатик — великовозрастный сын вдовы Семенихи, Юхим. Аистом простояв две ночи в подштанниках на крыше своей клуни, на третью ночь он уже бродил с ведром в руках по колхозной пасеке.
Лунатизм грозил Кохановке эпидемией, и за лунатиков взялся сельский Совет. Тем более что случаи хищения в колхозе зерна, овощей, сена, клевера стали частыми.
18
Старая Григоренчиха смилостивилась над сыном. Видя, что Степан совсем отбился от дома, замкнулся в себе, и наслышавшись сплетен о нем и Христе, сказала ему:
— Женись, антихрист, чтоб тебя болячка задавила!
Степан сидел за столом и хлебал зеленый приправленный молоком борщ из молодой крапивки и щавеля. Услышав эти слова, он поднял чубатую голову, и в его карих глазах под смоляными бровями полыхнула несмелая радость. Мать — высохшая, гнутая — гремела у печи чугунками, будто и не она произнесла сейчас слова, столкнувшие с его сердца давящий камень.
— На Христе? — еще не веря услышанному, переспросил он.
— А то на ком же? Бери изъезженную кобылу, раз не умеешь захомутать молодую!.. Иди на каторгу, шалопут, корми и пои чужих детей.
— Мамо, — Степан тихо засмеялся, — добровольная каторга — разве это каторга?
— Только чтоб свадьбу по-людски справил: в церкви венчаться будешь.
Степан хмыкнул и, захлебнувшись борщом, закашлялся. Отложил ложку, помолчал, обдумывая, как бы, не обидев мать, объяснить ей все. Поднялся и вышел из-за стола, задевая курчавым чубом белоглинный потолок. Мать несла к столу дымящуюся пшенную кашу. Степан на полпути перехватил мать, бережно обнял за сгорбленные, худощавые плечи. В тарелку упал сквозь подслеповатое окошко солнечный луч, и каша засветилась янтарем.
— Мамо, — вкрадчиво заговорил Степан, — нельзя мне в церковь…
— А бога гневить можно? Уже и так у тебя грехов, как у поганого котенка блох.
— Какой же тут грех? Грех — это зло делать, людей обижать, неправдой жить. Мой бог — это моя совесть, мамо. Плохое она не простит. — Степан забрал у матери миску с кашей и поставил на стол. Опять повернулся к ней, посмотрел в темное, морщинистое лицо, такое знакомое, родное. Глаза ее смотрели на него с любовью и бессильным укором, а сухие, скрюченные работой руки беспомощно теребили грязный фартук.
От острой жалости дрогнуло сердце Степана. Что мог он еще сказать матери, которая всю жизнь не разгибается в труде, молится, постится, безропотно принимает удары судьбы? Их же — этих ударов — ой как много было на ее веку! Скольких детей похоронила, мужа не дождалась с гражданской войны… Вся жизнь в заботах, в тяжкой работе, в слезах. А счастья — одни крохи. Какого еще пекла она боится на том свете?
Степан виновато улыбнулся и, снова присаживаясь к столу, заговорил:
— Мамо, я согласен на венчание. Только чтоб у нас в хате… А вместо попа — вы. И чтоб окна были завешаны… Любую молитву выслушаю, все сделаю, что вы скажете…
— Господи, прости ты его, темного и неразумного. — Григоренчиха перекрестилась на угол, где перед иконой горела лампадка, вздохнула и стала прибирать со стола.
Степан, обжигая рот, доедал кашу. Он знал, что мать еще что-то скажет, и терпеливо ждал. И Григоренчиха сказала:
— Не хочешь венчаться, тогда и свадьба тебе нужна как дырка в мосту. Распишитесь тихонько и живите по-людски.
— Конечно! Какая может быть свадьба! — обрадовался Степан. — Разопьем четверть горилки с вами, с дядькой Платоном, еще с двумя-тремя родичами вот и все веселье…
Через неделю после того как Степан зарегистрировал свой брак с Христей и перебрался жить в ее дом, старая Григоренчиха умерла. Два дня никто не знал об этом, пока соседям не надоел неумолчный визг изголодавшегося подсвинка в ее хлеву…
Похоронив мать, Степан заколотил досками окна своей старенькой, вросшей в землю хаты, закрыл на большой висячий замок дверь. Не догадывался он, что недалеко то время, когда ему придется отрывать прибитые доски и отпирать замок…
Случилось это вскоре после того, как бригадир поймал Кузьму Лунатика у колхозного склада с мешком вынесенного оттуда зерна. Степан вызвал Кузьму в сельсовет для разговора.
Испуганный Кузьма сидел на табуретке, мял в руках картуз и дьяволом смотрел из темной гущины покрывавших его лицо волос на прохаживавшегося по комнате Степана.
— Это же фактическое воровство, — негодовал Степан. — Будем передавать дело в суд.
— Побойся бога, человече добрый! — взмолился Кузьма. — Ни сном, ни духом не ведаю о зерне. Болезнь у меня такая проклятущая — что хочет, то и делает. Увидит зерно — зерно тащит, увидит сено — за сеном посылает. А мозги мои ничего не смыслят!
— А если ваша болезнь вздумает человека ухлопать?
— И ухлопает! За милую душу ухлопает! А с меня спросу никакого. Пусть доктора отвечают.
— Значит, тем более вас надо упрятать за решетку, как опасный элемент.
— Меня за решетку?! — возмутился вдруг Кузьма. — Вон кровопийцев-кулаков и то выпускают на волю! Или это ты по-родственному выхлопотал? А меня на ее место хочешь?
Степан в недоумении замер посреди комнаты:
— Что-то не уразумею, Кузьма Иванович… Ерунду какую-то городите.
— О теще твоей, об Оляне, толкую. Или еще не знаешь, что она там с Христей панихиду по Олексе справляет? Голосят обе, будто черти с них шкуру дерут.
Через минуту Степан бежал домой. Не знал, что и думать. Удрала Оляна? А если отпустили? Как же он, председатель сельсовета, коммунист, будет жить под одной крышей с кулачкой? Ему ведь не простили даже и того, что женился на кулацкой дочери. Скоро позовут на бюро райкома — наверняка погонят из председателей…
Подошел к подворью, посмотрел на беленькую хату в зеленом вишняке, на дощатые, с желтыми слезами смолы ворота и в злобной тоске почувствовал, что все здесь ему чужое. И о Христе подумал как о чужой, хотя утром еще, уходя в сельсовет, до одури, будто юнец, целовал ее бесстыдно-жадные, горячие губы и обнимал так, что хрустело в ее плечах.
Христя, увидев сквозь распахнутое окно Степана, выбежала на подворье. Ее спело-желтая коса разлохматилась, большие глаза сверкали влажным радостным блеском, и вся она была какая-то счастливо-потерянная. Это еще больше обозлило Степана. Но Христя, ошпаренная радостью оттого, что возвратилась мать, не замечала состояния мужа.
— Степушка, ты уже знаешь? — залепетала она.
— Знаю…
— Степа, нельзя, чтобы мама с нами жила. И она согласна.
— На что согласна? — Степан почувствовал, что злость его улетучилась, и он невольно залюбовался женой.
— Она согласна, чтоб жить отдельно от нас!
Вышла из хаты и Оляна — постаревшая за два с лишним года, с пробившейся сединой в смоляных волосах. Смотрела она на Степана с грустной приветливостью и затаенной тревогой.
Степан невольно глянул на улицу — не наблюдает ли кто за его встречей с тещей. Оляна поняла этот взгляд и нырнула в сени. Степан поспешил за ней.
Оляна стояла посреди хаты, дожидаясь его.
— Ну что ж, зятек, рад не рад, а я тут. Дай благословлю тебя на долгую и счастливую жизнь с моей дочкой: — И она, шагнув к Степану, осенила его крестом и, дотянувшись холодными исхудалыми руками до лица, притянула к себе и поцеловала в голову.
— Ни к чему это, — слабо сопротивляясь, со смущением проговорил Степан.
— По сей день не знала я, — продолжала Оляна, указывая на притихших в углу детей, — что осиротели они, а ты, дай тебе бог здоровья, такую добрую душу имеешь. До самой смерти молиться буду за тебя и каяться в грехе своем, что тогда еще не поженила вас с Христей… Ой, темнота наша, грехи наши, беды наши…
— Расскажите лучше, как вас отпустили, — грубовато перебил Оляну Степан, с неловкостью прохаживаясь по хате. — Да бумаги покажите. Я же все-таки власть.
— Вот бумаги! — Христя, стоявшая у порога, с готовностью кинулась к столу.
Степан присел к окну, неторопливо стал рассматривать документы. Все правильно в них. Учитывая возраст и состояние здоровья Оляны, ей разрешалось жить в родных местах без права избирательного голоса и без права на конфискованное имущество.
«Редкий случай, — подумал Степан. — Пожалели бабу». И поднял вопрошающие глаза на Оляну:
— Где жить думаете?
Обиженная холодным тоном зятя, Оляна молчала. Ей на помощь поспешила Христя:
— Степа, твоя же хата пустует…
— Согласен. — Степан махнул рукой и впервые улыбнулся доброй, мягкой, будто виноватой улыбкой.
19
Каждое село в любую пору года имеет свое неповторимое лицо. Это лицо меняется в зависимости от того, сытый ли дух витает над хатами, идет ли подготовка к новому году, к севу, жнивам, тревожит ли душу сельчан нехватка продуктов и кормов или только холодит людские сердца ожиданием лиха. И каждое село имеет приметы — явственные или угадываемые, мимо которых не пройдет зоркий глаз.
Ранняя осень 1932 года не была в Кохановке похожа на многие прежние осени. С плетней не свешивались на улицы тяжелые головы тыкв, не валялись долго на стежках палые яблоки и груши, не виднелись на жнивье в приусадебных участках брошенные на расклев курам колосья, не струился из печных труб разящий самогонной брагой дым. И многого другого не было заметно, что свидетельствовало бы о безмятежном течении жизни крестьян, о спокойном ожидании ими дремотной от благополучия зимы.
Жидкий урожай собрал в эти жнива кохановский колхоз. Уже закончилась молотьба хлеба, а план поставок еще далеко не был выполнен. Люди возвращались с работы угрюмыми. Некоторые с опаской стреляли глазами по сторонам, ощущая в карманах или на дне кошелок из-под еды тяжесть тайком прихваченного с тока зерна… Ничего нет страшнее для крестьянина, чем беспомощность перед угрозой голодной зимы…
Вчера за левадами скосили колхозную гречиху, а сегодня утром влажные покосы оказались с изрядными залысинами.
На бывшей Оляниной усадьбе, где раскинулся теперь колхозный двор, целый день Платон Гордеевич тесал балки для строящегося коровника. И сейчас, испытывая ноющую боль в пояснице, он неторопливо шагал домой. Когда поравнялся с сельсоветом, услышал, как позвал его в открытое окно Степан.
В кабинете Степана сидел у стола розовощекий молоденький милиционер. Его подпоясанная новым широким ремнем синяя гимнастерка была перечеркнута на груди скрипучими портупеями, поддерживавшими с правой стороны лоснящуюся желтизной кобуру с наганом, а с левой — толстую полевую сумку. Чувствовалось, что милиционер очень доволен своим грозным видом и тем впечатлением, которое производит на людей. Платон Гордеевич со сдержанной почтительностью поздоровался с милиционером и озадаченно спросил у Степана:
— Зачем звал, Степан Прокопович?
— Помощь ваша требуется, Платон Гордеевич.
— Какая и в чем?
— Лунатиков наших пора к рукам прибрать. Но есть и похитрее людишки. Крадут почем зря.
— Да, негоже. — Платон Гордеевич вздохнул и посмотрел на милиционера, не зная, говорить ли ему о том, что хотелось сказать. Решился: — Но люди они и есть люди. Одна чистая совесть, если жевать нечего, на белом свете их не продержит.
— Это как же понимать? — включился в разговор милиционер. Голос у него был тоже юношеский, ломкий, с нарочитой басинкой.
— Как понимать? — Молодость милиционера почему-то раздражала Платона Гордеевича. — Вот вы, товарищ, получаете хлеб и другие продукты по карточкам. Жалованье каждый месяц получаете, казенную одежду. А возьми да все это отрежь вам. Что будете делать?
— Воровать не пойду. — Милиционер, заскрипев ремнями, поднялся, прошелся по кабинету. — Да такого и быть не может.
— Вот видите! — Платон чему-то обрадовался. — У вас не может быть, а у нас есть. Объединили мужики свою землицу, гнут на ней спины с весны до осени, а с нового урожая не получили ни шиша.
— Выполнит колхоз хлебопоставки, получите, — с уверенностью сказал милиционер, останавливаясь перед Платоном Гордеевичем.
— Получим? — переспросил Платон. — Если план поставок не скостят, без семян останемся. Мы тоже грамотные, умеем подсчитывать.
— Дядьку Платон, — вмешался в разговор Степан. — Но нельзя же колхоз растаскивать!
— Я и не говорю, что надо. Скажи людям, когда и сколько зерна им дашь на трудодень, — может, и красть не будут.
— Вы уверены? — Степан смотрел на Платона Гордеевича с добродушной усмешкой. — А помните, лет семь назад у вас с поля кто-то увез копу пшеницы?
— Я же не говорю, что у нас нет ворюг…
— Об этом и разговор. Мы устраиваем ночью кое-где засады… — Степан поймал на себе предостерегающий взгляд милиционера и пояснил ему: Товарищ Ярчук — человек верный. Так вот, засады, значит, устраиваем, посты. Хотел я вас попросить, дядьку Платон.
— Да куды мне, Степан Прокопович! Комсомольцев посылай, это им игрушки.
— Комсомольцы мобилизованы, а вы бы побродили ночью в левадах. Приметите кого с ношей, дайте знать в сельсовет.
— Нет, уволь, Степан Прокопович, не по мне такая работа…
Милиционер провожал уходящего из сельсовета Платона Гордеевича неодобрительным, укоризненным взглядом. Этот взгляд чувствовал Платон на себе и дома. Может, поэтому не спалось ему ночью. Ворочался он на скрипучем топчане, думал о том, что зря не засеял половину огорода ячменем или житом — была бы семья хоть ползимы с хлебом и кашей; прикидывал, сколько мешков соберет картошки, уродившейся плохо и наполовину вырытой летом.
На полатях, продолжая и во сне жить своей пастушьей жизнью, закричал на корову Павлик:
— Дя-ля-ля, куда пошла! — Потом вздохнул, поплямкал губами и опять завопил: — Чтоб ты подохла, зараза!..
Платон Гордеевич беззвучно засмеялся и вдруг решил: «Надо пойти все-таки в левады…»
Вскоре он уже шагал по смутно сереющей тропинке, ведущей через огороды за село. Дул упругий ветерок, под которым качались и по-воровски перешептывались кусты на меже. Где-то в вышине, среди бесконечного царства звезд, плыла скрытая рваными облаками лука. Время от времени она по-летнему теплая и ясная — взглядывала на землю, рассеивала пугающую своей таинственностью черноту огородов, придавала близким левадам печальную красоту.
Платон Гордеевич решил идти в бывшую Степанову леваду, за которой в покосах лежала гречиха. Прошел огороды и свернул к белеющей в садке хате, где теперь жила Оляна. Надо было минуть Олянино подворье и выйти на узкую дорогу, которая, пересекая левады, ведет в поле.
Степанова хатенка, где нашла приют Оляна, сонно смотрела черными окнами через плетень на проходящего мимо Платона. Но что это? Платон Гордеевич заметил, что из уголка крайнего окна пробивалась тонкая струйка света.
«Не иначе самогонку гонит, старая лисица», — ухмыльнулся он и, остановившись под темным кустом калины, повел носом.
Но бражного запаха не уловил.
В это время выглянула из облаков луна, и Платон, перепрыгнув через канаву на дорогу, увидел у приоткрытых ворот останавливающегося всадника. Соскочив с лошади, всадник тихо заговорил с женщиной, подошедшей к воротам из глубины подворья.
Платон Гордеевич ощутил непонятное беспокойство и, шагнув назад, присел в канаве.
— Все в сборе? — услышал он, как хрипло спросил мужчина.
— А ты скольких ждешь? — недовольно ответил Олянин голос.
— Двоих.
— Тогда все.
— Куда поставить коня?
— Под поветь… Что вам надо от меня? — Голос Оляны будто просил пощады. — Из одной беды выбилась, другую на шею вешаете.
— Вырвали тебя из беды наши люди. Значит, нужна нам…
Разговор продолжался, но Платон Гордеевич не мог разобрать слов. Уловил последнее, когда мужчина уходил в хату:
— Карауль… — И вслед за ним ржаво заскрипел в сенях засов.
«Не первый раз здесь, знает», — подумал Платон Гордеевич, еще не в силах осмыслить услышанное. Понимал только, что надо сейчас же дать знать Степану.
Оляне было страшно. До нынешнего дня она была уверена, что помог ей вернуться в Кохановку мешочек золотых червонцев, который при раскулачивании увезла запеченным в буханке черного хлеба. А пришлый петлюрака говорит, что помогли его люди. Нет, неправду говорит! А если правду?.. Зачем она нужна им? Это пугало ее, хотя и подогревало надежду, что скоро наступит время, когда вернется она в свой дом и спросит с землячков за свое добро. Все припомнит им, даже холодные взгляды, которые леденили ее душу при выезде из села. Но зачем же нужна она этим пришельцам? Давать приют для сборищ? Рассказывать, чем дышат мужики? Распускать через верных людей разные байки — одну страшнее другой? Да, она все делает. И кажется, ничем это не грозит ее теперешней, бедной радостями жизни. Трудно ведь узнать хозяина оброненной на дороге копейки, еще труднее докопаться, кто пускает по ветру различные слухи, кто учит молодиц носить с колхозного тока домой зерно. На краденом долго не проживут, но зато на трудодни получат фигу…
Угадать бы, что нового затевают эти таящиеся от белого света люди. Тогда, может, рассеялась бы тревога. А если наоборот? Если узнает она, что стоит на краю пропасти?.. Еще сильнее тянуло к завешенному окну, в котором предусмотрительно заранее открыла форточку.
Опасливо повела вокруг глазами. Со всех сторон жался к подворью пугающий черный морок: луна опять где-то заблудилась в тучах.
И хотя помнила Оляна о недремлющем оке села, о том, что, на беду, случайный гуляка может увидеть ее, прильнувшую к окну своей хаты, и заподозрит неладное, все-таки решилась. Тенью скользнула под низкую стреху, прошла вдоль стены и замерла у окна, отливавшего вязкой чернотой. Слышался бубнящий голос ее давнишнего знакомца:
— …На многое надеялись: и на подрывную работу троцкистов и на наших людей, проникших в советский аппарат. Но пока никаких перспектив. Правда, сейчас зреет голод. Если он приведет к волнениям — хорошо. Однако никакой гарантии нет. Мужики просто разбегаются по городам, где рабочая сила нужна позарез…
Оляна, опомнившись, отшатнулась от окна, осмотрелась, заглянула за угол хаты и, успокоившись, снова подошла к форточке. Боялась, что там, в хате, услышат, как гулко бьется ее сердце, как дышит она в одеяло, которым завешено окно. Говорил все тот же знакомый голос:
— …Нет никаких сил больше кормиться подачками поляков, обещаниями Скоропадского и крохами, которые привозит с берлинского стола батька Коновалец. Надоело!.. У нас же семьи! Вот и решили спасаться кто как может.
Полтавец-Остряница выведал у поляков, что в этих подземных ходах есть отсек, где хранится золото. Здесь, между Тывровом и Ободным, сто лет назад металась армия генерала Колыско, зажатая русскими войсками, подавлявшими польское восстание. Колыско напугался, что его армейская казна и захваченное в царских банках золото попадут в руки нашего генерала Шереметьева, и распорядился упрятать все под землю. Сдается мне, что участвовавшие тогда в восстании братья Сабанские, граф Ржевусский и другие местные помещики тоже воспользовались этими подземными ходами. Короче говоря, есть во имя чего рисковать. Первый раз нам помешал дурацкий случай. Надо попытаться еще. В сельсовете так и объясняйте: музей, мол, интересуется происхождением подземных ходов и надеется найти оружие и знамена армии Колыско, которая вместе с армией генерала Дворницкого пыталась вырвать Польшу из-под гнета русского царизма. Главное обнаружить входы в подземелье. Если входы окажутся на чьем-нибудь огороде, можно даже будет пойти на сговор с этим хозяином. Золото заткнет рот кому хочешь.
Обещаю, что клад будем делить строго поровну. Потом каждый может сниматься с насиженного места и давать драпака куда угодно, хоть за границу. А Скоропадский с Коновальцем пусть ищут дураков в другом месте. Я не намерен больше подставлять голову под пули пограничников.
Сердце Оляны встрепенулось и будто оборвалось. Спиной почувствовала, что сзади кто-то стоит, повернулась и вскрикнула: перед ней, предостерегающе приложив палец к губам, замер ее зять Степан — высокий, огромный, страшный в темноте. В хате услышали вскрик Оляны, умолкли, задули лампу, сорвали с окна одеяло.
Степан увидел забелевшее перед форточкой окна лицо и, уже не прячась, спокойно, со смешком сказал:
— Хата окружена, граждане. Отоприте засов и приготовьте документы.
И тут же грохнул из форточки пистолетный выстрел — резкий, оглушающий, на который забористым брехом ответили кохановские псы.
Пуля попала в затылок Оляне, мгновенно оборвав все ее трудные счеты с этой жизнью…
Степан метнулся за угол, а милиционер, стоявший под ясенем, трижды выстрелил из нагана в окно.
Двое оставшихся в живых сдались.
20
Ничто не тревожит так душу хлебороба, как весна. Дожидаются ее с трепетом, зная, что март, апрель и май не всегда живут в дружбе. Один другого то одаряет излишним теплом, то коварно студит холодом…
Из поколения в поколение передается в Кохановке об этом притча. Будто случилось в седую старину такое: позвал март к себе в гости апрель. Апрель обрадовался и поехал. Но март был не «щирым» хозяином. Услышав, что за горами тарахтит телега апреля, завихрил снегами, ударил трескучим морозом. Пришлось апрелю вернуться домой.
На второй год апрель решил ехать к марту на санях. А март, как только донесся до него скрип полозьев, растопил снега, разлил реки. Опять ни с чем вернулся апрель домой.
И вот встретился апрель с другим своим соседом — маем. Жалуется ему, что не может попасть в гости к марту. Тот ему и отвечает: «Не будь дурнем, бери с собой в дорогу телегу, сани и челн».
Дождался апрель следующего года, погрузил на сани телегу, на телегу челн и поехал.
Услышал март, что гость к нему снова на санях едет, и тут же растопил снега. Тогда апрель снял с саней телегу, погрузил на нее сани, на сани челн и поехал дальше. А март еще сильнее теплом дышит: взломал лед на речках, снес мосты, залил водой балки. Но апрелю все нипочем: на челне нагрянул к марту в гости.
Удивился март: «Кто же тебя научил, как доехать ко мне?» Апрель отвечает: «Мой сосед — май». Нахмурился март, и с тех давних пор не дружит он с апрелем и маем. Нередко теперь налетают на апрель и май мартовские холода.
В этом году земля на Винничине еще в марте стряхнула с себя снега, умылась в шаловливых, звонкоголосых ручьях, вволю напилась из них и, охмелев, задремала под солнцем. Радостно шагнула на эту притихшую, умиротворенную землю весна, обогнав апрель, который всегда обычно шествовал впереди нее.
Во всю мочь засветило с прозрачного неба солнце. Над Кохановкой, над омывающей ее речкой Бужанкой, над широкими массивами колхозных полей струилась теплынь, напоенная горьковатым запахом набухших вишневых почек. В левадах послышался первый звон встрепенувшейся от любви кукушки. На лугах крикливо зазолотился ранний лютик. Казалось, еще день-другой погреет солнце — и весна щедро расстелет, и развесит вокруг свои зеленые наряды.
И неожиданно, когда апрель распахнул дверь перед маем, весна исчезла. Будто забыла она свое девичье приданое в дальних краях и стремглав умчалась за ним. Тут же с разбойным посвистом налетел холодный мартовский ветер, свирепо выдувая из всех уголков тепло стыдливого апрельского солнца. Днем и ночью буйствовал он в хмельном разгуле, словно радуясь отсутствию хозяйки земли — весны.
С паническими воплями металось над полями воронье, ломая в упругих потоках воздуха крылья. Беспрерывно махали умоляюще протянутыми к солнцу голыми ветвями деревья в кохановских садах и левадах. Надрывно стонал недалекий лес. Остуженная ветром земля оцепенела, так и не успев прикрыть свою наготу.
Нет тоскливее зрелища, чем нагота полей. Весенние посевы еще не взошли, а влажная зелень озимых — жидких и чахлых — не могла пересилить черноту прошлогодней пахоты.
Охали и вздыхали в Кохановке старики. В их привычных ко всему глазах, усталых и выцветших, гнездилась тоска и тревога. Хлеборобы болели болью земли, которая лежала вокруг в покорном бессилии, с каждым днем все больше лишаясь влаги, бурея, трескаясь. Грозно надвигался неурожай, и был он тем более страшен, что еще в прошлом году пришел в Кохановку голод.
Голод… Грозное, холодящее душу черное слово. Кто не испытывал голода, тот не в силах вообразить, сколько рождает он человеческих страданий. Ничего нет ужаснее для мужчины — главы семьи, чем сознание своей полной беспомощности перед печальным, умоляющим взглядом жены, которая не знает, чем накормить детей. Нет ничего страшнее для матери, чем вид изможденных, отупевших, разучившихся смеяться голодных детишек.
Если бы неделю, месяц… А то ведь многие месяцы в большинстве кохановских семей нечего поставить на стол. Подметены сусеки, опустошены погреба, ни одной курицы на дворах не осталось. Съедены даже свекловичные семена…
Все ждали весны, как никто еще в жизни ничего не ждал. Ждали, когда мороз отпустит землю и можно будет перекопать огороды, где осенью убрали картошку. Авось осталась какая-нибудь картофелина в земле. Вымерзшая за зиму, она хранит в затвердевшем мешочке щепотку крахмала. Ждали, когда оживет кора на липах, набухнут почки. А там появятся молодая крапива, лебеда, щавель, пшеничка. Надеялись, что природа хоть чем-нибудь поможет человеку.
Но весна вдруг отступила, повергнув людей в страшное отчаяние.
Первыми умирали от голода мужчины. Потом дети. Затем женщины. Но прежде чем уйти из жизни, нередко люди лишались рассудка, переставали быть людьми.
Недавно Платон Гордеевич увидел такое, что волосы зашевелились под шапкой.
По селу пронесся слух, будто в Виннице открылся магазин с мудреным названием «Торгсин». За золото и серебро там можно было выменять хлеб, муку, крупу, сахар. Платон сразу же вспомнил о своих трех георгиевских крестах, заслуженных им еще в русско-японскую войну. В другое время никогда бы не расстался с памятной боевой наградой, врученной ему в Порт-Артуре прославленным генералом Кондратенко. Но сейчас надо было спасать от голодной смерти Павлика и Настьку.
Ганна, которая вот уже шесть лет хозяйничает в ярчуковском доме, дрожащими руками достала из-за образа Георгия Победоносца коробочку с крестами и бережно положила ее на стол.
— Меняй на крупу. Бог простит, — тихо сказала бескровными губами.
Платон Гордеевич вспомнил — документы, удостоверяющие, что кресты принадлежат ему, давно затерялись. «А вдруг спросят?» И решил идти в сельсовет к Степану, чтобы тот написал и скрепил печатью нужную бумажку.
Но в сельсовете застал только опухшего от голода секретаря — молодого парнишку лет семнадцати.
— Степан Прокопович еще не приходил, — безразличным голосом сказал секретарь, оторвав от бумаг желтое, по-бабьи одутловатое лицо.
Степан так и остался председателем сельсовета, хотя уже собрался было в отставку после женитьбы на Христе. Видимо, учли в районе, что под его началом прошлой осенью были пойманы в Кохановке важные птицы желто-голубого оперения — под цвет флага украинских националистов-«самостийников».
«Интересно, что же их занесло в Кохановку и как снюхалась с ними покойная Оляна?» — размышлял Платон Гордеевич, направляясь к Степану домой.
У Платона дрогнуло сердце, когда, зайдя во двор, он увидел на завалинке закутанных в рваные шерстяные платки детей Христи — Тосю и Олю. Девочки смотрели на него какими-то старческими глазами, в которых поселилась самоотреченность умирающего человека. Личики их были исхудалыми, восковыми.
Старшенькая, Тося, — копия Христи. Морщины от худобы на лице разительно увеличивали ее сходство с матерью. Перед Платоном Гордеевичем будто сидела сама Христя, на которую он смотрел сквозь уменьшающее стекло. А Оля унаследовала лицо покойного Олексы.
«И Степанову хату не обошел голод», — сокрушенно подумал Платон Гордеевич и спросил у девочек:
— Дома есть кто?
Тося медлительно повела большими глазищами в сторону ворот и после паузы ответила:
— Мама пошли по воду.
— А тато?
— Тато Степан спят. Мама не велела в хату заходить.
Но Платон зашел в хату. В нос ударил спертый воздух, пропитанный чем-то пресным, тошнотворным. На чисто выскобленном, непокрытом столе лежали топор и сделанный из старой косы кривой нож, которым обычно разделывают свиные туши.
Ни на кровати, ни на топчане Степана не было. Платон шагнул сквозь бездверный проем на кухню. Степан мог спать на лежанке или на печке. Увидел его на полатях, зажатых между лежанкой и стеной. Он был с головой накрыт рядном.
— Здорово, Степан Прокопович! — пробасил Платон, пересиливая неловкость от того, что приходится будить начальство.
Степан не откликался.
— Пора вставать, Степан! — и Платон Гордеевич, подойдя к полатям, стал тормошить Степана за пятку.
Раздался чуть внятный стон. И только теперь Платон заметил обрызганную кровью лежанку и красные пятна на рядне.
Обожженный страхом, суматошно сдернул рядно и увидел Степана лежащим спиной вверх с окровавленной головой. Рядом, на лежанке, — окровавленный молоток.
— Во-оды, — простонал Степан.
Воды в хате не оказалось, и Платон Гордеевич выскочил на подворье.
От калитки к дому шла с полным ведром беременная на последнем месяце Христя. Она глядела себе под ноги и каким-то неправдоподобным, тонким, стенящим голосом пела:
I шумить, i гуде, Дрiбний дощик iде, Ой, хто ж мене молодую, Тай до дому доведе…Увидев Платона Гордеевича, бросила ведро, и оно тут же опрокинулось. Затем метнулась к завалинке, где сидели дети, и, по-птичьи расставив руки, прикрыла их собой.
— Не дам! — противным, истеричным голосом взвизгнула она. — Все берите, а девчаток не дам!
— Господь с тобой, Христина!.. — пролепетал Платон.
Христя вдруг узнала его. Выпрямилась, виновато улыбнулась. И столько в той улыбке было жалости, покорства, еще чего-то необъяснимого… У Платона Гордеевича перехватило дыхание.
— Может, Степана ищете? — мягко и безвинно спросила Христя. — Не ищите… Он пошел по хлеб для моих девчаток… Придет не скоро.
Платон схватил ведро и побежал к колодцу.
В этот же день Степана с проломленным черепом отправили в районную больницу, а безумную Христю Платон Гордеевич и Андрон Ярчук повезли на подводе в Винницу — в психиатрическую.
21
Из Винницы возвратился Платон Гордеевич через два дня. Усталый, но довольный, он бережно положил на стол торбу с ячменной крупой. Целое богатство за три георгиевских креста!
Ганна без лишних слов стала разводить огонь в лежанке, которую Платон Гордеевич года три назад пристроил вдоль печки. В лежанку была вмурована плита с вьюшками.
Вскоре на плитке кипятилась в чугуне вода.
— Хоть каплиночку бы жира, — вздохнула Ганна, промывая крупу, прежде чем засыпать ее в чугунок.
— А разве в бодне нет сала? — грустно пошутил Платон Гордеевич. Отдыхая, он прилег на топчан и закинул за спинку обутые в сапоги ноги.
— Пойди отрежь кусок! — так же невесело засмеялась Ганна.
— Сейчас. — И Платон, к великому удивлению Павлика и Настьки, разжевывавших у лежанки ячневые крупинки, направился в камору.
— Вот тебе жиры! — весело, без притворства объявил Платон, втаскивая в комнату бодню — широкую и приземистую деревянную дежу, в которой за десятки лет побывало сало от целого поголовья свиней.
Ганна с испугом смотрела на мужа. А он, взяв топор, размахнулся и с силой ударил обухом по боку дежи. Она гулко и басовито загудела.
— Перестань! — вскрикнула Ганна.
Но Платон опять размахнулся топором, и бодня, уронив на земляной пол железные обручи, со звоном рассыпалась на клепки.
— Я думаю, начнем со дна, — деловито сказал Платон, оглядывая ошеломленных домочадцев смеющимися глазами.
Аккуратно сложил клепки на лавку, поднял широкий круг днища бодни, обмыл кипятком его нижнюю часть и начал колоть топором на мелкие щепки.
Ганна сообразила наконец, что придумал Платон, и уже торопливо отмывала принесенный со двора продолговатый камень.
Платон степенно складывал пропитанные салом щепки в пустой чугунок, потом прижал их камнем и, довольный, сказал:
— Заливай водой и кипяти до победного конца.
Павлик и Настька, вытянув длинные худые шеи, голодными глазами наблюдали за чугунком с печки. Платон и Ганна стояли у лежанки. А вода в чугунке бурлила, лопалась пузырями, зло шипела раскаленная плита от падавших на нее брызг.
— Надо, чтобы дерево разморилось, — поучительно приговаривал Платон Гордеевич. — Не может быть, чтоб не отдало оно жир.
Наконец чугунок сняли с плиты и поставили на припечек.
Керосиновая лампа, стоявшая на срезе угла печки, хорошо освещала помутневшую воду в чугунке, но жира на ее поверхности не было ни капельки.
Свесив головы, напряженно смотрели в чугунок Павлик и Настька. Молча стояли у припечка Платон с Ганной.
Вдруг из воды вынырнул пузырек и будто даже подпрыгнул над поверхностью. Тут же он расплылся желтым солнышком.
Все засмеялись. Павлик и Настька — восторженно, Платон и Ганна снисходительно, сдержанно.
Еще вынырнул пузырек, еще…
Павлик и Настька, перебивая друг друга и захлебываясь от радости, считали:
— Пять! Шесть!.. Десять!.. Тринадцать!..
Все больше и больше солнышек плавало в чугунке. Потом они начали сливаться. Прикоснется один кружочек к другому, и, глядишь, на их месте уже одно солнышко, но покрупнее.
Вскоре все кружочки объединились в один большой круг, который закрыл всю поверхность воды. Он отражал свет лампы и был действительно похож на настоящее большое праздничное солнце, от которого разливалось всамделишное тепло.
Ганна деревянной ложкой собрала жир и положила его в другой чугунок, где варился кулеш.
Никогда еще с таким аппетитом не ужинали в ярчуковском доме, как в тот вечер, никогда не спали в такой сытой истоме.
22
Утро, как и в прежние дни, было по-осеннему холодным. Пронизывающий ветер злобно шумел упругими ветвями ясеней, стороживших ярчуковский Двор.
Платон Гордеевич вышел из хаты, зябко поежился и остановился среди пустынного подворья. Туже затянул ремень поверх фуфайки, глубже надвинул на лоб овечью шапку — надо было идти к бригадиру за нарядом на работу. Но вдруг вспомнил сегодняшний сон…
Приснилось Платону Гордеевичу, будто стоит он среди знакомого поля, подступающего к лесу. А вокруг выкустились буйные зеленя ржи. Густым изумрудным ковром простиралось поле от леса до дороги, играя под дыханием ветра мелкой зыбью. Каждый стебелек, качаясь на ветру, дружески кланялся Платону и тянулся к его босым ногам, будто хотел благодарственно прикоснуться к ним. Прямо на глазах рожь все выше и выше начала подниматься над землей. Вот влажная зелень ласкает колени, вот уже по пояс купается Платон в зеленом половодье… Сердце его трепещет от радости: земля простила ему тяжкий грех… А рожь все выше и выше пялится к небу. Старика охватывает тревога: пора бы появиться цевкам с колосьями, но их все нет… Изо ржи уже не видно ни леса, ни дороги. Вскоре и над головой сомкнулся зеленый шатер, закрыв солнце. Платону стало трудно дышать, и он, заледенев от ужаса, понял, что находится не в хлебах, а на дне глубокого зеленого омута. А руки и ноги не слушаются, не хотят вынести его на поверхность, и он начинает пить, пить зеленую муть…
«К чему бы такой сон?» — подумал Платон Гордеевич и ощутил в груди что-то тревожное, давящее. Он не единожды испытывал это чувство после того дня, как обокрал поле, которое привиделось ему сегодня во сне.
Случилось это осенью, когда сеял под лесом рожь. Из двух полученных на складе мешков протравленных семян Платон засыпал в сеялку только один, а второй закопал в землю, обозначив место камнем. Погонял коней и тревожно всматривался в сторону села: боялся — нагрянет бригадир и увидит, что лошади таскают почти пустую сеялку… Загремел же Кузьма Лунатик в исправительно-трудовые лагеря на семь лет. А Юхим?.. Строго судят за колхозное добро…
Ночью откопал мешок и отнес домой. Ганна потом старательно промывала зерно, обваривала его кипятком, вымачивала. Но казенный запах формалина надолго поселился в их доме, а вся семья целую зиму ходила с отекшими от отравления синеватыми ногами.
С тех пор Платона не покидала беспокойная мысль о поле, обреченном на бесплодие. Тянуло оно его к себе, часто звало смотреть на черные комья земли, между которыми сиротливо зеленели редкие всходы.
Еще поздней осенью, до того как ударили первые морозы, не раз ходил он в поле с тайной надеждой увидеть, что свершилось чудо и хоть немного погустело там зелёное руно. Но поле неизменно встречало его мертвой чернотой и будто молчаливо упрекало старого хлебороба в содеянном грехе.
Платон Гордеевич чувствовал себя так, словно обидел ребенка или сделал нечто другое ужасно постыдное, от чего нет покоя совести. Но и не раскаивался в своем поступке. Украденное зерно спасло семью от голодной смерти. Да и поле ведь не его — колхозное. И урожай с этого поля пойдет не в его камору и даже не в колхозную. Крестьянин пока больше верит своему опыту, чем словам, которые произносятся Степаном Григоренко, сельскими активистами и районными представителями на колхозных собраниях. В прошлом году все зерно отвезли прямо с тока, от молотилки, в складские помещения на станцию. Посланцы райцентра, не отлучавшиеся из села, пока шла молотьба, добросовестно выполняли наказ районного руководства. Росла цифра, обозначавшая тонны хлебосдачи государству, и таяли надежды крестьян получить что-нибудь из заработанного. Те, кому следовало помнить, почему-то забывали, что крестьянин — тоже государство, что колхозу необходим семенной фонд, что в будущем году державе тоже потребуется хлеб.
И все-таки Платона Гордеевича томила жалость к обокраденной им земле. А тут еще сон растревожил душу. Где-то в глубине сердца теплилась надежда, что, может, в самом деле озимые выметались хоть немного, может, росший там в прошлом году овес осыпал часть зерна, и оно, попав в землю, пробудилось сейчас к жизни.
Позабыв, что надо идти на работу, Платон Гордеевич выбрал на дровнике суковатую палку и через огороды направился к темнеющему за селом лесу.
Вскоре он стоял у заросшего мелким кустарником рва, который опоясывал лес, и смотрел на чуть сгорбившееся под ветром поле, думая о нем как о живом существе. А оно лежало немое, унылое и будто скорбело, что зря пропадает его материнская сила и что этим летом не придется ему шуметь буйным урожаем.
Да, чудес в хлеборобской жизни не бывает.
Платон Гордеевич стал думать о том, какой будет жатва. Он, старый человек, хорошо знал душу сельчан. Ведь многие шли в колхоз с робостью, некоторые из опасения быть раскулаченными, хотя владели только середняцким хозяйством. Но все надеялись на лучшее. Только на лучшее! А случилось нечто непонятное: хлеборобов оставили без хлеба. Да, да, ты паши, сей, жни, молоти и получай за труды тяжкие не зерно, а первое или десятое место в районной сводке по хлебосдаче.
Конечно, Платон все понимает. Да и каждому ясно, что есть у селян великий брат — рабочий класс, без которого не то что машин или ситцу, но даже гвоздя не будешь иметь в хозяйстве. И надо дать рабочим хлеб и к хлебу… Красноармейцев — сынов своих, которые охраняют государство, тоже не посадишь на голодный паек. Словом, много требуется хлеба. Иначе не построишь ни заводов, ни фабрик, ни шахт… Но разве можно при этом разорять село? Разве можно вести огромное хозяйство, не заботясь о завтрашнем дне?
Нет, не все понимал добрый и мудрый селянин Платон Ярчук. Не в силах он был постичь, что у рычагов сложнейшего государственного механизма республики кое-где стояли люди, готовые — одни со злым умыслом, а другие по своему неразумению — пожертвовать и той курицей, которая несет золотые яйца, лишь бы «дать план», «отчитаться перед центром», «не остаться в хвосте»… Недобитые враги пакостили партии, чтобы посеять беду, вызвать недовольство в народе и ослабить страну, а карьеристы заботились о том, чтобы усидеть в «руководящих» креслах. Были и такие работнички, что своим слепым рвением делали медвежью услугу партии. А тут еще неурожай…
Многое неясно было Платону. Но зато он хорошо понимал, что найдутся в Кохановке руки, которые постараются не дать дозреть новому урожаю. Найдутся люди, которые тайком будут стричь ножницами колосья с чуть налившимся зерном, как чья-то неразумная рука состригла веру кохановчан в колхоз. Не все ведь надеются, что можно получить зерно на трудодни, поэтому и тот хлеб, который дозреет под строгим надсмотром объездчиков, наполовину раскрадут при молотьбе. Никому же не хочется пухнуть от голода.
Ох, тревожно на душе у Платона Гордеевича. Что-то неладное творится на белом свете. А тут еще мысли о старости одолевают. Не такой старости хотелось ему.
И он стал думать о себе, и даже не думать, а со щемящей болью в сердце ощущать, что жить осталось недолго и что годы летят все стремительней, не так, как в детстве, когда каждый прожитый день казался вечностью.
Да, последние десятки лет пролетели, будто дни. И все же, когда смотришь вперед, каждый обещанный жизнью год ой каким долгим кажется, и от этого радостнее и спокойнее сердцу. Но если запоздала весна и земля не обещает урожая, если по утрам над хатами не вьются из печных труб сытые дымы — ты кажешься лишним, жалким и ненужным в этой жизни.
Не хотелось Платону Гордеевичу возвращаться домой, не хотелось идти и на колхозный двор, где бродят худые как скелеты лошади — и ничем нельзя помочь в их немой беде.
Он направился в лес. Бродил по нему — угрюмому, с железным звоном под ногами, который издавала прошлогодняя листва, с жестким шелестом пожухлых прошлогодних листьев на дубках. Молчалив лес — без птичьего гомона, без трепетно-протяжного шума, рождаемого живой листвой.
Платон Гордеевич время от времени стучал своей суковатой палкой по стволу граба или ясеня, прислушиваясь к глухому гулу, и угадывал, что дерево в корне уже живет, уже рвутся вверх по его стволу нетерпеливые соки. Скоро они оживят ствол и напружат ветви.
Прошлогодняя листва под ногами — серая, с отливом меди — плотно прильнула к земле, будто стремилась закрыть собой путь молодой поросли. Зоркий старческий глаз Платона изредка замечал среди бурой листвы пробегающего муравья. Значит, тепло не за горами.
Старик присел на пенек, достал кисет и закурил цигарку, хотя курить не хотелось. Бросил горящую спичку и заметил, как вспыхнул и начал корчиться сухой листок. По-мальчишечьи воровато оглянувшись по сторонам нет ли поблизости лесничего, — сгреб небольшую копенку листьев. И она тут же задымила густо и едко. Платон, пораженный теплым запахом дыма, в котором угадывались многие запахи земли, отбросил цигарку и начал жадно вдыхать эти ароматы, удивляясь тому, что они волнуют его.
Когда костерок потух, Платону Гордеевичу захотелось подняться и куда-то пойти, что-то сделать — важное и безотлагательное. Но куда он должен идти, какое дело ждет его?
Придерживаясь за росший рядом граб, он встал, запрокинул голову и посмотрел на верхушку дерева.
— Растешь? — будто с упреком спросил старик. — В небо тянешься, а сгниешь в земле…
Потрогал рукой молодую гибкую поросль, облепившую комель ствола, и почему-то подумал о Павлике. Вдруг вспомнил, что он должен сделать. Давно пора сжечь хату Ганны. Сегодня же ночью надо пойти в Березну и сжечь. Если уж придется ему, Платону, расставаться с солнцем, чтоб твердо знал: никуда Ганна не уйдет из его хаты, не оставит Павлика, хоть и подросшего, но еще неразумного, в одиночестве мыкать горе.
Значит, сегодня. Ночью…
Домой Платон Гордеевич возвратился под вечер — голодный, продрогший, отягощенный тревожными чувствами.
Увидел за непокрытым столом Павлика и Настьку. Перед ними стояла глиняная миска, а в миске виднелись испеченные грачиные яйца — пожелтевшие и потрескавшиеся в горячей золе.
Павлик, вспомнив, как однажды отец выпорол его за разоренное ласточкино гнездо, перестал снимать с яйца скорлупку и тупо уставил глаза в стол. Но Платон Гордеевич не стал ругаться. Подошел к миснику, взялся за кувшин, в котором был налит узвар из малиновых и вишневых прутьев: Вдохнул душистый, с горчинкой аромат и напился прямо из кувшина. Потом посмотрел на притихших детей.
— В лесу насобирал? — спросил у Павлика.
Но ответа не расслышал. В груди вдруг кольнуло раскаленной иглой… Схватился рукой за сердце и присел на топчан. Боль в груди ширилась, будто разливалось там что-то горячее, но делалась менее острой.
Заметив испуганные глаза Павлика и Настьки, спокойно проговорил:
— Ничего, пройдет… Поставьте табурет к лежанке.
Снял фуфайку, сапоги и с трудом забрался на лежанку, а с нее — на печь. По извечной простонародной привычке прижался грудью к горячим кирпичам, веря, что тепло — враг всякой болезни.
А в голове роились гнетущие мысли о том, что человеку мало дано гостить на земле. Ведь он, Платон, не так уж стар. И силу в себе он еще чувствует, а сердце сдает, сигналит: пора, мол, закруглять свои житейские дела.
Хотелось уснуть, чтобы утихла боль в груди, чтобы улеглась тревога. Стал вспоминать, кто за последние годы из сельских мужиков помер. Мысленным взором окидывал кохановские улицы, дом за домом.
«Сазон в прошлом году преставился: сверстник мой… Явтух от голоду… Пилипа раскулачили и на Соловки сослали — туда ему и дорога. Филимона деревом в лесу убило… Захарка Ловиблоха раскулачили и сослали… Зря раскулачили… Хтому Заволоку тоже зря, он такой же кулак, как я…»
Подумал о Пилипе Якименко. Как он там, преподобный, кукарекает на Соловках? Находит глупее себя или нет, чтоб кровь сосать? Такого черт не возьмет, вывернется… А не по его ли молитве убили в двадцать пятом Алешку Решетняка — селькора? И хаты трех сельских активистов сожгли… Его рука, не иначе, раз следов не нашли.
«Эх, обидно, что Игнат Сологуб не дожил до раскулачивания. Вот по ком Соловки плакали!» Платон Гордеевич всю молодость батрачил на скотном дворе Сологуба; до сих пор чешется спина, по которой не раз гулял арапник Игната.
«Сколько же хозяйств раскулачили правильно, а сколько зря? — Стал подсчитывать. — Пять хозяйств — по всем статьям — кулацкие. Два семейства — туда и сюда: с одной стороны — богатеи, а с другой — своими руками вели хозяйство, без наймитов. А неправильно сколько?.. Захарка Ловиблоха — раз, Хтому Заволоку — два, Дмитра-кузнеца — три… — считал и считал… — Девять хозяйств!.. В каждой семье по пять-восемь душ. Многовато! А на всей Украине сколько таких? А в России? Велика Россия».
Платон Гордеевич пытался представить себе море людей — мужчин, женщин, детей, которых, по его мнению, напрасно сорвали с насиженных гнезд и упрятали куда-то на край света. Ему стало страшно. Сколько пораненных сердец! Подрастут малолетки, расползутся с тех далеких мест и всю жизнь будут стыдиться своих родителей, будут таиться, прятаться…
Почему же так случилось, что извратили святые и светлые ленинские мысли о коллективизации? Почему? Причислить к кулакам просто хозяйственных мужиков, умевших приохотить землю рожать обломные хлеба и работавших от зари до зари, — это ли не глупость? Ведь не только беднота была в петле без колхозов. Со временем и середняков с потрохами сожрали бы кулаки; да и сама жизнь, при которой надо непрерывно разделять землю между входившими в совершеннолетие детьми, вогнала бы середняков в нищету…
Колхозы нужны были, как майский дождь для посевов, как кровь для тела. Но уму не хватило рассудительности… Почему?! Ну, допустим, в Кохановке Степан рассобачился, да и его помощники из бедняцкого актива не сумели рассудить по-хозяйски. А в других селах? Или правду болтают, что районные власти давали разнарядку, по которой каждое село должно было раскулачить определенное количество хозяйств? Похоже, что правду…
Потом прошел слух, будто незаконно раскулаченных будут возвращать по своим местам. Почему же медлят?
И Платон Гордеевич стал мысленно убеждать кого-то, что надо вернуть земле понапрасну оторванных от нее работников, а главное — навести порядок с обложением колхозов хлебопоставками. Читал же он где-то разумные слова, что хозяйство следует вести на основе материальной заинтересованности и на энтузиазме, а не на энтузиазме без материальной заинтересованности.
Где он их читал? У Ленина!.. Да, у Владимира Ильича! Ленин…
Вспомнился январский день тысяча девятьсот двадцать четвертого года. В хате Платона Ярчука был тогда праздник: выдавали замуж Югину. Возвратившись из церкви, молодые и родственники жениха и невесты тесно уселись за длинный, ломящийся от закусок и четвертей с самогоном стол. Пошла по кругу граненая чарка, сопровождаемая неизменным «дай боже», захрустели соленые огурцы, задрожал в ложках седой холодец, задымилась поданная из печи свинина, жаренная с черносливом. Грянул величальную духовой оркестр из пяти труб и барабана, привезенный зажиточным отцом жениха из сахарного завода. Хата все больше наполнялась духотой и гамом. Послышались первые «горько!»… Свадьба набирала тот неудержимый разбег, когда веселье завладевало всеми и хата начинала гудеть и от оркестра, и от восторженных выкриков, и от лихой пляски, при которой земляной пол превращался в глиняную крошку. Даже четырехлетний Павлик плясал на печке с соседскими ребятишками.
Юсина в белом подвенечном платье, с венком на голове, с пестрыми лентами в косах, пряча смущение, счастливыми глазами смотрела на людей трогательно-красивая, никак не похожая на крестьянскую девушку. Рядом с ней сидел, закрывая широкой спиной окно, Игнат — краснощекий, черноусый, уже захмелевший. Он приглашал Югину танцевать, а она, тоже захмелевшая, хохотала, обнажая красивые белые зубы, и отказывалась.
Наконец Игнату удалось вытащить Югину из-за стола, и оркестр заиграл веселую и стремительную полечку. Югина закружилась с Игнатом в танце, замелькали в разлете ее ленты, вздулось колоколом длинное белое платье. Молодецки ухал барабан — брызгали медью тарелки, тонко и певуче смеялась флейта, старательно выговаривал мелодию кларнет, одобрительно похохатывал бас.
И вдруг на пороге, в клубах морозного воздуха, появился Хтома Заволока. Он не произносил ни слова, не снимал шапки, а смотрел на всех заледенелыми глазами и будто мучительно старался что-то проглотить. На Хтому обратили внимание, уловили в его лице что-то недоброе. Умолк оркестр. Все притихли, застыв на своих местах. И в наступившей тишине хрипло и страшно прозвучал голос Хтомы:
— Ленин… умер…
И будто еще тише стало в хате. Медленно наплывала бледность на красивое лицо Югины. Тихо поставил на стол четверть с горилкой Платон.
— Владимир Ильич умер, — повторил Хтома, и мучительная гримаса перекосила его непривлекательное лицо.
Люди словно перестали замечать друг друга. Каждый остался наедине со страшной вестью и с рвущей сердце болью. Ленин… Не хотелось верить, хотя знали, что Ильич тяжело болел… Партия, революция, земля, свобода, равноправие, грамота, широкие дороги в жизнь для молодежи — все это связано с именем Ленина…
У мисника, где сидели оркестранты, всхлипнула флейта, высоким дискантом заголосил вдруг кларнет, и в хате, которая была только что до краев заполнена весельем, полилась траурная музыка… Люди почему-то тихо подались к стенам, к столу, к оркестру, бросая жалостливо-виноватые взгляды на Югину, замершую посреди горницы. Ее белое подвенечное платье, пестрые, струившиеся с цветистого венка ленты, вся она, юная и в этой задымленной хате неправдоподобно красивая, ослепительная, казалась в стенающих звуках траурного марша нелепой и неестественной. Весь ее вид будто подчеркивал непреодолимую пропасть между жизнью и смертью…
Надрывно заголосила мать — Марина. Сквозь траурные звуки оркестра послышались рыдания других женщин. Сверкнули слезы на глазах у Платона, Игната, Югины…
Вскоре все оделись и вышли на улицу, в обжигающую снежную сумятицу. Злой морозный ветер валил с ног, срывал с голов шапки, хищно трепал полы кожухов. Музыканты, прикипая губами к холодной меди труб, заиграли «Интернационал». С пением «Интернационала» медленно направились в клуб на траурный митинг.
Ох, беспокойно на сердце у Платона! Он знает: жил бы Ленин, не было бы кривды. А так приходится и сердцу пробуксовывать, высекать искры, обжигающие грудь… Платон всегда вспоминает об Ильиче, когда видит неправду.
И вдруг где-то глубоко в нем шевельнулась злая, ехидная мысль: «Чего же ты не вспомнил о Ленине, когда воровал зерно?..»
Нелегко жить на белом свете, когда совесть то и дело припирает тебя к стенке и укоряющими глазами смотрит в твою душу.
23
Отлеживался Платон на печке еще день, еще два. А когда боль в груди уснула окончательно, слез на лежанку, потом на пол, начал разминать хрустевшие кости. Заметил, что окна в хате распахнуты. В комнату вливалась сырость земли и душистая горькость разморенного под солнцем сада. Выставил голову в окно, окинул взглядом надвинувшийся со всех сторон сад. Увидел, что ветви вишен с налитыми почками, которые вот-вот треснут и вспыхнут белым цветом, нежно ласкали стены, бережно причесывали Снизу соломенную стреху и будто прислушивались к тому, что делается в хате. Понял: насовсем вернулась весна.
И первой мыслью было: «Как там поле?» Снова заныло сердце… Охая и вздыхая, он начал торопливо одеваться, чтобы скорее пойти к лесу и взглянуть на озимые. А вдруг с возвращением весны выкустились они? Платон согласился б сейчас сам умереть, лишь бы увидеть поле живым, зеленым…
Чтоб никому не попадаться в рабочее время на глаза, петлял левадами, затем — по берегу Бужанки. Со стороны крутояра зашел в лес и с радостным изумлением отметил, что он за эти дни преобразился. Ветви деревьев окутала густая ярко-зеленая дымка. Свежая и влажная листва, только родившаяся, казалось, не имела отношения к черным стволам грабов и к их черным сучьям. Гляди — дохнет ветер и развеет этот трепетный нежно-зеленый мираж. И только если смотреть не в глубь леса, а вверх, глаз отмечает что ветви деревьев окутаны не зеленым туманом, а густо увенчаны угловатыми, похожими на расправленные подкрылки майских жуков желто-зелеными листиками. Они еще давали простор взгляду, почти не задерживали его, щедро открывая белесую, с просинью небесную ширь. А низкий подлесок — беспорядочно густой, местами непролазный — зеленел уже буйно, успев раньше высоких деревьев напиться соков земли.
Таким лес виделся Платону Гордеевичу со знакомого пня, на который он присел, чтобы покурить и оттянуть страшное свидание с полем. Ощущал спиной тепло солнца, но не радовался, как прежде, тому, что еще одна весна на его веку пробудила землю.
Наконец решился: будто вор, начал пробираться к противоположной опушке леса, за которой лежало поле. Миновал лисьи норы, пересек чуть заметную лесную дорогу, прошел березняк. Впереди показалась в загустевшем кустарнике насыпь рва. С гулко бьющимся сердцем подошел к насыпи и сквозь кусты глянул на знакомое поле. Глянул и обмер: оно чернело какой-то обновленной чернотой. И ни травинки на нем! Исчезли даже те редкие всходы, которые выметались еще осенью…
Платону почудилось, будто видит он все это в дурном сне. Царапаясь об кусты, пробрался ко рву и по-стариковски неуклюже перескочил через него. Рассмотрел под ногами свежезаборонованную землю, заметил беспечно прогуливающихся недалеко грачей и все понял: засеяли вновь поле… Засеяли зерном из «державного фонда», которое, как слышал Платон, недавно привезли в село… Вовремя протянуло руку помощи государство…
Так и не облегчив душу, возвращался Платон Гордеевич в село.
24
В большом глинобитном доме под побуревшей от старости соломенной крышей, который прилепился рядом с церковью на возвышенном берегу Бужанки, ютилась Кохановская начальная школа. Дом утопал в белом мареве зацветших акаций и смотрел на мир распахнутыми настежь окнами. Из них выплескивался такой густой детский галдеж, что обитавшие на колокольне галки с паническими криками метались над церковью, боясь приблизиться к своим гнездовьям.
В этот солнечный весенний день ученики явились в школу без книжек и тетрадей, явились затем, чтобы покинуть ее на целое лето. Потому-то неудержимо клокотала неистовая радость детворы.
Сравнительно тихо было только в четвертом классе. Здесь степенно рассаживались двенадцати-тринадцатилетние мальчишки и девчонки — люди, как им казалось, уже вполне самостоятельные, оставившие позади четыре долгих, будто вечность, года учебы. Им не верилось, что насовсем расстаются они со своей первой школой, что сегодня прощально прозвучит для них дребезжащий голос звонка. Может, поэтому выпускники четвертого класса нет-нет да и бросали задумчивые взгляды на товарищей, на полинялую доску свидетельницу их не всегда успешных поединков с грамматикой и арифметикой, как-то по-новому смотрели на свои исполосованные ножами и испятнанные чернилами парты. Кажется, в классе так и витала еще не осознанная мысль о том, что за порогом школы будет навсегда потеряно что-то необычайно дорогое. Рассыплется первое школьное братство, появятся новые заботы, каждого позовет неизведанная трудная дорога. Одни подадутся в семилетку при сахарном заводе и с осени начнут ходить в школу за пять километров, другие станут работниками в домашнем хозяйстве и в колхозе.
Среди окончивших четыре класса были Павлик и Настька. Павлик, вытянувшийся за эти годы в высокого угловатого подростка, сидел на задней скамейке; Настька — вертлявая и невнимательная на уроках — на передней.
Сейчас Настька была непривычно смирная, она сидела рядом со своей подружкой — маленькой, как воробышек, Гафийкой — и с интересом следила за Серегой, который изо всех сил старался рассмешить класс. Серега — сын Кузьмы Лунатика. Он, будто заправский акробат, стоял на руках у доски и пытался написать мелом, зажатым в пальцах босой ноги, потрескавшейся от грязи, слово «Прошу» — кличку учителя Ивана Никитича Кулиды. Все посмеивались, глядя на тщетные усилия Сереги и на опавшие штанины его холстяных выкрашенных бузиновым соком брюк.
— Прошу идет! — взвизгнул кто-то, хлопнув дверью.
По-обезьяньи вскочив на ноги, Серега опрометью бросился к задней скамейке, даже забыв смахнуть с доски свои нелепые каракули.
В класс вошел Иван Никитич — низкорослый, худой, с выпирающими скулами на подвижном лице. Окинул веселым, молодым взглядом притихших учеников, одернул на себе вышитую белую рубаху, перехваченную поясом из крученого шелка с бахромой на концах, и неторопливо присел за стол на табуретку.
Кличка «Прошу» стала вторым именем Ивана Никитича. Еще четыре года назад, когда учитель Кулида появился в школе, он объяснил тогдашним «первачкам», что во время урока, прежде чем обратиться к нему с вопросом, надо поднять руку и сказать: «Прошу».
Так и повелось: «Прошу! Я не решила задачу», «Прошу! Серега толкается!», «Прошу! Позвольте выйти из класса!»
Со временем ученики позабыли, как зовут их учителя. А иные уверовали, что «прошу» — это и есть его имя. Хоть и чудное оно, непривычное, но и сам учитель человек не простой, особенно первый учитель — олицетворение непревзойденной мудрости и неисчерпаемых знаний.
Павлик исподлобья следил за Прошу, восторгаясь его открытым взглядом, умением одними глазами подчинять своей воле стольких ершистых хлопцев и девчат. А какой ум скрывался за высоким, с пролысинами лбом Прошу! Павлику казалось, что нет ничего на свете, о чем бы не знал его учитель. И он мечтал о том, что и сам когда-нибудь станет таким. Придет время, и с ним, как с Прошу, будут уважительно здороваться сельские старики.
Честолюбивые размышления Павлика прервал Иван Никитич.
— Ну, друзья мои, — с напускной веселостью, скрывая волнение, произнес он. — Пришел день, после которого вы станете звать меня своим бывшим учителем, а я вас — бывшими моими учениками.
Иван Никитич замолчал, всматриваясь в лица ребят и уж в который раз отмечая про себя их бледную прозрачность — свидетельство недоедания.
Вздохнув, учитель продолжал:
— Я мечтаю, что многие из моих учеников станут инженерами, учителями, летчиками… Ведь каждый из вас хочет кем-то стать?
Иван Никитич обвел смешливым взглядом класс и задержал глаза на Настьке, которая в это время б чем-то шепталась с Гафийкой.
— Ты кем хочешь стать, Настя? — спросил он.
Настька растерянно захлопала своими большими, удивительно синими глазами, не зная, что ответить.
— Мамой? — тихо, но так, что услышали все, трагическим тоном прошептал Серега.
Класс взревел протяжным хохотом. Весело заржал и Серега, но тут же смущенно притих, начав яростно укрощать рукавом рубахи свой нос, из которого предательски выскочил огромный пузырь.
Смеялась и Настька. Она повернулась к Сереге и, неосознанно по-взрослому поведя синими глазищами, невинно спросила:
— А что плохого? Вот подрасту немного, женюсь на Сережке и буду мамой. Он хоть рябой, но девчат слушается.
Серега, никогда не ведавший, что такое смущение, на этот раз не смог перенести дружного смеха сверстников. Еще сам не понимая толком, отчего загорелись его веснушчатые щеки и большие, как вареницы, уши, он рванулся из-за парты к распахнутому окну, одним махом выскочил в неогражденный школьный двор и, подхлестываемый несшимся вслед хохотом, помчался по откосу к Бужанке.
С трудом утихомирив ребят, Иван Никитич с сожалением посмотрел в окно, через которое удрал Серега, и продолжал разговор:
— Все вы, друзья мои, юные ленинцы, пионеры новой жизни. В школьной семье и в нашей пионерской организации вы научились подчиняться общим интересам, научились товариществу, прониклись пониманием чувства Родины. Вам позавидуют крестьянские дети любой другой страны, потому что перед вами лежат свободные дороги в большую жизнь. Вас ждут науки, ждет работа. Но кем бы каждому из вас ни захотелось стать — агрономом, врачом, учителем, трактористом, — помните, что есть еще одна школа, которую не надо обходить. Это комсомол…
Павлик слушал Ивана Никитича и думал о себе. Родился он в двадцатом, когда на Украине еще велась борьба за советскую власть, а ему казалось, что живет он на белом свете с незапамятных времен. Вспомнил свой первый день в школе — ой, как давно это было! Вспомнил первый пионерский галстук. Сестра Югина, которая вышла замуж на Харитоньевский хутор, подарила ему напрестольный праздник широкий шелковый пояс красного цвета. Павлик сам скроил из него и подрубил от руки галстук… Не многие в школе могли похвастаться таким богатством. Правда, это богатство обошлось ему потом очень дорого.
Павлик никак не мог дождаться весны. Уж очень хотелось пройтись по селу без пальто, чтобы все увидели на нем красный галстук. И вот, наконец, снег почернел, стал ноздреватым, зазвенели первые ручьи, задымились на солнце проталины. Павлик убежал в школу раздетым. Первым, кого встретил, на улице, был дядька Кузьма Лунатик. Павлик, переполненный чувством гордости, косил глаза на Кузьму, стараясь угадать, какое впечатление произведет, на него галстук. И от радостного смущения даже позабыл сказать дядьке «добрый день», что считалось в Кохановке непростительным грехом.
Кузьма, по самые глаза заросший густой щетиной, дымил себе под нос самокруткой и шел своей дорогой, не обращая на Павлика никакого внимания.
— А где твой «добрый день»? — неожиданно спросил Кузьма, останавливаясь, когда они уже разминулись. — Собаки съели? Тебя что, в школе учат, старших не уважать?
Павлик, сгорая от стыда, не знал, что ответить, Кузьма, наконец, обратил внимание на галстук:
— А червоная хустка зачем?
— Это галстук пионерский! — вспыхнул Павлик.
— Галстук?.. Ха-ха! Что ж ты, сопли им вытираешь? — И, не дожидаясь ответа, пошел дальше, посмеиваясь.
Павлик и сам не помнит, как все потом случилось. Не стерпев обиды, он подхватил мокрый, но не оттаявший совсем ком земли и запустил им в Кузьму. Земля огрела дядьку по затылку. Не ожидавший такой дерзости, Кузьма с криком кинулся догонять Павлика. Но не догнал и пошел жаловаться учителю.
До вечера слонялся раздетый Павлик по берегу Бужанки, не смея ни появиться в школе, ни идти домой. А на второй день слег с воспалением легких.
Болел тяжело, долго. И пришлось ему оставаться в третьем классе на второй год, а затем учиться уже вместе с Настькой…
Теперь он думал о кохановских комсомольцах. Вспомнил, как они под вопли и проклятия баб сбрасывали с церкви колокола, как вытряхивали из села кулаков, охраняли колхозные урожаи; вспомнил зимние вечера, когда в сельбуде ставились спектакли или выступал хор. Этой весной вся школа по призыву комсомольцев собирала на свекловичных плантациях долгоносиков… Да, он обязательно будет комсомольцем…
А Иван Никитич говорил уже о том, что позади остались трудности переустройства села, говорил о великих свершениях в Стране Советов. И перед мысленным взором Павлика вставали сказочные стройки Магнитки и Кузнецка, Азовстали и Запорожстали, рисовались бесконечные вереницы тракторов, автомобилей, комбайнов, электровозов, танков. Поражало слух диковинное слово «блюминг», удивляла гигантская плотина, перегородившая Днепр, чтоб заставить воду вращать какие-то могучие турбины. И везде нужны умелые руки, светлые головы, горячие сердца. Есть куда устремить мечту Павлику, Настьке и всем этим хлопчикам и девчаткам, которые слушают учителя затаив дыхание.
А когда Прошу повел речь об отечественных самолетах, сердце Павлика застучало, будто спешило за мечтой, которая унесла сейчас Павлика в голубые просторы поднебесья. Да, только летчиком!.. Он обязательно выучится на летчика!
Иван Никитич, закончив прощальную речь, роздал всем свидетельства об окончании начальной школы…
В последний раз продребезжал в коридоре звонок.
Когда говорливая толпа ребят высыпала на школьный двор и стала растекаться по тропинкам, ведшим в разные концы села, Павлик вспомнил о Сереге. Отыскал глазами Настьку: надо было держаться поближе к ней. Ведь Серега наверняка уготовил какую-то кару.
Предусмотрительно выломал из куста бузины палку. Правда, Павлик не надеялся на победу в единоборстве с дюжим Серегой, но на что не решишься ради Настьки — хоть и сводной, но все-таки сестры. И он мужественно сжимал в руке палку, опасливо косясь то на заросли лебеды, то на гущину огородов — места, где мог устроить засаду коварный и беспощадный Серега.
Павлику очень нравилось, как смеется Настька. Будто серебряные колокольчики звенят и сверкают в ее негромком хохотке. Звон этих колокольчиков приятной тревогой отдавался в груди, вызывал восторженную улыбку и заставлял неотрывно смотреть на Настьку. Вот и сейчас послышался звон веселых колокольчиков. Павлик оглянулся и увидел, что Настька смотрит на небольшой выводок утят. Похожие на золотые шарики, они забрались в ручей, а по берегу в панике бегала клуша и на своем курином языке звала их к себе.
Павлику стало жалко клушу. Он проворно подвернул штанины и самоотверженно полез в воду, воинственно размахивая прутом. Утята с писком бросились к клуше. Павлик выбрался на берег, ополоснул ноги, отвернул штанины и, взглянув в сторону Настьки, обмер. Перед Настькой стоял Серега и что-то тихо говорил ей, а она молча слушала. Тут же брызнул дробный, переливчатый звон колокольчиков — Настька так засмеялась, что у Павлика похолодело в груди. Затем он увидел, как Настька шагнула на брошенные через ручей жерди, а Серега побрел рядом с ней прямо по воде, придерживая девочку за руку По ту сторону ручья они с хохотом побежали вверх по склону, который подпирал своим крутым боком широкую сельскую улицу.
Настька и Серега скрылись за поворотом улицы, а Павлик медленно брел им вслед, мысленно убеждая себя в том, что ему наплевать на Настьку, на Серегу и на то, что в смехе Настьки всегда звенят бубенцы.
Под вечер Павлик рубил на дровнике хворост, прислушиваясь, как переговаривались отец и мать. Отец, развесив на плетне рядом с дровником еще не старую свитку из рыжей овечьей шерсти, вылавливал в ее рубцах блох, а мать сидела в хате у открытого окна и ставила на разорванные локти Павликовой рубашки заплаты.
— Сходил бы ты, Платон, в Березну, да починил крышу моей хаты… Сколько тебе талдычить? — В голосе Ганны слышалось легкое раздражение.
— Нужна тебе та хата, как черту лапоть! — Платон Гордеевич ответил резко и зло. — Продала бы ее к лешему!
— А кто купит? Вон сколько хат из-за голода пустует.
— Ну давай на дрова распатроним!
Ганна помолчала, перекусывая нитку, потом со смешком ответила:
— В бороде у тебя гречка цветет, а в голове и на зябь не пахано… У нас же дети подрастают! Настьку вон через пять-шесть годков замуж выдавать. Хата как находка будет.
Удивленный, Павлик распрямился, поискал глазами на подворье Настьку. Но она куда-то запропастилась. Почему-то вспомнился Серега и веселый Настькин смешок с переливами колокольчиков… Изо всех сил размахнувшись топором, Павлик глубоко вогнал его в щербатую колоду, на которой рубили дрова, и пошел в садок. Нестерпимо захотелось незрелого кислого яблока такого, чтоб аж слезы брызнули из глаз.
На краю садка рос молодой грецкий орех. Павлик хорошо помнит тот далекий день, когда они с покойной мамой сажали его. «Это тебе на счастье, Павлик», — сказала тогда мама. И вот орех разросся, раскинул широкую крону. Среди крупной, величавой листвы виднелось множество зеленых шариков, теснившихся на ветвях группками — по три-четыре. Щедро зародил орех в этом году…
Но что это? Павлик увидел, что к ореху был привязан их теленок. А рядом стояла Настька и кормила теленка молодым бурьяном.
— Зачем к ореху привязала? — накинулся на нее Павлик.
— А тебе какое дело? — вызывающе ответила Настька.
— Отвяжи!
— Он всегда здесь привязан.
— Отвяжи! — И Павлик, подхватив валявшийся на тропинке прут, хлестнул им по голым Настькиным ногам.
Охнув, Настька присела, прикрыв ноги юбчонкой, и залилась громким визгливым плачем. А Павлик, не помня себя, еще дважды огрел ее прутом по спине и побежал прочь…
Бесцельно слонялся по вечереющим левадам. Долго стоял над карликовым Монбланом кипящего муравейника, наблюдая, как снуют в разные стороны рыжие самозабвенные трудяги, как тащат, защемив хищными клешненками, сухие прутики, соломинки, комочки глины — строительный материал для дома несметного муравьиного семейства.
Павлик вспомнил, что ему хотелось кислого яблока. Тут же сломал с молодой липы ветку, обшмыгнул с нее листву, прутья, ободрал кору и белую палочку воткнул в середину муравейника. Через минуту палочка будто ожила, стала рыжей от облепивших и яростно кусавших ее муравьев. Выждав немного, Павлик выхватил палочку из муравейника, отряхнул с нее насекомых и с удовольствием стал обсасывать резкую и пахучую муравьиную кислоту, сводившую челюсти.
Мимо прошла с вязанкой дров Христя. Павлик проводил ее любопытствующими глазами. С тех пор как Христя возвратилась из психиатрической больницы и привезла с собой рожденного там мальчишку Степанового первенца, Павлик видел ее не раз. Но не замечал, чтоб Христя чем-либо отличалась от той Христа, какой она была раньше, хотя слышал о ней разные разговоры. Говорили в селе, что Христя стала нелюдимой, что часто жалуется на головные боли и Степану приходится много помогать ей по Хозяйству. Сам же Степан, месяц провалявшись в больнице, вернулся здоровым.
Христя скрылась за поворотом тропинки, а Павлик направился на опушку левад. Надо было посмотреть, садится ли солнце за «стенку» туч или же небо на горизонте чистое, и, значит, завтра будет ясная погода, что имело для его пастушьей жизни немаловажное значение.
Закат обещал завтра ясную погоду. Но что погода?.. Как вернуться домой? Что скажет ему Настька? А мачеха?.. Батько тоже не похвалит. И он тянул время, шатался меж деревьями, кустами, точно как вон те бродяги-шмели. Они, наполняя левады басовитым гудом, несмотря на густеющий зеленый сумрак, продолжали перелетать с цветка на цветок, иногда присаживаясь для отдыха то на сухой прошлогодний листик, то прямо на траву.
Павлик начал охотиться за шмелями. Во рту ведь горчило после муравьиной кислоты. А каждый шмель носил в себе пузырек меду — величиной с вишневую косточку. Стоит лишь хлопнуть картузом по шмелю — и мед твой. Только чадо осторожно разорвать бархатисто-черного бродягу, чтобы не притронуться к оранжевому кончику брюшка, где прячется живучее ядовитое жало.
С присущей его возрасту неразумной хищностью Павлик стал бегать по левадам и бить шмелей. Сладость уже пересилила горечь во рту, но чтобы по-настоящему почувствовать вкус меда, много надо извлечь пузырьков.
И тут случилась беда. Пузырек в последнем шмеле был настолько налитым, что, казалось, притронься к нему пальцами — и он лопнет. В таких случаях все мальчишки выуживают пузырек из брюха кончиком языка. Но осторожность изменила Павлику. Только поднес он разорванного шмеля к высунутому языку, и в тот же миг словно кто-то огрел его по голове кувалдой: страшная боль высекла из глаз искры, а затем заслонила их темной, испятнанной разноцветными мечущимися кругами пеленой. Павлик упал на траву, задохнувшись в истошном крике.
Вскоре он притерпелся к боли, которая хоть и не утихла, но стала ровной и вся сосредоточилась в языке. Казалось, что рот набит горячими углями, и языку из-за них нельзя было пошевелиться. Хоть бы глоток холодной воды, чтобы потушить во рту огонь! И Павлик со всех ног бросился бежать домой. Когда мчался через свой садок, чувствовал, что языку уже тесно во рту. И будь у Павлика насморк, он бы задохнулся.
Подворье тонуло в синих сумерках, но огня в окнах хаты еще не было видно. Вспомнил о Настьке, которая сейчас встретит его враждебно-обиженным взглядом. А батько, а мачеха?.. И, словно в свое оправдание, Павлик попробовал сказать: «А меня ужалил в язык шмель», — но только невнятно и гундосо промычал… Боль и страх толкнули его к двери.
То, что увидел Павлик в хате, заставило его на время забыть о себе. Отец нес из кухни зажженную, без стекла лампу, а у стола обнаженная по пояс сидела на табуретке Настька и всхлипывала, прижав к груди скомканную блузочку. На ее худых, с острыми ключицами плечах обозначились два розовых рубца — следы от ударов прутом. Рядом с Настькой стояла Ганна. На скрип двери Ганна взметнула черные полудужья бровей, строго посмотрела на Павлика и сказала:
— Иди полюбуйся, Павел Платонович, на свою работенку. Есть сила в рученьках, за плуг уже можно браться…
Платон Гордеевич обнес горящую лампу вокруг плечей Настьки, поставил ее на стол и повернулся к порогу. Павлику показалось, что глаза отца стали белыми, а губы, спрятанные в рыжих усах, шевелились. Отец молча снял с гвоздя ремень, взял Павлика за руку и рванул к себе. Страх и стыд сковали тело Павлика. Он хотел сказать в свое оправдание, что нечаянно так сильно ударил Настьку, но из его рта вырвался только жалкий прерывистый вой…
Отец порол остервенело, на полный размах руки. Павлик задохнулся от жгучей боли и будто провалился в кипящую огнем пропасть.
Когда пришел в себя, услышал вопли Настьки и Ганны. Мачеха сильными руками отталкивала отца к кухне, вырывала у него ремень и кричала:
— Взбесился, рыжий черт! Сами подрались, сами помирятся!
— А мне совсем и не больно!.. — вторила ей Настька, выгораживая Павлика. — Я бычка к ореху привязала!..
Почувствовав свободу, Павлик кинулся к двери. Выскочил в сени, ударился в темноте о лестницу, загремев ею, и вылетел на подворье. Всхлипывая, устремился под навес сарая, вскарабкался на самый верх сеновала и, вдыхая в темноте душисто-горькую пыль, замер наедине с раздиравшей его болью, с тяжкой обидой, со злыми мыслями.
Хотелось умереть, чтоб пожалел завтра батько, чтоб мачеха с Настькой наревелись над его гробом…
Через какое-то время услышал, как хлопнула дверь хаты. Возле сарая раздались шаги и покашливание отца. Зашуршало внизу сено.
— Возьми, Павел, свитку, — спокойно сказал отец, и свитка, брошенная им, с шумом упала Павлику на ноги. — Разве так можно? — извиняющимся тоном заговорил батько. — Исполосовал дивчатко… Она и сдачи дать не может, ты же хлопец! Да и меня бы пожалел. Легко, думаешь, видеть, как вы деретесь?
Павлик не откликнулся, и батько, потоптавшись у сарая, вздохнул и вернулся в хату.
Среди ночи Павлик услышал сквозь сон, как тормошит его Настька:
— Вставай скорее! Вставай, Павлик!..
Павлик хотел спросить, что случилось, но не смог: язык все еще был распухшим, хотя боль утихла, и он чуть-чуть шевелился во рту.
— Батька забирают! — сквозь слезы сообщила Настька. — Полна хата милиции!
В предчувствии чего-то ужасного Павлик проворно соскользнул с сеновала и, словно боясь опоздать, побежал по ночному подворью к хате, светившейся всеми окнами. На бегу заметил распахнутые ворота, а у ворот подводу, в которую была впряжена пара коней.
Когда зашел в хату, первым, кого увидел, был милиционер — молодой, розовощекий, опоясанный ремнями. Кобура его нагана была расстегнута, руку он держал рядом, на широком желтом поясе. Милиционер стоял у порога и наблюдал, как Платон Гордеевич помогал Ганне складывать в торбу белье. На топчане сидел Степан и, уткнув глаза в пол, молча курил. В хате были еще какие то люди. Павлик не обратил на них внимания. Испуганный, он отошел от милиционера к окну и уставил растерянные, вопрошающие глаза на батька.
— Ну, Павлик, оставайся за хозяина, — как то виновато, с деланной веселостью сказал отец, посмотрев на него. — Видишь, потребовалсяся…
Степан обронил на пол окурок и, вставая с топчана, наступил на него сапогом.
— Обойдется, — проговорил он. — Тут какое-то недоразумение.
Платон Гордеевич завязал торбу бечевой, начал прощаться — без поцелуев без рукопожатий, будто уходил на день.
— Пришлю адрес, пиши обо всем, что делается дома, — сказал он Павлику.
«Хорошо», — хотел сказать Павлик, но у него получилось гнусавое: «Го-во-во…»
Все посмотрели на Павлика с недоумением, а в глазах Платона Гордеевича метнулась тревога. Заметив испуганное лицо батьки, Павлик быстро достал из ящика стола тетрадь, карандаш и на чистом листе дрожащей рукой написал раскоряченными буквами: «Менi вчора джмiль дав меду в язик», — и после того, как Степан, взяв в руки лист, вслух прочитал написанное, Павлик показал всем красный распухший язык.
В хате невесело засмеялись.
— Ну, прощай, Павлик… До встречи. — Платон Гордеевич окинул хозяйским взглядом хату и направился к порогу.
Не знал он, как и никто не знал, будет ли встреча…
25
— Скажите, гражданин Ярчук, вот вы в свое время донесли властям, что в доме кулачки Оляны Басок собирались подозрительные люди…
— Было такое, — подтвердил Платон Гордеевич, пристально глядя в сухощавое серое лицо следователя, сидевшего против него за столом.
— А по каким делам бродили вы среди ночи возле дома Оляны Басок?
— Голова сельской рады просил посмотреть за покосами гречки.
— Неправда, гражданин Ярчук. Вы отказались тогда выполнить просьбу председателя сельсовета товарища Григоренко.
— Отказался, а потом передумал.
— Передумали?.. Ну, допустим. А как вы узнали, что собравшиеся у Оляны Басок люди — опасные враги советской власти?
Платон Гордеевич в замешательстве пожал плечами, помедлил с ответом, припоминая события той давней ночи. Потом сказал:
— По их поведению догадался. Тот, который приехал на коне, спросил у Оляны, все ли в сборе, и оставил ее караулить на подворье.
— Как же вас не заметили?
— Было темно. Месяц за хмару зашел.
— Вы, конечно, потом видели задержанных?
— Видел, когда привели их в сельсовет.
— Кого из них, когда и где вы встречали раньше?
— Никого не встречал. Незнакомые мне люди.
— А знали вы, что один из задержанных пробрался к нам из-за границы?
— Нет, не знал. Откуда мне знать?
— А как вы думаете, почему эти люди собирались именно в Кохановке?
— Не знаю. Может, они дружки Трифона — Оляниного мужа, который ушел с Петлюрой.
Усталые глаза следователя смотрели в самую душу, и Платон Гордеевич чувствовал себя так, будто в чем-то виноват. Боялся, что следователь заметит это, и терялся еще больше.
«Может, докопались, что я мешок жита утянул с поля?» — мелькнула нелепая мысль.
Следователь будто догадался о состоянии Платона Гордеевича и, пожалев его, уткнул глаза в лежавшую на столе раскрытую папку с бумагами. Спросил, не поднимая головы:
— В царской армии вы в каком чине служили?
— Рядовым.
— За что вас наградили тремя георгиевскими крестами?
— В разведке был, ну и…
— Отличались доблестью и храбростью во имя царя? — Следователь опять стал смотреть в лицо Платона Гордеевича.
— При чем здесь царь?.. Дело солдатское. Приказывали идти в разведку, мы ходили…
— Какая у вас военная подготовка?
— Подготовка? Обыкновенная, солдатская.
— А как же вы согласились взять на себя роль атамана сотни повстанческого отряда? — Следователь цепко держал своими глазами глаза Платона, Гордеевича.
— Что?.. Какого отряда?..
— Хватит, Ярчук! — Легонько хлопнув рукой по столу, следователь невесело и с какой-то снисходительностью засмеялся. — Все нам известно… Вот вам бумага, вот ручка с пером. Пишите: когда, как и от кого вы получили задание о формировании сотни? Укажите фамилии всех завербованных вами. А потом продолжим разговор о мотивах, которые заставили вас выдать собравшихся на совещание главарей. Разумеется, это смягчит вашу вину. Сознаетесь в остальном, советская власть учтет это…
Платону Гордеевичу никак не удавалось осмыслить услышанное. Понял одно: об украденном жите следователю неизвестно. А остальное… И он облегченно засмеялся:
— Не думаю, чтоб был еще один Платон Ярчук на свете, но вы меня с кем-то путаете. Атаман. Сотня. Отряд… Такое и во сне не померещится.
— Гражданин Ярчук! — Следователь досадливо поморщился и поднялся из-за стола. — Негоже вам; старому человеку, корчить из себя дурачка. Дело очень серьезное. Вы не хуже меня знаете, что враги советской власти намеревались этой весной воспользоваться трудностями, вызванными неурожаем, и подбить крестьян на бунты. Вы не последняя спица в этом деле. У нас есть доказательства. Потом мы вам их покажем. А сейчас напишите все как было. Пока не дадите показания, не выйдете из этого кабинета. Напишете — позовете меня через часового.
И следователь ушел, оставив дверь кабинета распахнутой. У двери появился милиционер.
— Гражданин арестованный, пересядьте на диван, — спустя некоторое время приказал милиционер, видя, что Платон Гордеевич не берется за ручку с пером.
Платон послушно поднялся со стула и уселся на мягкий обитый черным дерматином диван…
И потянулись дни и ночи, слитые в единую тусклую боль души, в цепь обжигающих сердце мыслей — трудных, то и дело наталкивавшихся на неразрешимые вопросы. Перебирал в памяти, как вещички в мешке, все запомнившиеся события своей жизни. Думал и о том, чего сам не помнил, но о чем слышал от других… Многовато беды выпало на одну его жизнь. Если взболтать беду с радостями и попробовать на вкус, сладости и не уловишь одна горькая горечь.
Вырос Платон в Кохановке без отца, без матери. Вырос кряжистым, цепким, как дубок среди поля, где ветры не милуют — гнут, ломают, где не щадят ни морозы, ни жаркое, убивающее листву дыхание солнца. Вырос наперекор всем невзгодам.
Еще не было Платона на свете, когда отец его — Гордей Ярчук — ушел в дальние края на заработки, оставив дома жену с двумя детьми в страшной бедности. Вернулся только через три года, больной, изможденный. Три года трудился Гордей на медных рудниках американца Гувера. Заработал там туберкулез и горстку золота.
Пришел домой и взялся за хозяйство. Накопленных денег хватило на то, чтобы подправить хату, купить пару коней и взять в аренду клин земли. Прошел год, другой, и появились в хозяйстве корова, свиньи, ульи с пчелами. Но Гордею этого было мало. Лютая нечеловеческая жадность завладела всеми помыслами молодого хозяйчика. Рубль за рублем копил он деньги, с завистью поглядывал на земли кулаков, на казенные лесные участки. А семья по-прежнему жила впроголодь, на черном с отрубями хлебе и постной картошке. Сам, больной туберкулезом, Гордей не выпивал и кружки молока. Все шло на продажу, на деньги…
Хата Ярчуков была похожа внутри на кузницу: закопченная, пустая. Голые глинобитные стены с иконостасом в углу, непокрытый стол, длинная лавка вдоль стола да жесткие полати меж большой печью и стеной — вот и все, что имелось в хате, если не считать полдюжины огромных чугунов на черном земляном полу, в которых варили для скота картошку и свеклу.
Жена Гордея — маленькая, покорная Авдотья — хлопотала по хозяйству и боязливо оглядывалась на молчаливого, всегда озлобленного мужа. Авдотье казалось, что в глазах Гордея светятся огоньки безумия — хищные, зловещие. То ли Гордей всегда думал о не дающемся в руки богатстве, то ли вспоминал сырой, удушливый мрак рудников американского концессионера, где русские люди, как каторжники, долбили породу по шестнадцати часов без передыху, без воздуха. А сколько их, безвестных тружеников, навечно остались там, в зловонном подземелье?..
Сухой кашель рвал грудь Гордея, и он затравленно смотрел вокруг, точно ужасаясь, что костлявая рука смерти схватит его за горло прежде, чем он успеет еще прочнее поставить на ноги свое хозяйство. В такие минуты Авдотья старалась выпроводить малолетних Олю и Груню к соседям или просто на улицу, а сама забивалась в дальний угол подворья — подальше от глаз Гордея, от его слепой злобы.
Наступила зима после неурожайного года — холодная, голодная. В ту зиму скарлатина унесла обоих детей Ярчуков: Олю и Груню. Тяжелое горе будто Открыло глаза Авдотье, развязало ей язык. Она впервые за совместную жизнь с Гордеем смело выпрямилась перед ним и высказала все, о чем мучительно думала годами: о нечеловеческой жадности Гордея, о бессмысленности их жизни. Упрекнула мужа в смерти детей.
Он выслушал жену и, уронив голову, пошел со двора.
И запил Гордей Ярчук. Пьяный приходил ночью домой и начинал истязать жену, вымещая на ней злобу за все свои неудачи в жизни. Не выдержала Авдотья, пошатнулась умом, перестала узнавать людей, отличать день от ночи.
Соседи, родственники начали совестить Гордея. И хотя Гордей унялся, перестал ходить в корчму, рассудок не возвращался к его жене. Тихая, потерянная, бродила Авдотья по селу и расспрашивала людей, не встречал ли кто ее девчаток — Олю и Груню. Сама печаль выплескивалась из ее темных глаз.
Вскоре Авдотья родила сына. Назвали его Платоном. Вроде осмысленнее начинала смотреть вокруг жена Гордея, когда держала на руках спеленатого крошку. Но это было только временами.
В доме Ярчуков появилась молодая, здоровая девка Килина. Ей поручил Гордей доглядывать за домом, за дитем, за больной Авдотьей, помогать в Хозяйстве. Сам же работал на арендованном клине земли, а зимой ходил на лесозаготовки.
Видя, как растет сын, Гордеи точно заново вернулся к жизни. На его сморщенном лице стала появляться улыбка, чаще звучал в доме его хрипловатый голос.
В летние дни, когда Килина и Гордей были заняты работой, полоумная Авдотья брала двухлетнего Платошу за руку и вела в левады, в поле, в лес. Однажды Авдотья так ушла утром с сыном и к вечеру не вернулась. Гордей бросил свирепый взгляд на Килину, что недосмотрела за ними, и пошел на поиски. Целую ночь бродил он вокруг села, по берегу Бужанки, несколько раз возвращался домой, а жены и сына не было. И только на второй день нашел их в дальних лугах. Авдотья и Платоша спали под стогом сена.
Гордей зверем набросился на жену. И если бы неподалеку случайно не оказались люди, кончилось бы бедой. Впрочем, без беды и не обошлось. Привезли Авдотью домой на подводе.
Скованная параличом, она больше не поднималась.
Гордей распорядился, чтоб жену не кормили. Зачем такой жить на свете? Девка Килина, тая надежду стать хозяйкой в этом доме, ретиво выполняла наказ. Но проходил месяц, другой, а Авдотья лежала на кровати и по-прежнему бессмысленно смотрела в потолок или влажными глазами следила, как возится на полатях маленький Платоша.
Страх пронял Гордея и Килину. Дольше, чем обычно, стали они задерживаться утром и вечером перед иконостасом и усерднее шептать молитвы.
Почти год прожила еще Авдотья. Но чуда здесь никакого не было. И сейчас Платон Гордеевич не смог бы объяснить, как он, трехлетний мальчишка, постиг смысл звериного закона, по которому жила тогда его семья. Постиг незрелым своим умишком и запротестовал. Многие месяцы тайком кормил он мать, таская из чугунов вареную картошку и свеклу, приготовленные для скота.
Потом не стало Авдотьи. Вслед за ней унесла чахотка и Гордея. Остался четырехлетний Платон круглым сиротой на попечении плутоватого дядьки Власа — брата отца.
А когда подрос Платон, пошел внаймы к кулаку Игнату Сологубу, где и испил полную чашу батрацкой судьбы. Потом женился на Марине — такой же беднячке, как сам, — привел в порядок старую отцовскую хату, а вскоре построил новую, у того же Сологуба взял в аренду клок земли.
Шли годы. Позади осталась солдатчина, зарубцевались раны, полученные в Порт-Артуре. Росли дети. А бедность не хотела покидать хату Ярчуков. Чужая земля кормила, как лихая мачеха.
Затем грянула буря Октябрьской революции, озарив жизнь рабочего люда счастьем. Селяне-незаможники обрели свободу, землю и право пользоваться плодами трудов своих. Сбросив тяжесть нужды, распрямился народ и повернулся лицом к солнцу. Сколько раз потом на Украине пытались это солнце заслонить — Центральная рада и гетман Скоропадский, немецкие интервенты и буржуазно-кулацкая Директория, Петлюра и Деникин, белополяки и кулацкие банды. И всегда крестьянская беднота обращала сердце и взоры на север, туда, где великий и бессмертный Ленин, утверждая господство новых начал жизни, ковал будущее Отечества. Слова Ленина долетали в самые глухие украинские села, и тысячи крестьян садились на коней, брали в руки сабли или вилы и шли защищать правду. Платон Ярчук не был среди них последним.
Река времени унесла лихолетье. Наступило затишье на земле. Строилась новая жизнь, приходили новые трудности, но такой беды, какая сейчас свалилась на его старые плечи, Платон еще не видел. Его обвиняли в том, что он враг самому себе, своим детям, своему селу, своим людям, враг той ленинской правде, за-которую готов был перегрызть глотку кулаку Игнату Сологубу.
И теперь заставляют его многие сутки сидеть без сна и впроголодь на этом черном диване… Он уже потерял способность мыслить, ощущать бег времени… Только мучительный гул в голове, нестерпимая боль в пояснице да мокрый огонь, на котором он сидит: черный дерматин дивана был будто раскаленным — это обострился геморрой, и Платон подплывал кровью.
Зачем все это?.. Много было «зачем».
Откуда мог знать Платон Гордеевич, что перед его арестом на этом же диване сидел долгие дни и ночи другой человек, которого обвиняли в еще более тяжких грехах и требовали назвать своих сообщников. Может, и в самом деле тот человек был с черной душой. А может, как и он, Платон, безвинный. Но чтобы прервать пытку — дал показания. Ткнул он нечестным перстом в сердца безвинных людей, в том числе и в сердце Платона.
И вот все сложилось так, что к Платону Ярчуку потянулась умозрительная ниточка от чужаков, задержанных при его же помощи в Кохановке. Чужаки, о поимке которых доложили по инстанции, не успели дать здесь никаких показаний и были немедленно увезены в Киев. А из Киева поступил приказ: смотреть в оба, искать людей, связанных с украинской эмиграцией в Польше, брать на учет всех, кто хоть как-нибудь был причастен к Скоропадскому, Директории, Деникину, Петлюре…
26
Уже скоро неделя, как не спит Платон Гордеевич. Спокойно-властные окрики от распахнутых дверей: «Гражданин, спать не разрешается» заставляли сидеть с открытыми, ничего не видящими глазами. И он сидел, уставив их, померкшие, куда-то в пустоту, и прислушивался к назойливо буравящему писку в ушах, к тупому гулу в голове, к каким-то голосам, вскрикам, отрывочным фразам, витавшим в его утомленном воображении. И ему самому мучительно хотелось кричать — дико, исступленно…
Временами Платон забывался, переставая ощущать самого себя. Вот и сейчас он как бы окунулся в мягкую, сумрачную немоту. Исчез набатный звон в голове, растаяла терзавшая тело боль, а витавшие вокруг голоса улетели куда-то далеко-далеко и полились оттуда протяжной, похожей на стон речью, страшной и непонятной, в которой Платон узнавал свои обжигающие мысли. Как же пришли такие мысли?.. Когда родилась их загадочная стройность и неправдоподобная значительность? Вероятно, потом и в других словах простых, Платоновых, выстраданных его душой… Но смысл этих слов — вот он.
«Ты слышишь меня, Платоне-э?.. Знаю — ты слышишь… Это я говорю мать твоя… Нет, не покойная мать Авдотья. Это земля… Земля говорит, говорит устами поля, обиженного тобой в прошлую осень. Я простила тебя, Платоне. Всякая любящая мать прощает сыну, если у него доброе сердце. А у тебя сердце доброе, Платон…
Ты слышал легенду про белую кровь, которая текла в людских жилах в древние времена? Знаю — ты слышал… Еще за многие тысячи лет до того, как кровь людей стала красной, я не выделяла человека среди всего живого под солнцем и скудно кормила его земными плодами. Но со временем я почувствовала доброту в человеке. А добро всегда рождает добро. Я поселила в сердце человека Мудрость и усыновила его. Стал он Человеком — сыном Земли… Много у меня детей — все племена и народы: белые, желтые, черные… Они твои кровные земные братья. Ты ведь часть мира, как обиженное тобой поле — часть земли. Запомни: ты часть мира, и лишить тебя жизни — значит обокрасть мир, как ты обокрал землю, и это значит поселить в сердце матери бездонную скорбь…
Так слушай меня, Платоне… В семье твоего народа зреет беда. Ваш владыка увидел луч солнца и вообразил, что солнце живет уже в его душе. При мнимом солнце — мнимое тепло… Согревает душу владыки мания-непогрешимости, вскормленная лестью одних и немотой под страхом смерти других. Неспособный объять всю сложность народа, заблудший, непреклонный, он не ведает, что вперемежку с добром сеет зло на твоей земле…
Ты сейчас прикоснешься просветленным умом к моим словам, и, если тебе дано выйти за железные ворота тюрьмы и стать босыми ногами на мою непокрытую камнем твердь, крикни, чтобы услышали все: „Помните: выстреленную пулю вернуть нельзя; помните: убить невинного — значит обеднить мир, посеять человеческую скорбь и хоть клочок земли, но омертвить. Никого пусть не утешает, будто память о человеке в вечности не вечна. Надо знать другое: бессмертна скорбь матери…“».
Чья-то рука притронулась к плечу Платона Гордеевича, и голос утонул в хлынувшем в голову тяжком звоне. Платон с трудом рассмотрел перед собой знакомое лицо Следователя, которое тут же расплылось в желтое, ноздреватое пятно.
— Будете давать показания, гражданин Ярчук? — откуда-то с потолка упали на темя слова, причинив боль.
Платон Гордеевич вяло мотнул головой, чтобы стряхнуть боль, и непослушным языком произнес застрявшую в его ушах странную фразу:
— …Память о человеке в вечности не вечна, но бессмертна скорбь матери…
Потом его куда-то вели, укладывали на что-то приятно-жесткое. Вокруг мелькали пятна заросших лиц. Но ему ни о чем не хотелось думать, и он закрыл глаза, почувствовав, что проваливается в черную мягкую бездну.
Не знал Платон, сколько суток беспробудно спал он. Когда проснулся, услышал говор, смех. Чей-то знакомый голос неторопливо рассказывал:
— Я ей велю: больше двух стаканов на сутки не бери, иначе к весне подохнем. Последние же полмешка муки осталось. А она, ведьма, нагребает больше. Однажды вижу, галушки сварганила. Выматерил ее на всю катушку и меркой стал муку давать. Не помогает. Как ни завяжу мешок, расклюет и еще наберет мучицы. Проследил раз, поволочил за косы и говорю: еще поймаю, совсем косы оборву. А для верности ставлю на муку печать. Какую? Самую натуральную: снимаю штаны и плотно припечатываю муку голым задом. Ну, думаю, хоть и грех творю, но холеру теперь возьмешь… Верно, три дня такую жидкую похлебку варила, что кишки слипались. Ну прямо телячье пойло. А потом вижу — опять галушечки в юшке плавают. Трогала, спрашиваю; муку? Нет — отвечает. Ты же ее опечатал… Бегу в камору, вижу, верно, опечатана мука. Но присматриваюсь… Эге-ге… Печать вроде моя, а герб совсем не мой. Не мой герб!
Голос рассказчика утонул в надсадном хохоте, и Платон открыл глаза. Увидел просторную тюремную камеру и сидевших на деревянных топчанах мужиков с заросшими лицами. Многие оказались знакомыми, были и из соседних сел.
Загремела дверь. Все притихли. Вошли два служителя и принесли хлеб и два бачка — один с супом, второй — с пшенной кашей.
Платону Гордеевичу дали полмиски похлебки и кусочек хлеба.
— Это и все? — спросил он у приземистого краснолицего тюремщика.
— Все, — коротко ответил тот.
…Ночью, когда все спали, к Платону подсел на топчан знакомый из Березны.
— Ярчук, — зашептал он. — Не казни себя. Пиши все, что требуют, иначе не выдержишь. Мы все тоже поначалу упрямились, а потом дали показания.
— Не виноват же я ни в чем.
— А думаешь, мы виноваты?
— Но это смерть.
— Один конец… Хоть без мук.
— А что ж писать? Следователь требует назвать сообщников.
— Разве у тебя нет врагов в селе? Назови всех врагов своих, и точка. Заставляют… А если суд будет, откажешься от показаний.
Через три дня Платона снова повели на допрос. Тот же кабинет, тот же черный диван.
— Ну, будем говорить? — спросил следователь.
— Будем, — решительно ответил Платон. — Сознаюсь во всем, только одна просьба.
— Какая?
— Дочка у меня на хуторе замужем, Югина. Хочу, чтоб в мою хату перебралась с семьей. При ней сынишка мой останется. Боюсь, что мачеха покинет его.
— Садитесь и пишите письмо дочери.
— А отправите?
— Даю слово…
Платон Гордеевич написал короткое письмо Югине, а потом начал писать показания.
На белый лист бумаги ложились корявые строчки, состоящие из слов черной неправды. Платон писал с яростной неистовостью, возбуждая свою небогатую фантазию и с трепетным исступлением выливая злость неизвестно на кого. Вспомнил, что во время петлюровщины в окрестностях Винницы орудовала банда атамана Матюшенко. Хотя и не знал, жив Матюшенко или нет, написал, что недавно встречался с ним в лесу под Кохановкой и получил задание формировать из верных людей боевую сотню.
Но кого же записать в сообщники? Нет, Платон не укажет на людей, которым трудно оправдаться. Уж если брать грех на душу, так бескровный, если чинить из-под палки подлость, так такую, чтоб в нее не поверили, чтобы задумались те, кому надо задуматься, что необоснованное подозрение есть благоразумие трусов.
Но подлость есть подлость. Ничем ее не оправдаешь, ничем не убедишь свое сердце, что поступил правильно, ввергнув в беду безвинных людей. И все-таки другого выхода не нашел. На бумагу легли фамилии людей, которые первыми вступили в колхоз, которые были сейчас в Кохановке опорой новой, возрождающейся жизни. Не должны же поверить; что они враги!
Вошел следователь, уносивший письмо, написанное Платоном Югине. Уселся за стол и сказал Платону Гордеевичу:
— Да, чуть не позабыл: у нас есть сведения, что вы хранили оружие. Об этом тоже напишите.
Платон Гордеевич поднял на него одичалые глаза и болезненно усмехнулся. Впервые подумал о следователе как о плохом человеке, который мерит чужую жизнь, чужие поступки своей психологией. Видимо, все люди, попавшие к нему, в его представлении — заведомые преступники и лжецы. Важно только документально обосновать это…
Еще больше ожесточившись сердцем и испытывая обидное бессилие, дописал в конце листа:
«Сознаюсь также, что хранил самодельное игрушечное оружие, которое у меня изъяла милиция летом 1927 года», — и со злостью поставил размашистую подпись.
27
В тюремной камере нет часов. Нитку времени разматывают здесь толчки сердца заключенного. И тянется эта серая нитка бесконечно долго…
Два года просидел Платон Гордеевич в тюрьме. Случилось за это время немногое. Вскоре после того как дал ложные показания, увидел во время прогулки в тюремном дворе кохановских мужиков, которых он якобы завербовал в боевую сотню повстанческого отряда. Как и другие заключенные, кохановчане, заложив руки за спину, молча ходили по кругу, глядя себе под ноги, на каменную брусчатку.
Платон Гордеевич боялся встретиться с кем-нибудь из них глазами…
Потом опять его вызвали на допрос. Платона удивило спокойствие следователя. Каким-то будничным голосом, без тени укоризны он сказал:
— Что же вы, гражданин Ярчук, безвинных людей в, тюрьму загнали? Лучших колхозников оговорили.
Платон Гордеевич озверел:
— Это вы, гражданин следователь, загнали их! — Голос Платона стал хриплым от бешенства. — Загнали моими руками… И моими руками мне петлю на шею накинули… Чего же не давите?
Следователь снисходительно усмехнулся и неторопливо стал что-то писать на чистом листке бумаги. Потом положил этот лист перед Платоном и сказал:
— Подтвердите, что отказываетесь от прежних показаний.
Не читая написанного, Платон Гордеевич, сдерживая бившую его дрожь, расписался.
…В следующую прогулку он уже не встретил на тюремном дворе своих земляков.
И вот позади два года. За два года — несколько бесплодных допросов и одно письмо из дому. Из письма узнал Платон, что дочка Югина переехала со своей семьей в Кохановку и живет в его хате. Но Ганна с Настькой не вернулись в Березну — ютятся в маленькой комнатке, а Павлик вместе с ними.
Вчера — последний, кажется, разговор со следователем:
— Ярчук, скажите честно, вы что, святой человек? — спросил следователь.
— Если б был святой, на меня б молились…
— Поймите мое положение: два года продержал я вас в тюрьме, а обвинения не подтверждаются. Должен же я чем-нибудь обосновать срок вашего заключения?.. Сознайтесь в чем-нибудь.
— В чем?
— В чем хотите. У каждого человека есть грехи.
Платон Гордеевич подумал, с немым укором посмотрел в усталое, худое лицо следователя и сказал:
— Мешок семенного зерна украл в колхозе. — И рассказал все, как было…
— Подпишитесь…
28
Югина хорошо чувствовала себя «на батьковщине» — в отцовском доме. Выдали ее отсюда замуж в двадцать четвертом, когда исполнилось ей без малого восемнадцать, а вернулась сюда уже с четырьмя сыновьями, но будто в юность свою вернулась.
Может, поэтому старая ярчуковская хата нередко звенела песнями и дружным смехом в долгие зимние вечера, бросая из замерзших окон на заснеженное подворье тусклый свет. Вечерами Югина сидела в большой горнице за швейной машинкой. Хотя ни у кого не училась портняжному мастерству, но умела все шить на себя, на семью. Принимала работу я от соседей за небольшую плату.
Ножная швейная машина стояла близ стола, над которым висела восьмилинейная керосиновая лампа. За столом обычно сидели, делая уроки, Павлик, Наетька и два Югининых школяра — Петрусь и Фома. Младшие ее сыновья — Юра и Тарасик — играли на топчане «в ляльки».
Игната — мужа Югины — по вечерам дома не было. В зимние месяцы он работал на сахарном заводе в ночную смену и возвращался домой только с рассветом.
Иногда выходила из своей комнатки Ганна. Усаживалась с куделью и веретеном на лавку и пряла, наблюдая за происходящим в хате, и временами включалась в общее веселье.
Вечер обычно начинался с какой-нибудь шутки над трехлетним Тарасиком. Тарасик еще не свел счеты с минувшим голодом — у него был очень большой, рахитичный животик, настолько большой, что если спотыкался хлопчик и падал, то с трудом поднимался на ноги. Ходил Тарасик вразвалку, медленно, путаясь в длинной, до пят, сорочке, именуемой суконкой.
Вот и сейчас, будто бочонок, перевалился он через порог — пришел с Фомой из каморы, куда перевели на ночь из-за больших морозов стельную, на последних днях, корову.
— Тарасик, нет там еще телятки? — спросила Югина, останавливая швейную машину.
— Еще нет, — пискляво ответил Тарасик.
— А что корова делает?
— Наелася и сидит.
— Сидит? — Югина уже готова зайтись смехом. — Как же она сидит?
— Сложила лапы и сидит…
— Лапы? У коровы же ноги, а не лапы.
И вся хата сотрясалась от хохота — даже лампа над столом подмаргивала.
Когда утих смех, второклассник Петрусь, сидевший над книжкой, вдруг спросил у Югины:
— Мамо, а правда, что наша земля круглая как яблоко, и на другой стороне живут американцы?
— Правда, — опередила Югину Настька.
— Как же они там ходят? — удивился Петрусь — Как мухи по потолку?.. Вверх ногами?
Настька принялась объяснять Петрусю, но ее перебила Югина. Она вначале засмеялась молодым, звонким смехом, потом сказала.
— Не может быть, чтобы американцы ходили вверх ногами.
— А как же? — не унимался Петрусь.
— Наш кум Галаган, — ответила Югина, — до революции уехал в Америку на заработки. Потом написал оттуда письмо, что служит на фабрике, которая выделывает мужские подтяжки. Так на какого же беса нужны тем американцам подтяжки, если они ходят вверх ногами? Через голову же штаны-то не спадут.
И опять моргает лампа от хохота, наполнившего хату.
Заразительнее всех смеется сама Югина, сверкая ровными белыми зубами и запрокинув голову, на которой венком уложена толстая каштановая коса. Лицо у Югины молодое, с ямочками на щеках, глаза большие, карие, с веселыми искорками-бесенятами.
На минуту в хате воцаряется тишина. Хмурит брови над тетрадкой, решая трудную задачу, Павлик. Впрочем, его в семье уже зовут Павлом — ведь взрослым стал, шестнадцать лет хлопцу стукнуло, седьмой класс заканчивает. Настька тоже выросла… Кажется, недавно была плаксивой девчушкой с двумя косичками за спиной. А сейчас с каким-то снисхождением смотрит на всех глубокими синими глазищами, понимая, что она красивая, умная. Но по-прежнему слышатся в ее смехе серебряные колокольчики, по-прежнему шаловливая она и задиристая…
Мерно стучит швейная машинка. Под этот стук Югина затягивает песню. Голос у нее мягкий и высокий, сдобренный нежными переливами:
Вечiр на дворi, нiч наступаэ, Вийди, дiвчино, сердце бажаэ.Песню подхватывают Петрусь и Фома, затем Юра. Даже Тарасик к месту выговаривает последние слова каждой песенной строки. Хлопчики поют по-девчоночьи тонкими, стенящими голосами, каждый продолжая заниматься своим делом…
Чистеэ небо зiроньки вкрили, Вийди, дiвчино, до мене, мила…Настька бросает на мальчишек насмешливый взгляд. Петрусь перехватывает этот взгляд и, смущенный, умолкает, сразу обеднив песню. Настька, чтобы исправить свою оплошность, начинает тоже петь — с подчеркнуто серьезным видом. Голос у нее чистый, ровный, воркующий, будто у горлинки…
Дай подивитись в яснiї очi, Стан твiй обнята гнучкий дiвочий, Глянути в личко бiле, чудове, На коси довгi, на чорнi брови…Не пел один Павел. Он вообще при Настьке бывал застенчив и немногословен. Не пела и Ганна. Поддергивая одной рукой мочки насаженной на кужиль распушенной конопли, второй рукой она искусно вертела веретено, на которое виток за витком садилась пряжа.
Сумрачно на душе у Ганны. Уже третий год, как арестовали Платона, третий год, как поселилась в доме Югина со своей большой семьей. И Ганна здесь теперь ни гостья, ни хозяйка. Понимала, что надо уходить в Березну, в свою обветшалую, полуразвалившуюся хату. Но легко сказать — уйти. Настька и слышать об этом не хочет: привыкла к Кохановке, подружек завела, да и Павел, видать, сердцем с Ганной и Настькой, хоть и любит сестру Югину и души не чает в ее хлопчиках.
А главное, как в Березне людям в глаза смотреть? И как она там жить будет? Усадьбу обрезали по самое подворье, садок вырубили…
Теплилась надежда, что вернется Платон и все изменится. Не станут же держать старого человека в тюрьме до смерти. Не убил ведь он никого, не зарезал.
В хате уже звучала другая песня — протяжная и грустная, от которой у Ганны перехватывало дыхание:
Та нема гiрш нiкому, Як тiй сиротинi: Нiхто не пригорне При лихий годинi.Казалось, что это сама сиротская душа рыдает, робко выговаривая печальные слова, которые рвут на части сердце…
Та не пригорне батько, Не пригорне мати, Тiльки той пригорне, Що думаэ взяти…Затуманившимися глазами Ганна посмотрела на Настьку. Разве не о Настьке да и о ней самой — Ганне, о ее горькой вдовьей доле плачет песня?.. Но глаза у Настьки сухие. Положив подбородок на кулачок маленькой, будто созданной не для селянского труда руки, Настька чисто и тягуче выговаривала слова, почти не шевеля губами. Песня, кажется, рождалась где-то сама по себе, а все, кто был в хате, затаив дыхание слушали ее.
Ганна перевела взгляд на Павла. О чем он думает, низко склонив голову над книгой? Прячет налившиеся слезой глаза?..
Нет, Павлик о своем думает. Песня как бы отгородила его от всех, и он, не вникая в нее, погрузился в мечтательное забытье.
Осенью приезжал в отпуск сын Андрона Ярчука — Гришка. Закончил Григорий авиационное училище и стал летчиком-истребителем… Павлик видит, как идет Григорий по кохановской улице: в скрипучих, горящих черным огнем хромовых сапогах, в суконном синем костюме — галифе и френче, на голубых петлицах френча сверкают красной эмалью по два квадратика… Лейтенант!.. Слово-то какое… Не наше… Лейтенант… А вокруг трещат плетни, скрипят калитки, хлопают двери — люди спешат поглядеть на Андронова Гришку, который всем уважительно говорит «день добрый» и прикладывает правую руку к фуражке с золотым крабом над блестящим козырьком. Некоторые девчата даже стекла повылавливали лбами в окнах, так глазели на Гришку!
Гриша Ярчук теперь служит на Дальнем Востоке. Летает… Шутка ли: где-то высоко в небе летает Гришка из Кохановки! И фамилия у него Ярчук, как у Павла…
Нет, это не Гриша, это Павел Ярчук сидит за штурвалом стальной птицы. Это у него замирает сердце в упоительном восторге. Каждая клетка тела вопит от дикой радости: Павел ощущает стремительность полета, ощущает покорность машины…
Вот он видит далеко внизу Кохановку в серебряной подкове — излучине Бужанки, узнает знакомые улицы. Вон в садку родная хата, а возле хаты стоит Настька и машет рукой в небо. Павел кладет самолет на крыло и начинает кружить над Кохановкой… Все больше и больше людей высыпает на улицы… Нет, Павел не один в самолете: у него есть помощник — второй пилот. Ему и передает управление, а сам выбирается на крыло машины. Струи воздуха упруго толкают его в грудь, стараясь смахнуть Э крыла, а он все стоит — ждет, пока самолет окажется над площадью у сельсовета. Еще мгновение, и Павел летит вниз, рвет на груди кольцо парашюта и приземляется в центре площади. К нему бегут люди, но никто не узнает его в летном комбинезоне, в шлеме с очками. Он неторопливо снимает шлем, деловито здоровается. Все ахают от изумления. Настька смотрит на него радостными глазами; рядом с ней стоит позеленевший от зависти Серега. Настька кидается к Павлу, берет его за руку и ведет домой. А с подворья спешит навстречу отец…
Мысль об отце возвратила Павла из сказки в знакомую хату. В сознание ворвались баюкавшие тишину грустные слова песни:
Та налетiли гуси З далекого краю, Замутили воду В тихому Дунаю……Плохо спалось в эту ночь Павлу. Все думал о том, что не будет у него счастья в жизни, если не станет он летчиком. Весна не за горами, последняя его школярская весна. Семь классов за спиной — с таким образованием уже принимают в авиационные училища. Одна беда — возраст не позволяет: не хватает одного года, даже меньше чем года. Недавно ему исполнилось шестнадцать, а надо, чтобы к моменту поступления в училище было семнадцать.
Вся надежда на Степана Григоренко. Он же все-таки приходится Павлу двоюродным братом. Неужели не выдаст из сельсовета справку, что ему уже семнадцать?.. Выдаст! Ведь ростом Павел обогнал своих сверстников.
Долго еще не давали Павлу уснуть тревожные мысли и радостные надежды на то, что посчастливится ему вырваться из села в мир своей мечты, в мир далекий и загадочный, ничем не похожий на селянский, с его однообразием, с повторением каждый год одних и тех же тревог, забот, связанных с землей, с хлебом и со многим другим, из чего складывается крестьянское бытие.
А в замерзшие окна стучал шалый ветер. Павел поежился, вспомнив, что ему надо подниматься еще затемно и идти вместе с Настькой через завьюженный, в кружевном инее, лес и через утопающее в снежной мгле поле за пять километров от села — на сахарный завод, где находилась их школа.
29
В одно весеннее утро, когда Павел собирался в школу, Югина позвала его во двор и, оглянувшись по сторонам, тихо сказала:
— Пора, Павел, выживать твою мачеху и Настю из нашей хаты.
— Зачем? — Павел смотрел на сестру с удивлением и скрытой враждебностью.
— Да ты что, маленький? Не видишь, что двум хозяйкам в одном доме и на одном огороде тесно? У них есть своя хата, нехай уходят.
Павел не знал, что ответить на такие слова Югины, и, раздумывая, сосредоточенно смотрел себе под ноги.
— Чего же молчишь? Настьки тебе жалко? Дуралей! Нужна она тебе, как корове зеркало!
— Ничего мне не жалко, — хмуро ответил Павел. — У нас с ней учебники общие… А потом, что тато скажут, когда вернутся домой?
— Тато же мне ясно написали: перебирайся в Кохановку, пусть Павел будет при тебе, а Ганна — как хочет…
— А она не хочет.
— Захочет! Ты только помоги мне. — И веселые глаза Югины лукаво подмигнули.
— В чем помочь?
— Когда Ганна будет спать — тихонько отрежь у нее ножницами кончик косы. Самую малость!..
Павлу показалось, что сестра шутит.
— Для чего?
— Это уж мое дело, — загадочно ответила Югина, и на ее сдобном лице опять мелькнула улыбка.
— Нет, ты скажи!
— Ну… Я советовалась с бабкой Сазонихой. Она поколдует над той косой, и Ганна сама уйдет со двора.
— Да брешет Сазониха! Это же глупости!
— Ну и пусть брешет! Вон осенью у Харитины-лунатички бешеная собака порвала корову, так бабка «побрехала» и вылечила.
— То совсем другое дело, — ответил Павел.
Он был свидетелем, как старая Сазониха врачевала Харитинину корову. Вначале поила ее варевом из царь-зелья, а со временем, когда у коровы появились под языком «щенята» — белые пузырьки, бабка повыдавливала из них несозревших червяков, от которых, как она объяснила, скотина потом и бесится, если проглотит их созревших и проклюнувшихся из пузырьков.
— Да еще и неизвестно, была ли та собака бешеная, — с сомнением заключил Павел.
Заскрипела сенная дверь, и на подворье выскочила уже собравшаяся в школу Настя.
— Павло, ты чего копаешься? — спросила она, держа в одной руке связанные шпагатом книжки и тетради, а второй поправляя на голове платок. Догадавшись, что Павел о чем-то шептался с Югиной, Настя пристально посмотрела на него, досадливо надломив тоненькие черные брови. Потом горделиво зашагала к воротам, за которыми уже топтался, дожидаясь Настю и Павла, долговязый Серега.
Павел кинулся в хату и через минуту уже догонял Серегу и Настю.
— Так не забудь, что я тебе велела! — властно крикнула ему вслед Югина.
Из хаты вышла Ганна. Глядя через ворота на удаляющихся школяров, она неприветливо спросила у Югины:
— Курам давать есть или сама дашь?
— Обойдусь сама, — холодно ответила Югина и направилась через подворье к базу.
Нелады в хате Ярчуков начались давно. Возьмется Югина постирать белье Павла, а Ганна сразу: «Почему ты? Я все-таки мать ему!» Или придут к Насте подружки, садятся в большой горнице за стол и делают уроки, а Югина на кухне выговаривает Ганне: «Своих детей полна хата, а тут еще чужие…»
Не раз приходилось Игнату, мужу Югины, громким басом прикрикивать на женщин:
— А ну, замолкните! Нашли из-за чего цвиринькать!
Игнат — черноусый, краснолицый мужчина со смоляными глазами. Высокий и широкоплечий, с пудовыми кулачищами, он славился в селе своей неторопливостью, бычиной силой и умением при случае в один присест выпить ведро горилки и закусить если не целым поросенком, то сотней соленых огурцов. Отправляясь по каким-нибудь делам далеко от села, Игнат забрасывал себе на спину мешок, в который предварительно насыпал пуд земли, а в руку брал железный лом. «Не могу налегке прогуливаться, виновато оправдывался он, если его за такое чудачество поддевали шуткой. Размашистей шаг с грузом». И забавлялся ломом, как тросточкой.
Когда ранней весной сахарный завод останавливался, Игнат начинал ходить на работу в колхоз и успевал за весну и лето выработать трудодней не меньше, чем иной за целый год.
Игнат обычно неразговорчив, но на недавнем колхозном собрании неожиданно для всех попросил слова и своим выступлением взбаламутил все село.
— Я так, к примеру, думаю, — мучительно подбирая слова, сказал Игнат. — Кто в колхозе работает, как мокрое горит, у того треба к едреной кочерге отрезать по самую хату приусадебный огород!
Собрание неодобрительно зашумело, и Игнат, налившись краской, сердито уставил смоляной взгляд на людей. Потом, не напрягая голоса, прикрикнул так, будто пальнул из пушки:
— А ну, тиша!..
Ошарашенный зал примолк.
— Чего шипите, как гусаки бешеные? Не нравится? Конечно, едрена кочерга, огородишко всегда спасает! Всегда можно сховаться за него, если в колхозе нелады. Не было бы огородов — надеялись бы только на колхоз и работали б в нем как черти! Не позволяли бы одному голове колхозным хлебом распоряжаться! А то некоторые выходят на работу, как на панщину когда-то ходили. Ни колхозники, ни единоличники, а вроде ленивые наймиты!
Дальше говорить Игнату не дали. Бабы подняли такой гвалт, что он вынужден был сесть на свое место. А Югина крикнула ему через весь зал:
— Придешь домой, узнаешь у меня и огород и панщину!
Но дома первой начала разговор Ганна.
— Как же можно так неразумно, Игнат? — с укоризной спросила она. Хата без огорода и садка, что голый человек.
— Рабочие — люди не хуже нас, а живут без огородов! — вяло огрызнулся Игнат.
— Они привычные в каменных мешках жить, — не сдавалась Ганна. — А нам, темным селянам, земелька при хате нужна, чтоб можно было босой ногой на нее ступить и украшать ее, как каждому хочется.
— Так вы же, бабье, половину времени на этих огородах убиваете, а буряки вон стонут под бурьяном!
— А почему бы и вам, мужикам, не выйти бы с тяпкой на буряки? Ганна, видать, приготовилась для долгого разговора, но ее вдруг перебила Югина. Обращаясь к мужу, она со скрытой насмешкой сказала:
— Мало, Игнаге, я грызу тебя своими разговорами. Так выслушивай других. Мужикам всегда пользительно, когда чужие бабы им мозги проветривают.
Затем Югина повернулась к Ганне:
— Ей-богу, Игнат сбежит из семьи, если мы вдвоем будем мылить ему загривок. Есть же у него жена, пусть ее и терпит!..
Ганна, не дослушав Югину, быстро ушла в свою комнатку.
И вот, наконец, распри между двумя хозяйками достигли того открытого накала, когда обеим уже стало невмоготу. И Югина ничего лучшего не придумала — сходила за советом к бабке Сазонихе, заменившей в Кохановке покойную знахарку — Оляну.
У Павла не выходил из головы разговор с Югиной о том, что он должен отрезать клок косы у своей мачехи. Ему было смешно и грустно. Очень хотелось поговорить с Настей, поговорить так, как никогда еще с ней не разговаривал. Сделать же это можно будет только после уроков, по пути домой…
Но, как всегда, за Настей увязался Серега. Только вышли из школы, Серега взял у Насти ее книги и бережно понес вместе со своими.
Павлу стало досадно. Сколько они ходят вместе с Настей в школу, а он ни разу не догадался взять ее книги.
Затвердевшая глинистая тропинка тянулась вдоль заросшего водорослями пруда, простершегося от завода до самого леса. Ученики растянулись по тропинке прерывистой цепочкой. Шли по двое, по трое, болтая кто о чем, толкаясь и смеясь. Нет в ученической жизни более веселого часа, чем время возвращения из школы.
Павел шел сзади Насти и Сереги и все думал, как и когда начать разговор. Его раздражал Серега — длинный, худощавый; из-под его потертых, коротких штанин белели ноги, обутые без носков в разбитые ботинки. На Сереге такой же видавший виды, кургузый пиджачок, полинялая кепочка, с трудом державшаяся на давно не стриженной голове. И что в нем нашла Настя? Лицо у Сереги веснушчатое, нос зимой и летом розовый, с облупившейся кожей, маленькие и хитрые глазки опушены белесыми ресницами. Только и всего, что Серега хлопец отчаянный: храбро лезет в любую драку, не боится даже старшеклассников.
В школе давно заметили привязанность Сереги к Насте. Но над ним не посмеешься — уж очень скоры его кулаки на расправу. Да и Настя не дает повода для насмешек — ко всем мальчишкам относится она одинаково, со снисходительной приветливостью и некоторой горделивостью. Но все-таки наивное и стыдливое ухаживание Сереги ей, видать, было приятно.
Сейчас Серега оживленно рассказывал Насте, с каким риском для собственной жизни пробирался он через заводской пруд по последнему льду.
Павел не стерпел хвастовства Сереги и вмешался в разговор.
— Что ты его слушаешь, Настя? — насмешливо спросил он, хотя ему было совсем не смешно. — Брешет все, лунатик!
Серега никогда и никому не прощал, если дразнили его давно перешедшей к нему от отца кличкой «лунатик». Слова Павла будто ужалили Серегу. Он резко повернулся и побелевшими от злости глазами посмотрел на Павла. Потом спокойно положил на тропинку свои и Настины книжки и, засунув руки в карманы брюк, приблизился к Павлу.
— Ты что обзываешь? — вытянув тонкие губы, угрожающе зашипел Серега. — А ну, забери слова обратно! Не то…
— Не то что?.. — Павел тоже положил свои книжки на землю и посмотрел, далеко ли ушли другие ученики; ему не хотелось драться с Серегой при многих свидетелях: знал, что он наверняка верха не возьмет.
— Не то съезжу сейчас по сусалам. Хоть ты и Настькин родич!
Настя стояла в стороне и с веселым любопытством наблюдала за пареньками.
— Попробуй съезди… — Павел тоже засунул руки в карманы.
— Для начала хватит тебе этого… — Серега, не вынимая рук, ловко, с вывертом выбросив вперед нору, больно ударил Павла ботинком.
И вдруг случилось неожиданное — и для Сереги и для Настьки. Павел с окаменевшим лицом вплотную подошел к своему обидчику и, мгновенно вырвав из карманов брюк сжатые в кулаки руки, снизу вверх ударил Серегу в подбородок. Серега, взвыв от боли, отлетел назад, но тут же опомнился. Через мгновение они вдвоем катались по земле, осыпая друг друга ударами.
Когда Серега, наконец, подмял под себя Павла и остервенело начал бить его головой о тропинку, к дерущимся неожиданно подлетела Настя.
— Перестань! — звонко взвизгнула она и, впившись руками в жесткую шевелюру Сереги, потянула за нее изо всех сил.
Серега закричал, выпустил Павла и стал вырываться из рук Настьки. А Павел будто и ждал этого. Вскочил с земли и снова навалился на своего противника…
Наверное, первый раз в жизни Серега с позором удирал с поля боя, обливаясь слезами, размазывая на лице кровь и исторгая страшные ругательства и угрозы в адрес Павла и Насти.
…Одинокая туча, закрыв солнце, вдруг уронила на землю густые и крупные капли летучего дождя.
— Бежим под дуб! — предложила Настя Павлу.
Черный вековой дуб был облеплен рыжей, жестко звеневшей под ударами капель прошлогодней листвой. Он сбросит мертвую листву только после первого весеннего грома, а затем оденется в новую. А вокруг дуба столпились густые и приземистые кусты боярышника.
Павел и Настька, оба запыхавшиеся, уселись на обнаженном толстом корневище. Настька сорвала в молодой траве листок подорожника и бережно наклеила его на расцарапанный лоб Павла.
— Драчуны несчастные, — заметила с ласковой ворчливостью. — Чего ты сцепился с ним?
Ответа не последовало. Шум прошлогодней листвы над головой утих: туча перенесла дождь на другую сторону пруда. Снова засветило солнце. Но уходить из-под дуба не хотелось. Павел в упор посмотрел на Настю, в ее большие, блестящие, необыкновенно синие глаза и не отвел взгляда. Настя смущенно улыбнулась:
— Чего уставился?
Павел почувствовал, как обожгло его щеки, и опустил глаза. Тихо спросил:
— Настуся, тебе Серега нравится?
— А почему нет? Лентяй он только, учится плохо.
— Ты тоже не отличница.
— Зато ты у нас примерный! — И Настька засмеялась, брызнув звоном серебряных колокольчиков, отчего у Павла что-то теплое шевельнулось в груди.
Разговор не получался, а Павлу столько надо было сказать ей! Но не так это легко — сказать, что он любит… Как потом смотреть в глаза Насте? И почему именно сегодня он должен об этом сказать? И надо ли вообще говорить? Ведь для Насти он настолько привычен, что она его, кажется, и за хлопца не считает, обращается с ним, будто с подружкой.
— Настька, — снова заговорил Павел, — зачем ты ввязалась в нашу драку?
— Боялась, что он тебя побьет сильно.
— Почему боялась?
— Потому что Серега старше и сильнее тебя.
— Только поэтому?
— Что ты меня выспрашиваешь все? — В голосе Насти послышалось притворное раздражение.
— Ты не обижайся… Я тебе должен сказать…
— Что? — Настя притушила в глазах любопытство и насторожилась.
— Скажи, если бы мы жили не в одной хате, ты б стала сегодня бить Серегу?
— Очень мне нужно!
Однако нотки кокетства в голосе, ее смеющиеся глаза не подтверждали слов Насти. И это заставило Павла продолжать разговор.
— Значит, я тебе… не нравлюсь?
Настя обожгла Павла пристальным взглядом, в котором на минутку застыла задумчивость, потом снова зазвенел бубенцами ее смех, и она, вскочив на ноги, потянула Павла за руку:
— Пошли домой! Ишь, разболтался! Да мы еще маленькие, а ты такие разговоры.
— Не притворяйся, Настя, — сдвинув брови, строго проговорил Павел. Я еще ничего не сказал.
— Потом скажешь, Павлик, а то я маме пожалуюсь. Ты же братик мой!
— Боюсь, что скоро станем чужими. Уйдете вы из нашей хаты.
— Почему?! — В глазах Насти мелькнул испуг.
— Ссорятся мама с Югиной все время. — И Павел рассказал Насте, о чем его просила сегодня утром Югина…
Когда шли уже по кохановской улице, Настя вдруг заговорщицки сказала Павлику:
— Пообещай Югине обрезать мамину косу.
— Но я этого не сделаю! — удивился Павел.
— Я сама сделаю.
— Ты?
— Да. Только не косу мамину надрежу, а телячий хвост на колхозном коровнике. Выберу теленка подходящей масти, и пусть потом бабка Сазониха колдует.
И оба весело рассмеялись.
30
Любоваться красотой природы крестьяне особой склонности не имеют. Им все кажется обыкновенным: и восхитительное пробуждение утра со всем богатством красок, разгорающихся при восходе солнца, и весенняя пора, когда вокруг крикливо благоухают в молочном цветении сады, и белесая марь дозревающих хлебов в бескрайних знойных полях… Красота обитаемых и опекаемых крестьянами мест воспринимается ими как нечто само собой разумеющееся, так же как и их тихая, бессловесная, подчас неосознанная радость, которую рождает эта самая земная красота.
Но Степан Григоренко, может, потому, что встречал он на Саратовщине другие восходы, другие весны, видел другие земли, в иных красках, сейчас восторженно смотрел на утопающую в цветущих садах Кохановку, пробудившуюся после голодных лет к новой жизни, на смирную, задумчивую Бужанку, несшую чистые воды меж увенчанных кудрявой зеленью берегов, на ярко-красное, еще не слепящее солнце, которое лениво и величаво выплывало из-за тающего в фиолетовой дымке горизонта.
Сегодня был воскресный день — первый день счастливой праздности после того, как кохановский колхоз закончил весенний сев. И Степан, чуть забрезжил рассвет, вышел с удочками на берег Бужанки. Рыбалка — давняя страсть Степана. Много лет уже не предавался он ей, закруженный вихрем событий и колготными сельсоветскими делами. Да и, по кохановским обычаям, взрослому человеку не приличествует, будто мальчишке, часами сидеть над водой и гипнотизировать глазами поплавки, а тем более самому председателю сельсовета. Но авось не осудят. Люди сейчас добрые — в это тревожно-радостное время ожидания первого майского дождя.
И Степан, нетерпеливыми руками размотав приготовленные вчера снасти и наживив самодельные крючки красным навозным червем, забросил удочки в воду. Присматривался, куда слабый ветерок и тихое течение Бужанки отнесут поплавки, чтобы затем кинуть в речку прикормку — жареный подсолнечный жмых, смешанный с вареной картошкой.
А за рекой, за далекой дымчатой стеной темного леса вставало могучее огненное светило. Степан увидел, как по отраженному в воде небу разлилась нежно-розовая краска, и поднял глаза к солнцу. От редкого ольшаника, росшего на лугу за Бужанкой, легли длинные тени, а сам луг, недавно дремавший под тяжестью седой росы, вспыхнул в широких прогалинах между тенями мириадами блесток, словно вышитая серебром изумрудная скатерть. Степан засмеялся беззвучным счастливым смехом, вздохнул на полную грудь, будто собрался крикнуть, и подумал о том, что обкрадывал себя, не находя возможности часто любоваться юностью дня — вот так, без заботы о каких-то делах.
Вспомнил о поплавках, безжизненно замерших на воде, и потянулся к торбе с прикормкой. Горсть за горстью бросал в речку пахучий жмых, смешанный с картошкой. И новая мысль шевельнула сердце радостью и печалью. Был свеж в памяти голод… А сейчас Степан ради забавы кидает в воду такую, по недавним представлениям, драгоценность!
Худое быстро забывается, как умершая боль. Ожила Кохановка, оправились люди. Вот уже два года, как на трудодень меньше двух килограммов не получали. Теперь бригадирам не приходится осатанело бегать по улицам, стучать палкой в ворота и, надрывая глотку, звать колхозников на работу. Сами идут, потому что появилась надежда: каждый получит заработанное.
Видать, так уже заведено, что все новое рождается в муках. Потому-то и нет ничего выше и святее материнской любви. Эх, такую бы любовь крестьянам к колхозу! А пока любви нет. Есть только желание верить, что прошлые беды — результат недородов и неумелого хозяйничанья.
Но Степан знает: пройдет время, и люди будут диву даваться, как могли раньше в одиночку копаться на своих клочках земли, как могли жить без колхозов, закрепощенные своим небольшим хозяйством, где с рассвета до темна надо гнуть спину в клуне, на скотном базу, в поле, на лугах. И все ради куска хлеба… Сейчас многим кажется, что были то золотые годы, даренные селянам Октябрьской революцией. Но по-настоящему золотое время впереди. Наступит такой час, что если б крестьянину сказали: «Выписывайся из колхоза, бери землю и хозяйничай сам», он бы завопил: «Помилуйте! За какую провинность?!»
Размышления Степана прервало движение поплавка. Коричневая сигара из дубовой коры качнулась, поплыла в сторону и вдруг резко нырнула под воду. Степан сделал удилищем подсечку и с радостью почувствовал на конце лески приятную рвущуюся тяжесть. С непривычки не повел севшего на крючок карася по воде, а выхватил его в воздух, и на молодом солнце сверкнуло живое серебро рыбешки.
Начался тот счастливый клев, при котором в голове — ни одной мысли, только тихий восторг в сердце, напруженность рук и трепетное ожидание, когда поплавок снова окунется в воду.
Нигде так быстро не проходит время, как на рыбалке. Кажется, совсем-совсем недавно была первая поклевка, а солнце поднялось уже высоко, наполнив небо сияющей голубизной и осушив на траве росу. Правда, и в ведре, стоявшем возле Степана, плескалось полтора десятка «япончиков» так называют в Кохановке белого карася.
На тропинке, юлившей по берегу, послышались чьи-то легкие шаги. За спиной Степана они утихли.
«Тося принесла завтрак», — подумал Степан и улыбнулся. Хотелось оглянуться, но сдержал себя. Вспомнил вчерашнюю фразу Христи, брошенную ему мимоходом:
— Скорее б ты состарился, черт полосатый!..
А до этого Христя как-то сказала ему:
— Замечаешь, какими очищами смотрит на тебя Тодоска? Будто ты не батька ей, а кавалер… Ты построже с ней, Степане. Розгой бы отхлестал когда-нибудь.
— За что же розгой? — удивился Степан. — Тося послушна, работящая.
— Тебя она всегда рада слушаться. Вон вчера заштопала твою рубашку мне так не заштопать. А думаешь, я ее заставляла? Сама взялась!..
Степан замечает, что его старшая падчерица Тося, когда он приходит домой и ласково разговаривает с Христей, делается резкой, раздражительной. Хотя и исправно выполняет поручения матери, но с какой-то затаенной злостью. А на его просьбы откликается охотно и будто светлеет вся, Голос ее становится мягко-певучим, каким он был у молодой Христи, а большие серые глаза искрятся радостью и преданностью. И еще заметил Степан, что Тося с материнской нежностью относится к своему братику — четырехлетнему Ванюшке, печется о нем больше, чем сама Христя, а Ванюшка, или Иваньо, как зовет его Тося, отвечает сестре необыкновенной привязанностью. Словно собачонка, неотступно ходит следом за Тосей и по всем своим мальчишечьим делам обращается только к ней.
Вчера вечером, когда готовил снасти для рыбалки, Степан попросил Тосю:
— Сходи, Тоська, в камору за макухой.
— Я вам не дитятко! Тодоской зовите! — сердито ответила Тося. Потом, будто испугавшись своей резкости, мягко спросила: — Много брать макухи?
— Половину плитки, да растолки ее хорошенько.
Тодоске шел уже тринадцатый год. Была она высоконькой, тонколикой, жалко-худощавой. Как ни старалась казаться взрослой, вся еще была в плену детства. Охотно играла с Иваньо в тряпичные куклы, больше забавляясь при этом сама, дралась с младшей сестрой Олей из-за пустяков, лазила на ветлы за грачиными яйцами.
Сейчас Степан, догадываясь, что сзади него стоит именно Тося, притворился, что не слышит ее. Ждал, когда она заговорит первой.
А клев прекратился. Подул мягкий ветерок, взлохматив поверхность воды и закачав поплавки. Степан потянулся к торбе за прикормкой и непроизвольно повернул голову. С удивлением увидел, что за спиной у него была не Тося. В трех шагах, на скате берега, стоял Павлик. В старых полинялых штанах с пузырящимися заплатами на коленках, в ветхой рубашке из синего ситца в белую полоску, соломенном капелюхе, босоногий, он тем не менее выглядел как-то по-взрослому. Может, такой вид придавали Павлу черно-смоляные брови, туго сдвинутые над карими задумчивыми глазами, и смуглое, обветренное лицо с чуть зачерневшим над верхней губой пушком.
— Здравствуй, Степан Прокопович, — солидно поздоровался Павел, встретившись глазами со Степаном.
— Здорово, брательник! — ответил озадаченный Степан. — Ты чего же молчком стоишь? А я думал, мои девчата снеданок принесли.
— Помешать боялся.
— От тата нет вестей?
— Нет. — Павел подавил вздох.
— Не повезло дядьке… — Степан кинул подкормку и, зная, что после этого не будет сразу клева, встал на ноги и начал свертывать цигарку. Раздумчиво заговорил: — Знаешь, Павло, я думаю, что тато твой каких-то дел натворил во время петлюровщины. Иначе не стали б его держать за решеткой.
— А что он мог натворить? Я ничего такого не слышал ни дома, ни от людей.
— Люди могут не знать, а дома не обязательно говорить про это.
— Но Петлюра был на твоей памяти. Сам должен знать.
— Тогда, Павел, такое творилось, что за каждым не усмотреть было.
— Нет, тато не мог быть с Петлюрой. Он за советскую власть сам кому хочешь глотку перегрызет. Об этом я Сталину в Кремль написал.
— Давно? — заинтересовался Степан.
— Еще зимой… Не отвечают.
— Ответят обязательно. Не сразу, конечно; туда много разных писем приходит.
— Степан, мне справка нужна, — без всякой связи с предыдущим разговором сказал Павлик.
— Какая справка?
— Свидетельство о рождении.
— Это можно. Только церковные книги в двадцатом году сгорели, так что справка будет приблизительная. Тебе сколько лет?
— Семнадцать, — не моргнув глазом, соврал Павлик.
— Приходи завтра с утра в сельсовет…
— С утра не могу — экзамены у меня.
— Ну вечером. А зачем тебе справка?
— Хочу в летное училище поступать.
— Военное?
— Угу…
Степан пососал цигарку, глубоко затянулся едучим дымом, поглядел на поплавки. Еще некоторое время помолчал, потом каким-то виноватым тоном сказал:
— Выбрал бы ты себе другую профессию. Иди лучше в строительный техникум.
— Нет, я уже решил.
— Гм… Решил… Тут не все от тебя зависит. В военное училище могут не принять.
— Из-за батьки? — насторожился Павел.
— Да… Там отбор строгий.
— Про это я Сталину тоже написал.
Степан невесело засмеялся и, увидев, как нырнул в воду крайний поплавок, кинулся к удилищам.
Павел собрался уходить. Его остановил неожиданный вопрос Степана:
— А ты как же решил: с мачехой пойдешь или при Югине останешься?
— Куда пойду? — удивился Павел.
— Как куда? Твоя же мачеха продала в Березне свою хату, а купила мою батьковскую. Сегодня туда перебирается…
31
Через минуту Павел не помня себя бежал по узкой тропинке, вихлявшей меж густых зарослей боярышника, калины и бузины, которые толпились вдоль покатого речного берега. Ветви, как зеленые руки, хлестали его по лицу, хватали за плечи, будто хотели остановить и заставить поразмыслить над тем, куда и для чего он спешит. Ведь ничего изменить не удастся — это Павел понимал и сам. Да и надо ли менять?
Но было обидно. Нет, обида — не то слово. Что-то тяжелое и уныло-мрачное сдавило его грудь, заставив сердце подступить к горлу… И оно, сердце, подстреленной куропаткой трепыхалось судорожно, словно захлебываясь от слез, которые душили Павла.
Теперь Павлу было понятно, для чего на прошлой неделе ходила в Березну его мачеха, понятно, о чем шепталась она вчера вечером с Настькой. Но почему все тайком? Он же не враг им. Не скрыл он от Насти то, что Югина велела состричь клок волос из косы мачехи. Потом он и Настя ходили в колхозный коровник и укоротили черному телку хвост… Недавно те волосы Югина принесла от бабки Сазонихи — сожженные, завернутые в календарный листок с цифрой тринадцать. Югина позвала в садок Павла и таинственно сказала:
— Ну вот, заворожила бабка… Велела развеять по подворью и в хате.
Часть заколдованных волос Югина отсыпала в другую бумажку.
— Развей их в комнате мачехи…
Павел озорства ради дал понюхать сожженные волосы соседскому псу, и тот, доверчиво нюхнув, стал так чихать, что Павел и подбежавшая Настя покатывались от хохота.
«Неужели Настя рассказала обо всем маме?» — с обидой и досадой думал Павел, частыми шагами поднимаясь по затравелому косогору от Бужанки к селу.
С улицы посмотрел на свою хату, сверкавшую под солнцем белизной стен, и показалась она ему чужой и жалкой; окна ее, окаймленные темными наличниками, смотрели на мир с унылой грустью. Будто и хата скорбела вместе с Павлом о веселых колокольчиках, которыми больше не будет звенеть здесь смех Насти.
На порог вышла Югина — с веником в руках и с железной заслонкой от печи. На заслонке она несла мусор, выметенный из хаты. Павел понял, что Ганна и Настя уже перебрались.
Увидев Павла, Югина сердито накинулась на него:
— Где ты шляешься? Мачеха все добро покойной матери унесла — полотно, рушники, наперники! Голым тебя оставила!
— Обойдусь, — хмуро буркнул Павел.
— Ишь, добренький какой! Тебе не нужно — мне пригодилось бы. — И Югина, смахнув за плетень мусор, указала глазами на своих младших хлопчиков — Тарасика и Юру, которые играли в сливняке возле старой, обвалившейся сушарки.
— Не надо было отдавать, — ответил Павел.
— Что я, драться с ней буду? За косы таскать?
Вспомнив о косах, Югина вдруг рассмеялась, сверкнув двумя низками ровных мелких зубов:
— А бабка Сазониха помогла!
— Дура твоя бабка!
— Почему же так? Сам видишь. — И Югина с чувством превосходства указала на распахнутую в сенях дверь, которая вела в комнатку, где жили Ганна с Настькой.
— Вижу. — Павел невесело засмеялся. — Телячий хвост Сазониха поджарила, а не косу мамы.
— Как так? — изумилась Югина.
— А так. — И Павел, посмеиваясь, не без мстительного злорадства рассказал, как он вместе с Настей обманул Югину.
Югина смотрела на брата остекленевшими от удивления глазами, не решаясь верить услышанному. Но по лицу Павла поняла, что говорит он правду, и вдруг, бессильно уронив веник и заслонку, глухо громыхнувшую, схватилась руками за живот и будто надломилась. Давно Павел не видел, чтоб сестра так безудержно, почти истерично смеялась. С трудом переводя дыхание и обливаясь слезами, она визгливо хохотала, то запрокидывая голову с толстой тугой косой, уложенной калачом, то наклоняясь вперед. Ямочки на ее порозовевших щеках светились и тоже смеялись — весело и заразительно.
— А чтоб ты пропал! — еле выговорила сквозь хохот Югина.
Павел вдруг увидел Настю. Она куда-то шла улицей мимо подворья гордая и до боли близкая. Даже не посмотрела на хату, где прожила столько лет, не взглянула на Павла. А Югина все хохотала, и Павлу показалось, что она смеется уже над ним, над Настей, и смех этот ранил его.
Когда Настя скрылась за поворотом улицы, Павел выбежал с подворья. Слышал за спиной увядавший хохот Югины и, не чувствуя ног, широко зашагал по нагретой солнцем тропинке, которой только что прошла Настя.
Вышел на угол улицы и увидел Настю недалеко — она только что миновала подворье Кузьмы Лунатика. Ускорил шаг. Вдруг перед ним появился Серега. Он вынырнул из калитки и, запустив руки в карманы, стоял на тропинке, с ухмылкой глядя своими маленькими в белых ресницах глазками на Павла.
Павлу было не до драки. Хотел сказать Сереге что-то примиряющее, но тот неожиданно без всякой воинственности засмеялся.
— Мои тато вернулись, — произнес он голосом, в котором кричала радостью каждая нотка.
И тут же Павел услышал полузабытый голое Кузьмы Лунатика:
— Павлушка! Зайди-ка в хату!
Павел увидел в распахнутом окне знакомое, заросшее до самых глаз иссиня-черной щетиной лицо Кузьмы.
— Письмо тебе от твоего тата, — доверительно шепнул Серега Павлу. Они на строительстве встречались.
И все прежнее отхлынуло от Павла.
Тато!.. Уже сколько лет ни слуху ни духу о нем…
32
«Не укради». «Не солги». «Не обидь младшего». «Не губи птиц». «Не калечь деревьев». «Не сквернословь». «Не бросай камней в чужие окна». «Не дразни соседских собак». Эти и многие другие неписаные заповеди, которым с малых лет учат деревенских мальчишек, несметное количество раз нарушаются ими, прежде чем становятся законом поведения. Нарушаются до тех пор, пока страх перед неизбежным возмездием не укрощает злые мальчишеские порывы или пока не заговорит их созревающая совесть.
С детства и до самой смерти совесть — наиболее строгий судья человека и самый главный сеятель добра в его сердце. Но очень жаль, что совесть часто выступает в роли сеятеля лишь после того, как человек вынудит ее заговорить, представ перед ней обвиняемым.
Тяжело казнился перед своей совестью Платон Гордеевич Ярчук, обокрав осенью тридцать второго колхозное поле. И когда четыре года спустя он сгоряча сознался следователю о похищенном мешке семенного зерна, то полагал, что любое наказание за это будет легче в сравнении с тем, что уже испытало его хлеборобское сердце. Тем более следователь обещал зачесть в срок наказания два года, безвинно просиженных Платоном в тюрьме.
Следователь сдержал свое слово. Зачли гражданину Ярчуку два года… Два года из семи, которые присудили ему за расхищение колхозного имущества.
Вначале Платону Гордеевичу все показалось дурным сном. Семь лет исправительно-трудовых лагерей! Семь лет!.. Вспомнил, что и Кузьма Лунатик схлопотал за воровство такой же срок, и будто ворвался в его сердце снежный вихрь и лопнула там какая-то пружина. Понял, что ничем уже не поможет своей беде. Окончательно изломалась жизнь его — никому не приметная и, кроме Павлика, никому не нужная.
Если б можно было забыться и навсегда перестать ощущать себя… Не дано такое счастье человеку. Все видели глаза Платона, и все запоминало надорванное сердце. Глодала тоска по Павлику, по Кохановке, по земле…
Бесконечно долгий год провел Платон Гордеевич среди пестрой армии заключенных на строительстве Беломорканала. Белый мор… Многое видели там его глаза. Многое испытал сам. Казалось, не хватит сил перенести.
Осматриваясь вокруг, никак не мог избавиться от горького, обманчивого ощущения, будто сюда, в этот угрюмый край лесов и болот, стеклось большинство люда, населяющего державу, что здесь — главнейший центр жизни.
Пожалели старость Платона или смягчил он кого-то своей безропотностью, покорностью — его определили со временем на плотницкую работу, где день за днем сколачивал тачки, делал держаки к лопатам и киркам, строгал топорища, строил бараки, распиливал бревна на доски. Потом назначили Платона Ярчука десятником. Его плотницкая десятка состояла из людей моложе его, но хилых, болезненных, не умеющих толком держать в руках топор или рубанок. Он терпеливо обучал их несложному ремеслу, обучал без доброты в сердце, потому что знал: это истинные враги советской власти. Были в его десятке бывшие петлюровские офицеры, члены троцкистско-зиновьевского антипартийного блока, сынок заводчика, пойманный на вредительстве, священник, осужденный за антисоветские проповеди, ювелир, который с рюкзаком золота пытался улизнуть за границу. Платон почти никогда не вступал в посторонние разговоры со своими подопечными, зная, что уголь, если не жжет, то чернит. Но был требовательным и справедливым в дележке сухарей и махорки.
А ранней весной Платону Гордеевичу объявили, что, «учитывая его преклонный возраст и добросовестную работу», он освобождается из заключения но… без права возвращения в родное село. Даже в область свою была заказана Платону дорога…
В это самое время вербовалась двухтысячная армия из отбывших срок наказания для отправки куда-то на юг Украины, на строительство металлургического комбината.
Ехали в теплушках товарного поезда. Долгими днями лежал Платон на верхних нарах в махорочном чаду и смотрел в крохотное квадратное окошко. Не мог привыкнуть к радостно-пугающей мысли, что он уже не заключенный. Томила обида за перенесенные страх и унижения. Ведь невозместимы эти чувства. Какая бы жизнь ни ждала впереди, все равно сердце будет помнить о боли, которую оно перетерпело. В спор с сердцем часто вступал практичный крестьянский ум Платона. А может, ум спорил с сердцем только для того, чтобы смягчить горечь обиды, просветлить и оправдать трудную судьбу старого Ярчука? Может, и так. Но уж очень вескими были аргументы, которыми успокаивал Платон свое разгневанное и утомленное болью сердце.
«Я что? Зернышко на созревшей ниве! — говорил он сам себе. — Ну, склевал это зернышко воробей, а нива шумит спелым золотом, ждет пахаря…»
Вспомнилось Платону, как возвращался он в Кохановку с врангельского фронта, где недолгое время был повозочным в красном полку. Страшно смотреть было вокруг, будто чудовищная оспа обезобразила лик земли. Исковерканные дороги, взорванные мосты, опрокинутые паровозы и вагоны, обломки вокзальных зданий, груды кирпича на тех местах, где раньше высились водокачки. Земля была измята, изломана, обескровлена войной… А сейчас? Вот уже какие сутки едет он по железной дороге, смотрит на мир, на людей и начинает понимать: неразумно соизмерять свою собственную беду с тем, что делается вокруг. Не только земля обновилась, но и жизнь на ней взяла такой разбег, что плакать хотелось от зависти к каждому человеку, который находился у дела и не был отягощен преклонным возрастом.
На окружной Московской дороге, где эшелон с «беломорцами» стоял полсуток, Платон видел сотни железнодорожных составов с тракторами, сеялками, комбайнами, культиваторами и еще какими-то диковинными машинами и станками. От них волнующе пахло свежей краской и маслом. И думалось Платону о том, что где-то есть заводы, которые день и ночь дымят трубами, грохочут железом; работают там тысячи людей, чтобы успеть насытить эти железнодорожные составы, уносящие в разные концы государства плоды индустрии. Может, вот эти веселые тракторы и неуклюжие комбайны попадут на кохановские поля, может, этим ярко-желтым сеялкам предстоит ронять в нагретую землю золотые струйки зерна там, под говорливым лесом, на том памятном клине, который Платон обесплодил в голодную весну.
Сложная громада — государство. Сколько нужно ему мудрых голов и смелых благородных сердец, чтобы так вот набирало оно силы, обновляя землю и человека!
Под вечер эшелон с «беломорцами» тронулся с места. Медленно уплывало назад двухэтажное задымленное станционное здание, на котором поверх окон виднелись будто вычеканенные на красном полотнище слова, славящие партию большевиков.
И вот он в южном степном городе. Впрочем, город скрывался где-то далеко за дымным частоколом заводских труб. А Платон, как и другие завербовавшиеся, жил в общежитии в северном рабочем поселке. По сто пятьдесят человек в одном беспотолочном бараке, стены и крыша которого сшиты из камышовых матов, слегка промазанных глиной.
Жизнь в бараке не утихала круглые сутки ни на минуту: всегда кто-то спал, кто-то ел, кто-то кого-то искал, слышались говор, песни, ругань. Несколько рядов коек были сдвинуты вплотную, и, чтобы залезть в середину, приходилось «коленковать» через чужие постели, иногда через спящих людей. И только тут можно было жить Платону, потому что от него взяли подписку «о невыезде».
И в первый же день на новом месте нежданно-негаданно встретил Платон Гордеевич земляка — Кузьму Лунатика. Кузьма уезжал домой; ему разрешили выезд в родные места досрочно «за образцовую работу и примерное поведение». Изверившись в почте на Беломорканале, Платон послал с ним письмо Павлу.
Позади — весна, лето, туманная осень. Наступила мокрая зима. Наладилась переписка с Павлом, стали приходить из дому посылки с салом, пряниками и табаком. Платон почувствовал, что вернулось к нему душевное равновесие. Он знал теперь, как живет Кохановка, знал, что Ганна ушла из его хаты, радовался тому, что Павел, закончив семилетку, поступает в летное училище.
Но обвыкнуться на новом месте не мог: все вокруг было для него непонятное и чужое. На необозримой территории вдоль множества железнодорожных путей высились горы кирпича, камня, щебня, леса, конструкций, оборудования. Источали клубы едучей известковой и цементной пыли длинные деревянные навесы. Грохотали на высоких помостах камнедробилки, бетоно- и растворомешалки. В междупутьях и прямо над железнодорожными линиями громоздились уродливые скелеты из оголенного и опалубленного бетона с паутиной арматуры.
Только опытный глаз мог безошибочно угадать во всем этом сплетении камня и железа будущие корпуса цехов, фундаменты доменных печей и коксовых батарей. По ним, будто муравьи в погожий день, непрерывно сновали люди. Одни цепочками носили по трапам с этажа на этаж кирпич, лес, арматуру. Другие катили по настилам тачки с бетоном, раствором. Третьи, почти вися в воздухе, крепили опалубку. Четвертые медлительно плясали в огромных резиновых сапожищах, утрамбовывая свежий бетон. Вверх и вниз двигались бадьи. Сыпались каскады искр электросварки. Казалось, что и само небо приковано к этой вздыбленной, дымящейся и гремящей земле стальной паутиной тросовых растяжек, ниспадавших в сложной беспорядочности с высоких тонких мачт дерриковых кранов.
Платон Гордеевич состоял в плотницкой бригаде и работал по нарядам то на деревообделочном комбинате, то в цехах, уже вступивших в строй. Радовался, что можно было свободно ходить по огромнейшей территории, присматриваться во время нехитрых плотницких поделок к тому, что происходит вокруг, неторопливо размышлять хотя бы над тем, как по-разному живут люди на земле.
Были здесь и такие, как он — пришибленные жизнью. А большинство одержимые духом соревнования. Часто митинговали, брали на себя повышенные обязательства, состязались за первенство, за право попасть на Доску почета. После работы и в выходные дни сидели за книгами, учились политграмоте, спорили о событиях в Испании и Китае. Платон, ощутив ритм новой жизни, стал с изумлением присматриваться к людям. Понял, что большинство из них чувствует себя хозяевами на строительстве и испытывает от этого счастье. А счастливые люди не бывают злыми, и Платон потянулся к ним сердцем, стремясь на всю глубину вникнуть в смысл жизни, которой жил огромный рабочий коллектив. Ведь свершалось вокруг что-то необыкновенно-значительное, и он причастен к этому свершению. Он тоже здесь хозяин, независимый ни от кого, свободный.
Но вскоре он стал бояться своей «свободы»… Случилось это после того, как его однажды послали в механический цех сделать опалубку для фундамента под какой-то станок. Когда зашел во время обеденного перерыва в цех, увидел, что там идет собрание рабочих. Множество людей стояли к нему спиной, сидели на станках, на подоконниках и смотрели в глубину цеха, откуда раздавался звучный, хорошо поставленный голос оратора, заставивший Платона замереть на месте.
— Надо иметь в виду, товарищи, — гремел голос, — что на нашем строительстве больше двух тысяч людей, прибывших с Беломорканала! Много тут и разной нечисти, бежавшей из сел от коллективизации. Враги делают на них ставку! И то, что у нас случаются перебои в работе, неполадки, поломки, аварии, — свидетельство тому, что здесь свили гнездо троцкистско-зиновьевские агенты и фашистские диверсанты! С победами социализма в нашей стране все острее разгорается классовая борьба. Внутренние враги не дремлют, и нам надо смотреть в оба! Мы должны быть бдительными, должны знать, чем дышит каждый человек — от руководителя до разнорабочего, до уборщицы! Чтоб не получилось так, товарищи, как на конном дворе доменстроя, где заведующим работал царский инженер-путеец, к тому же награжденный царским правительством георгиевским крестом. Только бдительность помогла разоблачить этого замаскировавшегося врага!..
Платон Гордеевич ощутил головокружение и вышел на воздух. Долго сидел та скамейке под пожарным щитом, собираясь с мыслями. Ему казалось, что в сердце его опять лопнула какая-то пружинка. Почувствовал себя виноватым перед этими людьми — виноватым, что был на Беломорканале, что в русско-японскую войну отличался храбростью, которую отметили не одним, как инженера-путейца, а целыми тремя георгиевскими крестами. Где-то в его «деле» записано об этих крестах… Как же ему быть? Чем доказать, что троцкисты и зиновьевцы никогда не найдут в нем своего помощника, что нет у него дурных помыслов, нет камня за пазухой?
А может, есть камень? Разве не было черного дивана и двухлетнего тюремного режима, когда день и ночь терзал себя вопросом: «За что?..» Все было. Но бывает и худшее, если человек становится жертвой несчастного случая. Такой случай произошел и с ним. Его приняли за врага и употребили зло против зла. А потом он сознался, что причинил зло колхозному полю, и его опять покарали злом. Однако мера зла должна быть посильной для совести, иначе она может родить новое, самое страшное зло — ненависть, особенно когда у человека не хватает мудрости, если он не умеет отделить озлобившегося, закусившего удила следователя от государства…
Нет у Платона камня за пазухой. Он не хочет быть врагом той жизни, в которой он почувствовал себя человеком, которой живут Павлик, Ганна, Настька, Югина, Степан, вся Кохановка, вся Украина, вся страна… И если в этой жизни не искоренено зло, так потому, что ходят еще по советской земле люди с черными душами — враги, те, которые мечтают отнять у него, Платона, землю, мечтают сделать его рабом, а Павлику закрыть дорогу к его мечтам. Ведь и сам Платон раскрыл вражье гнездо в Оляниной хате. Правда, этому помог случай. А как без случая влезешь в душу к человеку и увидишь светлое у него нутро или черное? Вот и свистит над людскими головами меч правосудия, высматривает, чьи глаза в его стальном блеске сверкнут по-волчьи, чей голос источает змеиный яд… И, видать, нередко меч ошибается, если уж и он, старый человек, боится, что могут попутать давно потухший блеск его, Платона, георгиевских крестов с блеском волчьих глаз…
А может, иначе не должно быть? Может, высочайшая мудрость в том и состоит, что лучше отсечь десять безвинных голов, чем недосмотреть одну волчью? Да, но ведь за каждой безвинной головой стоят дети, жена, братья, сестры! Как им всю жизнь ходить с пулей в груди и клеймом позора на лбу?.. Нет, Платону такие вопросы не под силу. Страшно думать об этом. Страшно и тяжело. Будто в удушливом тумане заблудился он и ожидает, что вот-вот сослепу сорвется в пропасть…
На второй день случилась беда на заводской теплоэлектроцентрали. Вышел из подчинения недавно смонтированный турбогенератор, и его разнесло в щепки. И в первую же ночь после аварии были арестованы главный энергетик завода, начальник ТЭЦ и главный инженер, начальник смены, начальник машинного зала, обер-мастер, машинист и его помощник, несколько электромонтажников и рабочих из тех, кто приехал с Беломорканала и работал на стройке теплоэлектроцентрали.
Узнав об арестах, Платон Гордеевич окончательно потерял покой. Надо было что-то придумать, к кому-то идти и требовать, чтоб перевели его на «черную работу» — бить камень, носить кирпич, копать землю…
После проведенной в раздумьях бессонной ночи встал он совсем разбитый: болела голова, ныло сердце, ломило в пояснице. Записался к врачу и в тот же день попал в лазарет. Пролежал там неделю. А когда выписался и вышел на работу, услышал, что выяснены причины аварии турбогенератора: не сработал автоматический регулятор оборотов турбины при резком снижении нагрузки.
Платон ничего не смыслил в заводской технике. Его интересовало другое: как арестованные? Узнав, что среди части освобожденных были и «беломорцы», несколько успокоился, но ненадолго… Свинцовым градом стали обрушиваться новые события, от которых в душе будто сгущалась колодная темнота.
…Стоял сумрачный январский день тридцать седьмого года. Снега почти не было на прихваченной морозцем земле. Дул не сильный, но какой то тусклый и мокрый ветер, от которого Платон Гордеевич не только зяб, а и остро чувствовал свою покинутость, хотя вокруг копошились десятки людей, одетых, как и он, в стеганые, видавшие виды бушлаты. Разгружали с железнодорожных платформ упакованное в деревянные ящики оборудование. Платон тут же разбивал ящики. Под его ломом зло визжали, вылезая из гнезд, гвозди, лениво скрежетали доски.
К Платону Гордеевичу подошел прораб Мамчур — статный пожилой мужчина с седыми висками и моложавым, хотя и морщинистым, лицом. Платон относился к нему с уважением за внутреннюю собранность, которая чувствовалась в его спокойном обращении с людьми, в умении одним словом заставить человека проникнуться нужной ему мыслью.
— Ярчук, надо сколотить трибуну на поле у барака постройкома. Срочно! — сказал Мамчур.
— Какую трибуну? — удивился Платон Гордеевич.
— Узнаете на месте. Будет общезаводской митинг.
По горячечному и быстрому взгляду Мамчура Платон Гордеевич понял; произошло что-то необычное. Не удержался и спросил, притушив тревогу в голосе:
— Случилось что?
Прораб оглянулся по сторонам и коротко ответил:
— Ночью опять пересажали многих…
Перед бараком постройкома толпились уже тысячи взбудораженных людей, когда Платон Гордеевич с двумя другими плотниками закончили сколачивать из досок временную трибуну.
Затерявшись в толпе, Платон остался на митинге. Наблюдал, как выходили на трибуну незнакомые ему люди — озабоченные, углубленные в какие-то трудные мысли. Прислушивался к рабочим.
— Главного начальства что-то не видать, — проговорил молодой парень в стеганке, указывая глазами на трибуну. Потом обратился к другому парню: А тот очкарик — кто?
— Председатель постройкома профсоюза, — услышал Платон Гордеевич ответ.
— А в каракуле что за птаха?
— Секретарь горкома партии.
— А почему главного инженера нет?
— Главный загремел ночью в НКВД…
Председатель постройкома прокашлялся и, сдерживая волнение, начал митинг прямо с доклада. Платон всматривался в его полное, раскрасневшееся на ветру лицо, которому роговые очки придавали благообразие и степенность, вслушивался в гневные слова и чувствовал, что сам наливается гневом. Свой недавний страх показался ему мелким и смешным. Председатель постройкома сообщил, что на заводе благодаря бдительности преданных людей разоблачена группа троцкистско-зиновьевских отщепенцев, злобных врагов народа, занимавшихся вредительством и шпионажем. Среди обезвреженных врагов главный инженер завода, секретарь парткома, начальник механомонтажа, многие заместители начальников цехов и управлений. Все новые и новые фамилии называл докладчик. Ветер подхватывал его окрепший, гневный голос и швырял в застывшее на огромном поле многолюдье.
Потом на трибуну выходили другие ораторы. С ненавистью клеймили они позором презренных врагов и призывали множить бдительность. Некоторые здесь же выступали с разоблачениями.
— В позапрошлую смену, — гневно заявил низкорослый в бараньем треухе мужчина, — мастер Середа не дал мне бетона! Я еще тогда подумал, что это подозрительно. А вчера узнал, что Середа скрывает свое родство с махновцем, за которым замужем его двоюродная сестра!
— Электромонтажник Цвиркун при поступлении на работу скрыл, что его батька был церковным старостой! — сообщил второй оратор.
Третий говорил о бывшем своем товарище, родители которого лишались избирательных прав за саботаж во время коллективизации.
Выступали еще и еще… Призывали… Разоблачали… Платон оглядывался на рабочих и видел, какой ненавистью пылают лица молодых парней. Выросшие после революции, они только слышали и читали в книгах о врагах, пытавшихся задушить советскую власть. И вдруг узнать, что враги были рядом, здоровались с ними за руку, учили работать на станке, ценили их труд, хвалили за первую удачу… Нелегко узнать такое. Будто беспечно пройти босиком по тропе, а потом оглянуться и увидеть, что она кишит змеями… Если б ненависть имела голос, ее трубный возмущенный клич заглушил бы сейчас все другие звуки жизни.
И иное примечал старый Платон. Угадывал душевную сумятицу на многих лицах. Видел страх. Люди с опаской ворошили свою память, копались в прошлом, прикидывали, нет ли у них за спиной чего-либо такого, что может бросить тень подозрения. Ведь, оказывается, надо так мало: «Дальний родич — махновец»… «Отца избирали церковным старостой»… «Родители не хотели идти в колхоз»…
После митинга молча ломали трибуну. Тих и задумчив был Платон Гордеевич. Отвалив ломом перила, вытер рукавом взмокший лоб и посмотрел на серый обезлюдевший пустырь. Увидел, как к недалекой груде железного лома, где цвиринькали, прыгая и перелетая с места на место, воробьи, подкрадывалась лохматая бездомная кошка. С любопытством притих на месте. Воробьи заметили кошку и дружной стайкой, как брызги из лужи, вспорхнули на провода. Кошка, прикипев к земле, проводила их зеленым хищным взглядом.
«Крылья б тебе, зверюке, досталось бы тогда воробьям», — невесело подумал Платон. И хмыкнул: «Во сне кошки небось часто видят себя летающими»… А на душе — гнетущее чувство.
Снова взялся за работу. Почему-то вспомнилось лето. Возле здания заводоуправления он тайком сорвал с клумбы белую чайную розу. Дивясь новизне и тонкости ее аромата, полюбовался на нежные лепестки и вдруг увидел среди них черного паука, глодавшего букашку… Вот так и в жизни: кругом свет и солнце, а черные пауки вьют себе гнезда в самых неожиданных местах.
И опять стал размышлять о митинге, о разоблаченных врагах. Но почему так ломит душу? Вроде его, Платона, опоили отравой. Почему мнятся ему лица рабочих, на которых был написан страх? Чудилось даже, что и ветер, скуливший сейчас над головой в проводах, был пропитан этим людским страхом. И неподатливый гул трибуны под ударами лома тоже навевал что-то тревожное, будто предупреждал о грядущей беде.
И Платон Гордеевич вдруг подумал, что и у него был написан на лице страх. Ему и сейчас страшно, хотя вины ни перед совестью, ни перед людьми никакой… Нет вины, но были георгиевские кресты; есть в его показаниях дурацкая фраза — плод злого отчаяния — о том, что хранил он оружие. А эта история с задержанными в хате Оляны людьми? Не за себя он боится: боится за Павла, за его завтрашний день, за будущее внуков.
Представил себе, что не он, а Павлик стоял сегодня на митинге в толпе рабочих, а на трибуну вышел… прораб Мамчур. Почему Мамчур?.. Вышел Мамчур и сказал, что Павел Ярчук — сын… Да, не ангела сын Павел…
Мысли Платона прервал его напарник — краснодеревщик из Полтавы, рослый, с проворными руками дядька.
— Может, зря ломаем? — подавленно спросил он, отрывая доску настила трибуны.
— Болячка тебе на язык! — со злостью и тревогой ругнулся Платон.
Краснодеревщик уставил на Платона снисходительно-насмешливый и какой-то болезненный взгляд. Помолчал, потом доверительно заговорил:
— Братуха мне с Подолии написал, с Кордышивки — есть под Винницей такое село.
— Слышал. — Платон удивился, впервые узнав, что полтавский краснодеревщик — его земляк. — В Вороновицком районе Кордышивка.
— Небольшое село, а мужиков под репрессию подвели — каждого десятого.
— Густо посолили, — мотнул головой Платон.
— Добре, если на этом завяжут, — продолжал краснодеревщик. — Вчера я толковал с одним ученым человеком из лагеря заключенных — родич моей жинки, на воле профессором служил. Так говорил он, будто аресты нужны каждой власти, как прививка страха народу. Чтоб люди начальства боялись и не смели пикнуть, если не по нраву что придется.
— Дурак твой профессор! — Платон достал из кармана кисет и с каким-то ожесточением стал завертывать цигарку. — У нас власть какая? Советская! А кто она? В сельсовете сидит мой племяш, в Виннице кооперацией ворочает тоже мой родич. Цари русские, чтоб держать людей в страхе, войско специальное держали, казаков. А теперь в армии что ни командир, то вчерашний хлебороб. Понимаешь? У мужика в руках оружие! И у рабочего, конечно. Сам нарком обороны — простой рабочий. Так кого же нам с тобой надо бояться? Верно, советская власть чинит насилие. Хочешь не хочешь, а заставляет всех учиться, чтобы темными дураками не были. Законом требует не ломать шапки перед начальством, не нести курицу и червонец доктору, когда идешь в больницу, требует тащить в милицию спекулянта, который хочет содрать с тебя шкуру. Ты имеешь что-нибудь против такого насилия? Я тоже не имею! Конечно, требовательная власть. Заставляет, чтобы колхозы покупали машины, чтоб проводили электричество, чтоб зерно бросали в землю, как наука велит. Одним словом — дурак твой профессор! Правильно сделали, что упрятали его в лагерь. Видать, много еще таких, как он, смердят на воле. Вот и перетряхивают все, очищают землю.
— А зачем же с тебя, такого умного и святого, взяли подписку о невыезде? — Краснодеревщик уставил на Платона колючие зеленые глаза.
— Значит, заслужил!
— То-то я вижу, очень ты доволен.
— Доволен не доволен, а ковать новую жизнь — не франзольку с салом жевать. Шутка ли: отняли у толстобрюхих земельку, разные там фабрики, золотишко. Не все же они утекли за границу. Притаились, ждут, что, может, прилетит царский орел. И небось не все сложа руки ждут. Тут есть над чем пошевелить мозгами.
— По-хозяйски треба шевелить, чтобы мозга с мозгой не схлестнулась, примирительно сказал краснодеревщик, соглашаясь, видимо, со словами Платона.
— Это другой разговор. Даже больше тебе скажу. — Платон помедлил, оценивающе посмотрел на краснодеревщика и после некоторого колебания продолжал: — Чтоб к уму была еще чистая совесть… И мудрое сердце чтоб было. А то я встречал одного следователя… Одним словом, не дай бог, чтоб в НКВД затесались люди вроде твоего профессора.
— Собачий он, а не мой! — обозлился краснодеревщик. — Боюсь, что из-за таких опять трибуна потребуется…
Когда Платон Гордеевич пришел на строительную площадку, где работали «беломорцы», прораб Мамчур хмуро спросил у него:
— Сломали трибуну?
— Сломали, — устало ответил Платон, — но есть догадка, что трибуна еще понадобится…
— Кто его знает, все может быть… — раздумчиво произнес Мамчур и вдруг умолк, точно споткнулся. Платон, чувствуя в сердце давящий холодок, вопрошающе смотрел в непроницаемое лицо Мамчура.
— Да-а… — Прораб сокрушенно мотнул головой. — Черт те что делается! Лучших специалистов сажают. — И опять испуганно осекся, уставив испытующий взгляд на Платона Гордеевича.
Платон потупился, давая понять, что ничего предосудительного не усмотрел в словах прораба, даже улыбнулся, но, видать, сделал это нелепо. Когда поднял глаза на Мамчура, увидел, как по его сморщенному лицу разлилась бледность.
В конце строительной площадки замаячила в брезентовом дождевике фигура инженера, и Мамчур, еще раз опалив Платона Гордеевича настороженным взглядом, побежал туда.
Утро клубилось в туманной зыбкой измороси. Пока Платон Гордеевич дошел до строительства, ботинки его промокли насквозь, пропитался сыростью бушлат, и сам он продрог до костей. А впереди — длинный рабочий день. Хорошо, если прораб пошлет в какой-нибудь цех, в тепло.
Мамчур будто догадался о желании плотника Ярчука.
— Пойдете на склад лесоматериалов грузить доски, — сказал он Платону во время распределения заданий. И мягко добавил: — Работа легкая и в затишку.
Платон Гордеевич с удивлением посмотрел в серое лицо прораба, заметил налившиеся мешки под его воспаленными глазами и вздохнул.
А когда с группой рабочих направлялся на склад лесоматериалов, Мамчур окликнул его.
— Платон Гордеевич, — глядя себе под ноги, заговорил прораб. — Я там подписал ходатайство, чтоб вам отменили ограничение выезда… Почаще заглядывайте в лазарет, это возьмут тоже в расчет.
— Спасибо… — только и нашел что сказать Платон, ибо ни одно слово не могло вместить в себя тех чувств, которые ворвались сейчас в его сердце.
Прораб Мамчур это хорошо понял…
33
Ой, как стыдно Насте писать хлопцу письмо. Правда, Павел ей вроде и не чужой, но уже и не родич. Странно, не родич, но стал роднее. И писать ему надо такое… Зачем он задает ей вопросы, на которые она уже ответила. Не совсем прямо ответила, но он же не дурачок, все понял…
Настя сидит за столом у маленького окна с черной от древности и частой протирки керосином рамой, за тем самым столом в бывшей Степановой хате, где четыре года назад сидели таинственные гости Оляны. Вспоминает Настя прошлую осень, когда Павел каждый день бегал на село встречать почтальона, надеясь, что тот несет ему вызов на экзамены в летное училище. В один из таких дней она тоже пошла за село, в лес по дрова пошла. А чтоб Павел чего не подумал — захватила для вязки дров толстую веревку.
Увидела Павла сидевшим на каменном жернове у старой полуразвалившейся ветряной мельницы. Он неотрывно глядел на убегающую к местечку Воронцовка скучную от безлюдья дорогу и будто прислушивался, как над головой дремотно поскрипывал ветряк, подняв в небо скелеты двух уцелевших и уже не подвластных ветру крыльев.
Заметив Настю, Павел смущенно заулыбался. Ему, видать, не хотелось, чтоб Настя знала, с каким томительным нетерпением ждал он вызова в училище. Но от Насти трудно что-либо утаить.
— Почтаря ждешь? — с безжалостной насмешкой спросила она.
— Да… От батьки давно вестей не было.
— А почтарь дома. Картошку на огороде копает.
— Серьезно?.. Знал бы — сам слетал на почту.
— Пойдем, летун, лучше в лес по дрова. Ночью бушевал такой ветрюган! Полно сушняка навалил.
— Пойдем! — с нескрываемой радостью согласился Павел.
Лес действительно выглядел необычно. Под ногами — много сушняка и перемолотой листвы. Казалось, что деревья ожесточенно передрались между собой. Искалеченная листва была особенно заметна на тропинках и дорогах, не заросших травой и бурьяном. Оббитая ветром, она уже начала увядать, и от этого в лесу стоял густой дурманящий аромат, напоминавший банную парную с березовыми вениками.
Они прошли по тощему скрипучему мостку, вросшему в берега узкого рыжего ручейка-жабокрячки, поднялись в сосняк и, глядя себе под ноги, зашагали по усыпанной хвоей тропе. Павел спросил у нее:
— Если возьмут меня в училище, будешь ждать?
— Кого ждать? — Она притворилась, что не поняла.
— Меня.
— А зачем тебя ждать? Захочешь — приедешь.
— Замуж не выскочишь?
— Придет время — будет видно. А тебе сколько учиться?
— Три года.
— Ого!..
— Если любишь — дождешься.
— И не стыдно тебе женихаться так рано?
— Мне уже скоро семнадцать будет.
— А мне только шестнадцать.
— Настя… — Павел остановился, взял ее за руку. Она не отняла руки, а только пугливо оглянулась по сторонам: по лесу бродили женщины, собирая сушняк.
— Что, Павел? — глянула ему в глаза открыто, со смешинкой, хотя смеяться не хотелось. Сердце насторожилось оттого, что Павлик мог сказать какие-то страшные слова… Но он сказал не страшные:
— Если ты выйдешь замуж за Серегу, я приеду и убью тебя.
— Тю-у… — Ей стало смешно. — Лучше не уезжай никуда.
— Надо. Потом я вернусь и заберу тебя с собой.
— Так меня мама и отпустит.
— Отпустит. Ты только жди меня.
— Тебя дождешься. Уедешь, и поминай как звали.
— Ты не веришь?
Насте даже стыдно вспоминать, что было потом. Павел неожиданно обнял ее и поцеловал. Первый раз в жизни поцеловал. И так неожиданно! Она даже не успела отпихнуть его, отвернуться. А рядом послышался треск сухой ветки: на тропинку вышла с вязанкой дров Харитина, мать Сереги. Может, Харитина и не видела ничего, но Настя от стыда и страха вскрикнула и кинулась в густой подлесок, побежала сквозь кусты прямо к полю. Побежала так быстро, что Павел догнал ее только у села…
А вчера днем Настя получила от Павла письмо. Принес его не почтальон, а Иван Никитич — ее первый учитель, Прошу. Уж лучше бы почтальон. Она не знала, куда деть глаза, когда Прошу положил на стол конверт. А мама, как маленькая, сразу и пристала:
— Читай, что там пишет наш Павлик.
Хорошо, что Иван Никитич вмешался:
— Письмо адресовано Насте, пусть прочтет его сама.
Потом стал корить Настю, что бросила школу, стал выспрашивать причины. Настя не смела сказать ему правду. Да и как сказать о себе плохое? Не любит она долго ломать голову над книгами, над задачами. А быть в классе отстающей — значит быть хуже всех девчат, хотя она красивее многих. Но разве понимают это в школе? Вон Поля Заволока такая страшнющая, что на нее даже собаки не гавкают — боятся. Но учится на «отлично», и хлопцы табуном за Полей бегают. Настя же только Павла и Серегу присушила… Павел теперь далеко, а Серега — срамота одна: веснушчатый как сорочье яйцо, да и он после семилетки дома остался. Но Прошу этого не объяснишь.
В разговор вмешалась мама. Она показала учителю на старый ткацкий станок, оставшийся в хате после смерти Григоренчихи, и ответила за Настю:
— Вот ее школа. Научится — будет иметь хлеб на всю жизнь.
Иван Никитич засмеялся и, словно на уроке, начал говорить, что ручной ткацкий станок скоро понадобится только для музея. Пройдет, мол, время, появится в лавках много мануфактуры, люди заживут лучше, и никто не станет носить одежду из домотканого полотна.
Так Настя ему и поверила! Полотно всегда будет нужно — на скатерти, на рядна, на рушники. А разве кто-нибудь из мужиков выйдет в поле в штанах фабричной выработки? Да никогда в жизни! Полотно прочнее и дешевле: для того и сеют на каждом огороде коноплю.
Когда Прошу ушел, Настя выбежала на подворье и, спрятавшись под поветью, прочитала письмо. Потом долго боялась вернуться в хату расспросов мамы боялась. А мама все равно расспрашивала. Но разве скажешь маме о том, что пишет Павлик?.. Отмолчалась. А мама будто сама прочла письмо, хотя Настя спрятала его под блузку. Вначале похвалила Павла:
— Доброе у него сердце, мягкое. С таким век проживешь и горя не узнаешь…
А потом:
— Ой, как жалко, что Павло — отрезанный ломоть. Пока не отвыкнет от села — будет писать. Сердцем-то он еще тут. А притрется к городу — забудет про все. Выучится на летчика, и сельская дивчина ему уже не пара… Как же иначе? Разве мало в городе славных девчат?
Нет, не верит Настя маме. Павел не такой. Никогда он не обманет Настю, не отступится от своих слов. Все мамы такие: боятся того, чего не надо бояться.
А она, Настя, тоже хороша. Чего дичилась? Зачем притворялась перед Павликом, что он ей безразличен?.. Легко было притворяться, когда он всегда находился рядом. А сейчас она ждет не дождется, чтоб сгинул снег, чтоб пойти в лес да хоть постоять на том милом мосточке через ручеек-жабокрячку, по которому они проходили с Павлом, посмотреть на то место, где он поцеловал ее… Как хорошо, что у людей есть память. Настя все помнит: и как Павлик побил ее однажды, и как пасли они коров, и как в школу ходили. А Серегу кто за чуб таскал?.. Она!.. За Павлика своего заступилась…
Теперь Настя не будет хитрить. Вот возьмет сейчас и напишет ему всю-всю правду. Напишет, что думает о нем каждую минуточку и будет ждать его, «как соловей лета»… Пусть он только учится и не тревожится ни о чем. Она умеет ждать…
Бывают же такие дни! На утреннем осмотре, когда учебная эскадрилья замерла в двухшеренговом строю среди казармы, сам старшина — вышколенный служака — поставил всем в пример курсанта Ярчука за образцовый внешний вид. А днем Павел получил письмо от Насти. Такое письмо!.. Никогда же Настя его не целовала, а в письме, в самом низу клетчатой страницы, написала: «Целую тебя, мой любимый Павлушко, и жду ответа, как соловей лета». И двух голубков в васильковом веночке нарисовала. Голубки смешные, похожие на ворон, но Павел был счастлив. Настолько счастлив, что не мог ни о чем думать, кроме как о Насте и о ее письме. Лежало письмо в нагрудном кармане, и он каждую минуту бережно притрагивался к нему рукой.
Знал бы старшина эскадрильи, чем занимался в часы самоподготовки примерный курсант Ярчук!
Огромный и светлый учебный класс, уставленный маленькими столами. Над каждым столом склонилась стриженая голова. Курсанты самостоятельно изучали «Дисциплинарный устав Красной Армии», вели записи. Старательно что-то писал на тетрадном листе Павел. Письмо Насте писал. Иногда поднимал голову, смотрел со счастливой мечтательностью в окно, из которого виднелись в синей дымке громады далеких Кавказских гор. Насте и не снились такие горы. И он рассказывал в письме о них. Писал, что шел вчера в строю на стрельбище и глядел на горы. И казалось ему, что горы тоже двигались в ногу со строем… Смотрел Павел на белые портьеры из тяжелого шелка, спадавшие по бокам окна к самому полу. Настя никогда не видела таких портьер, да и слова такого не слышала. И о портьерах писал… Жаль, что нельзя ничего сообщить о полетах, о прыжках с парашютом. Не летал, не прыгал еще Павел, а самолеты видел только издали. Но придет время — все будет: и полеты и прыжки. Зато форму он носит настоящую летную. На суконной гимнастерке голубые, как утреннее небо, петлицы, а в петлицах серебряные пропеллеры. А сапоги такие, что на десяток лет хватило б в школу ходить. Да что говорить! Пришлет Павел Насте фотокарточку. Получает же он в месяц сорок рублей «денежного содержания». Уже пролетело больше двух месяцев, как Павел в летном училище. Вот и лежат в его кармане восемьдесят рублей нетронутыми. А зачем курсанту тратить деньги, если он на всем готовом? Мало ли что можно купить в военторговском ларьке! Но через месяц разрешат увольнение в город по выходным дням, тогда Павел раскошелится. Сфотографируется в полный рост! Настя тоже должна сфотографироваться и прислать ему карточку. Почти все курсанты носят при себе карточки девчат, а он нет. Настя же не дарила ему карточки…
Длинное письмо у Павла получилось. За два часа «самоподготовки» многое можно написать — про горы, про портьеры, о полученной благодарности, о том, что к завтраку и ужину курсантам дают белый хлеб с маслом. Но это — между прочим. Главное: Павел рассказывает Насте в письме, как они заживут, когда окончит он училище. Его, конечно, пошлют на Дальний Восток. Всех лучших летчиков туда посылают. Поедет с ним и Настя, увидит новые земли, новых людей. И всегда она будет с ним, с Павлом, который не мыслит себе иной жизни, кроме трудной и опасной жизни военного летчика.
Кажется, написал обо всем. Прежде чем запечатать конверт, снова перечитал письмо, выискивая грамматические ошибки. Трудная наука грамматика. Однако теперь все трудности Павлу нипочем…
Бег его светлых, праздничных мыслей прервало требовательное дребезжание электрического звонка, донесшегося из коридора. В классе заскрипели стулья, зашуршали бумаги. Павел торопливо заклеил и надписал конверт. Раздалась зычная команда дежурного:
— Закончить занятия! — И потом: — Встать! Выходи строиться на обед!
Учебные группы строились в колонны на заасфальтированном дворе перед фасадом учебного корпуса — внушительного трехэтажного здания из серого кирпича. Перед тем как стать в строй, Павел успел опустить в почтовый ящик письмо. А по пути в столовую, когда группа горланила «Тачанку», подсчитывал, сколько дней письмо будет идти до Кохановки и когда можно ожидать на него ответ.
Павел вообще любит подсчитывать. Недавно он вычислил, что из кирпича, который уложен во все здания их учебного городка, можно построить две Кохановки. Две Кохановки из камня, под жестью или черепицей! И в каждой хате деревянный пол, электричество, радио… А ведь когда-нибудь будет такое.
Обед позади. Возле столовой — опять построение. Некоторые курсанты ворчат: команда «Становись!» в печенках, мол, у них сидит. А Павлу нравится. Новая жизнь у него, и все по-новому. Даже в казарму, которая от столовой в ста метрах, идут строем.
…После обеда полагается «мертвый час». Не привык Павел спать днем, но порядок есть порядок. Сейчас зазвучит команда, и надо раздеваться. И тут же услышал:
— Курсант Ярчук! Курсант Черных! К выходу!
Это заорал на всю казарму дневальный.
Недоумевая, Павел побежал на голос. Увидел рядом с дневальным рослого красноармейца в замусоленной гимнастерке и с противогазом через плечо.
— Посыльный дежурного по училищу! — представился красноармеец, лихо и с вывертом подбросив руку к козырьку фуражки с голубым околышем. — Вам приказано явиться к начальнику училища.
Никогда не мог предположить Павел, что один день способен одарить человека горой счастья, а затем утопить это счастье вместе с человеком в море непоправимой беды. О беде он пока не догадывался, хотя в груди повеяло холодком от предчувствия недоброго.
«Зачем?» — мучительно размышлял он, когда бежал по заасфальтированному двору, когда поднимался на третий этаж знакомого серого здания, где располагались учебная часть и начальник училища. А сзади, густо сопя, громыхал сапожищами Саша Черных — высокий, длинноногий, худой и, словно в оправдание своей фамилии, черноволосый, сумрачно-черноглазый, темноликий.
Павел познакомился с ним еще во время экзаменов и, узнав, что Черных родился в Березне — соседнем с Кохановкой селе, из которого отец Павла привез когда-то мачеху Ганну и Настьку, подружился. Саша был старше Павла на четыре года. На «гражданке» он работал шофером, не раз проезжал через Кохановку. А в училище прибыл из воинской части, где отслужил действительную.
В обширной и дремотно-пустынной комнате — приемной начальника училища — по очереди доложили дежурному командиру, что явились по вызову. Тот, подавив зевотный вздох, тут же нырнул за тяжелую, обитую темным дерматином дверь, на которой блеснула золотыми буквами табличка: «Начальник училища», и вскоре возвратился.
— Ярчук, заходите! — сказал дежурный, кивнув головой на приоткрытую дверь.
Павел почувствовал, что сердце его оборвалось и растаяло. Еще минуту назад он твердил про себя, как нужно отрапортовать начальнику о своем прибытии, а тут перешагнул порог и замер, придавленный какой-то тяжестью и будто ослепленный обилием света, лоснящейся мебелью, красной ковровой дорожкой.
Услышал из глубины кабинета негромкий и спокойный голос:
— Проходите сюда, товарищ Ярчук.
Только теперь Павел рассмотрел за столом полковника — седовласого человека с добрым округлым лицом и грустными, по-отцовски внимательными глазами.
Глаза полковника подбодрили его. Окрепшим шагом подошел к столу, глубоко вздохнул, чтобы доложить по форме, но полковник тихо сказал:
— Садитесь, пожалуйста.
Павел присел на краешек мягкого кресла и, чувствуя, как воротник гимнастерки давит шею, как мелкие росинки пота вспухают на его лице, уставил испуганно-ожидающие глаза на этого седого и совсем не страшного человека. А полковник, будто позабыв о Павле, читал какую-то бумагу с синим расплывчатым штампом в уголке.
Наконец он поднял свои мягкие, внимательные глаза с тусклыми огоньками грусти и заговорил. Голос полковника был задумчиво-мягким, напоминающим голос первого учителя Павла — Прошу.
— Ярчук, вы, надеюсь, не из слабонервных?.. У нас будет серьезный мужской разговор. Он… неприятен и для вас и для меня… Вы отдаете себе отчет, что вы еще юноша и что у вас вся жизнь впереди?
— Да… отдаю, — ответил Павел, не слыша своего голоса.
— Я это говорю к тому, — раздумчиво продолжал полковник, — что для вас не должно быть трагедией, если вам придется выбирать себе новую профессию.
— Почему?! — Павел уже смотрел на полковника с жарким ужасом.
— Потому что есть много других интересных профессий, — уклончиво ответил полковник. — Учитель, врач, инженер, агроном, электрик… Да мало ли каких! А вам захотелось обязательно стать летчиком… Неразумно это, учитывая, что с родственниками вашими неблагополучно.
— Я же писал!.. — Павел вскочил с кресла.
— Садитесь… Знаю: вы писали в Москву об отце, просили дать вам возможность поступить в летное училище. Эту просьбу уважили. А сейчас выяснилось, что не все вы написали об отце… Впрочем, самое главное то, что некоторые другие ваши родственники репрессированы, а некоторые раскулачены.
— Брехня это! — запальчиво воскликнул Павел, чувствуя, как похолодели под его руками подлокотники кресла.
— К сожалению, правда, — будто с сочувствием сказал полковник. — Вот ответ председателя сельсовета на наш запрос. Может, вам еще не известно… Ярчук Андрон, служивший у Деникина, вам кем приходится?
— Никем! У нас полсела Ярчуков.
— А здесь написано, что он ваш крестный отец.
— Неправда!
В глазах полковника залегло сомнение.
— А кулачка Басок Оляна? Она сестра вашей матери?
— Да… — после мучительной паузы проговорил Павел. — Двоюродная сестра… — Он раньше никогда не задумывался над тем, что покойная Оляна их родичка.
— А кузнец Дмитро Шевчук?
— Двоюродный брат отца… — Павлу казалось, что его окружила черная удушливая пустота, и голос полковника доносился откуда-то из-за ее пределов.
— А Ярчук Данило?
Не знал Павел, кем приходится ему Ярчук Данило. Мало ли у него в Кохановке двоюродных и троюродных?.. Когда живешь рядом с ними, никогда об этом не думаешь. В селе не чтят дальнего родства. Ведь семьи у всех большие. Поди упомни, как сложилась родословная каждого семейства…
Полковник еще о чем-то говорил, упоминал чьи-то имена. Мелькнула и угасла в памяти фамилия Степана… Павел уже ничего не воспринимал. Где-то в нем, в самой глубине, закипали слезы, и он до скрежета стискивал зубы, чтобы не разрыдаться, не выпустить из души на волю сжавшийся в пружину вопль.
Пересилил себя и снова стал слушать, будто для того, чтобы до конца испить горечь этих тяжких минут.
— Зло написано, — говорил полковник, уставив болезненно-сумрачный взгляд в бумагу. — Если здесь и половина правды, все равно другого выхода нет… Надо отчислять вас из училища.
«Зло написано», — с болью подумалось Павлу. И кто же пишет? Степан пишет — его двоюродный брат… Что сделал плохого ему Павел? Зачем же замесил он правду на злобной лжи?..
А бумага, которая лежала перед полковником, была написана вовсе не Степаном. Степан Григоренко упоминался в ней как репрессированный родственник Павла Ярчука… Ответ же на запрос из училища составлял дружок и соперник Павла — Серега, сын Кузьмы Лунатика, который с приходом нового председателя стал секретарем сельсовета.
Павлу все казалось кошмарным сном. О если б можно было проснуться! Иначе нет у него завтрашнего дня, нет смысла жить дальше… Как же он вернется в Кохановку?.. Что скажет Насте?..
Вспомнил об отправленном ей письме и задохнулся от мучительного стыда. Нет, ни за что не покажется он на глаза Насте!
Полковник понимал состояние сидевшего против него юноши. Знал он и о том, что Павлу не к кому возвращаться домой. А тут еще доложили, что хранившаяся на складе одежонка, в которой Павел Ярчук приехал на экзамены, хлипкая для зимы. Отправить же его домой в военном обмундировании нельзя не пробыл он в училище положенных для такого случая трех месяцев.
— Товарищ Ярчук, — тихо заговорил полковник. — Я вам не советовал бы ехать домой.
— Я и не собираюсь…
— Куда же вы?
— Не знаю…
— Вам восемнадцать лет?
— Скоро будет.
— Через год-полтора вам все равно надо идти на действительную службу.
— Да.
— Так оставайтесь сейчас. Добровольцем. Зачислим вас красноармейцем в хозяйственную роту.
Другого выбора у Павла не было.
Уходил он из кабинета полковника нищим, опустошенным. Отняли у Павла единственное его богатство — его мечту. А у Родины, может быть, отняли будущего полководца.
Долго стоял он потом в пустынном коридоре и сквозь слезную муть смотрел с третьего этажа на училищный плац. Там маршировали, занимаясь строевой подготовкой, курсанты. А Павел уже не курсант… Вон печатает шаг бывшая его эскадрилья. Шагает, будто ничего не случилось. Его, Павла, место в строю занято курсантом, который раньше стоял ему в затылок… Не бывает в строю пустых мест.
Вдруг яростно хлопнула дверь приемной начальника училища. В коридор вылетел Саша Черных. По его перекосившемуся черному лицу катились крупные слезы. Саша стыдливо вытирал их рукавом гимнастерки, бурно всхлипывал и басовито, с подвываниями, ревел.
Павлу неожиданно стало смешно: длинный Черных, бывалый шофер, плакал навзрыд, как дитя маленькое.
— Сволочи!.. — подойдя к Павлу, гудел сквозь всхлипывания Саша. — Я ж говорил на приемной комиссии, что батька неделю был в петлюровском обозе… Промолчали. А теперь получили из сельрады бумагу и в шею гонят!
— Но хоть правду из сельсовета написали? — спросил Павел, не столько интересуясь обстоятельствами дела Саши, сколько думая со злобной тоской о подлом коварстве Степана Григоренко.
— Правду по-разному можно написать. Петлюра ворвался в село, согнал всех мужиков на площадь и приказал всем, кто имел лошадей, везти его бандюков. Иначе пуля в лоб. Я же говорил на комиссии!
— Домой поедешь? — глухо спросил Павел.
Саша перестал всхлипывать, уставил на него яростный темный глаз и ответил с какой-то значительностью и торжественной серьезностью:
— Домой! Поеду и спалю хату головы сельрады. Чтоб не был собакой!
— Глупость болтаешь…
— Дотла спалю! — Саша задыхался в злобственном экстазе.
Павел скривил лицо, будто глотнул кислого.
— Не веришь?! — возмущенно заревел Саша, надвигаясь грудью на Павла. — Смотри!.. — И показал обрубленный мизинец на левой руке. — Сам оттяпал, нарочно!
— Зачем?..
— Братишку младшего гадюка укусила, и он… помер. Так я пошел на дровник, секанул по пальцу топором и дал слово убить сто гадюк… Убил! Сотую принес показать деду, а он говорит — уж. У нас и ужей гадюками называют. Так я заново начал охотиться. Два года поднимал счет, даже ночью с фонарем в лес ходил. А ты говоришь!..
— Саша, будь другом! — взволнованно заговорил Павел. — Заедь в Кохановку и расскажи все обо мне Насте… Сам не могу написать.
— Сделаю.
34
Томительно текли дни ожидания. Раньше Платон Гордеевич даже боялся заглядывать в будущее. Воля для него маячила серым расплывчатым пятном где-то неопределенно далеко, как выход из бесконечного удушливого тоннеля. А теперь, после того как Мамчур подписал ходатайство, она могла навалиться всеми радостями в любой час. И от этого каждый день годом казался: счастья всегда трудно ждать…
Счастье… Для Платона оно сейчас только в том, чтобы снова жить, как жил раньше. Счастье — это Павлик, Кохановка, земля, колхоз. И чтобы был в кармане паспорт с трудовым гербом на обложке, чтоб можно было поехать куда хочешь, а если нет желания куда-либо ехать, так хоть знать, что никакие дороги для тебя не запретные…
А люди, которым неведома нынешняя жизнь Платона, даже не догадывались, какие они счастливые…
Но счастье переменчиво, как погода. И если из-за хмурой погоды радость не покидает людей, то при затмении счастья перед человеком может открыться бездна страданий. Все это уже испытал Платон на себе. А многим еще только суждено было испытать, суждено было испить, может, еще большую чашу беды самого крутого завара. Врагам — поделом такая судьба, а безвинным… Безвинным судьей будет история. История будет судьей и тем, кто виновен в беде безвинных.
Эх, если б можно было предвидеть, если б можно жизнь сегодняшнюю измерить пульсом жизни будущей и с высоты будущего оглянуться на сегодняшний день…
А пока жизнь текла, как она есть.
Платон Гордеевич, проходя мимо цеха водоснабжения, не раз любовался красочным панно, распростершимся на надворной стене здания. На нем было запечатлено посещение цеха Серго Орджоникидзе: Серго вышел из автомобиля, и у входа в цех его приветствовал начальник металлургического комбината Соснин — в прошлом прославленный герой гражданской войны, член Военного Совета армии на Украине. Рядом с Сосниным был нарисован его заместитель Кульдрим — тоже герой гражданской войны; поодаль — группа известных на заводе рабочих.
А вчера Платон увидел, что панно было опущено на землю и возле него трудился тщедушный художник. Посинев от холода, он затушевывал под цвет фона картины фигуры Соснина, Кульдрима и некоторых рабочих.
Слова краснодеревщика сбылись: ему и Платону опять пришлось сколачивать трибуну из грубых, необструганных горбылей. Платон чувствовал себя так, словно мастерил гроб. Слышал он, что после первого митинга не появились на работе некоторые бригадиры, служащие… И опять митинг…
Поле перед бараком постройкома быстро заполнилось людьми. Над молчаливой толпой вились тысячи дымков. Казалось, будто рабочие для того и пришли сюда, чтобы покурить.
Как и прежде, Платон Гордеевич стоял в тесной толпе. Неотрывно смотрел на трибуну, удивляясь тому, что нет на ней многих из тех, которые были на первом митинге: нет «очкарика», нет «птахи в каракуле», нет Соснина и Кульдрима…
«Неужели и их?..» — томительно шевельнулась догадка.
Не обманулся Платон Гордеевич. Услышал такое, что захлебнулось сердце в груди. Выступил новый секретарь парткома, недавно избранный вместо, арестованного. Сухопарый, желтолицый, с воспаленными от недосыпания глазами — добрыми и спокойными, с орденом Красного Знамени на пиджаке под распахнутой кожанкой, он, прежде чем говорить, некоторое время пытливо всматривался в лица рабочих, собираясь с мыслями. А потом полилась его резкая и твердая речь, наполненная словами кипучего и горького гнева.
Растаяли табачные дымки над заледенелой толпой. Море суровых лиц, но будто одно многоглазое существо с бурей чувств в тысячах грудей, с вихрем мыслей в тысячах голов. Секретарь парткома сообщил, что многие люди, которые говорили с этой трибуны, в том числе председатель постройкома и секретарь горкома партии, разоблачены как шпионы фашистской разведки. Они вредили в промышленности и клеветали на честных людей, добиваясь их истребления…
Секретарь парткома зачитал перед рабочими список репрессированных. Список открывался фамилиями начальника комбината и его заместителя. Очередной же оратор, «лично занимавшийся проверкой прошлого ныне репрессированных лиц», доложил митингу, что Соснин — сын крупного капиталиста, обманным путем проник в партию, а его заместитель Кульдрим потомственный курдский князь…
Еще через неделю — новый митинг. На трибуне стояли улыбающиеся «капиталист» Соснин и «князь» Кульдрим. Секретарь райкома партии сообщил рабочим, что все выдвинутые против Соснина и Кульдрима обвинения ложные, а клеветники арестованы.
Платон Гордеевич уже был глух к новому событию. Ему казалось, что он стоит на краю пропасти…
Вчера прораб Мамчур послал группу «беломорцев» в доменный цех делать опалубку на бункерной эстакаде. Был там и Платон Ярчук. Закончился рабочий день, и плотники ушли в общежитие. А вскоре на домне загрохотал мощный взрыв. Не сразу выяснили, что взрыв этот, выведший из строя печь, результат того, что прогорел холодильник горна и жидкий чугун попал в воду.
Утром не вышли на работу начальник доменного цеха, начальник разливочных машин, некоторые доменщики. Не появился на строительной площадке и прораб Мамчур.
Последнее-то и потрясло Платона Гордеевича. Догадывался он, что арест Мамчура связан с тем, что тот посылал в доменный цех «беломорцев». Значит, дойдет дело и до плотников. Ведь, кроме того, что вчера плотники были на домне, опалубку фундамента печи тоже они мастерили…
И Платон томился в неизбывной тревоге. Сегодня бригада работала на новом блоке газоочистки, уткнувшейся в небо многоэтажным каркасом. «Беломорцы» таскали на себе трубы, доски, бревна, которые подъемник уносил вверх, на этажи, где копошились каменщики и трубопроводчики.
Платон гнулся, кряхтел под тяжестью и все думал. Думал до ломоты в висках. Но мысли не уносили его далеко; испуганно толклись вокруг мнящегося «черного дивана». Казалось, что вот-вот вспомнится что-то очень важное и нужное ему.
Шел за очередной ношей и посмотрел вверх. Увидел над головой прогнувшиеся провода высоковольтной линии, а на них — темную низку воробьев. Подивился неуязвимости птиц. Осенью поселковый мальчишка во время дождя сматывал поводок «змея» и мокрой ниткой задел провисший провод. Сверкнула ослепительно голубая вспышка в проводах, послышался треск, а мальчишка, будто споткнувшись, упал и не шевелился. Платон потом видел его мертвого, синего, с прикушенным языком… А воробьи вот сидят, ведут какой-то свой птичий совет.
И снова недалекий путь с ношей: на этот раз с длинной, режущей плечо трубой — черной и пружинистой. От штабелей к подъемнику, от подъемника к штабелям. А откуда-то, с верхнего этажа, с самого утра доносилась чья-то скоморошья песня — без смысла, без начала и конца. То затухала, то снова вспыхивала.
Вот и сейчас послышался гнусавый голос, настроенный на плясовой, ернический мотив:
Был себе, да не имел себе, Затесал себе Нетесаного тесана, Бросил дома тестя и быка. Тесть как начал пахать!.. Ото льда ко льду… Вспахал день, Посеял коноплю, И уродили вербы…Платон позавидовал чьему-то бездумному веселью и, чтобы отвлечься, стал мысленно повторять глупые слова песни:
Был себе, да не имел себе, Затесал себе нетесаного тесана…И вдруг кто-то властно позвал его:
— Ярчук!
Платон Гордеевич оглянулся. Увидел примелькавшегося рассыльного из постройкома. Хлопнув дверцей попутного грузовика, рассыльный направлялся к бригаде «беломорцев» — низкорослый, рыжеусый мужичок с пронырливыми глазами на розовом моложавом лице.
— Кто здесь Ярчук? — начальственно спросил он.
Почувствовав слабость в руках, Платон Гордеевич бросил на землю трубу.
— Я! — оробело откликнулся осипшим вдруг голосом.
— Собирайся в постройком! Сейчас будет попутная машина. — И рассыльный, заглянув в какую-то бумажку, снова завопил: — Тишкевич! Кто здесь Тишкевич?
«Ну вот, началось», — с неожиданным спокойствием подумал Платон, жалостно улыбнувшись.
Достал кисет с табаком, присел на груду известняка под единственным дубом, не спиленным на территории строительства. И только когда стал завертывать цигарку, увидел, что просыпает трясущимися руками табак.
— Кто здесь Тишкевич?! — уже издалека слышал сквозь грохот бетономешалок голос рассыльного.
«Судьба»… — с покорностью вздохнул Платон.
Закурил и с первой затяжкой вспомнил о Павле. На днях получил от него письмо с Кубани. Каждая строчка в том письме трепетала восторгом: приняли Павлика в летное училище… Эх, оставил Платон письмо в сундучке под замком. Найдут, прочитают и убьют радость Павла, на всю жизнь убьют. Напишут в училище об отце. Впрочем, если и не напишут, Павлу будет не легче: в каждой анкете есть графа о родителях… И что за время такое? Что происходит? Что?!
Силой вырвались из старого несправедливого мира люди и начали строить новый мир, сами обновляясь, изгоняя из себя корысть и темноту. Пришли в новую жизнь те, кто родился и научился мыслить до Октября. А сейчас у многих из них как бы спрашивают мандат о благонадежности, мандат на право пользования новой, их же руками построенной жизнью. Справедливо ли это? В чем виноват он, рядовой крестьянин Платон Ярчук? В том, что умеет приникнуть сердцем к земле и к людям, умеет понять шум ветра и голос птицы, оценить закат и восход, угадать погоду и время сева? В чем его обвиняют?
Всплыли в памяти, будто долетели издалека, слова, которые коснулись его сердца там, на черном диване: «…Выстреленную пулю вернуть нельзя… убить невинного — значит обеднить мир, посеять человеческую скорбь — и хоть клочок земли, но омертвить. Никого пусть не утешает, что память о человеке в вечности не вечна…»
Да, не вечна память о человеке… Но придет время, и жизнь заставит людей оглянуться на прошлое. И тогда одним станет стыдно и больно, а другим — страшно. Страшно станет тем, кто причастен к рожденному злу; некоторые будут притворяться, что ничего не помнят. Их придавит страх — за себя, за свое благополучие, за содеянное. Может, и сослепу содеянное… Случается ж беда, когда друга принимают за врага. Случается. Но есть предел, за которым такие слепцы уже не могут иметь никакого оправдания, предел, за которым становится ясно, что души у них куцые, как заячьи хвосты, сердца мелкие, будто скорлупы ореха, а мысли подстриженные, вправленные в стальные рамки неверия в человека. Страшна их холодная слепота!
А жестокость?.. Она ведь не всегда слепая. Тем более жестокость к мнимому врагу.
Придет время, когда те, кто родил жестокость, будут метаться во сне, мня себя на черных диванах, или в глухих, обитых войлоком подвалах, или за колючей проволокой… Это начнет вершить над ними запоздалый суд их совесть — суд праведный и суровый, но без жестокости.
Все будет! Платон знает, что настанет час, когда чистая совесть ясными глазами посмотрит каждому человеку в душу и скажет: «Сделай так, чтоб подобного никогда не повторилось. Сделай! Живи так, чтоб внуки и правнуки твои не стыдились твоего имени. Живи так!»
А Платон уже ничего не может сделать… Нет, он обязан что-то сделать. Он должен сделать такое, чтобы Павел — кровь его и часть его сердца — не носил клички «сын врага народа» и не терпел беспощадного шторма людского презрения.
Или, может, он, Платон, слишком мелко судит о жизни? Ведь в каждом большом деле могут быть прорехи. Ведь сейчас новый мир строится, куется железное сердце индустрии, создается новое село. Как же обойтись без ошибок? Нет, ошибки ошибкам рознь.
Заметил, как оборвались с обвисшего провода воробьи. Они дружной стаей взвились в небо и, упруго бороздя воздух, понеслись куда-то в степь. Легко им живется среди ветра и воли… Вот так и он, Платон, еще вчера надеялся улететь отсюда на волю… Эх, крылья бы… Иметь бы крылья, чтоб долететь до самой Москвы, до Кремля. Он, Платон, криком кричал бы о том, чтоб пустили его к Сталину. Неужели не принял бы Сталин и не услышал молитву разума простого человека?.. Ленин ведь принимал ходоков из народа. В самые трудные времена, когда республика корчилась в огне войны, когда стонала земля в разрухе, Ленин всегда говорил с рабочим людом. Сколько света ленинского ума и теплоты ленинского сердца разнесли по деревням и селам крестьяне-ходоки. Ленин всегда держал мудрую руку на пульсе государства, всегда готов был встать за правду…
На плечо упал дубовый листок — коричневый, гнутый и жесткий, будто вырезанный из тонкой жести. Платон поднял глаза на черные и узловатые сучья дерева. Дуб раньше времени сбрасывал с себя прошлогоднюю листву, словно ронял слезы по несбывшимся надеждам Платона. Сквозь ветви Платон Гордеевич с немой грустью долго смотрел в небо, пока из белесых туч не выглянуло солнце и не ослепило…
Не могут человеческие глаза выдержать ясный и прямой взгляд солнца, от которого — вся жизнь, рожденная для добра, для любви, для счастья, для красоты. Слышал Платон притчу. В ней говорилось: когда небесное светило уходит на покой, рождается кое-где зло на земле. А утром солнце с упреком смотрит с ужасающей высоты на землю, смотрит в очи людям, и они отводят взгляд в сторону. Но скоро настанет такое время, когда любой человек сможет прямо смотреть в глаза солнцу. Это время не за горами. К его приходу сгинут людские пороки, страшные заблуждения и ошибки, сгинет все зло, содеянное вольно или невольно. А пока люди прячут от солнца глаза, потому что в большом, или малом, или даже в ничтожном они все-таки еще не ангелы… Непогрешимость человека, к сожалению, не может рождаться вместе с ним.
В той стороне, куда пошел рассыльный постройкома, послышался сигнал грузовика, и Платон, словно боясь куда-то опоздать, поспешно встал на ноги. А в груди — такая тяжесть, что сердцу трудно поворохнуться. Чего-то недодумал он. Самая главная мысль пролетала где-то совсем рядом, но не давала поймать себя, ускользала.
Вскинув на плечо свою железную ношу, Платон направился к котловану. Дошел до того места, над которым провисла линия высокого напряжения, и, будто перекладывая трубу на другое плечо, поставил ее торчком, приподнял… Знал, что случится сейчас жутко-непоправимое, и боялся встретиться с кем-нибудь глазами; люди должны верить, что с Платоном Ярчуком произошел несчастный случай. И этот страх перед правдой как бы прибавлял сил его старым, раздавленным работой рукам.
С верхнего этажа донеслось:
Был себе, да не имел себе, Затесал себе Нетесаного тесана…Это было последнее, что услышал Платон Гордеевич… Глупые слова песни… Глупая смерть… С сухим треском брызнул голубыми, колючими искрами электрический разряд, оборвав жизнь Платона мгновенно.
К месту происшествия сбегались люди. Остановились бетономешалки, лебедки. Подъехало несколько грузовиков с кирпичом. Из кабины переднего выскочил прораб Мамчур. Он испуганно посмотрел на оборвавшийся кабель, к которому приварилась труба, перевел взгляд на скорчившееся на земле тело и, содрогнувшись от ужаса, спросил:
— Кого это?
— Ярчука, — сумрачно ответил краснодеревщик из Полтавы, сдергивая с головы шапку. — Нечаянно задел провод…
У Мамчура задергалась щека, глаза налились какой-то звериной тоской. Хотел что-то сказать, но задохнулся и всхлипнул. Никто, кроме Мамчура, не знал, что с Платона Ярчука снято «ограничение на место жительства». Хоть сегодня мог он уезжать в родную Кохановку.
35
— Мамо, а пять годков — это много? — шаловливо-вкрадчивым голоском спрашивал маленький Иваньо у Христи. Он сидел на дощатом полу хаты, играя желтыми головками луковиц, наполнявших решето, и со щенячьей преданностью заглядывал в бледное, с большими загадочными глазами лицо матери. Христя, устроившись на низенькой скамеечке, неторопливо, с тихой грустью перебирала семенной лук.
— Много, очень много, — ответила она сынишке и скупо улыбнулась.
— Очень? И я уже не маленький?
— Нет, ты уже у нас старый дед.
— Не-е, я не дед… Я не кашляю, и бороды у меня нет.
— Начнешь курить — вырастет борода…
— А я не буду курить.
— Умничек мой!.. Золотце…
Иваньо, запустив руку в решето с луком, стал тихо посапывать и о чем-то сосредоточенно размышлять. Он посматривал то на мать, то на Тосю, которая сидела за столом и, по-птичьи свалив набок голову и скосив глаз, что-то старательно писала. Губы Тоси шевелились, будто подсказывали руке с пером, какое надо писать слово в тетрадном листе.
— Мамо! — Иваньо опять нарушил тишину. — А для чего вы меня родили?
Тося прыснула в кулак, повернула к Иваньо голову, но перехватила успокаивающий взгляд матери, опять склонилась над бумагой.
Смешок Тоси смутил Иваньо, он недовольно покосился на сестру и снова спросил:
— Для чего, мамо?
— Чтоб нам веселее было, когда татка заберут. Ты ж у нас теперь один мужчина на всю хату. — И Христя, погасив улыбку, обратилась к Тосе: — Что ты там, Тодоска, так долго пишешь?
— Уже написала, — отозвалась Тося, положив на стол ручку с пером.
— И про новости сельские написала?
— Ага.
— А ну, читай про новости. — И Христя выжидательно уставила глаза на Тосю.
Голос у Тоси протяжно-певучий, с нежными задоринками и улыбчивостью.
— Вот про Ганну и Настю написала, — сказала Тося и начала читать: «Приблудился до Кохановки шофер, похожий на турка, такой чернющий. И фамилия у него, наверное, турецкая — Черных. Сашей зовут. Взяла Ганна этого Сашу к себе в дом — в мужья Насте. Теперь ваша старая хата тесна для них, и Ганна вместе с шофером стягиваются на новую хату.
А еще такая новость: Харитина-лунатичка относила Платоновой Югине пошить блузку и в ее хате села на масленку от швейной машинки. Теперь на работу в колхоз не ходит, а бригадиру показывает…»
— Это пустое! — перебила Христя Тосю. — Напиши про нового голову сельрады. Что сам он из чужого села, ходит в галифе и хромовых чеботах, не как наш батька ходил… И про грузовик напиши, который купил колхоз.
— Так это ж все письмо надо переписывать! — взмолилась Тося.
— А ты не ленись. Может, и не получит его тато, раз не отвечает нам, а писать все равно пиши. Никто же не отвечает на письма из тех, кого забрали вместе с татом.
Христя, почувствовав, как закипают на ее глазах слезы, подняла решето с луком и вышла из хаты.
Только на огороде, когда принялась сажать на грядке лук, дала волю слезам. Лились и лились слезы — эта кровь души. Много на своем веку плакали глаза Христи.
Тяжелее всего страдать весной… Вокруг вершилось самое прекрасное чудо: пробуждалась земля, просыпалась после зимнего сна каждая веточка в саду и радостно тянулась к солнцу набухшими почками. Неторопливо заплетали зеленые косы белоствольные березы… Но были в Кохановке хаты, где поселилось горе: темными ночами увезли в неизвестность их хозяев. И никому не пожалуешься, ибо сочувствия не найдешь. «Раз арестован мужик, значит, сотворил зло. Безвинного не тронут!» — так думали люди и сумрачно косились на опустевшие хаты.
Христя в глубине души тоже верила, что Степана арестовали за какую-то вину. Разве мало в Кохановке пролилось слез в годы, когда Степан был председателем сельсовета? Вот и покарал бог. Может, за безвинно раскулаченных покарал? А может, смерть ее первого мужа Олексы легла тяжким грехом на душу Степана, да и на ее душу — ведь согласилась без благословения церкви на вторичный брак?
И плавилась, плавилась тоскливая боль в груди Христи, немым криком кричало ее распятое сердце.
А маленький Иваньо будто чувствовал, когда маме особенно тяжело, появлялся в такую минуту рядом с ней, заглядывал в ее самые добрые глаза и своим нежно-писклявым, щедрым на ласку голоском задавал ей вопросы, от которых притухала боль в груди.
Вот и сейчас прибежал Иваньо вслед за ней на огород. Осторожно прошелся по канавке, окаймлявшей грядку, присел и, пытливо посмотрев на Христю, спросил:
— Мамо, а когда я не родился, вы что делали?
— Тебя, сынку, ждала.
— А… а где вы ждали?
— У ворот сидела и выглядывала, когда тебя зайцы в капусту понесут.
— А ворота уже были?
— Были. Почему ж им не быть?
— И улица была за воротами?
— Была и улица. Все было.
— Все было?.. Меня не было, а все было? — Иваньо смотрел на мать недоумевающими глазенками.
— Было, сынку, было… — Христя бледно улыбнулась, дивясь неиссякаемой пытливости детского ума. — Была хата, был тато Степан, садок был за хатой…
Все было… И все есть. Все есть в Кохановке, нет только Платона Ярчука с его чутким сердцем, нет Захарка Ловиблоха с его умением укрощать капризы земли, нет Хтомы Заволоки с его любовью к «железной телеге», нет Степана с его мечтами о новом человеке села. А так все есть, все как и было. Есть счастливые, меньше — несчастливых. Среди несчастливых много родных и двоюродных, несправедливо раскулаченных и неизвестно за что репрессированных. Они, как и Павел Ярчук, носили зарубки на сердце, стыдились своего дурного родства и скорбели о том, что оно заслонило дорогу к их мечтам.
Но был и разум — великая сила и великая слабость человечества. Разум всего может добиться, может примирить все противоречия жизни и даже оправдать мышь неверия, родившую гору страданий. Но оправдать только на время, ибо у истории свои законы, утверждающие устами гениев, что истинный разум существует только в разумной форме.
И самое главное было — святая, не подверженная затмениям вера в советскую власть, в жизнь, которой жил народ. Именно эта вера помогала людям видеть за преходящими, даже тяжкими бедами свершение более значительного — дальнейшее утверждение новой государственности с гербом подлинного счастья и подлинной свободы.
И свершалось великое, хотя и неторопливое, рождение нового крестьянина.
Еще не совсем умерла в глубине души части хлеборобов тоска по своей земле, по своим коням, по своему плугу, но уже неукротимо светила всем вера в коллектив. В артельном труде вытеснялось чувство «мое» и утверждалось новое «мое», совсем не сродни старому. Исчезал страх перед засухой, перед градом, перед мором скота, перед всем тем, что раньше могло одним внезапным ударом повергнуть в нищету.
…А в осиротевших семьях не угасала беда. Жили томительным ожиданием вестей из винницкой тюрьмы, жили надеждами, что вот-вот радостно вскрикнет калитка или довольно заскрипит ступенька перелаза и послышится родной голос хозяина… Но это были тщетные надежды.
Лишь в хате Христи однажды ночью испуганно звякнуло окно, соседствовавшее с дверью. Христя проснулась, с трепещущим сердцем подошла к окну и разглядела стоящего у двери человека. Что-то подсказало Христе: «Степан».
Да, Степан. Два года казнился Степан Григоренко в тюремных застенках, два года томился наедине со своей совестью, которая была его истинным обвинителем, истинным свидетелем. Была она строгим судьей и немилосердным палачом.
Не безгрешным казался себе Степан. Не все делал он в своей прошлой жизни так, как сделал бы в пору созревшей мудрости. Но врагом партии никогда не был и ни одного выдвинутого против него обвинения не подписал. А потом… счастье улыбнулось Степану. Пришли в следственные органы новые люди; они бесстрастно выверили на весах справедливости все, что было написано в протоколах, добились из Киева подтверждения, что именно при участии Степана Григоренко в Кохановке была обезврежена группа украинских националистов-«самостийников». И свалился черный камень, давивший сердце Степана с момента ареста. Прилетел он домой на крыльях свободы, успев побывать в райкоме партии…
36
Прошло время… Однажды ранним утром, перед самыми жнивами, сипло затрубила в центре Кохановки труба. По улицам села забегали исполнители. «Всем на сходку!» — скороговоркой возвещали они. И для пущей убедительности добавляли: «Селедкой перед собранием будут торговать!»
Селедка, керосин, ситец редко появлялись в кохановской лавке. Люди уже привыкли к этому, полагая, что так надо… Ну, а кому казалось, что так «не надо», ему быстро втолковывали, что лучше в Кохановке курить «Тайгу» (были такие махорочные сигареты), чем в тайге махорку…
Так вот, прямо перед жнивами сбежались кохановчане на собрание. Сошлись на берегу Бужанки, в поредевшую сосновую рощицу, так как в клубе еще весной обвалился потолок, и сразу же окружили повозку, где продавщица отвешивала по килограмму селедки в одни руки. А в стороне секретарь сельсовета Серега, сын Кузьмы Лунатика, расположившись на траве, крутил ручку патефона, который томным женским голосом, до мурашек по спине, ворковал:
Когда на землю спустится сон И выйдет бледная луна, Я выхожу одна на балкон, Глубокой нежности полна…Собрание не открывали, пока не кончилась селедка. Потом народ начал стекаться поближе к столу, покрытому красной материей. Сквозь лапчатые кроны сосен на стол падал сноп косых лучей утреннего солнца, и материя на нем рдела червонным золотом, бросая отблески на лицо председателя колхоза Саввы Мельничука. Савва стоял за столом, удрученный, подавленный. Отсутствующим взглядом смотрел он, как рассаживались на траве отдельно женщины и отдельно мужчины. Женщины все, как одна, в белых платках.
А патефон все стонал:
Глубокой нежности полна…— Заткни ему горло! — точно спросонок заорал Савва на Серегу.
Патефон тут же поперхнулся и, прежде чем умолкнуть, зарычал сникшим мужским басом:
…нежно-сти-и… по-о-лна — у…Дружный хохот вспугнул белогрудого щегла, заставив его стремительно вылететь из куста орешника и усесться на ветке сосны прямо над столом президиума. Все с любопытством наблюдали, как щегол, охорашивал смоченные росой ярко-желтые, черные на уголках крылья, а Савва, не понимая, почему народ пялит глаза вверх, стучал карандашом по графину, наполненному водой из Бужанки, и требовал внимания.
После того как был избран президиум, слово было предоставлено новому председателю райисполкома Степану Григоренко.
Далеко шагнул Степан после того, как освободили его из тюрьмы и восстановили в партии. Некоторое время работал председателем сельсовета в Березне, а потом был переведен в районный центр.
Кохановчане слушали Степана с напряженным вниманием, рассматривая на нем новый зеленый френч, синие галифе и добротные хромовые сапоги.
Степан, меча из-под черных бровей негодующие взгляды, сообщил землякам, что их председатель Савва Мельничук, как стало известно в районе, запускает руку в артельный карман: берет из колхозной каморы муку, мед, не умеет наладить трудовую дисциплину.
Из темпераментного доклада районного головы явствовало, что Савва Мельничук не может больше возглавлять колхоз, поэтому райком партии и райисполком рекомендуют новую кандидатуру в председатели — Свирида Саврасовича Шестерню, работавшего до этого в райземотделе.
Мужчины и женщины, особенно молодежь, бросали бесцеремонно-любопытные взгляды на будущего председателя, который сидел в стороне, на пеньке. Плотный, с крупным нахмуренным лицом, на котором как-то некстати прилепились пышные, опущенные книзу черные усы, Свирид Шестерня непрерывно курил и ежился под взглядами кохановчан, замечая, как шепчутся и пересмеиваются женщины. Он догадывался, что колхозники не очень-то осуждают своего нынешнего председателя. Ведь украсть в колхозе давно не считалось здесь грехом.
Да, нелегкая работа предстояла Свириду Шестерне. Надо было учить людей по-иному бтнрситься к колхозному добру.
Но, может, его, Свирида, не изберут? Может, оставят Савву Мельничука?..
После того как закончил слово Степан Григоренко, а затем невнятно высказался, признавая вину, Савва, сразу заговорило все собрание.
— Можно задать один вопрос товарищу Шестерне? — поднялась со своего места Югина, по-девичьи стыдливо поправляя на голове платок. — Скажите, товарищ Шестерня, вы горилку пьете?
Свирид Саврасович отбросил папиросу и, переждав, пока утихнет вспышка хохотка, степенно ответил:
— Водку не пью: врачи запретили… Но дело не во врачах: пьянства не терплю…
— Тогда товарищ. Шестерня нам не подходит! — с веселой иронией заключила Югина под одобрительный шум. — Тут нужен голова пьющий.
— Верно! — с насмешливой бодрецой поддержал Югину мужской голос. — У нас все правление пьющее! Только за чаркой и решают дела!
— Раз непьющий — не справится! — озорно поведя черной бровью, выкрикнула полногрудая молодица.
В президиуме председательствовал член правления Фома Якименко низкорослый мужичишка с красным морщинистым лицом. Испуганно моргая широко поставленными глазами, он тщетно призывал собрание к порядку:
— Товарищи! Это же не ярмарка!.. Югина, дело говори, если просишь слова!
— Я и говорю дело! — отозвалась Югина. — С Саввой мы засеяли землю, с ним и урожай надо собирать! Посмотрим, что получим на трудодень, а потом можно решать, оставлять его в председателях или давать по шапке.
— Верно!
— Правильно! — раздались голоса.
Фома скосил глаза на председателя райисполкома и нервно постучал по графину карандашом; затем стал предлагать слово то одному, то другому колхознику, обращаясь к ним по имени и отчеству и вызывая этим ехидные ухмылочки женщин. Раньше ведь Фома никогда не снисходил до того, чтобы вспомнить чье-нибудь отчество.
— Товарищи!.. Товарищи!.. — вопил Фома. — Вышестоящие органы советуют нам гнать в шею старого председателя и выбирать нового. Имеется предложение ставить вопрос на голосование!
— Подожди с голосованием, — одернул Фому Степан. — Дай людям высказаться.
И председатель райисполкома взял бразды правления собранием в свои руки.
— Так кто еще просит слова? — деловито спросил он.
— А послушайте-ка мою думку! — с места поднялась Ганна, бывшая жена Платона Ярчука. — Если снимаете с головы Савву, то треба за компанию снять все правление колхоза! Много пьяниц там собралось. А Фома еще и матерщинник, чтоб его язык отсох!
Предложение Ганны собрание встретило с резвым энтузиазмом:
— Святая правда!
— Пропивают колхоз!
— Лошадей у них не допросишься, а на матюги не скупятся!
— Все в поле работают, а они в лавке горилкой очи заливают!
— Переизбрать правление, и точка!
Хотя было утро, в рощу заползал августовский зной, дышавший смольным духом сосны. Степан расстегнул воротник френча и поднял руку над головой, требуя тишины. Собрание постепенно утихомирилось.
— Раз имеется предложение переизбрать правление колхоза, надо голосовать. Кто за это предложение?..
Степану не дали договорить: дружно взметнулись руки, и над собранием пронесся вздох облегчения.
Низко склонились головы членов правления. А пунцовое до этого лицо сидящего в президиуме Фомы Якименко покрылось бледностью.
— Принимается! — спокойно подытожил в наступившей тишине Степан.
Люди напряженно смотрели в знакомое лицо председателя райисполкома, не веря, что действительно случится то, о чем кричали они, подогретые дерзким предложением Ганны.
Дальше собрание пошло гладко. Вначале приняли в члены артели Свирида Саврасовича Шестерню. Затем проголосовали за освобождение от должности председателя Саввы Мельничука. А после того как Шестерня рассказал свою автобиографию, единогласно избрали его председателем.
Наступило время решать второй вопрос. Степан взял в руки список членов правления колхоза, прокашлялся. В это время сзади, на сосне, повис дятел, и вдруг раздался его гулкий стук о ствол дерева.
— Войдите! — откликнулся Степан и оглянулся на сосну.
Собрание взорвалось хохотом, вспугнув дятла и наполнив рощу стонущим эхом. Октавистыми басами гагакали мужики, стеняще повизгивали женщины.
Степан растянул губы в улыбке, и было непонятно, пошутил ли он с дятлом или откликнулся на его стук по привычке.
— Зарапортовался, — покачал он головой, хитровато усмехаясь.
Когда с трудом была водворена тишина, Степан, всматриваясь в просветленные смехом лица колхозников, произнес:
— Приступаем к переизбранию членов правления, — и, поднеся к глазам список, зачитал: — «Якименко Фома Кондратьевич!..» Прошу выдвигать мотивы, по которым ставится вопрос о выводе его из состава правления. Кто, товарищи, просит слова?
Собрание молчало.
— Ну, так что же? — Степан смотрел на людей вопросительно и чуть насмешливо. Он-то хорошо знал, что если в претензиях к правлению колхоза и есть доля правды, все-таки именно члены правления первыми разглядели бесхозяйственность и нечестность Саввы Мельничука и поставили перед районом вопрос о его замене.
— Горилку хлещет Фома! — неуверенно выкрикнула Югина.
— Он же за свои гроши пьет! — без промедления сердито возразил Кузьма Лунатик.
— И в свободное время! — веско добавил кто-то.
— Раз государство гонит горилку, пить ее не грех! — глубокомысленно заключил Сильверст Рябоштан — древний старик, морщинистое лицо которого было темным, как перезимовавший под снегом дубовый горбыль.
— Так какие будут предложения? — Степан раздумчиво всматривался в лица кохановчан.
— Пусть работает! Оставить в правлении! — назидательно изрек Кузьма, будто определяя меру наказания Фоме.
И собрание, вогнав Фому Якименко в холодный пот, единодушно проголосовало (включая Югину и Ганну) за то, чтобы оставался он на своем посту.
— Так дело не пойдет, — твердо произнес свою первую, уже председательскую, фразу Свирид Саврасович Шестерня и стал за столом рядом со Степаном Григоренко.
Свирид Саврасович, наверно, и сам не догадывался, что фраза его прозвучала многозначительно. Действительно, надо было по-иному ставить колхозные дела. И Шестерня заговорил уверенно и строго:
— Я — потомственный крестьянин, хоть и звенит в моей фамилии железо. Один из моих предков произвел на свет белый шестерых сыновей, за что и был удостоен фамилии Шестерня. С одна тысяча девятьсот двадцать четвертого года, с того года, когда умер наш великий вождь и учитель Ленин, я состою в партии большевиков. Но в партии я не шестерня, а солдат! И если вы доверили мне быть головой колхоза, я буду выполнять свои обязанности, как солдат партии. Партия требует, чтоб колхоз наш стал богатым, — это нужно и вам и всему народу. А мать богатства — труд, организованный, честный, упорный. Мы идем в бой за урожай. В бою же нужны смелые и умелые вожаки. Но я так и не понял: доверяете вы своим вожакам — членам правления — или нет?
Кажется, ничего нового не говорил Свирид Саврасович, но кохановчане слушали его так, будто перед ними впервые открывалась какая-то очень важная и нужная истина. Может, покоряла людей убежденность, уверенность нового председателя в том, что все зависит от них самих, простых мужиков. А Шестерня продолжал:
— Как решить с нынешними членами правления — ваша воля. Заявляю только, что с пьяницами работать не буду. И еще вот что: в Кохановке женщин больше, чем мужчин. А в правлении одни мужики. Предлагаю доизбрать в правление хотя бы трех женщин…
Голос Шестерни утонул в одобрительном гуле.
37
Ох, и трудная ты, доля председателя колхоза! Все время чувствуешь себя так, будто один бок тебе припекает, а другой холодом обдает; подпоясан ты вроде не ремнем, а колючей проволокой, и сапоги твои тесны до зеленых искр в глазах. Ни дня тебе тихого, ни ночи покойной: Голова непрерывно должна напрягать все извилины до медного звона в висках. Ведь хозяйство преогромное, людей в колхозе великое множество. За всем нужно усмотреть, всему толк дать. А тут еще недреманное око района: то не так да се не так, почему сводки не представили да отчего уборку затягиваете…
Нелегко пришлось Свириду Шестерне в Кохановке. Но вот постепенно начали втягиваться в работу правления колхоза женщины, которых избрали на том памятном собрании. Одной из них была Югина. И Свирид со временем почувствовал, что у него будто вырастают крылья.
А все началось с ездовых.
Быть ездовым и выполнять различные поручения бригадиров не мудреное занятие. Не шаткая и не валкая это работа. Сидишь себе на передке телеги, помахиваешь кнутом и покрикиваешь на лошадей:
— Гаття-я!.. Но-о!.. Гаття-я-я!..
Но больше всего ездовые любят выполнять заявки колхозников. Одному надо огород вспахать, второму подвезти дрова или сено, третьему подбросить зерно на мельницу. И каждый хозяин или хозяйка дома, к которому подана подвода, зазывает ездового в хату и сажает к столу. А на столе уже шкварчит на сковородке яичница с салом, поблескивают мокрой зеленью соленые огурцы, стынет седой от жира холодец. И, конечно же, стоит запотевшая бутылка с самогоном или казенкой… Так, во всяком случае, заведено в Кохановке.
Были времена, когда пытались поломать эту традицию. Кохановчане дружно проголосовали на общем собрании против магарычей. Ездовые тоже вроде охотно драли вверх руки, поругивая хлебосольных односельчан, из-за которых им никак не удается протрезвиться.
А потом люди начали убеждаться, что не так уж легко выхлопотать для какой-нибудь своей нужды коней. И не потому, что председатель или бригадиры отказывали. Получалось так, что ездовые стали еле-еле управляться с колхозными работами. А если и пообещает Павло или Грицько подать подводу, то выполнит обещание с опозданием на сутки или двое. Почему-то чаще стали ломаться оси у телег, соскакивать шины с ободьев колес, да и кони то и дело болели. Словом, множество находилось причин, из-за которых Тодоска или Палажка, Федот или Иван без дела сидели дома, нетерпеливо выглядывая где-то запропастившегося ездового.
И скоро все стало по-прежнему. Опять ездовых видели с раскрасневшимися лицами и осоловелыми глазами. Никто из них особенно не противился магарычам, но зато подводы больше не заставляли себя ждать, хотя нередко это было в ущерб колхозным нуждам.
И вот Югина предложила Свириду Шестерне сместить всех ездовых, а на их место поставить женщин; для мужчин ведь работа потяжелей найдется.
Согласилось правление с Югиной, и пришлось колхозным лошадям привыкать к тонким женским голосам, а бывшим ездовым отвыкать от дармовой чарки. В итоге же будто прибавилось коней в колхозе…
С этого и начались беды для кохановских мужиков и хлопцев, которые было попристроились на непыльной работе. Хитрый Свирид Шестерня только руками разводил, делая притворно-испуганные глаза, когда Югина привселюдно начинала проявлять «заботу» о ком-нибудь из парней.
То интересовалась у Сереги, не тяжело ли ему секретарствовать в сельском Совете, То предлагала на току учетчику — дюжему Михайле — в помощь кого-нибудь из девчат. То тревожилась, как бы не надорвался гирями Кузьма Лунатик, работавший весовщиком. Даже шпыняла своего муженька, силача Игната, незаменимого наладчика молотилок, заставляя его помогать грузчикам.
И вскоре среди кладовщиков, весовщиков, учетчиков, писарей не осталось ни одного мужчины.
Начитанный Свирид Шестерня не без основания заявлял, что в Кохановку вернулся из глубины веков матриархат, но в новой, более совершенной форме, при которой женщины не только подхлестывают мужиков, но и сами ходят в коренной упряжке.
И верно: Югина, к неудовольствию Игната, совсем отбилась от дома. Оставив хозяйство на старших своих школяров — Петруся и Фому, она металась по полям, по фермам, в то же время «тянула» свою норму у веялки на току или на свекловичном поле. Лицо ее с ямочками на щеках потемнело, нос облупился и покраснел. Толстая каштановая коса была упрятана под косынку, а в прежде веселых искристых глазах поселилась озабоченность.
Часто забегала она в те осиротевшие хаты, где во главе семейств остались одни женщины. Подолгу о чем-то шепталась там. И люди стали замечать, что никто из этих женщин не чурался работы на уборке, на фермах, на свекле. Общая беда будто сплотила их. Да и понимали, что надо надеяться только на самих себя, что никто другой не накормит, не оденет семью. Многим запала в сердце не новая, но по-новому прозвучавшая фраза, которую обронил на собрании Свирид Шестерня: «Труд — мать богатства». Женщинам-одиночкам было не до богатства, и слова председателя слышались для них по-иному, предостерегающе: «Лень — мать бедности».
И приходилось работать до соленого пота в глазах, особенно в жатву, когда вечерняя заря по пятам гонится за утренней. Не успеешь уснуть, как начинают с первобытной мощностью горланить петухи, а в окна стучится подслеповатый рассвет. Не улеглась еще в пояснице ноющая боль, не забыли о вчерашней усталости руки и ноги, но пора уже вставать. Земля не любит, чтобы человек, которого она кормит и поит, много спал. Заспишься — и жестоко накажет: вытряхнет из тяжелых колосьев переспевшее зерно, охватит зеленой прелью покосы, свалит заматерелый сеностой, заглушит колючим осотом и ползучим вьюнком свеклу.
Надо работать…
38
Шло время — мудрый учитель и великий врачеватель. Новое время. Оно учило добром и злом, врачевало заботами. А земля заботами крестьян не обделяет.
Шло время. Мерно сменяли друг друга свет и темень. То ночь, сбросив свои черные одежды, превращалась в шумный день, сверкавший юной красотой, то день закутывался в темное и становился кроткой ночью, увенчанной тишиной и звездами.
Мерно сменяли друг друга времена года… В апреле ветры срывали с земли снежное покрывало, и она, умывшись в весенних ручьях, лежала под солнцем в тихой истоме. Под стальной говор тракторов, волочивших за собой сеялки, под твердый, упругий топот конских копыт, под оживленные, радостные голоса людей и песни невидимых в небе жаворонков вершилось самое святое: оплодотворение земли.
Весенний сев венчался первомайским праздником и пасхой, о приближении которых возвещал предсмертный многоголосый визг свиней в каждом подворье. Купались в солнечном жару зацветшие сады.
Затем наступало лето. Поля дурманили влажными и пресно-свежими ароматами нагретых хлебов. Земля во всю силу материнской ласки растила урожай. В жнива поедались запасы сала и копченых окороков: жнец должен быть при полных силах!
Приходила осень с ленивыми туманами на луговинах Бужанки. Люди по привычке тревожились: «Сколько получим на трудодень?» Получали не мало. Поселилась, наконец, в крестьянских сердцах вера в колхоз и еще робкая, не бескорыстная любовь к нему.
Приходило горячее время для сельских музыкантов — наступала пора свадеб. И гремели они в разных концах улиц звоном медных тарелок, уханьем бубна, переборами гармошек, визгами скрипки, хохотом кларнета и, конечно же, песнями. Трещали и со стоном валились плетни под напором незваных гостей. Суматошно летали по селу оживленные ватаги мальчишек.
И еще проводы студентов в институты и техникумы…
И еще проводы новобранцев в армию. Плакали невесты, и веселились хлопцы. Армию считали самой мудрой и доброй школой. И хлопцы, не прошедшие этой школы, ставились ни во что.
Потом Октябрьские праздники… Престольные… Новой год в снежной вьюге. Старый Новый год в свирепом треске мороза… Да мало ли поводов ударить шапкой об пол хаты и рыкнуть такой песней, чтоб стекла в окнах взвизгнули от восторга! Украина — она и есть Украина. Здесь веселье скупыми дозами не отмеряют.
Да, шло время… Казалось, что Кохановка вновь вступила в девическую пору, когда брызжет здоровье, сверкает красота и пьянит безотчетная веселость. Светились белизной хаты и радостно смотрели на мир глазницами чистых окон. И как бы стали ниже перегородки между подворьями. Раньше бывало: чем крепче хозяйство, тем выше и плотнее забор, тем гуще острог вокруг огорода — живая изгородь из колючего кустарника-повия, который к осени плакал красными слезами тугих ягод. А сейчас будто хотелось хатам видеть дальше и лучше слышать песни, которые в Кохановке не подвластны ни времени суток, ни временам года.
И удивительно было другое. Казалось, сады цвели буйнее, если больше песен в селе. И лес, казалось, ближе теснился к левадам, и в левадах звучнее соловьиный звон и кукушкина перекличка, и яснее взгляд месяца из-за облаков, и отчетливее таинственное мигание звезд, и резвее цикады на ясенях, и крикливее лягушки в затонах Бужанки… Много красок и много звуков, радовавших сердце, поселилось в Кохановке.
А где-то далеко на западе таилась война. Не в подземельях таилась, а под солнцем, на виду у всего мира. Но о войне думали мало. Не верили, что она близка. Всем хотелось счастья…
В один из ясных осенних дней тысяча девятьсот сорокового года, когда солнце клонилось к краю напоенного золотом неба; у ветряка, что за околицей Кохановки, сошел с попутной машины красноармеец. На ветряке осталось только одно крыло — ребристое, черное, мертвое. Красноармеец поклонился ветряку, как доброму знакомому, поставил на замшелый вросший в землю жернов вещевой мешок, обвитый скаткой шинели, и устремил взволнованные глаза на село. Это был Павел… Павел Ярчук — сын Платона. Туго сдвинутые смоляные брови над карими глазами, смуглое в молодом румянце, лицо, полные обветренные губы, над которыми уже уверенно пробивались усы… Подпоясанная гимнастерка плотно облегала его стройное, мускулистое тело и позванивала иконостасом спортивных значков на груди.
Два года прослужил он рядовым хозяйственной роты при авиационном военном училище. Два года с завистью смотрел на марширующие колонны веселых, одетых в красивую летную форму курсантов, спешивших на занятия или с занятий. А сколько раз провожал восторженными глазами тупоносые «ястребки», дерзко бороздившие голубизну неба! И всегда ощущал в сердце холодную пустоту оттого, что не суждено ему поднять земные заботы в небо, почувствовать себя сильным и вольным в безбрежных заоблачных просторах… Сколько же таких, как он, по воле злой судьбы не заняли место в этом боевом строю, куда звало их сердце?.. Потом пришла черная весть об измене Насти…
Отсюда, от ветряка, виднелась поредевшая левада, которая когда-то принадлежала Степану Григоренко.
К леваде прижался садок, а над садком высилась, отсвечивая янтарём, соломенная крыша новой хаты. Павел знал, что в той хате живет его Настя… Нет, давно она стала не его.
Появился Саша Черных в Кохановке, чтобы выполнить просьбу Павла, познакомился с Настей и влюбился… Сестра Югина писала Павлу, что это Ганна заставила Настю выйти замуж за приблудившегося к селу хлопца позарилась на его шоферскую специальность, на работящие руки. А Настя?.. Может, действительно не хватило у нее сил противиться воле матери? А может, Саша Черных ужалил ее смятенное сердце своей красотой, рослостью, бойким нравом и забыла Настя о Павле, поверила, что прибежит к своему счастью короткой, случайно найденной тропинкой… Всякое могло быть…
И вот впереди самое трудное — встреча с Настей, с Кохановкой. Сумеет ли Павел перед всевидящим оком села изобразить независимость и гордое презрение к Насте, сумеет ли не показаться жалким перед людской молвой и жестоким людским любопытством?..
Перевел взгляд на другой край села, туда, где в сонной гущавине акаций покоилось кладбище. Там похоронена его мать. И всплыли в памяти полузабытые слова, которые мать сказала в тот невозвратный вечер, скрытый дымкой времени:
«…Сыночек мой, я б небо тебе пригнула, если б могла…»
А Павлу хотелось счастья на земле, здесь — в Кохановке… Как же Настя посмотрит ему в глаза, что скажет?.. Тяжелая предстояла встреча.
Легкие шаги за спиной заставили Павла оглянуться.
По тропинке, ведшей из леса, спешила в село Тося. Она узнала Павла, и на ее девически-стыдливом лице затеплилась улыбка, а серые глаза вспыхнули золотыми искорками.
— Тося? — Павел был поражен: так выросла и похорошела дочка Христи.
— Да, Тодоска. — И Тося, горделиво поведя плечами, улыбнулась, будто смилостивилась.
— Здравствуй, Тодоска.
— Здравствуй, Павел… Приехал?
— Как видишь.
— Насовсем или в гости?
— Насовсем.
Налетел шалый ветерок и легонько толкнул Тосю в спину. Она качнулась к Павлу и, неизвестно отчего, радостно засмеялась.
39
Долго скорбел Павел о своих рухнувших надеждах и о несбывшейся любви. Долго жгуче кипела в его сердце обида. Еще на службе в армии много размышлял он над тем, по каким дорогам устремиться в будущее, на поиски счастья. Мучительно хотелось добиться чего-то необыкновенного, ослепительного, чтобы удивить людей и заставить Настю горько пожалеть о своем вероломстве.
Но время — воистину мудрый учитель и великий врачеватель. Постепенно уснула сердечная боль, перестало кровоточить израненное самолюбие; река забвения остудила тщеславные мечты. А когда встретил Тосю, показалось, что судьба решила погасить всколыхнувшуюся при возвращении в Кохановку боль и вознаградить его за все пережитое. Будто молодая поросль к солнцу, восторженно потянулся Павел к Тосе — стыдливой и беззащитной, милостиво-улыбчивой и горделиво-недоступной девушке с певучим голосом, искорками в глазах и золотой косой.
Отшумела вьюгами зима, уступив место богатой на тепло и влагу весне тысяча девятьсот сорок первого года. В отцветших кохановских садах и буйно зеленевших левадах не умолкал звон кукушек, щедро предвещавших людям долгую жизнь.
В эту пору в Кохановке играли много свадеб. Тося, хмельная от любви, от счастья, тоже готовилась к свадьбе. В ближайшие дни они пойдут с Павлом в сельскую раду расписываться, а в воскресенье будет свадьба.
И вот наступило это незабываемое воскресенье. Ясное, солнечное с утра, к полудню оно ударило в тревожный набат… Война! Чувства и мысли людей — самый великий дар природы — всколыхнулись, смешались. Потускнело счастье, и померкли прошлые беды. Тяжкая весть, свалившаяся оглушительной лавиной, сравняла всех — одаренных радостями и обиженных жизнью.
Черным венком из женского плача была обвита Кохановка, когда уходили из села мобилизованные. Страшен был этот прощальный час тем, что никто из мужчин и парней не знал, вернется ли назад, хотя в садах и левадах не умолкали сизые вещуньи.
Эх, если б могли сбыться предсказания кукушек! Ведь только встали на ноги, хлеборобским сердцем приняли жизнь, которую рождали в муках!..
Трудное было расставанье у Павла и Тоси — горькое, малословное. Тося — с подурневшим от слез лицом, с опухшими нацелованными губами обнимала Павла за шею похолодевшими руками и по-детски жалостливо повторяла охрипшим голосом одни и те же рвавшие душу слова:
— Родненький мой… Родненький мой… Родненький мой…
За село провожать не пошла — убежала домой, чтобы остаться наедине со своим горем.
Павел, хмельной от выпитой на прощанье водки и ошалелый от бабьего рева, с остервенением думал о фашистах — непонятных и чужих людях, которые вот так вдруг нарушили всю жизнь, затмили счастье. Искренне верил, что очень скоро, как и пелось тогда в песнях, полетят враги вверх тормашками под ударами Красной Армии и он, Павел, грозно постучит прикладом винтовки в железные ворота Берлина.
Впереди Павла шагал по обочине подвыпивший Саша Черных. За его спиной высилась тяжелая котомка из выбеленного полотна. Настя, шедшая рядом с Сашей, то и дело поправляла котомку и плакала.
— Перестань реветь! — властно прикрикнул на нее Саша. — Всыплем фашистам и вернемся! Покажем им кузькину мать!..
За околицей села все остановились. Последние минуты прощанья трудные, тягостные. Павел, чтобы скрыть волнение, стал смотреть на старый ветряк. Почему-то вспомнилось, как встречался он здесь с Настей… Может, и в душе Насти при виде ветряка всколыхнулись какие-то струны и тоскливо запели о прошлом. Она вдруг отшатнулась от Саши и бросилась к Павлу на грудь, судорожно обвила руками его шею.
— Прости меня, Павлик!.. Прости бога ради… — взволнованно и горячо зашептала Настя. — И живым возвращайся…
От близкого горячечного взгляда Насти, от ее знакомого голоса и трепетных, как крылья подстреленной птицы, рук сердце Павла вздрогнуло и бешено заколотилось. Чем-то далеким и родным, мучительно-сладким пахнуло на него.
— Ну-ну, не дури! — Саша со злым смущенным хохотком оторвал Настю от Павла.
Поборов смятение, Павел хотел сказать Насте какие-то добрые, примирительные слова, хотел напомнить Саше, что он, Павел, и Настя все-таки росли в одной хате, но так и не нашел нужных слов.
…Далеко позади осталась заплаканная Кохановка. Вслед уходящим хмуро смотрело сквозь серую дымку облаков багровое солнце. Казалось, оно размышляло над тем, что существует в безбрежном океане вселенной песчинка — планета Земля, и на этой песчинке свирепствуют непонятные для него ураганы человеческих страстей.
КНИГА ВТОРАЯ
1
На горизонте, где скрылось солнце, словно начиналось огнистое море. У края земли оно плескалось раскаленной лавой, грызло огненными зубами берег и жутко кровянило небо. Однако не был, как всегда, немым этот пламенный закат. Он сердито рокотал устрашающим голосом орудий, тяжело стонал бомбовыми раскатами: не только солнце до жаркой красноты накаляло небо — в пожарах корчилась на западе земля.
Со страшной неотвратимостью приближалась к Кохановке война.
Иван Никитич Кулида — учитель Кохановской школы, с давних лет носивший, как второе имя, кличку «Прошу», — спешил в Воронцовку и изо всех сил нажимал на педали старенького двухколесного «коня».
Под монотонно шуршавшие колеса велосипеда податливо стлалась белесая, укатанная до глянца полевая дорога. Все вокруг наливалось синеватой мглою, будто спадавшей с неба.
Иван Никитич уже привык к мыслям о войне, разумом понимал, что началась смертельная схватка двух миров, и свято верил — победит мир правды. Но почему же Красная Армия, которая «всех сильней», как пел он с учениками на уроках пения, отступает? Где наша несметная мощь, о которой изо дня в день возвещали газеты? Эти и многие другие вопросы раскаленными гвоздями впивались в сердце. Будто чувствовал на себе укоряющие и вопрошающие взгляды хлопчиков и девчаток: ведь сколько раз объяснял им, что ни вершка своей земли врагу не отдадим. А враг каждый день откусывает целые районы с городами и селами…
Но сейчас, когда Иван Никитич спешил в райцентр, в его голове гнездились совсем другие мысли. Ему казалось, что он вырвался из таинственного мира фантастической книги или во сне привиделось ему немыслимое… Однако в карманах брюк вполне реально ощущал холодную тяжесть двухфунтовых слитков червонного золота.
Этой ночью учитель Кулида собирался было покинуть Кохановку. Его жена и дочь эвакуировались из села неделю назад и уже, наверное, ждали его в далекой Полтаве у родственников. А Иван Никитич, не призванный в армию из-за возраста, ждал указаний райкома партии. Наконец указание поступило: уезжать на восток.
Небольшая хатенка под лесом, где жил учитель, в этот день ослепла: Иван Никитич наглухо забил ее окна досками. Затем при помощи соседей опустил в погреб старую деревянную скрыню, чтобы спрятать там главное свое богатство — библиотеку. Ровными стопками укладывал в скрыню сочинения Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина, Шевченко и Пушкина. Мысленно спрашивал себя, надолго ли прощается с книгами. Подумалось, что не так уж надежно это хранилище — погреб, хотя скрыня стояла в фармуге[3], освободившейся к лету от картошки.
«А что, если обвалить края фармуги?»
Стал обтесывать лопатой глиняные углы. Потом решил взять немного грунта в тупике погреба. Копнул там несколько раз и вдруг почувствовал, что глина под ногами медленно оседает. Испуганно отскочил назад. Не в силах был осмыслить, что происходит: ведь погреб вырыт в нетронутой глубинной целине, в прочной глине, дремавшей тысячелетия под слоем чернозема.
А между тем пол в тупике все больше превращался в морщинистую воронку, откуда-то из глубины слышались глухие удары, будто падали в сухой колодец комья земли. Наконец вся прогнувшаяся глина рухнула вниз, наполнив погреб гулом. С неосознанным страхом смотрел Иван Никитич на черный провал. Оттуда дохнуло спертым воздухом, сухим тленом и таинственностью.
Вспомнился давний мимолетный рассказ Степана Григоренко о старинных подземных ходах, затерявшихся где-то под Кохановкой. И страх сменился острым любопытством.
Проверив лопатой прочность закраин дыры, обвалив нависшую глину вниз, Иван Никитич лег на дно погреба и электрическим фонарем осветил подземелье. Увидел в четырехметровой глубине просторную пещеру, чем-то захламленную вдоль стен.
Втащил в погреб чердачную лестницу, спустил ее в провал и осторожно протиснулся в дыру. Первое, что увидел на дне, — груды спаянных ржавчиной кривых сабель без ножен и таких же ржавых наконечников от пик. Они лежали на сгнившей соломенной подстилке вдоль стен, покрытых высохшей плесенью. А в углу стояла на каменном подмостке деревянная бочка с ржавыми следами осыпавшихся железных обручей. Дубовые клепки снизу подгнили, и казалось, одна ржавчина от обручей держала их вместе. Как только Иван Никитич притронулся к бочке, клепки вдруг осели на пол и беспорядочно распались. На подмостке остался стоять округлый, в высоту бочки, штабель темных квадратных брусков. Сбросил лежавшую сверху крышку, которую мало тронул тлен, и не сразу понял, что перед ним — несметное богатство в золотых слитках. С одного бруска соскреб ножом темную наледь времени и увидел живой горячий блеск, разглядел на торце чеканку: старинный герб Российской империи, клеймо царского банка и цифру, обозначавшую вес слитка в фунтах.
«Земля молит спасти ее от попрания врагом и возвращает народу богатства его потомков», — мелькнула суеверная и фальшиво-торжественная мысль в голове Ивана Никитича.
Он еще раз осмотрел пещеру. Увидел замурованный камнем выход из нее. Что же там, за каменной стенкой? Но время не ждало.
И вот он спешил в Воронцовку, в райком партии.
Иван Никитич слишком хорошо знал жизнь, чтобы не понимать: на его месте, особенно в такое трагическое время, когда надо отрешиться от всего привычного, дорогого и со смятенным сердцем налегке бежать куда-то в неведомое, где, кроме лишений и тяжкого труда, ничего другого не будет, многие бы сейчас в алчной горячке прятали б золото и суматошно ломали голову над тем, как сохранить в тайне такое сказочное богатство. Да, многие могли поступить именно так… Но не он, который всю свою трудовую жизнь сеял в детских сердцах только светлое и доброе… А как его ученики?
Пахарь не знает, какие из брошенных им в почву зерен прорастут, возвестив об этом мир тихим и радостным шелестом молодой поросли, а какие превратятся в тлен. И учитель заранее не может угадать, какие из брошенных им зерен и в чьих именно душах прорастут и сделают человечка-школяра Человеком. Но Ивану Никитичу казалось, что он умеет заглянуть в будущее своих питомцев. И сейчас перед его мысленным взором мелькали десятки лиц, глаз, улыбок. Он видел своих давнишних и вчерашних учеников. Нет большего счастья, чем чувствовать себя сеятелем добра и мудрости. Нет большей награды для учителя, чем вера, что Петя или Оля, Вася или Таня унесли с собой из школы частицу твоего сердца и она долго будет согревать их на трудном пути жизни. Вспомнился Павлик Ярчук, ушедший на фронт. Разве Павлик поступил бы сейчас по-иному, чем его первый учитель? А Серега Грицай? Он тоже на фронте. Как бы поступил Серега, который смертельно обижался, когда его дразнили «Лунатиком»?
Иван Никитич верил, что каждый его воспитанник вот так, как и он, мчался бы сейчас в Воронцовку с вестью о найденном золоте.
2
В приемной первого секретаря райкома партии, несмотря на поздний час, сидело больше десятка посетителей. На усталых лицах — волнение, тревога, удрученность. С болезненной нетерпеливостью поглядывали на кабинетную дверь, за которой шло какое-то тайное совещание.
Иван Никитич подошел к секретарше — немолодой женщине, она связывала в высокие стопы какие-то папки, — взял на ее столе лист бумаги и написал:
«В К о х а н о в к е н а й д е н а б о ч к а з о л о т а. Д в а с л и т к а с о м н о й. К у л и д а».
— Передайте первому. Немедленно, — тихо попросил секретаршу.
Женщина досадливо взяла записку, устало пробежала ее глазами и тут же окатила Ивана Никитича недоверчиво-ошалелым взглядом.
— Вы шутите? — прошептали ее пересохшие губы.
— Возможно, — бледно усмехнулся Иван Никитич и кивком головы требовательно указал на дверь кабинета.
— А-а, — «догадалась» секретарша. — Шифр? — и, подойдя к кабинету, постучалась, дав взглядом понять Ивану Никитичу, что там, в кабинете, сейчас не доверяют даже ей.
Щелкнул английский замок, и в приоткрывшуюся дверь выглянул начальник райотдела НКВД — моложавый капитан с седыми висками. Он недовольно взял у секретарши записку, прочитал ее, затем прочитал еще и, бросив горячий, быстрый взгляд на Ивана Никитича, сказал:
— Заходите, товарищ Кулида.
В кабинете, кроме капитана, Иван Никитич увидел первого секретаря райкома Антона Федоровича Карабута и незнакомого подполковника.
Антон Карабут — рослый, налитой, широколицый; коричневые глаза его смотрели глубоко и спокойно; на высоком лбу с большими залысинами — ни единой морщинки, хотя Карабуту за сорок. Одет он в темно-синий, военного покроя костюм и хромовые сапоги.
Антон Федорович, слушая Ивана Никитича, не спускал с него внимательных глаз и, кажется, размышлял о чем-то другом. С мальчишечьим любопытством рассматривал слитки золота, подкидывал их на ладони, как бы взвешивая.
— Никогда еще не щупал своими руками такого богатства! — со сдержанным восхищением скривил он в улыбке простодушные губы, затем, указав многозначительным взглядом на Ивана Никитича, спросил у молчаливого подполковника: — Каков, а?
Подполковник сумрачно усмехнулся и согласно кивнул головой.
«О чем это они?» — удивился Иван Никитич.
— Сколько же там таких гостинцев? — спросил капитан, рассматривая чеканку на торце слитка.
— Вот такая гора, — Иван Никитич показал рукой. — Не считал. Взял два верхних, и к вам.
Карабут поднялся из-за стола, подошел к учителю и дружески положил свои крупные руки на его вислые плечи.
— Что я вам могу сказать, дорогой товарищ Кулида? — сердечно заговорил он, любовно глядя в лицо Ивану Никитичу. — Золото мы немедленно заберем, оформим его документами, как вашу находку, и отправим в Киев. В Винницу уже поздно… Сейчас золото, как никогда… повторяю, как никогда, нужно Родине. А такие люди, как вы, еще больше нужны. Молодчина вы, Иван Никитич.
От счастливого смущения Иван Никитич не знал, куда деть глаза: он не привык выслушивать такие похвалы.
А Карабут между тем продолжал:
— Вот такого бы нам верного товарища на опасное дело.
— Не понимаю вас, — Иван Никитич перевел взгляд на подполковника, почему-то полагая, что именно он должен пояснить загадочные слова секретаря райкома.
Но Карабут пояснил сам:
— Все мы, да и не только мы, остаемся в тылу для подпольной и партизанской борьбы. Что, если предложим и вам? Только не торопитесь с ответом. Эта каторга — добровольная.
Однако Иван Никитич раздумывать не стал: согласился. И уже через минуту понял, что обрек себя на испытания куда более тяжкие, чем предполагал. Понял после того, как секретарь райкома позвонил редактору районной газеты.
— Товарищ Маюков? — строго спросил Карабут в трубку. — Ты еще успеешь выпустить один номер? Хорошо. Дай в газете заметку, что учитель Кохановской школы Кулида Иван Никитич решением бюро райкома исключен из партии… Да, да! Все может быть!.. Исключен из партии и привлекается к суду за уклонение от воинской повинности.
Будто морозный ветер ворвался в сердце Ивана Никитича. Он сидел на стуле, вытирал платком вспотевшее бледное лицо и горячечным, непонимающим взглядом смотрел на секретаря райкома.
— Так надо, дорогой друг, — грустно улыбнулся ему Антон Карабут, положив телефонную трубку.
3
Уже больше двух месяцев, как страшный вал войны краем прокатился через Кохановку, а людям еще чудились предсмертные вопли умирающих солдат, надсадный рев танковых моторов, исступленный грохот, сотрясающий все живое и мертвое, — будто чадное небо, не выдержав тяжести самолетов, бомб и снарядов, стало падать на землю, исторгая в бессильной лютости громы и молнии.
Село медленно приходило в себя из беспамятства, как тяжело контуженный человек.
В один из таких дней — мутно-удушливых от безвременья и напряженного ожидания; «Что же будет дальше?» — Кузьма Лунатик решился ехать воровать лес, рассудив, что на носу зима, а хату надо чем-то отапливать, независимо от того, какая будет в районе власть. Он поймал в поле одичалую колхозную лошаденку, запряг ее ночью в телегу и, перекрестившись на образа, направился за село.
Лес в мертвенно-бледном сиянии месяца казался устрашающим и таинственным. Но Кузьма нашел в себе силы одолеть страх, вспомнив, что ему не угрожает полесовщик и, следовательно, ни перед каким законом он не в ответе.
Удивляясь людям, которые в такое время сидят, как кроты, по хатам сложа руки, он облюбовал на опушке не очень толстую, чтоб справиться топором, березу и начал ее рубить. Но вдруг увидел, что рядом наплыла на прогалину и замерла человеческая тень. Сердце Кузьмы будто окунулось в ледяную купель. Выронив топор, он резко обернулся, подавив вырвавшийся из горла вой… Перед Кузьмой стояли три бородатых призрака в красноармейской форме.
— Кто такой? — спросил один призрак, выразительно шевельнув на груди автоматом.
— Свой я, свой… кохановский, — залепетал Кузьма.
— Фамилия?
— Грицай Кузьма Иванович… По-уличному — Лунатик. Тут меня всякая собака знает, — Кузьма постепенно приходил в себя: он разглядел на пилотках бородачей звездочки.
— Колхозник?
— Так точно, колхозник, товарищи командиры.
— Какая семья у вас?
— Я, старуха да сын в Красной Армии.
Бородачи опустили автоматы, переглянулись. И опять вопрос:
— Сможете взять в дом двоих раненых женщин? И отвечать за их безопасность?
— Что ж, если надо… У нас некоторые даже раненых красноармейцев ховают.
Один бородач шагнул в глубину леса и приглушенным голосом позвал:
— Товарищ Генералов!
«Генерал?» — удивился Кузьма и с этой минуты почувствовал себя причастным к какому-то серьезному, возвышающему его над всеми сельчанами делу.
Подошел еще один военный с таким же заросшим лицом и накинутой на плечи плащ-палаткой.
— Я слышал разговор, — сказал он густым, вполне генеральским, по мнению Кузьмы, басом и подал ему руку. Затем продолжил: — Выручайте, товарищ Грицай. Мы пробиваемся на восток, а жена и дочь мои ранены. Им нужны покой и медикаменты.
— Все сделаю, не сумлевайтесь…
Так пополнилась семья Кузьмы Лунатика.
4
Харитина, жинка Кузьмы, обычно сварливая, скуповатая, поняв, что в ее руках судьба двух беспомощных, беззащитных сирот, а время теперь такое, когда все стоят на смертном пороге, со щедростью сердца, на которую способны только познавшие материнство женщины, хлопотала возле «подстреленных горлинок». Кузьма даже крякал от удивления, наблюдая, как его старуха, не зная покоя ни днем ни ночью, отпаивала узварами и бульонами раненую в грудь Ларису Петровну и нянчилась с Наталкой — ее семнадцатилетней дочерью, которой осколок повредил на правой ноге коленную чашечку.
Через неделю-другую Наталка уже прыгала, опираясь на палку, по хате, бросая пугливые взгляды на окна. Харитина, как умела, переделывала оказавшиеся при Наталке два платья, превращая их в широкие селянские юбки и просторные блузки, чтобы городская девушка стала похожей на крестьянскую дивчину. Но что было поделать с лицом Наталки — нежно-округлым, дышавшим родниковой чистотой и нерешительностью? Простая одежда никак не скрадывала ее незамутненной красоты и далекости от жизни, в которой она оказалась.
Наталка часами сидела возле матери и смотрела в ее восковое лицо с надеждой и страхом. Ларисе Петровне становилось то лучше, то хуже, а приходящий тайком из Березны фельдшер прятал от Наталки глаза…
Однажды зимой на рассвете кто-то робко постучался в хату Кузьмы. Это был Серега — полуживой от голода, холода и изнеможения. Он убежал из Уманского лагеря для военнопленных, где оказался еще осенью, когда под Киевом с раздробленной осколком мины ногой попал в плен. Из лагеря бежал Серега вместе с Сашей Черных, с которым свела его там лихая судьба.
Серега не очень обрадовался тому, что застал в своем доме посторонних людей. А когда Кузьма шепнул ему, что это генеральская семья, и вовсе струхнул.
В первые дни молча отлеживался он на печи. Посылал отца в село за новостями. А новости были не из веселых. По хатам шныряли полицаи, собирая теплую одежду для немецкого войска, выискивая советских активистов, подозрительных лиц и агитируя молодежь записываться в формирующиеся партии для отправки на работу в Германию. Серега трепетал: ведь он до войны был секретарем сельского Совета.
И вот нагрянула беда и к ним. В хату неожиданно вломилась в дымчатых клубах холода жандармерия — три немца, сопровождаемых местным полицаем: кто-то донес о подозрительных жильцах Кузьмы Лунатика. Серега замер на печке; казалось, его могло спасти только чудо.
И чудо случилось…
Когда жандармы появились в горнице, там, застигнутые врасплох, были все: Кузьма, Харитина; возле топчана, где лежала Лариса Петровна, сидела с шитьем в руках Наталка.
Мордастый полицай — неизвестно откуда появившийся в Кохановке сын сосланного на Соловки кулака Пилипа Якименко — злыми глазами указал жандармам на Ларису Петровну и Наталку.
— Кто такие? — по-русски спросил старший жандарм — холеный мужичище, будто силком втиснутый в зеленую форму из сукна.
— Сродственники наши из Киева. Чахоточные, — скороговоркой начал объяснять испуганный Кузьма.
— Документы!
Наталка, заметно хромая, подошла к миснику и взяла лежавший там паспорт матери.
Жандарм посмотрел в паспорт и снова спросил:
— Почему прописаны во Львове?
— Муж там работал, — Лариса Петровна отвечала тихим и спокойным голосом, будто перед ней не стояла сама смерть в жандармском обличии.
— Кто муж?
— Инженер. Погиб во время бомбежки.
— Родители в Киеве есть?
— Нет. Отец мой — полковник Кононов, это моя девичья фамилия, там написано в паспорте, арестован в тридцать седьмом, а мать умерла.
— Чем можете доказать, что ваш отец арестован?
— В газете об этом писалось.
…Серега не верил своим ушам.
Жандарм еще полистал паспорт, затем спрятал его в карман и спросил у Наталки:
— Что с ногой, барышня?
— Ранена при бомбежке, — ответила за нее Лариса Петровна.
— Пройдись к окну.
Наталка, стараясь хромать посильнее, послушно приблизилась к окну. Жандарм подошел к ней, взял толстыми пальцами за подбородок и оценивающим взглядом стал рассматривать ее лицо. Налившиеся слезами и испугом глаза Наталки казались аспидно-темными, в них даже не видны были зрачки. Черные, как воронье крыло, волосы, спадавшие на покатые плечи, подчеркивали белую, тронутую мимолетным румянцем чистоту лица.
Жандарм опустил руку, передернув при этом плечами и мотнув головой, словно хотел избавиться от сказочного видения. Потом густо засмеялся, и в этом смехе прозвучали восторг, удивление и радость.
Осклабились также другие жандармы. Услужливо хихикнул полицай.
Немцы, с недоверчивым восхищением поглядывая на Наталку, закурили сигареты, обменялись несколькими немецкими фразами и, галантно поклонившись Ларисе Петровне, вышли за порог.
Уже из сеней старший жандарм начальственно крикнул:
— Паспорт после проверки получите в местной полиции.
Серега спустился с печи на лежанку, принюхался к сигаретному дыму и дрожащей рукой потянулся за стаканом с махоркой, стоявшим в печурке. Затем нащупал босыми ногами на полу истоптанные валенки, надел их и прошелся по комнате, поочередно посмотрев на отца, остолбенело стоявшего у окна, на бледную, с помертвевшими глазами мать. Кинул взгляд на безмолвную, как тень, Наталку.
Серега не мог больше таиться в хате: село не любит тайн и не умеет хранить их. И у него рождался план.
Подошел к Ларисе Петровне. Она почему-то тихо плакала, вытирая уголком старого одеяла неподвластные слезы.
— Наталочка, иди подыши воздухом, — стараясь казаться спокойной, сказала Лариса Петровна. — Теперь не надо прятаться.
— Тату, — обратился Серега к отцу, — и вы покараульте на дворе. А вы, мамо, в камору сходите. Нам тут посоветоваться треба.
Когда Серега остался наедине с Ларисой Петровной, она заговорила первой:
— Сережа, ты знаешь, что они говорили между собой о Наталке?
Серега отрицательно мотнул рыжей головой, стриженной под машинку.
— Они… они… сказали, что, как Наталка поправится, заберут ее в Винницу, в офицерское казино. За доставку хорошеньких девушек дают награды.
— Не возьмут! — уверенно ответил Серега, зашуршав валенками по соломе, разбросанной на глинобитном полу. — У меня такая думка: оформить с Наталкой брак… Фиктивный, конечно, — поспешно добавил он, увидев, как испуганно взметнулись брови Ларисы Петровны. — И меня тогда меньше будут трогать и Наталку не угонят ни, в Винницу, ни в Германию.
Вскоре в старой хате Кузьмы Лунатика, на удивление людям, играли свадьбу. Серега, одетый в новый костюм, побритый, наодеколоненный, сидел рядом с бледной Наталкой, замечал устремленные на нее восторженные взгляды гостей, ловил и на себе взгляды — завистливые, недоуменные, а то и насмешливые, прислушивался к жаркому перешептыванию женщин и чувствовал себя так, словно ребенок, которого издали дразнят сказочной игрушкой.
Гости кричали «горько!», и Серега целовал «невесту» в холодные, безответные губы, краснел и потел от смущения, злился на себя, на Наталку и на всех, кто был в хате. С жуткой радостью ощущал, что в его сердце разгорается огонь, который одна смерть сумеет погасить. Он пил самогонку, заставил и Наталку выпить рюмку и говорил какие-то слова Ларисе Петровне, обещая беречь ее дочь пуще глаза и любить больше жизни. От Серегиных речей Лариса Петровна заливалась горючими слезами.
После выпитой самогонки Серега вовсе позабыл, что свадьба у них фиктивная. Он сгорал от самодовольства, косил глаза на чуть захмелевшую Наталку, умиляясь нежному овалу ее лица. Встретился с быстрым лукавым взглядом Наталки (девушка искренне поражалась тому, с каким мастерством разыгрывал Серега роль жениха) и обвил рукой ее тонкую, гибкую талию. Наталка нахмурилась и почти на виду у всех гостей отстранила его руку. Серега еле стерпел обиду, сделал вид, что ничего не случилось, а сам с лютостью подумал о том, что он скорее умрет, чем отдаст теперь кому-нибудь это бледно-молчаливое загадочное чудо.
А через два дня после свадьбы схоронили Ларису Петровну…
5
В эту весну земля пробуждалась не для радости. Первая весна, когда на улицах Кохановки не плескались вечерами песенные реки. Первая весна, когда соловьи аккомпанировали не томным вздохам и любовному шепоту, а людскому плачу. Первая весна, когда не было места для любви, а только для сердечной скорби, для неизбывной печали. Первая военная весна.
А Серега любил, любил неистово, но… безответно. Каждый вздох его был криком измученного сердца, каждый взгляд на Наталку расплескивал бездонную муку. А она — его законная супруга для людской молвы — не была ему-ни женой, ни любовницей, ни сестрой. Богиня молчания! Ходила Наталка загадочным существом по хате, по двору, по огороду, делала какие-то дела по указке Харитины и кидала на Серегу испуганные, предостерегающие взгляды.
А он, как щенок, неотступно бродил за ней, оберегая от трудной работы; учил, как держать в руках лопату или тяпку, как отличить зерно мака от зерна горчицы. Не раз пытался уговаривать Наталку, а она с ужасом бросала на него отчужденный взгляд — на его рудые волосы, на веснушчатое лицо с облупившимся носом и маленькими белесыми глазками, на большие торчащие уши — и отворачивалась с затуманенными от слез глазами.
Иногда к Лунатикам заходил Саша Черных, с которым Серега вместе бежал из плена. Статный, черноликий и черноглазый, на голову выше Сереги, он с восхищением посматривал на Наталку, и Серега замечал, что Наталка при этом опускала глаза, но делалась заметно оживленнее и веселее. На вопросы Саши отвечала без робости и даже со спокойной раздумчивостью, а если он шутил, смеялась, поражая этим не только Серегу, но и его родителей. В такие минуты Серега бешено стискивал зубы, лицо его бледнело, а скулы вспыхивали красными пятнами.
Однажды, забежав к Сереге «закурить», Саша сказал Наталке:
— Ты бы забегала к моей Насте. А то живешь тут дичком и людей не видишь.
— А мы что, не люди? — взорвался Серега. — Шел бы ты, Саша, со своими советами к лешему!
Черных с удивлением пожал плечами, а Наталка стрельнула на Серегу неприязненно-осуждающим взглядом.
Потом как-то Серега заметил, с каким любопытством и потайной задумчивостью смотрела Наталка в окошко на Сашу и его жену Настю, проходивших мимо подворья.
От ревности, злости, от безнадежности Серега не знал, куда себя девать. Никогда не думалось ему, что любовь может приносить такие тяжкие страдания.
Харитина и Кузьма тоже молча страдали, видя, как казнится их сын. Но надеялись, что Наталка образумится, что сломит ее их ласка и безропотное покорство Сереги.
В один воскресный вечер конца апреля, когда солнце и ветры подсушили дороги, в село вкатилась легковая машина горделиво-изящной осанки, серого цвета. Нигде не останавливаясь, она подошла к подворью Кузьмы Лунатика.
Из машины степенно вышли два жандарма и направились в хату. А через минуту уже без всякого степенства они волокли к машине молча упиравшуюся, смертельно-бледную Наталку.
Серега в это время был в конце огорода и секачом снимал со сливовых деревьев волчьи побеги. Пока добежал он, выворачивая раненую ногу, до подворья, машина, мигнув с устрашающей насмешкой красными огнями, скрылась за поворотом улицы.
Будто сердце оборвалось у Сереги. Обессиленно опустился он на лавочку у ворот и скрежетнул зубами.
Подошел Саша Черных, присел рядом. Долго молчал, затягиваясь цигаркой из самосада. Потом тихо заговорил:
— Нет больше мочи терпеть… Давай подадимся в партизаны.
— Куда мне с покалеченной ногой, — со стоном ответил Серега. — И Наталку надо выручать.
В эту ночь Саша Черных простился с Настей и ушел в забугские леса искать партизан. А Серега на второй день чуть свет был уже в Воронцовке, возле дома районной управы. Он сидел в сквере на влажной скамейке и под веселое курлыканье пролетавших в небе журавлей с тоской размышлял о том, сможет ли и захочет ли помочь ему в тяжкой беде бывший его учитель Прошу Иван Никитич Кулида. Серега слышал от людей, что Кулида пошел в услужение к немцам и сейчас занимает в районной управе какой-то видный пост. Пугала встреча с человеком, каждое слово которого было для него в школярские годы святым. А теперь Прошу будто отнимал у Сереги его детство, его первые мечты и еще что-то большее, без чего трудно жить на белом свете, но у Сереги нет умения понять и назвать точными словами, что именно еще отнял у него Иван Никитич Кулида, став прислужником гитлеровцев. Да и не хотелось об этом думать; перед глазами стояла Наталка, а усталое воображение нанизывало невыносимо-страшные картины надругательства над ее и его, Сереги, честью, над его любовью, над муками его сердца, над израненным самолюбием. И глодала тяжелая злоба на Наталку, что пренебрегла его любовью, что глаза ее никогда не улыбнулись ему.
Иван Никитич появился в доме управы после девяти часов, и вскоре полицай пропустил к нему Серегу.
Кулида сидел за письменным столом, над которым в золоченой рамке висел красочный портрет Гитлера. Гитлер смотрел на Серегу сумрачными глазами, под которыми набухли мешки. И таким же неприветливым взглядом посмотрел на Серегу Иван Никитич, когда тот рассказал, что жандармы увезли его жену — внучку известного врага советской власти полковника Кононова; в подтверждение последнего Серега положил на стол вырезку из газеты, которую раздобыл после того, как услышал о Кононове от покойной Ларисы Петровны.
Иван Никитич, постаревший, потемневший лицом, молча прочитал газетную вырезку, затем, не поднимая глаз, спросил у Сереги:
— Как ты оказался в селе?
— Дезертировал из Красной Армии во время отступления, а потом нарвался на противопехотную мину. — Серега врал без запинки; он знал, что может последовать такой вопрос, и заранее приготовил ответ.
— А почему думаешь, что господа немцы плохо отнесутся к внучке репрессированного Советами полковника? — снова спросил Кулида.
— Они могут не знать о ее происхождении. Вот и прошу вас…
— Я одного не понимаю, — перебил Иван Никитич Серегу. — Сейчас ты хлопочешь за родственницу так называемого врага народа, а когда работал в сельсовете секретарем… Помнишь, какой документ послал в военное училище на Павла Ярчука?
Серега, ощутив возле сердца холодную тошноту, стал смотреть на свои жесткие, покрытые рудыми волосами и веснушками руки. Ждал, что Кулида позовет сейчас полицаев, и тогда прямая дорога на виселицу… Сам, по своей воле, влез зверю в пасть… Шевельнулась злоба на Павла Ярчука. И тут пришла в голову мысль, что учитель Прошу до войны тоже пел другие песни и служил другому богу, но высказать ее не решился. Только проговорил противно-осипшим тихим голосом:
— Секретарь сельсовета — это писарь. Я писал, что мне велели. А за Наталку хлопочу потому, что она моя жинка.
— Знаю, как ты писал, — Иван Никитич горько усмехнулся. — Можешь идти… О жинке твоей поговорю с начальством. Но ничего не обещаю.
— Спасибо, пан учитель.
— Я тебе не учитель!
У Сереги еле хватило сил выйти из кабинета.
6
Серега и не подозревал, что обыкновенный человек способен вытерпеть такие душевные муки, какие испытывал он. В груди было тесно от неутихающей боли; с тяжкими вздохами она, казалось, выплескивалась за пределы его, Серегиного, существа, но тут же снова, рождаясь неизвестно где, сдавливала сердце.
Уже третьи сутки, как увезли жандармы Наталку, третьи сутки, как он не находит себе места. Его поездка в Воронцовку ничего не дала: учитель Прошу, видать, не захотел помочь.
Лучше было бы не ходить к Прошу, и теперь бы не слышались Сереге его устрашающие слова: «Я тебе не учитель». Вся Кохановка тайно проклинала Ивана Никитича как подлейшего из предателей и боялась его пуще всех полицаев и жандармов. Ведь он наперечет знал, кто из кохановчан Служит в Красной Армии, в каких семьях были коммунисты и комсомольцы, кто до войны проявлял наибольшую приверженность к советской власти. Черной тенью смерти маячил бывший учитель над судьбами многих сельчан. А теперь маячит и над его, Сереги, судьбой.
Боль по Наталке слилась в груди Сереги с чувством страха за собственную жизнь; впервые стали навещать его укоряющие мысли о том, что вокруг рокочет море страданий, что где-то на фронте льется реками кровь, а он исступленно печется только о своей поруганной любви да дрожит за свою жизнь. Эти мысли новой тяжестью накатывались на сердце и горячими ладонями хлестали по щекам.
Многим людям в Кохановке было известно, что в забугских лесах таятся партизаны. Серега знал, что исчезнувший из села Саша Черных тоже где-то там. Не раз слышал ночами раскаты взрывов на железной дороге, видел зарева пожарищ. Нет, он не собирался уходить в партизаны: у него покалечена нога, и когда вернутся наши, а Серега, как и большинство кохановчан, в этом не сомневался, вряд ли кто его попрекнет. Важно только выжить… Однако надо что-то делать. Стать бы хоть камнем, который ничего не режет, но меч точит.
В эту весеннюю ночь Серега тенью бродил по подворью, по огороду, вслушиваясь в неясный шепот ветра и тая надежду, что вот-вот на тропинке, которая вихляет через левады со стороны Воронцовского тракта, послышатся шаги Наталки. Предрассветное небо, темно-серое, неприветливо-холодное, заставляло ежиться, и Серега, ощущая черно-звенящую сумятицу в голове, направился к хате. Вдруг он услышал приближающийся по улице перестук колес и неторопливо-размеренный топот конских копыт.
Серега теперь боялся всего. Позабыв о своей хромоте, он проворно забежал за угол сарая, что стоял над улицей, и упал под плетень. Сквозь щель в плетне стал смотреть на дорогу. Вот показался конь — широкогрудый, щеголеватый; он фасонисто перебирал ногами, надменно вскидывал в упряжке головой. За ним катилась телега. Вот она ближе, на ней люди… У Сереги похолодело в груди. На телеге сидели, спустив долу ноги и держа на коленках винтовки, учитель Прошу и два полицая, а между ними — скорбно согнувшаяся жена Степана Григоренко Христя и десятилетний сын Иваньо. Медленно и тихо проскрипела подвода мимо подворья Лунатиков.
Серега уже знал, что бывший председатель райисполкома Степан Григоренко, когда к району подкатилась линия фронта, отправил семью, жившую с ним в Воронцовке, на восток, а сам оставался в Воронцовке до последних дней. Потом Степан куда-то сгинул, говорят, подался в партизаны, а вскоре, после того как была оккупирована Подолия, Христя и Иваньо появились в своей кохановской хате. Не удалось им пробраться за Днепр.
Немцы не трогали Христю — может, потому, что она дочь кулачки и что ее первый муж Олекса надел на себя петлю во время коллективизации, а может, по другим причинам.
Утром на подворье Христи заголосила Тодоска — молодая жена Павла Ярчука, жившая в одном доме с многодетной сестрой Павла — Югиной. Она пришла с маленьким Андрюшей на руках навестить мать и застала хату осиротелой. Кто-то из соседей видел в окно, как ночью увозили Христю и Иваньо, но были то партизаны или полицаи, никто не знал.
— Наши собаки увезли, — хмуро сказал Серега отцу, когда тот, вернувшись из магазина, сообщил новость. — Учитель Прошу с полицаями постарался.
Серега сидел на лавке у окна и старым напильником точил лопату, собираясь вскапывать огород. Заметив недоверчивый взгляд отца, он рассказал о том, что видел сегодня перед рассветом.
— Ох ты, каналья! — покачал головой Кузьма, зверски округлив глаза. Кто бы мог подумать? Перед приходом немцев учитель книжечки да портреты ховал.
— Какие книжечки? — насторожился Серега.
— Ленина да Сталина. Я ему еще помогал скрыню в погреб втаскивать. И знамя там было пионерское.
В опушенных белесыми ресницами глазках Сереги сверкнули недобрые огоньки. Отложив напильник и лопату, он поднялся с лавки и почти шепотом переспросил у отца:
— Тату, а вы не путаете насчет книжечек и знамени?
— Ты что надумал?! — всполошился Кузьма. — Беду на нас хочешь накликать? Не трожь учителя!
— Нет, теперь пусть Прошу беды боится, — зловеще засмеялся Серега. Он мне не учитель. Сам сказал…
7
Серега Лунатик писал анонимный донос в Воронцовскую полевую жандармерию. Четким каллиграфическим почерком, который хорошо был знаком кохановчанам по всевозможным справкам и квитанциям, полученным до войны в сельсовете, Серега выводил слово за словом, изобличая бывшего своего учителя в неверности Адольфу Гитлеру. Конечно же, не из-за небрежности не постарался молодой Лунатик изменить свой почерк. А подпись не поставил из-за хитрости, достойной раба.
Вот так же в тридцать седьмом писал он характеристику на Павла Ярчука для военного училища. Писал правду и писал неправду, зная, что ему за это не отвечать, ибо документ подпишет новый председатель сельсовета. Тогда Серега мстил Павлу за Настю и за то, что Павел, а не Серега стал курсантом авиационного училища.
Теперь Серега тоже решил быть тем безответным камнем, который сам не режет, но меч точит, однако не задумался, чей меч точит этот камень.
Днем он отправил письмо в Воронцовку, а поздним вечером в хату тихо вошла Наталка. Вошла и окаменело стала на пороге, будто до этого только места и хватило у нее сил дойти. Ее страшные глаза, источая черноту, кажется, ничего не видели.
Серега неуклюже кинулся к Наталке и, уже падающую, подхватил на руки. Медленно нес к топчану и видел, что подбородок, шея и грудь Наталки в багровых синяках.
Сердобольно запричитала у печки мать Сереги — Харитина, взволнованно прокашлялся в кулак Кузьма, сидевший на лежанке.
Наталка встала с топчана и облокотилась на стол. Подняла голову и посмотрела на Серегу кричащим от душевной боли взглядом, будто молила о помощи или пощаде.
— Самогонки… — прошептали ее запекшиеся губы.
Харитина с испугом и изумлением поставила на стол литровую бутылку с самогоном-первачом, достала из печи картошку и тушеную капусту. Наталка залпом выпила полстакана мутной жидкости, закашлялась, затем обвела всех чуть просветленными глазами и как-то по-детски, с гримасой плача на лице, сказала:
— Не спрашивайте… Ни о чем не спрашивайте, умоляю. — И снова потянулась за стаканом.
Серега пил в этот вечер смертно. В его ушах неумолчно звучали стонущие слова Наталки: «Ни о чем не спрашивайте, умоляю». А ему хотелось спрашивать, хотелось схватить Наталку за косы, поволочь по хате и выспрашивать, выспрашивать… Зачем она сказала эти слова, за которыми таилось, видать, такое, что не было у него сил поднять глаза на мать и на отца? И он не выдержал: тяжко зарыдал, завыл по волчьи, не стесняясь своих слез, своего страшного звериного голоса.
Наталка, сидевшая рядом, испуганно отшатнулась от взвывшего Сереги, некоторое время не сводила расширенных глаз со склонившейся над столом вздрагивающей рудой головы. В темных глазищах девушки плавились ужас и боль. Потом что-то надломилось во взгляде Наталки. Глаза ее подернулись теплой поволокой, и она, положив руку на плечо Сереги, прислонила свою голову к его голове и тоже заплакала, но тихо, как-то по-домашнему, с покорством судьбе.
В эту ночь Наталка стала женой Сереги.
А через несколько дней полицаи сгоняли кохановчан на площадь к клубу, где беспечно источала запах сосновой смолы виселица с четырьмя петлями. Под виселицей стоял с открытым задним бортом окруженный жандармами грузовик, в кузове которого, к изумлению стекшихся на площадь людей, сидели связанные учитель Прошу, два полицая из районной комендатуры и восемнадцатилетняя Оля — дочь Христи, родная сестра Тодоски Ярчук.
В застывшем воздухе переливалось курлыканье журавлей. Приговоренные к повешению, запрокинув головы, следили за пролетавшими в небе длинношеими птицами, а окаменевшая толпа крестьян напряженно и страждуще смотрела на обреченных.
Стоял в толпе и Серега Лунатик. Он понимал, что письмо его, посланное в полевую жандармерию, без промаха выстрелило по учителю Прошу. Но при чем здесь полицаи? Откуда взялась Оля? В душу закрадывалась тревога. Он начинал понимать, что случилось нечто непредвиденное, страшное. И ничего нельзя исправить, как нельзя возвратить выстреленную пулю.
Серега не отрывал напряженно-испуганных глаз от измученного, с синими подтеками лица Оли. И оттого, что эта девушка была приемной дочерью Степана Григоренко, который партизанит где-то в забугских лесах, тревога Сереги начала переходить в жаркий ужас, от которого ноги наливались непосильной тяжестью, а в груди стала шириться холодная, ноющая пустота.
Оля действительно пришла в Кохановку из партизанского отряда, чтобы на явочной квартире — в заброшенном, прильнувшем к лесу домике учителя Ивана Никитича Кулиды — встретиться с подпольщиками.
Здесь в глухую ночь ее дожидались два верных, хотя и одетых в полицейскую форму, товарища. Они и сообщили ей, что совсем рядом, в подземелье, куда можно спустить лестницу через замаскированный вход в погребе, хоронятся ее мать и братишка Иваньо. Оля должна проводить их в надежное место за Бугом, ибо немцы пронюхали, что Христя — жена партизанского командира Степана Григоренко, и уже готовились арестовать ее.
Сердце Оли покатилось от услышанного, и она, испуганная, взволнованная, попросила скорее проводить ее к матери и брату. И в эту минуту в домик учителя вломились жандармы и полицаи.
Начался обыск. В погребе нашли кованную железом скрыню, о которой говорилось в полученном жандармерией анонимном письме, изъяли из нее школьное знамя, портреты Ленина и Сталина, переворошили запретные книги. А потом, оставив в домике засаду, повезли арестованных в Воронцовку.
А в небе курлыкали вольные журавли. Иван Никитич со смертной тоской глядел им вслед и думал о том, кто поможет Христе и Иваньо выбраться из подземелья. Ведь ни одна живая душа, кроме них, сидящих на этом четырехколесном эшафоте, не знает о тайном убежище. Может, Христа и Иваньо догадаются кричать в трубу, которой Иван Никитич прошил толщу земли для доступа воздуха в бункер, а верхний конец прикрыл хворостом, приготовленным на дрова? Но кто их услышит?
Об этом же смятенно думала Оля. Среди множества бледно-каменных лиц с глазами, налитыми страхом и болью, она стала высматривать сестру Тосю. Шепнуть бы ей словечко, и тогда не так страшно Оле умирать. Но при жандармах и полицаях ничего не шепнешь. Да и Тосю она не может разглядеть. Не знала Оля, что добрые люди успели перехватить Тодоску в череде людей, робко бредшей на площадь, и незаметно увести ее в одну из хат, чтобы не видела она смерти родной сестры да не навлекла плачем на себя и на село новой беды.
Будто птица с подломанными крыльями, трепыхалась в безысходной тоске мысль Оли. Ну пусть, пусть умрет она со своей нерастраченной молодостью. Но как помочь маме и Иваньо?!
Оля вспомнила, как Иваньо, когда был еще совсем маленьким, допытывался у мамы, зачем она его родила. Лучше было бы ему не родиться… Потом как-то на огороде Иваньо дотошно выспрашивал:
— Мамо, а когда я не родился, вы что делали?
— Тебя, сынку, ждала.
— А… где вы ждали?
— У ворот сидела и выглядывала, когда тебя зайцы в капусту понесут.
— А ворота уже были?
— Были. Почему же им не быть?
— А улица была за воротами?
— Была и улица. Все было.
— Все было? Меня не было, а все было?
Да, все было, все будет, только не будет ее, не будет учителя Прошу и этих славных хлопцев, что рядом с ней, под виселицей. А потом не станет мамы и Иваньо.
Мама… А что, если крикнуть людям, чтоб спасли? Нельзя. Немцы тут же приведут маму, и она увидит, как ее, Олю, будут вешать, а потом казнят и маму.
Оля слышала, что толстый жандарм говорил толпе какие-то слова, читал что-то с листа бумаги, но до ее воспаленного сознания ничего не доходило. Она продолжала лихорадочно думать о маме, о любимом братике и опомнилась лишь тогда, когда почувствовала, что к ее шее прикоснулась веревка.
Зачем?! Зачем так быстро?
Жизнь соткана из времени… Может, где-то в недрах земли, а может, в недрах солнца или в других неизведанных глубинах вселенной быстро, очень быстро вращается могучий, неосязаемый вал вечности, наматывая неосязаемую ткань времени, расцвеченную миллиардными узорами живых и трепетных человеческих судеб. Остановись хоть на мгновение, неосязаемый вал вечности! Остановись и дай еще чуть-чуть погореть одной искорке! Разумом человека прикоснись к свершающемуся, и ты содрогнешься от ревущей бури, какую угадаешь в живых сердцах. Ой, мама… Прости, что Оля не помогла тебе. Нельзя, чтоб ты видела гибель своей дочери! Ведь кто знает, какая боль страшнее для матери — боль, несущая смерть ее собственному телу, или боль души при виде мучительной смерти порожденного ею ребенка?.. Кто знает?.. Трудно земному жителю определить, где главное место человеческой боли: в нем самом или в сердце его матери.
Оля умерла, не успев ответить на этот, ставший вдруг самым главным для нее вопрос.
Задохнулся в петле сеятель добра и мудрости на земле учитель Прошу Иван Никитич Кулида. Молча умерли два подпольщика, имен которых никто не знал в Кохановке.
А среди скорбной толпы крестьян стоял человек, коему предстояло теперь умирать всю свою презренную жизнь.
Будь проклят на века тот, кто, уподобившись рабу, избирает своим оружием тайное или явное предательство!
8
С тех пор уже много, много раз откурлыкивали над Кохановкой журавли. Все испытал за эти годы Серега Лунатик: страх, отчаяние, тоску, надежду. Полной радости только не испытал. Даже сын Федот не принес ему счастья. Федот родился через девять месяцев после того, как Наталка, бежав из офицерского казино, стала женой Сереги. Сейчас Федоту двадцать… Сколько уже лет Серега с пытливой надеждой всматривается в лицо сына, в его походку, ловит его жесты — надеется хоть какую-нибудь черточку свою подметить в нем. Но Федот — весь мать; и Серега терзается в сомнениях его ли это сын, или всю теплоту своего надорванного и огрубевшего сердца отдает он байстрюку.
Жена, которую любил когда-то до беспамятства, стала ему безразличной. Не потому, что иссушили ее удручающе-однообразный селянский труд и горечь несбывшихся надежд. Наталка не родила в себе хоть самого малого — бабьей сердечности и семейной привязанности к мужу. Ходила в доме чужой, скорбно-молчаливой, таящей какие-то, так казалось Сереге, унижающие его мысли. И только сыну светили тихой лаской и бездонной любовью ее черные глаза.
Потускневшая красота Наталки давно уже не волновала Серегу; более того, она стала для него ощутимым неудобством. Когда после войны пришел из Москвы ответ, что отец Наталки, капитан Генералов, пропал без вести и Наталка, боясь поверить этому, поехала в Севастополь разыскивать родственников отца, Серега извелся от сомнений. А после возвращения жены домой много дней смотрел на нее с угрожающей подозрительностью.
Бывало и так, что не раз обрушивался на Наталку с бранью, казалось совершенно беспричинной. Но причина была: Серега, знать, перехватил чей-то небезгрешный взгляд, брошенный на его жену.
Так и жил, злобствуя, сомневаясь, подозревая. А когда чувствовал, что желчь переполняет его до краев, украдкой шел к вдове Насте Черных, к которой еще со школярских лет тянулся сердцем. Сгинул где-то на смертных дорогах войны муж Насти — Александр, и она, истосковавшись по мужской ласке, была рада даже этим ворованным осколкам призрачного счастья.
Слух о том, что учителя Прошу выдал фашистам Серега Лунатик, родился еще тогда, когда село находилось в оккупации. Немцы зачем-то стали разыскивать своего таинственного помощника. Многих кохановчан вызывали в жандармерию, показывали им анонимное письмо и требовали сказать, чьей рукой оно написано. А кому в Кохановке не был знаком почерк бывшего секретаря сельсовета Сереги? Но никто не указал на него.
Когда же, несколько лет назад, открывали новый памятник над братской могилой подпольщиков, где был похоронен и учитель Прошу, люди, разбередив старые душевные раны, потребовали суда над Серегой Лунатиком.
Вскоре Серегу вызвали для объяснения в Воронцовку. Он не отпирался: рассказал все, как было. К его счастью, а может, к несчастью, не все содеянное, обернувшееся злом, влечет наказание именем закона. Не стали Серегу судить.
Но как жить на свете Степану Григоренко, когда не раскрыта тайна бесследного исчезновения его жены Христи и сына Иваньо? У Степана давно вторая семья. Однако прошлое часто отзывается мучительной болью в сердце; новое счастье не в силах усыпить голос протестующей совести. Как жить и Тодоске Ярчук, когда неведома ей судьба родной матери и братишки? Многим посторонним людям тоже не давала покоя эта странная история. Тем более что время от времени рождались слухи, будто видели Христю то в Немирове, садившуюся в узкоколейный поезд, то в Киеве в Михайловском соборе; вроде во время отправления молебна стояла она рядом с высоким тридцатилетним человеком, очень похожим на Степана, и истово молилась.
Как всякие загадочные события, и это обрастало всевозможными подробностями; находились очевидцы, клявшиеся, что сталкивались с Христей, но по каким-то причинам не могли с ней поговорить.
Недавно Серегу Лунатика снова приглашали в райцентр. Опять он рассказывал, когда и как видел Христю и Иваньо под конвоем учителя Прошу и двух полицаев. Но рассказ его ничего нового не прибавил. Загадка, родившаяся в сумятице войны, оставалась загадкой.
9
Что же такое любовь? Как и отчего рождается это светлое, восторженное и томительно-сладкое чувство, при котором весь мир вдруг встает трепетно-радостным и удивительно солнечным? Почему любовь, окатив человека морем хмельного счастья, нередко ввергает его в удушливую пучину сомнений и тоски? И что это за волшебное диво — человеческое сердце, которому дано откликаться на прикосновения жизни буйной радостью или тихой скорбью?
С Андреем — сыном Павла Ярчука — вершились чудеса первой настоящей любви, и ему казалось, что подобные вопросы еще никогда ни перед кем не вставали в такой обнаженной и глубоко-значительной конкретности. Даже неподвижный зной июльского дня и однообразный грохот самоходного комбайна не могли усыпить в нем ощущения праздника и потребности размышлять глубоко и обстоятельно.
Андрей, закопченный и загорелый, в испятнанном и запыленном комбинезоне, сидел за штурвалом комбайна и завороженно смотрел, как мотовило натруженными граблинами с коварной заботливостью пригортало к зубастым и проворным ножам податливо-доверчивые стебли ржи. Солнце исторгало на землю потоки горячего золота, и, может, поэтому нагретая и пресно пахнущая рожь казалась Андрею тоже золотой. Время от времени, когда справа, на приборном щитке, вспыхивала красная лампочка, он привычно нажимал ногой педаль сбрасывателя, и сзади, на стерне, оставалась огромная копна соломы, будто гора мятой золотой стружки.
С высокого сиденья, прилаженного на левой стороне бункера, рожь выглядела жидкой и приземистой, а не тронутая сорняками земля в междурядьях — колчеватой и седой. Когда же Андрей поднимал взгляд над полем, перед ним открывались дремотные дали, опоясанные лилово-дымчатой гребенкой леса. Только тогда ощущал лицом и глазами еле заметное дыхание пахучего и теплого ветерка. Но почему этот ветерок напоминает ему пышную косу Маринки? Почему?
Комбайн будто плыл по волнистым разливам хлебов, и Андрей чувствовал себя ближе к небу, где непугаными лебедиными стаями грудились белые, напоенные солнцем облака. В воздухе носились ласточки, похожие на наконечники стрел, прилетевших из седых глубин веков, и ему чудилось, что сквозь оглушающий и деловой говор машины он слышит их тревожное чиликанье. Нет, то не всплески ласточкиных голосов, то зовущий смех Маринки слышался Андрею.
Справа, где по колено во ржи плавно брел еще один комбайн, виднелась за Бужанкой, на ее бугристом берегу, Кохановка. Из крутой зелени дремлющих в солнечной истоме садов задумчиво, будто с тайной надеждой, глядели в поле крыши хат: соломенные — замшелые, и бело-шиферные или черепичные. Где-то там, в бархатной зелени мха, и та милая крыша, которая бережет по ночам тихий и таинственный мир его Маринки.
Но почему Андрею видятся крыши задумчивыми? Может, потому, что под ними живут хлеборобы, для которых жатва — напряженная пора радости и тревог. В эту горячую страду селянин счастлив тем, что плоды его труда заколыхались на полях хлебными лесами. И чем ниже и понурее склоняются на упругих стеблях колосья, тем выше голова крестьянина и больше радостной надежды в его глазах.
Однако этот год не сулил большой радости. Засуха… Это черное, раскаленное слово холодило душу. Земля, истомившись от мучительной жажды, будто впала в небытие, а солнце продолжало немилосердно палить, выпивая тяжесть из колосьев. И никли в мучительной тревоге головы крестьян.
Только холеные кохановские поля, где ранней весной мужики, бабы и даже подростки до кровавых мозолей на руках разбрасывали удобрения, мало-мальски благодарили хлеборобов. Не дать бы только заплакать колосьям золотыми слезами. Ох, как нужен хлеб! И чтоб хватило его для плана и для трудодня. Иначе селянину придется брюхом своим и своих детей отвечать за размолвку между землей и солнцем.
Но нельзя сказать, что комбайнер Андрей Ярчук ни о чем больше не думал, кроме как о том, чтоб золотые слезы не окропили нивы. Он непрерывно помнил о ней, о Маринке, дочери вдовы Насти Черных.
На краю поля, у зеленого вала лесопосадки, Андрей развернул комбайн и снова повел его по ровному краю колосистого поля. Приоткрыл крышку бункера: он еще не полон; подивился живучести ржаной гусеницы, которая, невредимой пройдя через молотилку, десятками копошилась сверху зерна.
Мерно грохотал комбайн, привычно вертелось мотовило, покорно склонялась перед стрекочущими ножами косилки рожь. Впереди — длинный проход, и Андрей снова окунулся в благостное забытье, в мир своей любви.
Маринка. Когда Андрей Ярчук после окончания десятилетки отправлялся на службу в армию, Маринка училась в седьмом классе и была неприметной шаловливой девчонкой с двумя косичками-ящерицами, озорными глазами и будничным звонким голоском. Андрей и внимания на нее не обращал. А приехал со службы и встретил смешливое большеглазое чудо… Как-то поздним вечером, когда укладывался на сеновал спать, услышал песню, донесшуюся из Евграфовой левады. Хмельной от доброй чарки горилки, выпитой с отцом, матерью и родичами в честь возвращения домой, Андрей даже затаил дыхание, когда его слуха коснулся чистый и нежный, наполненный мягкими мелодичными переливами голос. Он струился незамутненным, будто серебряным, ручейком и, кажется, вливался Андрею прямо в сердце. Высоким фальцетом, с веселой беспечностью песня выговаривала какие-то вихрясто-задорные слова. Хотел вслушаться в них, но помешал отец. Павел Платонович, приминая сено, хрустящее и дурманящее запахами разнотравья, недовольно сказал:
— Это Маринка дерет глотку. Ее голос. Теперь до полночи спать не даст.
— Гарно поет, — восхищенно заметил Андрей.
— Гарно! — отец хмыкнул сердито и насмешливо. — Людям на работу чуть свет…
Не знал Андрей, что в песне Маринки отец угадывал давно забытые бубенцовые переливы голоса ее матери Насти, первой своей любви.
Песня оборвалась, точно устыдившись слов Павла Платоновича. Андрей долго лежал в темноте с раскрытыми глазами, стараясь удержать в памяти мелодию песни и звучание голоса Маринки. И где-то в нем смутно забрезжили тронувшие сердце беспокойные бубенцы. «Сердце запомнило песню», — с радостным удивлением подумал Андрей, испытывая в то же время томящее чувство.
На второй день утром он встретил Маринку на улице. Утро выдалось дождливое, с холодным неприветливым небом, и девушка была одета в фуфайку-стеганку, резиновые сапоги, на голове — цветастый платочек.
— Здравствуй, Андрей! — с напускной небрежностью первой поздоровалась Маринка. — С приездом!
Андрей степенно подал девушке руку, но ничего не сказал, утонув взглядом в лучистой синеве ее больших глаз. Был поражен тем, что Маринка угловатый, неуклюжий подросток, какой помнил ее, — стала за три года неузнаваемой. Даже грубая рабочая одежда была не в силах пригасить ее красоту. Тонкие черты смуглого лица, свежие, налитые губы со смешинками в уголках и чуть испуганные глаза девушки заставили сердце Андрея покатиться.
А Маринка заметила восхищение во взгляде Андрея, повела с неосознанной кокетливостью плечами и, пряча смущение, опять с наигранной бойкостью спросила:
— Чего ж писем не писал из армии?
— А ты ждала разве?
— Другие писали.
Андрей не знал, кто были эти «другие», но в груди уже родилось ревнивое чувство.
— А я думал, что ты еще не выросла, — полушутливо, с отчетливой грустью сказал он.
— А позабыл, как на проводах в армию я тебе букет цветов поднесла?
Да, он только теперь об этом вспомнил. Маринка от имени пионеров подносила ему цветы.
— Помню! — вдруг засиял улыбкой Андрей. — Жалко, что я не отважился тогда тебя поцеловать.
— Так я тебе и разрешила б! — засмеялась Маринка и посмотрела на Андрея с чувством собственного превосходства.
— А сейчас?
— Что сейчас?!
— Сейчас разрешишь отплатить поцелуем за цветы?
На лице Маринки сквозь смуглую кожу проступил румянец. Она поиграла крутыми полукружьями бровей, затеребила пальцами кончик перекинутой на грудь черной тугой косы и, снисходительно улыбнувшись прищуром глаз, насмешливо спросила:
— Ты уверен, что твои поцелуи так высоко ценятся?
И зашагала по влажной зелени муравы, гордая, недоступная.
Ушел Андрей домой удрученным, со щемящей тоской в груди.
Потом ему рассказали: Марина Черных учится в Средне-Бугске, в строительном техникуме, уже закончила третий курс и сейчас практикуется в Кохановке. Прослышал и о том, что к Маринкиной хате топчут стежку многие хлопцы, но все безуспешно, кроме шофера Федота Грицая — сына Сереги Лунатика. Маринка, говорят, так вскружила хлопцу голову, что он всерьез кого-то убеждал, будто мотор его грузовика, когда Федот сидит за рулем, беспрестанно напевает: «Маринка, Маринка, Маринка…» А ведь правда! И мотор комбайна все время выговаривает на разные лады это самое нежное для Андрея имя! То ли от Федота, то ли от Маринки слышали люди, что осенью у них свадьба.
Эта горькая новость повергла тогда Андрея в безнадежное уныние. Шутка ли: еще до службы в армии заметный в колхозе механизатор, «король двигателей внутреннего сгорания», как нарекли его потом в танковой роте, будущий заочник института, да и по другим статьям видный парень (Андрей в этом не сомневался), и вдруг первая же девчонка, которая обожгла его сердце, уже просватана за другого…
Неожиданно и надрывно загудела сирена, вспугнув воспоминания Андрея, красным глазком загорелась лампочка на приборном щите: комбайн сигналил, что бункер уже «обкормился» зерном и требует разгрузки. Андрей остановил комбайн, заглушил мотор и мысленно ругнул бригадира за задержку машины под хлеб. Но тут же увидел, что по жнивью, вздымая пыль, мчится к комбайну грузовик Федота.
Двадцатилетний Федот Грицай, или по-уличному Лунатик, внешностью удался в мать: большие и быстрые черные глаза под прямыми, вразлет бровями, прямой нос и смоляно-черный вьющийся чуб. Нрав у Федота веселый, но с хитринкой. Держится он самоуверенно и не без достоинства. Хорошо поет, умеет забавно копировать голоса людей, особенно тех, кто разговаривает начальственным тоном. С Андреем Ярчуком Федот ведет себя так, вроде не Андрей, встал между ним и Маринкой, а сам Федот великодушно и будто бы с радостью уступил Андрею дорогу, хотя всей Кохановке известно, как Федот, узнав, что Маринка встречается с Андреем, в хмельном буйстве порывался сжечь ее хату и порешить Андрея.
Грузовик резко затормозил у самого комбайна, обдав Андрея облаком сухой и терпкой пыли.
— Дай перекур мотору, Андрей Павлович! — Федот выскочил из кабины, хлопнув дверцей. — Слезай, и сами подымим!
Андрей неторопливо, обжигая руки о раскаленное солнцем трубчатое железо, спустился по стремянке на землю.
Отошли, как полагается, от комбайна подальше. Будто не замечая, что Федот протянул ему пачку с сигаретами, Андрей достал из кармана свои. Дружно задымили, каждый скрывая внутреннее напряжение и враждебность. Но Федот хоть и моложе Андрея, умел искуснее маскировать свои чувства.
— Ну как, сержант, дела? Маринка не обижает? — добродушно спросил он.
Андрей промолчал, глубоко затянувшись табачным дымом.
— Ты с ней по-военному, построже! А будешь сюсюкать, переметнется к третьему.
— А ты сюсюкал? — со спокойной усмешкой спросил Андрей.
Федот закашлялся, бросил сигарету и втоптал ее каблуком в землю. Потом, гадко улыбнувшись, сказал:
— Ладно, не будем об этом. Давай зерно.
Андрей еще и еще жадно затянулся дымом, потушил сигарету и молча поднялся на комбайн. Запустил мотор, уверенно и спокойно включил храповую муфту горизонтального шнека и, когда из лотка обильным ручьем полилось в кузов грузовика зерно, залюбовался ровной дымчатой линией, которую прокладывал в бледном небе могучий турбовинтовой лайнер. Хотелось забыть о Федоте, о его гадкой улыбке и не терпелось скорее повидаться с Маринкой. Но в жнива комбайнеру все-таки не до свиданий. Только завтра вечером…
10
Как же все случилось?
В тот тихий июньский вечер, когда спала жара и все живое с облегчением вздохнуло, Маринка возвращалась с работы домой усталая, но довольная тем, что сумела показать на строительной площадке свои знания. И бетон замешивали, как она требовала, и «вязали» балки, как учили ее в техникуме.
Шла по улице неторопливо, наслаждаясь теплой свежестью садов и пьянящим ароматом зацветшей акации. Вечерняя заря прощально ласкала верхушки деревьев, стоящих в задумчивой неподвижности, скользила по крышам хат и сараев; в такую пору особенно явственны запахи садов и огородов тонкие, влажные, обновленные. Хочется бесконечно вдыхать их, ощущая, как слегка кружится голова, а сердце наполняется безотчетной радостью.
И мечтается в такое время, будто в сладком сне грезится. Закончит Маринка техникум, начнет работать в колхозе и готовиться в институт. А может, заочно станет учиться в институте. Вот только долго надо учиться, и это чуть-чуть омрачает мечты. В них Маринка видит сказочно белый дворец на высоком берегу Бужанки; она обязательно построит такой дворец — радостное обиталище музыки и песен — взамен старого неуютного клуба. Белокаменный, он возвысится над всей Кохановкой, и люди будут видеть его из Будомира и Воронцовки, из Яровенек и Березны. Маринка так спланирует дворец, чтоб внутри, кроме зрительного зала, библиотеки, комнат для кружков, он имел еще и пребольшую светлую горницу, где может собраться и усесться за праздничные столы сразу все сельское многолюдье.
Хорошо быть строителем. Есть простор для дела и для мечтаний. Придет время, когда и космонавты позовут их с собой обживать новые планеты. Кто знает, может, и ей выпадет счастье строить жилища за пределами земли.
Маринка уже подходила к своей тихой улочке, как ее догнал на грузовике Федот. Затормозил и, не здороваясь, сказал со знакомой, не очень приятной ей манерностью:
— Мариночка, везу потрясающей силы анекдотец! Прошу не опаздывать к лодкам.
— Ты доски везешь, а не анекдот, — холодно ответила Маринка, так как эти доски ей нужны были на строительстве еще днем. — Почему не вовремя и не на площадку?
— Непредвиденная поломка на лесопилке. А на площадку успеется! — и Федот поехал дальше.
Маринка не завернула в свою улочку. Сама не зная почему, направилась вслед за машиной Федота. И когда вышла на берег Бужанки, увидела, что Федот со своим хромым отцом Серегой, надрываясь, сталкивают через борт грузовика, прямо за плетень в огород, большую, опутанную проволокой вязку досок.
— Что вы делаете?! — налетела на них Маринка. — Это же воровство!
Федот, судорожно искривив красивое лицо, растерянно заморгал глазами, а густой румянец на его щеках, кажется, стал отдавать чернотой.
— Побойся бога, Марина! — с напускным возмущением стал ее увещевать отец Федота. — Какое же тут воровство? Десяточек досок!
— Идите в хату, я сам объясню, — обиженным голосом перебил Федот отца и, соскочив на землю, с вялой улыбкой подошел к Маринке.
— Чего ты нервничаешь, Мариночка? — тоном, каким разговаривают взрослые с детьми, спросил Федот, нежно и настороженно заглядывая ей в глаза. — На площадке сгружу все сполна. А этот материалец я на лесопилке для себя организовал. — Он указал на доски, рухнувшие за плетень и подмявшие там куст смородины и картошку.
— За счет колхоза «организовал»?!
— А я разве с другой планеты? — с веселым удивлением спросил Федот. Я тоже колхозник. Хата же нужна нам с тобой? Не видела разве, какой палац растет у старой левады?
— Не говори глупостей! — отрезала Маринка. — Я за тебя замуж не собираюсь!
— А ты что, ворог себе? — искренне удивился Федот. — Или думаешь лучше меня сыщешь?
— Дурак! — Маринка, резко повернувшись и хлестнув концом косы по лицу Федота, зашагала, сама еще не зная куда.
— Мариночка, я не сержусь! — притворно-веселым голосом крикнул ей-вдогонку Федот. — Буду ждать у лодок!
Маринка даже сплюнула от негодования. И как она раньше не замечала, что Федот настолько спесив и самодоволен? Кто ему дал право так разговаривать с ней? «Сама виновата, — с досадой подумала Маринка. — Пели с ним у лодок в два голоса. Выслушивала его болтовню. Пялила глаза, когда он копировал кого-нибудь, хихикала, как дурочка».
И вот еще что удивительно: Маринка внимательна к Федоту, может, еще из-за его матери — Наталки, какой-то необыкновенной и непонятной женщины. Как могло случиться, что Наталка, такая красивая и особенная, стала женой уродливого Сереги Лунатика?
Однажды Маринка и Наталка встретились в лесу. Было это перед майскими праздниками, когда Маринка, приехав домой из Средне-Бугска, пошла в лес за рястом — синими цветами, густо укрывшими поляны. А что делала в лесу Наталка, Маринке неизвестно. Столкнулись они у лисьих нор.
— Ряст собираешь? — первой заговорила Наталка, подняв с земли лукошко с молодой зеленью.
— Ага, ряст… А вы?
— Я?.. Я часто в лес хожу. В этом лесу я с отцом своим рассталась… Вон там, у опушки. — Наталка, указывая, протянула руку.
В это время с ветки орешника вспорхнула хохлатая синица и, подлетев к вытянутой руке, затрепетала над ней.
— Садись, садись, — Наталка тихо засмеялась и разжала ладонь, в которой лежало несколько зерен подсолнуха.
Маринка даже рот раскрыла от изумления, видя, как синица тут же села на ладонь Наталки, юрко крутнула по сторонам головкой с белыми щеками и, склюнув семечко, вновь вспорхнула на орешник.
— Ты не удивляйся, — сказала Наталка, видя, что Маринка смотрит на нее чуть ли не с суеверным страхом. — Попробуй сама. — И протянула ей семечки.
Маринка, взяв семечки, недоверчиво выпростала руку, а Наталка, поджав губы, тихо посвистела. Тотчас же над рукой Маринки, трепеща крыльями, повисла птичка.
— Свисти, свисти, — сказала Наталка.
Маринка послушно начала посвистывать, следя возбужденными глазами за синицей. Птичка с лету схватила с ее ладони семечко и улетела.
— Вы же колдунья, тетка Наталка! — с восхищением засмеялась Маринка.
— Теперь и ты будешь такой колдуньей. Только хлопчикам не выдавай секрета, а то сразу птиц отпугнут.
— Добре, буду молчать.
Потом они вместе рвали ряст. Когда цветов набралось много, уселись на траву и начали плести венки. Маринке казалось, что сидит она рядом с давней и верной подругой; было весело и интересно. А Наталка и впрямь держала себя девчонкой. Примеряла венок то на себя, то на Маринку и заразительно, как никогда еще не слышала Маринка, хохотала.
Когда направились домой, Наталка погрустнела и будто постарела. Вроде это была уже совсем другая женщина.
При входе в село Наталка спросила:
— Вы с моим Федей дружите всерьез? Ты любишь его?
Маринка почувствовала, что лицо ее запылало, и она непроизвольно подняла к нему букет ряста. Не знала, что ответить, сгорая от стыда.
— Не надо, не отвечай, — ласково сказала ей Наталка. — Ты, может, и сама еще не знаешь… Оставайся здоровой. — И повернула к своей улице.
Нельзя сказать, чтобы Федот вовсе не нравился Маринке. О ним весело. Приятно, что девчата завидовали, когда он провожал ее домой после гулянки. И очень смешно было слушать, как витиевато и восторженно нашептывал ей о том, какая она красивая, умная и как он мечтает о такой подруге жизни. Поначалу Федот пытался обнимать ее; она строго отводила его руки и, измерив удивленно-насмешливым взглядом, говорила неизменно одни и те же слова: «Это что еще?» Федот сникал и начинал отчаянно вздыхать.
А уж если сказать по правде, то Маринке нравится один студент из выпускного курса, Юра Хворостянко. В техникуме все знают, что Юра влюблен в Маринку Черных «по уши». Смешной хлопец! И красивый. Маринка несколько раз ходила с ним в кино, на танцплощадку и… однажды они поцеловались возле общежития. Но потом Юра возомнил, что она во всем должна его слушаться. Уже не приглашал в кино, а командовал: «Собирайся, у меня два билета», или: «Эту кофточку не надевай, к твоим глазам не идет…» И однажды Маринка чисто по-селянски послала его ко всем чертям. Юра долго индючился, ходил по техникуму оскорбленный, независимый. Потом все-таки пришел с поклоном. И она смилостивилась: согласилась вместе с подругами пойти к нему домой на его день рождения.
Маринка впервые в своей жизни была в настоящей городской квартире. Три комнаты обставлены современной стильной мебелью, картины на стенах, из-под ковров сверкает лаком паркет. Мать Юры — Вера Николаевна — еще молодая женщина, какая-то уютная, по-домашнему простая и приветливая, одну только Маринку из всех гостей пригласила на кухню, показывала посудный шкаф, холодильник, стиральную машину. Маринка догадалась, что Юра из-за нее устроил вечеринку и что Вера Николаевна присматривается к ней, как к будущей невестке, и от смущения ни к чему за столом не притрагивалась.
Потом пришел отец Юры — Арсентий Никонович — грузноватый, широколицый; он, говорил Юра, ответственный работник областного масштаба. Маринка заметила, как Вера Николаевна взглядом указала на нее мужу, и обозлилась. До этого она отказывалась пить даже шампанское, а тут вдруг сама налила себе рюмку водки, враждебно-вызывающе посмотрела на Юру и выкрикнула с неестественной смелостью:
— За именинника!
Все удивленно примолкли, а Маринка, уловив ужас в глазах Веры Николаевны, со злорадством лихо выпила.
Ей показалось, что она проглотила раскаленную заклепку: закашлялась, из глаз полились слезы. А все вокруг безудержно хохотали, разгадав, что водку она попробовала впервые в жизни.
Тут же Маринка захмелела. Она не может вспоминать без стыда тот вечер. Беспричинно, как дурочка, смеялась, вместе со всеми орала песни и назло Юре и его родителям демонстративно ухаживала за тихим и робким Демьяном Убейсобачко, ее однокурсником.
Провожать себя домой Юре не разрешила, а потом всю дорогу до общежития молчаливо выслушивала упреки подруг.
Три дня, проявляя необыкновенную хитрость, избегала встреч с Юрой, а затем уехала в Кохановку на практику.
И все-таки Юра Хворостянко славный парень. Но что-то в нем есть общее с Федотом. Маринка даже сама не знает, что именно, однако есть. Может, ей так кажется потому, что, когда она рассказала Юре о белом дворце над Бужанкой и о возможном полете строителя на другую планету, Юра посмеялся, назвав ее мечты розовой ахинеей?
Да, всерьез Маринка еще никого не любила. Разве только Андрюшу Ярчука, когда была в седьмом классе. Но это ее тайна. Никто о ее девчоночьей любви не знал, даже Андрей. А потом все забылось. Теперь смешно вспоминать, как замирало у нее сердце, когда в школе на переменке Андрей проходил мимо нее. Она украдкой следила за ним и люто ненавидела всех учениц, с которыми дружил Андрюша. Мечтала, чтобы с Андреем приключилась какая-нибудь беда, а она поспешила б ему на помощь, спасла его.
А сейчас Андрей совсем не такой, как в десятилетке. Совсем взрослый, серьезный. Зачем ему надо было насмехаться над ней, когда встретились на улице? Ишь, поцеловаться захотелось! Целовальщик!..
Впереди, в зелени молодых, поднявшихся после войны ясеней, двор председателя колхоза Павла Ярчука. Маринка вспомнила, что, когда была семиклассницей, с жадным любопытством тайком смотрела на хату, где живет Андрей. Она казалась ей загадочной, хранящей какую-то милую тайну, по-особому красивой, совсем не похожей на другие хаты. Нет, сейчас Маринка ни за что не повернет голову в сторону Андреевого двора. Вот так и пройдет мимо, безразличная, занятая своим делом… Да, она же спешит в контору правления колхоза к голове, к Павлу Платоновичу! А вдруг он дома? И Маринка кинула вопросительный взгляд на хату… Тут же увидела Андрея. Он стоял на пороге сеней в военной форме, без фуражки и напряженно, будто даже сердито, смотрел на нее.
От растерянности Маринка остановилась и не сводила с Андрея враждебно-вызывающего взгляда. Мучительно подбирала фразу, какую должна была сейчас же сказать, но никакие слова на ум не шли; только сердито рассматривала Андрея — какого-то ладного, давным-давно знакомого… А его глаза смотрели совсем не сердито; в них угадывались смешливые искорки, и уголки губ дрожат в улыбке, хотя брови хмурятся, будто боятся, чтоб из глаз не выплеснулся смех.
— Ну, чего вытрещился?! — наконец нашлась Маринка. — Никогда не видел?
— Такой сердитой не видел, — Андрей засмеялся и подошел к калитке.
— Павло Платонович дома? — строго спросила.
— Скоро должен быть, — уже без улыбки ответил Андрей. — Заходи в хату.
Маринке опять подумалось, что она никогда-никогда не была в хате Андрея! Мучительно захотелось зайти и глянуть хоть одним глазочком.
— Некогда заходить, — холодно ответила. — Там доски растаскивают. И, негодуя, сбивчиво рассказала о случившемся.
Она ожидала, что Андрей сейчас возмутится, а он вдруг спокойно, то ли с насмешкой, то ли с недоумением, спросил:
— Как же позволила Федоту не послушаться себя?
Маринка в упор смотрела на Андрея и чувствовала, что ее глаза наливаются слезами. Потом с досадой и горьким укором тихо промолвила:
— Эх, ты… людским наговорам веришь… Много таких Федотов…
Может, Маринке показалось, что лицо Андрея залилось краской, а серые глаза увлажнились? Но она отвернулась, чтоб скрыть свои глаза, которым стало горячо.
Андрей вышел за калитку, притронулся рукой к ее плечу и сказал:
— Пойдем.
И они пошли. Только не в направлении конторы колхоза, а почему-то ко двору Федота.
Грузовик с досками стоял на том же месте. Вокруг — ни души.
— Поздно обедает Федот, — со злым смешком заметил Андрей, присматриваясь зачем-то к машине. Потом повернулся к Маринке, и она поразилась: Андрей смеялся… Смеялись его глаза, губы, морщинки на лбу, даже нос и уши, кажется, смеялись.
— Марина, — таинственно зашептал Андрей. — Спрячься вон туда, за криницу. Наблюдай. — А сам, пригибаясь, метнулся вдоль плетня к грузовику.
Маринка никогда не могла подумать, что Андрей способен на такие выдумки. Она, подобрав к подбородку колени, сидела на траве за дряхлым, отдававшим сыростью срубом колодца и видела, как Андрей торопливо сматывал с заднего конца рамы грузовика длинный металлический трос. Затем пропустил конец троса под плетень и, воровато глянув на сонливо щурившуюся в закатном солнце хату Лунатиков, перемахнул через плетень в зеленый омут огорода, где таились сваленные с машины доски. Что он хочет сделать?! Маринке было только заметно, как трос, будто змея, быстро уползал под плетень да пошатывался за плетнем подсолнух… Догадалась и задохнулась от хохота.
Через несколько минут Андрей уже сидел рядом с ней, возбужденный, с исцарапанными руками. Выгрызая зубами из пальца занозу, он почти влюбленно посматривал на хату Федота. Казалось, Андрей был чрезмерно счастлив оттого, что Федот предоставил ему возможность позабавиться.
А Маринка смотрела на Андрея так, будто он давно был ей близким, дорогим и будто впервые увидела его после долгой разлуки. Конечно же, дорогим и близким был! Только она позабыла. А теперь вспомнила… нет, сердце ее вспомнило и словно проснулось.
Хорошо, что Андрей не заметил ее взгляда. Потом ей стало стыдно. Нет, не перед Андреем. Она увидела, что по улице идет отец Андрея — Павел Платонович и с недоумением смотрит на них; кажется, даже соломенный капелюх на его голове от удивления соскользнул на затылок.
Маринка испуганно толкнула Андрея под бок, указала глазами вдоль улицы и вдруг, представив, как они, совсем взрослые, выглядят сейчас со стороны, зашлась смехом.
Павел Платонович — коренастый, черноусый, с коричневым от загара лицом, в запыленных сапогах и сером поношенном костюме — не спускал изумленных глаз с сына и Маринки, которые, будто дети, притаились за срубом колодца.
— Эх, испортит сейчас песню! — сокрушенно прошептал Андрей и, сам не зная для чего, махнул отцу рукой, удивив его еще больше. Павел Платонович, крайне озадаченный, остановился.
И в эту минуту со двора вышел Федот. Заметив голову колхоза, он проворно юркнул в кабину грузовика и завел мотор. Тут же грузовик тронулся с места и быстро начал набирать скорость. Вслед за ним из-под плетня заструился трос. Вдруг трос натянулся, послышался треск, и старый плетень, обломав подгнившие колья, в полный рост шагнул на улицу. Какое-то мгновение он стоя сгребал дорожную пыль, потом упал на вязку досок и, боронуя землю, вместе с досками поволокся вслед за грузовиком.
Федот, почувствовав неладное, остановил машину. К месту происшествия сбегались люди. Среди дороги окаменело стоял с открытым ртом и выпученными глазами Павел Платонович. А у колодца хохотали, катаясь по траве и обливаясь слезами, Андрей и Маринка.
11
Багрово-синие шрамы, оставленные на теле Павла Ярчука горячим и хищным железом давно минувшей войны, напоминали ему о себе неуемно-сверлящей болью только перед слякотным ненастьем. А боль от душевных ран, от всего виданного на смертных фронтовых дорогах, от пережитого, что когда-то леденило кровь, кажется, умерла совсем. Только иногда воскресала в снах, заставляя сердце захлебываться в тяжком удушье. Но таилась в груди одна рана, не подвластная времени. Каждый раз, когда встречал Павел Настю или ее дочь Маринку, когда проходил мимо их опрятной хаты-белянки, возведенной до войны крепкими ручищами Саши Черных, рана начинала кровоточить, и чувствовал себя Павел так, будто надышался чадом.
Не вернулся Саша Черных с войны. «Пропал без вести», — скупо гласила казенная бумага, которую получила Настя из партизанского штаба после освобождения Подолии от оккупантов. Пропал… В Кохановке только один Павел Ярчук знает, где и как пропал Черных, тот самый высокий, черноликий Саша, что отнял у него Настю — его первую, трудную, неотлюбленную любовь. Но это тайна. Даже Настя о ней не ведает. А может, сердце подсказывает что-то Насте? Иначе почему она при встречах с Павлом смотрит на него своими еще не выцветшими синими глазами так тревожно-выжидательно, с таким покорством и бледной просительной улыбкой?
Произошло это в мае тысяча девятьсот сорок пятого, на юге Австрии. Готовился штурм укрепившейся в горах сильной группировки врага. На, всю жизнь запомнился Павлу Ярчуку канун того страшного боя.
Командира пулеметного расчета сержанта Ярчука с группой однополчан вызвали на командный пункт для вручения наград. Небольшая, чуть выпуклая полянка среди зеленых колченогих кустов, поросших на каменистом грунте, была усеяна красными маками. Они беспечно пламенели под солнцем, радуя глаз и тревожа сердце. Павел стоял в строю на краю поляны, смотрел на маки и удивлялся, как их не вытоптали солдатские сапоги. Ведь рядом блиндажи командного пункта, то и дело пробегали взад-вперед офицеры или солдаты-связисты.
Награды вручал сам командир дивизии — грузный генерал с желтым, усталым лицом и озабоченными глазами. На середину поляны вынесли стол, покрытый красной, будто сотканной из маков, материей. Рядом — знаменный взвод с расчехленным боевым знаменем, цвет которого был чуть-чуть темнее маков, словно время и чад боев усадили на нем краску, сделав полотнище нетленно-вечным.
Каждого награжденного вызывали к столу, вручали орден или медаль, поздравляли, а затем подносили кварту доброго австрийского вина.
То ли от торжественности обстановки, то ли оттого, что сегодня Павел Ярчук становился полным кавалером ордена Славы — вторым человеком в полку, заслужившим три таких ордена, — он внезапно почувствовал, что спазма сдавила его горло, а глаза горячо затуманились от слез. Павел стал глубоко вдыхать горный воздух, чтобы пересилить тесноту в груди и развеять слезную дымку. Боялся, что товарищи заметят его слабость и что он не сумеет на поздравление генерала четко и гордо ответить: «Служу Советскому Союзу!»
— Сержант Ярчук Павел Платонович! — будто из-за стены услышал Павел басовитый голос командира дивизии и не сразу понял, что вызывают именно его.
Кто-то подтолкнул Павла, и он, опомнившись, нетвердо шагнул из строя. «Наступлю на мак, завтра убьют», — неожиданно кольнула сердце суеверная мысль (на фронте все были понемногу суеверны). Тут же наступил на красный цветок, затем подмял второй и сбился с ноги. Дальше уже с трудом понимал, что происходит.
Генерал привинтил к его гимнастерке, рядом с двумя серебряными звездами, третий орден Славы, обнял и поцеловал. А когда Павел сиплым, срывающимся голосом ответил почему-то по-украински: «Служу Радянському Союзови!», генерал поднес ему полную кварту красного, будто выжатого из маков, вина.
Павел дрожащими руками поднес кварту ко рту, судорожно глотнул из нее.
Дрожь в теле отступила, развеялась слезная дымка, и он робко оглянулся вокруг, будто хотел удостовериться, не сказочный ли это сон. Нет, не сон! Генерал уже привинчивал орден на груди молодого розовощекого лейтенанта.
И Павел снова поднес ко рту вино.
Глядя на него, дружелюбно посмеивались штабные офицеры. Они стояли чуть в стороне, не по-фронтовому нарядно одетые (скоро ведь конец войны!). Среди них Павел приметил авиационного генерала и вдруг поперхнулся вином. Нет, Павел удивился не тому, что увидел в стрелковом полку генерала с погонами авиатора. Не первый раз он встречал представителей летных частей на переднем крае… Павел узнал его! Узнал мягкие, внимательные глаза, доброе, округлое лицо, седые виски… Это он, бывший полковник, начальник авиационного училища, где в тридцать седьмом году Павел проучился один месяц, а затем из-за репрессированных родственников был отчислен. Пожалел тогда полковник Павла и оставил на срочную службу в хозяйственной роте училища.
Авиационный генерал тоже озадаченно, вспоминающими глазами смотрел на Павла.
— Подойдите, товарищ сержант! — позвал он.
А через минуту генерал дружески обнимал сержанта. Узнал! Вспомнил все! И сказал:
— В этом тоже сила наша, Ярчук, что стойко переносим удары жизни и превыше всего ставим Родину… Рад вас видеть живым и в блеске славы.
Потом спросил:
— В партию вступил, надеюсь?
Кровь отхлынула от лица Павла. Ничего не мог ответить он своему бывшему начальнику. Молчание становилось неловким, и Павел достал из нагрудного кармана заветный листок бумаги, потертый, с еще у Волги написанными словами:
«Е с л и п о г и б н у в б о ю з а Р о д и н у, п р о ш у с ч и т а т ь м е н я к о м м у н и с т о м».
Генерал долго не отрывал глаз от листка, размышляя, может быть, над тем, что перед ним стоит человек, который, всю войну выполняя немыслимо трудную работу солдата, носил при себе посмертное заявление в партию. А живым не считал себя достойным быть коммунистом из-за родителей.
Генерал зачем-то снял фуражку, и молочно-белые волосы на его крупной голове засветились под солнцем.
— Пишите заявление, Ярчук. Буду вашим рекомендующим, — тихим голосом сказал генерал.
…Солнце светит злым и добрым. А Павлу показалось, что в этот день оно светило только добрым людям. И было даже удивительно, как это его сердце — чуткая и умная плоть человеческая — не захлебнулось в счастье. Пусть приметы сулят ему смерть в бою, но он счастлив!
И вот наступил этот бой.
12
В огне, грохоте, человеческих воплях шагала по земле последняя военная весна. В струях небесной голубизны с грозным клекотом кружили самолеты, роняя на землю черные, начиненные воющей смертью капли. Зеленые предгорья Альп, склоны которых увенчаны буйными кудрями виноградников, пузырились грохочущими огненными султанами, покрывались темными рваными ранами, дымились, смердели порохом и горелой краской. Сквозь канонаду, всплески пламени, дым, вой пуль и осколков, стоны раненых ползли танки и самоходки, ослепляя и усмиряя врага огненными плевками, бежали солдаты, засевая впереди себя землю горячим свинцовым зерном, которое никогда не прорастет.
Одним из таких сеятелей был Павел Платонович Ярчук — сержант, командир пулеметного расчета.
В суматошном чаду боя никто не заметил, как из-за крутых изумрудных холмов выползла иссиня-черная туча. Будто поднялась с земли в небо война со своим оглушающим орудийным ревом и зарницами. Засверкала молния, и казалось, что небо на мгновение обнажало свои тугие ветвистые вены, наполненные слепяще-золотой кровью. Удары грома будто пытались сорвать его с привычного места, и оно, не выдержав, обрушилось на землю сизым густым ливнем.
Не стало ни земли, ни неба. Только холодно-лютая хлябь.
Бой приутих, а затем вовсе утонул в сером водяном мраке.
Стрелковая рота и несколько самоходных орудий, вырвавшиеся далеко вперед полка, спешно закреплялись на холме вдоль опушки клокотавшей под ударами ветра и воды рощи. Древняя роща с жидким подлеском нависла над шоссейной дорогой, которая еще недавно была в тылу яростно упиравшихся фашистов. Солдаты расчета Павла Ярчука, чертыхаясь и сопя, прямо под ливнем выгрызали лопатками в вязкой земле гнездо для пулемета и для себя.
Когда лютость грозы иссякла, Павел уже укрылся с солдатами и «станкачом» в мокром, с оползающими стенками окопе. Из-за уплывающей на край неба тучи робко выглянуло солнце, зажгло на траве и листве деревьев мириады солнышек-бусинок, подкрасило багрянцем суглинок за опушкой и, словно убедившись, что не успеть ему до заката обсушить и обогреть раскисшую землю, стыдливо нырнуло под рваное крыло облаков, спешивших вслед за облегчившейся грозовой тучей.
Павел вылез из окопа. Увидел, что рядом, на краю выступа рощи, артиллеристы маскируют срубленными ветвями самоходную пушку, над которой колыхался тоненький хлыст антенны. Хотел было подойти к ним, но вдруг над головой жалобно взвизгнули пули, и тут же, откуда-то с тыла, донесся басовитый стрекот немецкого автомата.
Павел упал на мокрую траву, огляделся. Услышал чей-то взвинченный голос:
— Куда прешься?! Не видишь, что отрезаны от своих?..
Но все оказалось гораздо сложнее и опаснее, чем одно то обстоятельство, что небольшая наша войсковая группа попала в окружение. Гитлеровцам нужна была шоссейная дорога. Только по ней могли они отвести на запад зажатую в предгорьях группировку своих войск. И враг начал подтягивать резервы, чтобы одним ударом раздавить окруженную горстку русских сил и освободить из-под их контроля магистраль.
Окруженные, имея возможность хорошо просматривать вокруг себя местность, поняли, какая опасность им угрожает. Надо было прорываться к своим, но по радио поступил приказ: любой ценой удержаться в роще до утра.
Любой ценой… Это значило — ценой крови, ценой жизней. Таков закон войны. И никак иначе, тем более что оборонительный бой в окружении на небольшой площади и малыми силами — это заведомо злая игра со смертью, в которой чаще проигрывает окруженный.
Но какой бы трудный и опасный бой ни предстоял, солдат никогда не мирится с неизбежностью смерти. Разумом он понимает, что можно погибнуть, а в иных ситуациях вовсе нельзя не умереть, и все-таки где-то в неизведанных глубинах его сердца таится надежда, что железные когти смерти промахнутся и не вылущат жизнь из его тела. Эта надежда не покидала Павла Ярчука в самых грозных боях под Москвой и на Волге, под Курском и Корсунем, под Яссами и на Балатоне. И хотя не раз рвали железные когти его тело, но до сердца не добрались.
И вот теперь, когда вся атмосфера фронтового бытия насквозь пропитана тревожно-радостным ощущением конца войны, когда вот-вот должен был наступить день, к которому рвался солдат всю войну каждой клеткой тела, удастся ли Павлу переступить этот, может быть, последний порог, стоящий между смертью и жизнью? Столько раз видел он в мечтах конец войны, и воображение несло его на берег далекой Бужанки, туда, где среди поредевших садков и левад безмолвно грустили по мужским голосам беленькие обветшалые хаты Кохановки, тая за своими стенами трепетные надежды истомленных войной людей. Не раз Павел мысленно уже ходил по тенистым улицам родного села, водя за руку малолетнего Андрюшу, которого он еще не видел, вслушивался в задорную петушиную перебранку, ленивый скрип калиток, вдыхал знакомые, сладко тревожащие запахи поля, протравленного зерна, свежей краски на сеялках, пряные ароматы зацветших садков, настоянные на соловьиных песнях. И взволнованно здоровался с древним ветряком на околице, радовался благодатной тишине, не подвластной больше ни свисту бомб, ни раскатистым залпам орудий. Мнились Павлу теплые и чуткие руки Тодоски, той самой золотоволосой Тоси, которая своей любовью к нему утопила тяжелую тоску по Насте, вышедшей замуж за Сашу Черных. И почему-то встреча с Настей мнилась Павлу. Какой же будет эта встреча?
Но теперь, видать, ничего не будет: ни литавр в сердце, ни хмельного счастья победы, ни долгожданного свидания с Кохановкой. Всегда теплившаяся в нем надежда разминуться в бою со смертью сегодня почему-то оставила Павла. Может, потому, что вчера, когда получал орден, наступил на маки? Кто его знает.
И он, придавленный смутным предчувствием, достал из нагрудного кармана хрустящую и пахнущую краской коричневую книжечку, в которой говорилось, что он, Павел Ярчук, является кандидатом в члены партии большевиков. Долго рассматривал ее, изучая каждую буковку, затем бережно завернул в непромокаемую бумагу и снова спрятал в нагрудный карман. А потом буднично принялся заколачивать в рыхлый бруствер окопа колышки-ограничители, чтобы ночью можно было точно стрелять из пулемета по шоссейной дороге и по холму, замершему напротив в таинственной тишине.
Как только стало смеркаться, за шоссейной дорогой, на покрытом виноградником холме, вдруг послышались бравурные звуки оркестра. Вскоре гром меди умолк, и донесся надрывно-басовитый голос:
— Вы слухали марш русской освободительной армии!
Павел, высунувшись из окопа, напряженно ощупывал глазами виноградник, стараясь угадать, в каком месте засели власовцы. Ему стало особенно горько оттого, что голос, судя по произношению, принадлежал украинцу. Хотелось влепить туда добрую порцию пуль. А власовец между тем продолжал:
— Граждане красноармейцы, растак вашу мать!.. Чего вас занесло в Австрию?! Чего вы тут не бачили?! А коли уже пришли, так присоединяйтесь к нам. Окромя этого, вам больше ничего не остается. Только смерть, бо вы со всех сторон обложены, как волки!
У Павла перехватило дыхание от неожиданности. Он узнал голос… Среди тысячи голосов узнал бы его! Это Саша Черных. Его бас!
Руки Павла прикипели к рукояткам пулемета, и он наугад полоснул по холму длинной очередью.
— Чего палишь в белый свет?! — заорал с противоположного холма тот же знакомый голос. — Тебе дело предлагают! Или не знаешь, дурень, что нам идет подмога? Мы вам еще покажем кузькину мать!
— Черных! Сука! — с лютостью завопил Павел. — Забудь про Кохановку! Удавлю своими руками, как собаку!
На некоторое время воцарилась тишина. Все, кто услышал голос Павла Ярчука — по ту и эту сторону дороги, — замерли в недоумении.
Потом с холма снова донесся бас:
— Ты кто? Назови хвамилию!
В этот раз Павел заметил, где шевельнулся на холме виноградник, и, снова прильнув к пулемету, нажал на спуск. Стрелял, пока не кончилась лента, вкладывал в пулеметный огонь всю ненависть к предателю, которая так больно и неожиданно обожгла сердце.
Как только смолк пулемет, где-то за холмом послышались частые хлопки минометов, и вечереющее небо завыло зловещими голосами железа. Начался бой.
Не оправдались мрачные предчувствия сержанта Павла Ярчука. Своевременно пришла подмога, и бой сложился не в пользу врага. К утру все близлежащие холмы были очищены от гитлеровцев, а по шоссейной дороге с веселой и привычной торопливостью загромыхали колонны наших танков, машин, по обочинам мелким перебором застучали конные обозы.
Павел Ярчук с разрешения командира роты задержался на месте ночного боя. Он пропустил мимо себя колонну пленных, с гневным нетерпением всматриваясь в их лица. Но Черных среди пленных не было. Тогда Павел решил присоединиться к солдатам похоронной команды, чтобы осмотреть убитых. И в это время набрел на полковой медпункт.
…Черных лежал на носилках под влажным ореховым кустом. Павел узнал его сразу — длинного, черноволосого, с загрубевшим красивым лицом, сквозь каштановую смуглость которого проступала синеватая бледность. Но почему он одет в нашу форму? Гимнастерка с погонами и комсомольским значком на груди, хлопчатобумажные диагоналевые брюки; лишь сапоги с короткими кирзовыми голенищами немецкого образца.
Глаза его были закрыты. И только вздрагивающие, налитые синевой вздутые веки, искривленные в мучительной гримасе запекшиеся губы да редко вздымающаяся грудь, запеленатая под распоротой гимнастеркой в свежие, страшно кровенящиеся бинты, свидетельствовали, что в этом неподвижном человеке еще тлела жизнь.
Павел постоял над ним, испытывая смешанное чувство горестного недоумения, отвращения и жалости, затем подошел к брезентовой палатке с откинутым пологом. Остановил выбежавшую оттуда медсестру — быстроглазую коротышку и, указав на носилки, где лежал Черных, спросил:
— Оперировали?
— Еще нет. Но он безнадежный, — скороговоркой ответила медсестра, сочувственно стрельнув глазами в лицо Павла. Потом спохватилась: — Это ваш?
— Нет… — поспешно мотнул головой Павел, затем, будто оправдываясь, невесело сказал: — Землячок мой.
Медсестра не придала значения интонациям голоса Павла и оживленно ответила:
— А мы подозревали, что это переодетый власовец. Ни единого документа!
— Сестра-а, — послышался в это время стонущий голос Черных. Сестра-а, морфию.
— Сейчас, миленький! — медсестра нырнула под полог палатки и тут же выбежала со шприцем в руках.
Пока девушка вводила в руку Черных морфий, Павел стоял рядом и ежился под его мутным, горячечным взглядом.
Медсестра убежала, и Черных, собравшись с силами, заговорил — вяло, безразлично:
— Я узнал вчера твой голос… И вот не помираю, жду тебя… А держаться нет больше мочи…
— Зачем ждешь? — с гадливой жалостью спросил Павел.
— Окажи милость, Павел Платонович… Забудь, что ты встречал меня… Забудь, прошу… Чтоб ни одна живая душа в Кохановке, даже Настя, не узнала…
— А тебе не одинаково?.. Все равно… — хотел сказать «подохнешь», но умолк, сдерживая гневную дрожь в теле.
— Знаю, что не жилец, поэтому и прошу… Пожалей Настю, дочку малолетнюю пожалей…
— А ты помнил о жалости, когда стрелял по своим? — с раскалившимся ожесточением спросил Павел. — Думал, сколько слез и крови прольют твои пули? О Насте и дочке своей думал? Как им теперь жить на белом свете с твоей фамилией, а дочке еще и с твоей собачьей кровью?
Черных закрыл глаза, и страшная гримаса исказила его лицо — то ли тяжелые раны окунули тело в пучину страданий, то ли так больно ужалили слова земляка. А Павел не знал, что ему делать дальше.
Не открывая глаз, Александр заговорил вновь:
— Дай сказать, Павел…
— Говори!
— В сорок первом в плен попал. Удалось бежать домой. Потом подался в партизаны, а в сорок третьем опять плен, лагерь… Жить хотелось. Да и поверил немцам, что их верх будет. А тут старая трещина в сердце. Помнишь, из училища за отца вышвырнули? Немало таких, с трещинами в сердце, среди наших пленных оказалось. Вынюхивали немцы, кто обижен советской властью, в отдельный лагерь определяли. Вот и меня… Каждый день мозги вправляли. А потом генерал Власов приехал. Многие поверили ему, подломили колени, размахнулись жизнью.
— Врешь! — тихо сказал Павел. — Из Кохановки один ты такой! Вон Степан Григоренко ни за что в тюрьме сидел, а пришли фашисты, стал партизанским командиром… А я?.. Тоже вроде обиженный, но и в мыслях такой подлости не держал. Видишь?! — Павел размашисто провел рукой по груди, где на гимнастерке тускло поблескивали три ордена Славы.
Павел умолк, заметив, как из закрытых глаз Черных покатились по хрящеватым ушам крупные слезины и как заходил под гусиной кожей на горле выпуклый кадык. Почему-то подумалось, что он второй раз видит слезы Александра. Впервые Черных плакал при нем, когда их обоих в тридцать седьмом отчислили из военного училища — Павла за репрессированных родственников, Сашу за отца, которого в гражданскую войну петлюровцы на неделю угоняли со своим обозом.
— Зачем добиваешь? Сам подохну. — Черных открыл глаза, мутные, отчужденные, кажется, ничего не видящие. — Не я один… Тысячи подались на Запад. Многие Ежова и те годы, когда людей ни за что мордовали, проклинают.
— Ах, дядя виноват?! — в трепетном исступлении переспросил Павел. Обидели тебя? И ты ищешь правду у фашистов? Вошь ты тифозная…
Черных молчал, уставив неподвижные глаза в листву орешника, сквозь которую просвечивалось мягко-голубое небо. Его восковые руки — большие, как кувалды, — беспокойно шевелили цепкими, узловатыми пальцами. Еще вчера или сегодня на рассвете эти ручищи держали черный, из крупповской стали автомат.
Павел, ощущая, как в сердце жжет распылавшийся уголек, отвернулся и пошел прочь. С ожесточением шагал к дороге, где нескончаемым потоком двигались на запад войска.
13
После войны вернулся Павел в полуразрушенную и болезненно-унылую Кохановку. Колхоз был в запустении. Земля, искалеченная окопами и воронками, угнетенная сорняками, грустила по работящим рукам. А рук было так мало, что нечего было считать, когда на собрании голосовали за избрание Павла Ярчука председателем колхоза. Многонько мужиков захоронила война, как сказал потом поэт, «в шар земной», а многие вернулись инвалидами.
Не раз Павел вспоминал и тех хозяйственных, работящих односельчан-середняков, которых по чьей-то дури или злому умыслу раскулачили и вместе с настоящими кулаками вывезли на Соловки в тридцатом. А сколько умудренных голов, понимавших безмолвный голос земли, исчезло из Кохановки в тридцать седьмом? Подросшие затем дети «врагов народа» тоже улетели в свет-за-очи, чтоб среди чужих людей скрыть свое опасное родство и хоть какие-нибудь, пусть не дороги, пусть тропинки, да открыть перед собой. Вот бы всех сгинувших из села в колхоз!.. Сила!.. Да, многие беды, умноженные на тяжкую трагедию войны, перешагнули в Кохановку из тридцатых годов. Подрезали тогда крылья земле.
Кажется Павлу Ярчуку, что не успел он как следует оглядеться, осмыслить лавину событий в стране и мире, как годы войны отодвинулись далеко-далеко и подернулись дымкой забвения. Жизнь неумолимо шла вперед, уверенно вспахивая целину времени. Уже вырос сын Андрей, родившийся после ухода Павла на войну, уже отслужил он положенный срок в армии, стал завидным женихом.
Много подросло в Кохановке невест. Как в былые времена, и теперь вечерами не утихают над Бужанкой девичьи песни. По-прежнему неугомонна великая мастерица, умеющая лучше самого гениального художника лепить удивительные человеческие чувства. Имя этой чудо-мастерицы — любовь. Никогда не стареет она, никогда не угасает ее сила. Каждый день, как эстафета жизни, как залог продления рода человеческого, любовь воспламеняет и объединяет чьи-то сердца. Обыкновенная, земная, она делает жизнь людей далеко не земной, на всю глубину раскрывает перед ними смысл радости и красоты.
Именно эта древняя, как луна, любовь привела сейчас в смятение председателя кохановского колхоза Павла Ярчука. Нет, не его сердце встрепенулось на пятом десятке жизни от вновь посетившей любви. Влюбился сын Павла и Тодоски — Андрей, влюбился в Маринку, дочку Насти и недоброй памяти Александра Черных.
Павел Платонович не находил себе покоя. Разумом понимал, что не в его силах остудить чувства сына к Маринке, а сердце не могло смириться с тем, что должно было свершиться…
14
Под окнами Настиной хаты буйно разросся калиновый куст. Издалека видно, как пламенеет он налившимися гроздями, томно шевелит лапчатой листвой и будто сторожит покой хаты. По утрам каждая красная бусинка на податливых ветвях встречает солнце чистой слезой росы, которая искрится и сверкает, словно множество крохотных солнышек. А когда огненное светило поднимается выше и исторгает на землю потоки горячих лучей, листья калины напруживаются, выгибаются ладошками, а тяжелые кисти, радостно блестя, тянут свои пламенные мордашки к солнцу и беззвучно смеются ядрено-красным смехом.
Много хлопот доставила Насте эта калина. Маленьким кусточком принесла она ее из леса той давней осенью, когда родилась Маринка, и посадила под хатой. «Пусть растет на счастье доченьке!» Настя знала, что на огороде Ярчуков царствует грецкий орех, посаженный покойной матерью Павла сыну на счастье. Орех с годами стал матерым, величественным, урожайливым. И с суеверным чувством не раз думала, что, может, поэтому разминулся Павел со смертью на войне… Настя берегла калину от морозов и ветров, ухаживала за ней, как за самой Маринкой. А кусточек, пока набрался силы, долго грустил по лесной земле и лесной родне своей, рос трудно, как трудно росла Маринка.
Не сложилась судьба у Насти. Где-то в дальних неведомых краях, на войне, сгинул ее муж, после войны умерла мама, и осталась Настя мыкать на белом свете тусклое вдовье горе с дочуркой-крошкой на руках. Надо было работать в колхозе, вести немудреное домашнее хозяйство, а тут трудные сорок шестой и седьмой годы, да налоги, да займы, да пустой трудодень.
Ох, уж эти налоги!.. И за огород, и за деревья в саду, и страховые сборы, и мясо, и яйца, и молоко… За все плати… Казалось, одни мысли людские не обкладывались налогами.
В одну из трудных давних зим Настя порешила все до единого деревья в саду. Соседям объяснила, что в печи топить нечем, а соседи, отчаявшись, тоже замахивались топором на то живое, во что раньше душу свою вкладывали.
Но если б и калина облагалась податью, у Насти на нее не поднялась бы рука. Мнилось Насте, что пока кустится под окном калина, ее Маринке не грозят никакие беды.
Потом начало свершаться то, чему давно надлежало свершиться. Сгинули постепенно налоги, займы; хлебозаготовители перестали под метелку очищать колхозные каморы.
Хлеборобы, наконец, наелись хлеба!
Будто новый век пришел в Кохановку. На местах вырубленных садов и левад теперь каждой весной кудрявятся снежной белизной молодые деревья. Вернулись в село соловьи и кукушки, наполнив теплые весенние вечера и зябкие утра той песенной перекличкой, от которой млеют сердца девчат и молодиц. Через зеленые улицы, через веселые садки и тучные огороды шагнули столбы, пронеся над ними певучие электрические провода. Пришел новый ритм жизни на колхозные фермы, в кузницу, на мельницу. Вспыхнул непривычно-яркий свет на улицах, в клубе, в магазине, в селянских хатах и даже в хлевах и над собачьими будками. Но главное — люди в Кохановке как-то расцвели, их лица засветились уверенностью в завтрашний день. Друг перед другом не таили больше свои мысли. Крестьяне почувствовали, наконец, что упрочается под ними земная твердь, и хотели верить, что так будет всегда.
Настя работала дояркой. Словно помолодела она, когда на ферме появились механическая дойка, подвесная дорога, корморубки, автопоилки. Не так болели вечерами руки, не ныла мучительно спина. Радовалась густому заработку. Ведь план надоя молока выполняла с заметной лихвой, а за эту лихву платили дополнительно.
Уже каждый год хлеб за хлеб заходил, и в хате не переводилось все главное, что требуется к хлебу. А ее кровинушка — Маринка — бегала зимой в школу в фасонной шубейке, в фабричных валенках, надевала такие платьица и туфельки, о каких Настя в детстве и в молодости и мечтать не могла.
Потом начались на ферме нелады из-за того, что каждый новый год из района стали присылать план надоя молока, повышенный ровно на столько, на сколько колхоз перевыполнил план в прошлом году, — без учета урожайности года и заготовленных кормов. И доповышались… Раз или два дотянулись доярки до районных заданий, а потом заплакали горючими слезами: коровы не хотели давать молока больше, чем могли они дать даже при хороших кормах… Упал заработок, а надои еще больше упали.
Потом где-то в соседней области родилась новая арифметика расчета с доярками. На бумаге она выглядела довольно разумно, но в подойниках молока не прибавила по той простой причине, что интересу у доярок мало: надоишь больше или меньше, а получишь то же самое. И никакие призывы к сознательности доярок не помогали, ибо призывов они наслушались досыта, а сознательность, как считает Настя, сколько ее ни выказывай, никак не накормит.
Но не одной работой в колхозе живет Настя. Там или заработаешь на хлеб и нужды домашние, или не заработаешь — всякое бывало, а если на твоем клочке земли за хатой уродят картошка, клинок ячменя или проса, капуста да огурцы и другая всякая всячина — так это верный фундамент твоего селянского существования на год, твоя надежда и, к сожалению, твоя главная философия, соль которой состоит в том, что здесь ты всему хозяин, а не дядька из района, неведомо откуда взявший себе право распоряжаться твоими колхозными доходами.
Каждый как может подпирает свои никем и ничем не гарантированные артельные заработки. Иные ходят в зимнее время на сахарный завод, другие ищут на лето дачников, третьи просят подмоги от выучившихся и ныне служащих в городах сынов или дочек. А некоторые хорошо знают далекую дорогу в областной центр — собирают яички, масло либо другое, что есть в хозяйстве и имеет на рынке спрос.
Настя на рынок не ездит. Но свежая копейка, чтоб посылать Маринке в техникум, у нее водится.
Поздней осенью Настя бережно обрывает кисти калиновых ягод и длинными низками вешает их на чердаке. А зимой, когда мороз подслащивает горькую калину, пускает ее в дело.
В Кохановке не было секретом, что Настя тайком гонит самогонку на продажу. В алчную минуту, даже среди ночи, когда спиртного уже нигде не достанешь, разгулявшиеся мужички нетерпеливо стучатся в Настину хату. Настя клянется им и божится, что горилки у нее нет и сроду не бывает, а когда запоздалый покупатель уже готов падать перед ней на колени или уходить не солоно хлебавши, милостиво сознается, что держит «для себя, на случай хвори», пару бутылок «калиновки», приготовленной по особому рецепту. И делает страждущему человеку одолжение, разумеется, по повышенной цене.
От Настиной «калиновки» хмелеют до зеленого тумана даже самые испытанные выпивохи. Но еще больший хмель таила в себе дочка Настина Маринка.
Расцвела Маринка, словно калина под окнами хаты. И не нарадуется Настя. Может, поэтому, любуясь дочерью, она все чаще в последнее время обращается мыслями к своим молодым годам.
Давно угасла в ее сердце любовь к Павлу Ярчуку — та первая любовь, которую трудно было укротить и которая долгие годы, уже сломленная, еще томила душу.
Но любовь, как огонь, всегда оставляет следы. Настя пытается скрывать их за притворным безразличием, когда встречается с Павлом, за приветливой дурашливостью и мнимой сердечностью в разговорах с Тодоской — его женой. В душе она всегда чувствует неискупную вину перед Павлом, что не дождалась его возвращения из армии и вышла замуж за другого, а Тодоску почему-то ненавидит лютой ненавистью.
Нет, не беды она желала Тодоске. Хотела только одного — всегда чувствовать над ней свое бабье превосходство. Сама подчас поражалась, что при Тодоске, особенно на людях, у нее откуда-то брались острые словца с озорным накалом; их можно толковать и-так и этак, но никак нельзя обижаться на них.
И вдруг Настя узнала, что сын Тодоски и Павла — Андрей метит к ней в зятья. А Маринка, по всему видно, любит Андрея.
Горшая беда и не снилась Насте. Не только потому, что очень не хотелось ей родниться с Тодоской и что боялась частых встреч с Павлом, которых будет трудно избежать, если Маринка выйдет замуж за Андрея. Рушилась ее надежда на далекую от тяжкого крестьянского труда Маринкину долю. Ведь сколько сиротливых вдовьих ночей провела она в радужных мечтаниях и печальных тревогах, сколько лет безмолвно и тайно носила в сердце веру, что единственная дочь ее выучится и будет жить в городе, найдет там свое счастье с каким-нибудь видным хлопцем! А когда появятся внуки, не обойдется Маринка без матери, позовет ее к себе. И может, хоть на старости лет изведает Настя иной жизни, совсем не похожей на ту, которой сыта по горло.
А что же теперь?.. Насте даже обидно думать, что ее ненаглядная дочка, ее надежда и ее судьба, может стать женой простого сельского парубка. Еще обиднее, что люди и не удивятся этому. Может, радоваться даже будут, что ухватила Настя луну зубами. И теперь не услышит она восторженных поздравлений, не уловит догадливым взглядом жгучую зависть в глазах других матерей, не почувствует, что доля, наконец, вознаградила ее за все прошлые беды.
Нет, Маринка зелена еще умом и сердцем; не знает она, где живет ее счастье. А Настя на то и мать, чтобы выветрить любовный дурман из головы дочери. Нашла себе милого! Разве только и света, что в окне? Иное дело, когда сама она, Настя, полюбила в молодости Павла. Так они же росли под одной стрехой, и Настя действительно никого другого не видела и не знала. А Маринка ведь техникум кончает.
Как же помочь беде? Надо Сереге Лунатику поклониться; он всегда рад присоветовать Насте что-либо. Правда, Серега сам надеялся стать сватом Насти, не раз закидывал слово о сыне своем — Федоте. Но Маринка, слава богу, отвадила Федота.
Надо дать знак Сереге, чтоб нашел случай зайти. Настя запретила ему появляться в ее хате летом, когда дома Маринка. И «калиновку» при дочери Настя не варит, так что и повода нет. Но Серега найдет повод — еще с детства он сердцем привязан к Насте; он не гордый, не то что Павел. Зато и она умеет сказать Сереге слово, когда он в хмельном буйстве плачет пьяными слезами и кается в тяжком грехе своем, который тайно сотворил еще в войну. Жизнь учителя Прошу на его совести. Люди знают об этом, но молчат. И Серега знает, что люди знают. Не раз в петлю порывался, да Настя своей бабьей сердечностью заставляла его идти на перемирие с бунтующей совестью.
Может, самой сходить к Сереге? Благо, не дома он, а у старой левады достраивает хату. Серега Лунатик знает, когда и где выгоднее приложить свои руки, не то что она. Еще ранней весной покинув ферму, Настя перешла в свекловичное звено, где работы тьма-тьмущая; ходит также в луга сгребать и копнить сено. А сегодня она дома.
15
Надев новую блузку и повязав на голову белый платок, Настя собрала в узелок обед для Маринки и кружным путем, чтобы заодно повидаться и с Серегой, пошла на колхозный двор, где строилось помещение под мастерские.
На улице было тихо и знойно. В пыли у подворотен «купались» куры. Настя легкими шагами шла по тропинке, держась тени, которую бросали акации, ясени и садовые деревья, подступавшие к изгородям.
Думала о том, как деликатнее завести разговор с Серегой и чем задобрить его. Трудный у Лунатика характер, не сразу раскусишь. Но Настя, кажется, раскусила. Он из тех людей, которые, если найдут у твоего дома гривенник, то постучатся в окно и спросят, не твои ли это деньги. А уж если рубль поднимет Серега — шалишь, не отдаст, да еще горло перегрызет, если требовать будешь.
Среди трепетнолистного под ветерком вишняка забелела черепица новой хаты Лунатиков. Настя неосознанно поправила платок на голове, по девичьей привычке провела пальцами по черным бровям, оглянулась на пустынную улицу и свернула на тропинку, ведшую через огороды. И будто окунулась в иной мир, в зеленое царство теплой свежести и созревания, где все дышало благостным покоем.
Да, засуха не одолела приусадебные участки. Знали крестьяне, что, если умрут огороды, быть тяжкой беде. И по вечерам ведрами таскали воду из Бужанки и из колодцев.
С одной стороны узкой тропинки вздыбился частокол тонких шестов, по которым спиралями извихрились густые плети фасоли. Чувствуя свободу и пространство, фасоль горделиво распушила желтоватую, будто обпившуюся солнца, листву; в ее зыбкой тени устало свисали крупные, бугристые, в бордовых пятнах стручья. С другой стороны дремала в горячем дыхании дня стена конопли; ее терпкий пряный запах дурманил Насте голову.
Тропинка, заюлив через стоящий по колено в картофельной ботве жидкий сливняк, облепленный дымчато-голубыми плодами, протискивалась затем между помидорными грядками. Даже привычный глаз радовало здесь ярко-красное благолепие спелых помидоров. Крупные, бокастые, они лоснились на мохнатых, с жухнущей листвой кустах, подвязанных к невысоким кольям соломенными перевяслицами. Казалось невероятным, как это черная земля способна рождать такое цветистое чудо, наполненное сочной мякотью и неповторимым ароматом.
Будто несметное семейство зеленых спрутов, царствовала на огородах тыква. Нагло перешагивала она через кусты картошки и смородины, через помидорные грядки, дерзко вскарабкивалась ребристыми, колюче-шершавыми жгутами на стволы слив и вишен, распускала тонкие хлысты щупалец, которые, хищно ухватившись за ветви, затем скручивались в тугую спираль и поднимали вверх все растение — с огромными, как лопухи, листьями, с ярко-желтыми цветами, с разбухающими тыквенками.
Застилая простор взгляду, толпились по краям огородов подсолнухи. Сгорбившись и задумчиво склонив отяжелевшие головы, они еще не сбросили с себя золотых венцов, но, навсегда охмелевшие от соков земли, уже не в силах были подставить солнцу желтый мохор лица.
Шагая по тропинке среди буйства огородной зелени, Настя словно растворилась в ней, перестав ощущать себя и свои чувства. Будто находилась в сладком сне и упивалась молитвенным гимном, который пела природа труду человеческому. И как во сне, вдруг увидела впереди калиновый куст, рдевший под солнцем рясными гроздями и судорожно вздрагивающий от глухих ударов топора.
Настя встрепенулась. С замершим в груди воплем, видя перед собой никнущую в смертном часе калину, она побежала вперед, готовая, кажется, собой заслонить беззащитный куст от хищного железа. Когда подбежала, к ее ногам, взмахнув красными руками, упала густая ветвь.
Настя увидела под кустом Серегу. Он стоял на одном колене и пригибал новую ветку, чтоб удобнее было замахнуться топором.
— Что ты делаешь, Лунатик поганый?! — истошно закричала Настя.
Серега испуганно опустил топор, вскинул на Настю маленькие, опушенные белесыми ресницами глаза. Лицо его было усеяно крупными веснушками, которые казались на загорелой морщинистой коже почти черными, а облупленный нос словно вобрал в себя весь румянец Сереги.
Настя опомнилась. По-детски жалко улыбнувшись, она обессиленно села на затоптанный край чесночной грядки и оглянулась вокруг оживающим взглядом. Заметив недоумение и обиду в глазах Сереги, виновато засмеялась, уткнув лицо в подобранные колени.
— Ты что, совсем спятила или «калиновки» налакалась? — хрипло спросил Серега.
Бросив топор, он встал на ноги, высокий и тощий. Заметно прихрамывая, подошел к оконному проему в шлакобетонной стене строящейся хаты, взял лежавшие на подоконнике сигареты.
— Да, Сергей, сдурела я, — со смехом ответила Настя. И уже со строгим недоумением спросила, указав на калину: — Зачем такую красоту губишь?
Серега не торопился с ответом. Сердито сопел, обслюнивал конец сигареты, затем прикурил и холодно сказал:
— Значит, есть надобность.
— Какая? — Насте уже было безразлично, зачем рубят калину — не ее ведь, — но не знала, как погасить обиду Сереги.
А он так же сухо ответил:
— Веранду здесь решил пристроить.
— А раньше о чем думал?
— Просчитался в планировке. А без веранды нельзя: теперь же каждое лето в село дачники ломятся.
— Кто сюда пойдет в такую даль от речки?
— Найдутся. Рядом лес с ягодами да грибами, — Серега, вдруг отшвырнув сигарету и зло сплюнув, уставил на Настю озверелые глаза. — Так, значит, «Лунатик поганый»? — хрипло спросил он.
— Прости, Сергей Кузьмич, нечаянно вырвалось, — с покорством в голосе ответила Настя.
— За нечаянно бьют отчаянно! — Серега снова сплюнул, поднял топор и, заметно вывертывая наружу носок покалеченной на войне ноги, подошел к калине.
В удары топора он вкладывал, казалось, всю свою злость.
Шутейная молва села — как едучая краска: окатит человека, и ходить ему клейменым до конца дней его. Так случилось в тридцатые годы и с Кузьмой Грицаем, когда он симулировал страшную и непонятную хворь лунатизм, чтобы иметь возможность, будто в приступе болезни, бродить ночами по колхозному хозяйству и заодно подбирать в свой бездонный мешок то, что плохо лежит. Много ветров с тех пор прошумело над Кохановкой. А люди по-прежнему зовут Кузьму Лунатиком, позабыв, что носил он когда-то добрую украинскую фамилию Грицай.
Но не только одного себя обрек Кузьма на бесфамильность. Внукам и правнукам, видать, тоже придется расплачиваться за грехи прародителя. А уж родному сыну его, Сереге, по всем законам сельских обычаев, надлежало быть самым первым наследником отцовской уличной клички, а потом уж и Серегиным детям.
Серега обычно с мудрой иронией относился к своему прозвищу. Лунатик так Лунатик. Но услышать такое от Насти, за которую Наталка — жена Сереги — вот уже сколько лет насквозь, кажется, прожигает его своими скорбно-темными глазами?!
— Перестань индючиться! — сердито и властно прикрикнула Настя на Серегу, когда тот отволок в сторону поверженный куст калины и подошел к ней. Затем мягче пояснила: — Сама не понимаю. Туман нашел какой-то… Увидела, что губишь калину, подумала, что мою, под моей хатой…
— Тю! — Серега недоверчиво засмеялся. — Испугалась, что не на чем будет самогонку настаивать?
— Ага, — уклончиво согласилась Настя. — Садись рядом, дело к тебе есть.
И она поведала Сереге о своей беде.
— Значит, не хочешь с Ярчуками родниться, — с удовлетворением спросил Серега. Он смертной ненавистью ненавидел Павла Платоновича, ибо не умел прощать людям того зла, которое сам же когда-то причинил им.
— Не хочу. Не пара Андрей Маринке, — ответила Настя.
Из-за угла дома неожиданно вывернулся старый Кузьма — отец Сереги. От дьявольского вида Кузьмы, какой он имел когда-то, ничего не сохранилось. В прошлом черная густая борода, начинавшаяся от самых глаз, сейчас вылиняла и обветшала, голова высохла, отчего лысый череп казался непомерно большим, глаза глубоко провалились и вроде стали ближе друг к другу, а длинный нос истончился, но зато еще больше налился багровой синевой, войдя в резкое противоречие со всем могильным ликом старца. Кузьме далеко за семьдесят. Но, несмотря на почтенный возраст, он не потерял веселой бойкости нрава и греховного отношения к жизни. Кузьма давно свел постоянную дружбу с самогонкой, и ходит он по селу всегда оживленный, настроенный к обстоятельным, с философским уклоном разговорам.
По плутоватому взгляду Кузьмы Настя поняла, что он подслушал ее разговор с Серегой. Старик и не скрывал этого.
— Где же ты, Настюшка, отыщешь лучшего зятя, чем Андрюха? — спросил он елейным голосом, в котором сквозили ирония и удивление.
— Маринка еще молода, а свет большой, — с легким раздражением ответила Настя и незаметно толкнула Серегу локтем в бок.
— Шли бы вы, тату, домой, — недовольно пробурчал Серега.
— Помолчи! — И Кузьма снова обратился к Насте: — Вот пока Маринка молода да гарненька, пущай не зевает. Девчат же в селе как блох в старой овчине. А хлопцев черт-ма!
— Для Маринки найдутся, когда время придет, — Настя обиженно поджала губы.
— Значит, решила? — высохшей рукой Кузьма рассек впереди себя воздух.
— Решила, диду.
— Тогда слушай меня, — старик удобно уселся на сосновый чурбак. Помощи тебе от Сереги в этом деле, как от чиряка радости.
— Ну, тату… — Серега поморщился, как от зубной боли.
— Замолкни! Я тебе тут слова не давал! Так слухай, Настя: ежели поставишь мне хороший магарыч, в один день сделаю такое, что у Маринки и у Андрея эта самая… как ее зовут?.. Ага! Любовь!.. исчезнет, как дым на ветру!
— Что же вы такое сделаете? — губы Насти кривились в горделиво-снисходительной улыбке, но в глазах мелькнула заинтересованность.
— Так будет бутылка твоей «калиновки»?
— Хоть две! — засмеялась Настя.
— Две не надо. Лишнего не беру, — Кузьма передвинул чурбачок в тень от стены дома. — Ну так вот… Старинный это способ, но категорически верный. Есть такая трава — «сухотка». Какая она из себя и где растет, не скажу: это мой собственноручный секрет. Если корень «сухотки» выкопать на закате солнца, высушить, и подмешать в борщ, или кашу, или другую еду, к примеру в вареники, и накормить из одной миски дивчину и хлопца, то эту самую любовь меж ними как рукой снимет! Глядеть друг на друга перестанут! Усохнет любовь, потому как трава называется «сухотка».
— А если они помрут от той «сухотки»?! — глаза Насти округлились в страхе.
— Не помрут! Ручаюсь! Меня самого в молодости кормили этим корнем!
— Не-е, чтоб я свою доченьку…
Серега в это время толкнул Настю под бок, дав понять ей, что спорить со стариком бесполезно, и Настя круто изменила тон:
— Впрочем, треба подумать. Может, и правда дело вы предлагаете.
— Дело! Ей-же-бо, дело! — воодушевился Кузьма. — Всю жизнь благодарить меня будешь! Ну, так искать «сухотку»?
— Ищите, а я тут с Серегой еще посоветуюсь, — сдерживая смех, ответила Настя.
Кузьма бросил на Серегу хитрый взгляд, поднялся с чурбачка и зачем-то опять вынес его на солнце. Собираясь уходить, сказал:
— Вас бы тоже не мешало обкормить «сухоткой». Да, боюсь, уже не поможет. — И зашагал по тропинке.
После ухода Кузьмы Настя долго смеялась, бросая на Серегу лукавые взгляды. Лениво посмеивался и Серега. Но оба не подозревали, что старый Кузьма, знавший немало старинных «секретов», всерьез намерился осуществить свою затею.
— Ну, так что же ты посоветуешь? — перестав смеяться, спросила Настя.
— Надо подумать, — Серега вдруг стал мрачным. — У меня беда пострашнее твоей.
— Что случилось?
— Опять в район вызывали.
— Зачем?
— Все тянется история с учителем, с Прошу.
— Неужели судить тебя будут?
— Да нет. Расспрашивали о Христе — жинке Степана, да о сыне его Иваньо. Не верят, что я видел, как учитель с двумя полицаями арестовал их.
— От горе! — Настя глубоко вздохнула. — Но ты правда видел, как увозили их?
— Видел. Везли мимо нашего подворья на телеге.
Оба умолкли, погрузившись в мысли о том, что давно отгрохотала война, что уже истлели в земле ее миллионные жертвы, а среди живых людей не умирает боль, родившаяся в те страшные годы. Серега Лунатик ощущал эту боль особенно остро, когда ловил на себе черные, осуждающие взгляды сельчан. Понимал, что учитель Прошу — тяжкий крест для него на всю жизнь.
16
Однообразный грохот комбайна утомил Андрея, Казалось, что это неумолчно шумит в его голове. Может, поэтому копны соломы на жнивье не напоминали, как в начале уборки, горы мятой стружки благородного металла, а оставшийся неубранным клин не ласкал глаз волнистыми перекатами.
Солнце все ниже склонялось к горизонту, набухало червонным золотом. И когда Андрей посмотрел в сторону села, ему вдруг почудилось, что громадный осколок солнца упал на стерню: это мчалась к комбайну ярко-красная пожарная машина.
«Наконец-то!» — облегченно вздохнул Андрей, прислушиваясь к натруженному рокоту комбайна. Давно пора было промывать забившийся пылью и мелкой половой радиатор. Для этого использовали, нарушая инструкцию, единственную в колхозе пожарную машину.
За рулем сидела Феня — смешливая пышногрудая дивчина, школьная подруга Маринки. Она лихо подвела «пожарку» к остановившемуся комбайну и шустро поздоровалась с Андреем:
— Привет, черт промасленный!
— Здравствуй, Фенька — сухая опенька, — в тон ей ответил Андрей.
— Сам ты гриб подпеченный! Раздевай скорее радиатор!
Феня вышла из машины — налитая, длинноногая, в легком ситцевом платье. Лукаво поигрывая глазами да загадочно посмеиваясь, она проворно расправила черный, специально прилаженный для такого дела к «пожарке» шланг.
Андрей снял с радиатора округлый сетчатый воздухозаборник, взял у Фени шланг и скомандовал:
— Давай!
Сильная струя воды ударила в соты радиатора, густым белесым веером полетели брызги. В облачке поднявшейся водяной пыли вспыхнула маленькая радуга, и казалось, что над головой Андрея ярко засемицветилась волшебная корона.
Феня завороженно смотрела на мерцающую радугу. С ее лица сбежала улыбка: девушка углубилась в какие-то нежданные мысли и не заметила, когда Андрей кончил промывать радиатор. Опомнилась от его требовательного голоса:
— Закрывай!
Быстро перекрыла воду, уложила на место шланг и повернулась к Андрею, снова лукаво-улыбчивая.
— Ну, чего зубами светишь? — с грубоватой нежностью спросил Андрей. Если нравлюсь — скажи.
— Хватит с тебя одной Маринки, — Феня от избытка веселья и озорства показала язык.
— Может, Маринка меня и не любит?
— А за что такого любить? От тебя же за версту керосином несет! Вот и получай… дулю, — и Феня протянула свернутую в мизерный комочек записку. — От нее.
— Чего ж раньше молчала?! — возмутился Андрей. Ему теперь были ясны насмешливые ужимки Фени, и он быстро развернул записку. С недоумением прочитал:
«А н д р ю ш а, с е г о д н я я н е в ы й д у н а б е р е г. К н а м п р и е х а л о д и н ч е л о в е к, и м н е н а д о п о б ы т ь д о м а. Н е с е р д и с ь!
М а р и н а».
Недоумение сменилось тревогой: «Что за человек?» А тут Феня подлила масла в огонь:
— Так что, Андрюшенька, отоспись сегодня. А если и завтра Маринка будет занята, то уж быть посему: я на лодке с тобой покатаюсь.
— Что, и завтра?.. — Андрей съедал глазами Феню.
— Может, и послезавтра, — с наигранной блудливостью Феня отвела глаза в сторону. — Человек этот не на день в Кохановку приехал.
Андрей ничего не понимал. Ядовитым жалом притронулась к сердцу мысль:
«А не потому ли так мерзко улыбался вчера Федот?»
Вспомнились его слова: «Будешь сюсюкать, переметнется к третьему».
По таинственному виду Фени и ее насмешливым глазам было видно, что она знает нечто большее, чем написано в записке. Но уязвленное самолюбие не позволило Андрею расспрашивать. Он только сказал:
— Заедь к Маринке и передай, что я буду ждать ее обязательно. Никаких человеков!
— А если у них там личные разговоры о… строительной науке? — Феня, сгорая от нетерпения, чтобы Андрей стал расспрашивать ее, кокетливо повела глазами.
Андрей был в смятении: «у них… личные разговоры…» Его фантазия уже услужливо рисовала картины тяжкой измены Маринки.
Не глядя на Феню, спросил:
— Так заедешь?
— Пожалуйста! — в голосе Фени прозвучало разочарование.
— Скажи, что у меня важные новости. — И Андрей включил мотор.
Когда развернул комбайн, красная машина уже вихрила пыль по дороге за посадкой.
17
Юра Хворостянко научился мыслить обстоятельно и глубоко. Да и ничего удивительного в этом: позади у него школа-десятилетка, мучительные и безрезультатные мытарства с поступлением в Киевский политехнический институт; затем служба в армии и, наконец, строительный техникум. К тому же книг он успел прочитать великое множество, из которых твердо усвоил, что литературные персонажи делятся на положительных и отрицательных.
Юра часто размышлял о своей жизни как о начале посредственной книги, но его несколько успокаивало то, что он в ней был наделен чертами, безусловно, положительного, с большими перспективами героя.
Юра Хворостянко закончил техникум и получил назначение в Будомирский район по своей просьбе, хотя отец предлагал ему интересное место в областном центре. Это обстоятельство позволило Юре окончательно проникнуться к себе уважением. И оно росло еще больше, по мере того как его мать, Вера Николаевна, отговаривала от «безрассудного шага», доказывая, что нынче «хождение в народ» не модно, ибо «народ уже не тот», что в глубинке много своих талантов и Юра не сумеет там ничем выдающимся проявить себя. Не помог даже решающий аргумент Веры Николаевны: если Юра хочет приручить свою «дикарку из Кохановки», то он должен быть рядом с ней здесь, в Средне-Бугске, где Маринке надо учиться еще целый год.
Юра настоял на своем, хотя отец, согласившись с ним, в то же время держал себя как-то странно. Он посмеивался, похлопывал Юру по плечу, явно любуясь его рослостью и добрыми устремлениями. Но в глазах Арсентия Никоновича играла снисходительная улыбка. Потом отец сказал:
— Ладно, дерзай. Но если понадобишься здесь, не петушись — в миг переведу.
— Зачем понадоблюсь? — удивился Юра.
— Всякое может быть, — загадочно засмеялся Арсентий Никонович. Вдруг меня передвинут в район. Не оставлять же такую квартиру?
Юра пожал плечами, и было не ясно, согласен он со словами отца или нет. Во всяком случае, он попросил у Арсентия Никоновича заручиться у руководителей Будомирского района обещанием, что молодого техника-строителя Хворостянко пошлют не куда-нибудь, а только в ничем не выдающуюся Кохановку.
Мать скрепя сердце покорилась судьбе и заявила, что поедет провожать Юру в Кохановку, для чего папа должен заказать на службе машину. Но и на это Юра ответил категорическим отказом. К Кохановке он доберется один, и «демократическим» транспортом — рейсовым автобусом, а через год, когда Маринка закончит техникум, и Арсентий Никонович по просьбе Юры устроит ее в областном центре (за это уж никто отца не упрекнет), и когда затем Юра женится на Маринке, он сам поклонится родителям — попросит у них транспорт, чтобы переехать «по семейным обстоятельствам» в Средне-Бугск. Все просто и ясно, как в арифметической задачке. У Юры тогда будет пусть небольшой, но стаж работы на периферии, он обретет в связи с женитьбой душевное равновесие, поступит в заочный институт, и книга его жизни продолжится более увлекательно и ярко согласно способностям, какими судьба не обделила Юру, и учитывая его внешность, которая с первого взгляда располагает к нему людей. Юра — рослый, широкоплечий, лицо у него приветливое, открытое, золотисто-голубые глаза смотрят на всех с доброжелательностью и душевной щедростью. Он, конечно, понимает, что красив, но держит себя так, чтоб каждому было ясно: красоту Юра ставит в ничто, ибо главное в мужчине — быть мудрым, уметь работать и дружить.
Итак, Юра Хворостянко поехал в Кохановку.
Павел Платонович Ярчук только что вернулся с полей и чувствовал себя разбитым от жары и от тревоги, что закромам в этом году не быть из-за недорода полными.
Когда зашел в кабинет, на него дохнуло прохладой глинобитных стен. Расстегнул прилипший к спине белый чесучовый китель, кинул на вешалку соломенный капелюх и с удовольствием сел за стол.
В эту минуту в кабинет и зашел Юра Хворостянко. Познакомились. Павел Платонович уже знал, что в колхоз назначен техник-строитель, и был немало рад этому. Ему понравилась «твердинка» в глазах Юры Хворостянко; с надеждой подумал, что обрел, наконец, дельного помощника по строительству.
На столе появились листы ватмана и кальки с планами и проектами. Особенно выделялось пожелтевшее полотнище с планом строительства новой Кохановки.
— Иллюзии, — горестно вздохнул Павел Платонович, когда Юра заинтересованно склонился над красочным полотнищем. — Размах был богатырский, а удара не получилось. Заложили пять домов и вот уже четвертый год строим. О полной реконструкции села и думать перестали. Гоним вверх только производственные помещения.
И Павел Платонович невесело стал рассказывать, что нет ничего хуже строиться, когда под боком ни кирпичного завода, ни леса, отведенного под порубку, ни даже камня — самого обыкновенного, какого, скажем, в Крыму до одури много.
Правда, поступают фондовые материалы, но их с трудом хватает на хозяйственные постройки. А что касается жилых домов, так «кампания» уже позади.
Несколько лет назад и газеты часто писали о сельском жилом строительстве и на совещаниях в районе «давали установку». Павел Ярчук даже съездил в Киев на выставку достижений народного хозяйства, где построена образцовая улица из типовых коттеджей такой красоты, что сердце немеет от восторга. Долго осматривал их, прикидывал, что лучше будет для Кохановки и что дешевле обойдется. Мечтами витал в облаках, да позабыл учесть финансовые возможности колхоза, надеясь на государственные ссуды.
Потом обзавелись план-проектом, договорились с колхозниками о прекращении «анархии в частном строительстве» и заложили первые пять домов, наметив их для ученых — специалистов по механизации, агрономии и животноводству.
Но времена изменились. В районе теперь без обиняков говорят: главное — хлеб, мясо, свекла и молоко (будто раньше что-нибудь было главнее!), а к строительству жилых домов привлекайте средства тех, кому дома предназначаются.
Как же быть? Ни средств, ни материалов нет. А колхозники, у кого старые хаты, по крохам годами копят деньги, правдами, а больше неправдами добывают лес, доски, шифер, обогащая воров и спекулянтов, и закладывают на своих усадебных участках могучие и долговечные шлакобетонные дома.
И теперь фундаменты типовых коттеджей над Бужанкой — как бельмо на глазу у Павла Платоновича. Срам перед всем районом! Но дома будут! Не зря Ярчук известен своей председательской сметкой и предприимчивостью. Правда, случаются досадные осечки.
Когда несколько лет назад недалеко от Кохановки закончили строительство межрайонного откормочного свинопункта, Павел Платонович проявил «добрую инициативу» — силами колхоза в авральном порядке очистил захламленную территорию строительства. В результате немалые лишки стройматериалов-перекочевали в Кохановку.
Но Павел Ярчук не так уж ограниченно мыслит. Появившиеся в селе штабеля леса и кирпича, горы камня и щебня, мешки с цементом были оформлены специальным актом, но акт «по недосмотру» не отправили в район или вроде отправили, да он там «затерялся». И выжидали. Нужно было время, чтобы излишки прижились в Кохановке, а в исполкоме чтоб о них забыли. А после того как бывший Воронцовский район «прирезали» по каким-то соображениям к Средне-Бугской области и райцентр перекочевал из Воронцовки в далекий Будомир, Павел Ярчук решил, что дело в шляпе.
Но вдруг, как ухаб на ровной дороге, — комиссия из исполкома!
Оприходовала все стройматериалы, тепло поблагодарила Павла Ярчука за хозяйственную и бескорыстную инициативу на благо района и уехала, оставив Павла Платоновича у разбитого корыта.
Надо было что-то делать. Надо убедить райисполком, что колхозникам за очистку строительства и перевозку стройматериалов начислены трудодни, следовательно, колхоз понес убытки. Теперь же, если начнутся новые перевозки, опять будут затраты. А в итоге они могут оказаться выше всей стоимости стройматериалов. Зачем же разорять колхоз и забирать у него то, что должно принадлежать ему согласно здравому смыслу?
Но чтобы доказать все это, нужны точные, убедительные расчеты. Нужны выкладки, цифры.
И приезд в колхоз Юрия Хворостянко Павел Платонович воспринял как манну небесную. Ведь специалисту все карты в руки!
Юра внимательно слушал Павла Платоновича и посматривал на ватман с план-проектом строительства. У него были некоторые вопросы, но он боялся, что первый разговор с председателем затянется надолго, а ему не терпелось скорее попасть на строительную площадку, где надеялся встретить Маринку. Заверив Павла Платоновича, что все расчеты он сделает быстро, Юра сказал:
— Для начала посмотреть бы строительство. Объем работ…
— Погоди, — перебил его Павел Платонович. — Надо еще подумать, куда тебя поставить на квартиру.
И тут Павел с удивлением заметил, что Юра смутился. Он торопливо сунул в пепельницу недокуренную папиросу, отвел глаза в окно, и, кажется, лицо его чуть побледнело. После паузы Юра, не глядя на председателя, сбивчиво заговорил:
— Тут у вас проходит практику наша студентка… Она местная, Марина Черных… Мне надо… Я бы с ней хотел посоветоваться насчет квартиры.
В голове Павла Платоновича шевельнулась догадка. Чтобы скрыть изумление, он выдвинул из стола ящик и без надобности начал рыться в бумагах. «Очень похоже, что строитель добился назначения в Кохановку из-за Маринки, — подумал с тревожной радостью. Мысль его суетливо пыталась предвосхитить события… — Эх, если б стал техник-строитель на пути Андрея… Соперник достойный… Ничего, переживет Андрей, помудреет сердцем. А Ярчуки уклонятся от нежелательного родства».
Надо было продолжать разговор, и Павел Платонович буднично, чтобы не выдать заинтересованности, переспросил:
— Марина Черных?.. А мы сейчас увидим ее. — И деликатный разговор повел напрямик: — Между прочим, можно было б в ее хату тебя и определить. Не сегодня-завтра Маринка возвращается в техникум. На хозяйстве остается одна мать. Она, думаю, с радостью возьмет квартиранта, чтобы иметь свежую копейку.
Юра настороженно посмотрел в глаза Павла Платоновича. Но ничего, кроме доброжелательного раздумья, в них не прочитал. Доверительно ответил:
— Я бы не возражал, если только это удобно.
Вскоре они были на колхозном дворе, где под руководством Маринки возводилось нехитрое здание мастерских. Павел Платонович с удовольствием вдыхал пахучий аромат увядающей смолы на щепах, прислушивался к въедливому стуку топоров, к чьей-то песне без слов, к визгливому скрипу колеса на подъемнике. Вокруг был привычно-будничный, успокаивающий мир труда и созидания.
Неожиданно сзади послышался певучий голос:
— Павло Платонович, вы не меня ищете?
Павел оглянулся и увидел Маринку, вынырнувшую из-за штабеля досок. Сердце у него дрогнуло: ему показалось, что из дымчатых глубин времени перед ним встала Настя — синеглазая, стройная и светлая, как весенняя березка под солнцем; чем-то таким родным и тревожным дохнуло от Маринки на Павла Платоновича, что глаза его затуманились, а дрогнувшее сердце заколотилось, будто заплакало навзрыд по несбывшимся надеждам.
Павел Платонович заметил, что к ногам Маринки, сверкнув в лучах солнца, упала на белую щепу металлическая рулетка. А сама Маринка стала смотреть куда-то за его спину, смотреть расширенными глазами, которые искрились под солнцем необыкновенной синевой, выражая изумление или немую радость, а может, то и другое вместе.
— Юра, ты?.. — прошептала Маринка, обнажив в улыбке белые и ровные зубы. — Откуда ты взялся?..
Павлу Платоновичу снова почудилось, что это Настя одаряет кого-то дурманящей синевой своих глаз, ослепляет белозубой улыбкой. И сам он будто молодой — тот далекий Павлик, не обмятый жизнью, с необузданным доверчивым сердцем. Почувствовал, что жгучая ревность сдавила грудь.
Тяжко вздохнул, будто вынырнул из удушливо-хмельного миража. Полез в карман за сигаретами, торопливо закурил, свирепо затянулся дымом. С грустным удивлением подумалось о том, как живуча первая любовь, как велика память сердца о ней.
Отошел в сторонку — не хотелось слышать разговора Юры да Маринки — и вдруг ужаснулся:
«Что же ты делаешь, дурак вяленый?! Ведь, может, Андрей, как и ты сам, будет казниться всю жизнь! Зачем же отцовскими руками помогаешь отнять счастье у твоего сына?..»
Павлу Платоновичу показалось, что на него смотрит сейчас его Андрей с безнадежным укором, с немой мукой. Он виновато и беспомощно оглянулся. Увидел, что Маринка с Юрой, присев на бревно, о чем-то шепчутся, и почувствовал, что в сердце закипает лютость. «Неужели забавы ради Маринка дурила Андрею голову, а сердце отдала этому городскому красавчику?» Вспомнилось давнее: коварная измена Насти, которая любила его, Павла, а когда ушел он в армию, вышла замуж за Сашу Черных.
«И эта в мать пошла: одна натура! — с распалявшейся неприязнью подумал о Маринке. — Андрею нужна не такая. Не такая нужна! Есть же девчата, какие…»
Павел Платонович не успел домыслить, какие есть девчата, ибо вдруг увидел рядом с собой подошедшую Настю.
— Здравствуй, Павел, — поздоровалась она знакомым и чуть огрубевшим голосом.
— Добрый день, — не сразу ответил он, измерив Настю почти враждебным взглядом.
Она стояла перед ним, повязанная белым платком, несколько располневшая, со скорбными морщинками у губ, не утративших свежести. Глаза такие же — синие, только словно чуть обмелели да притухли в них насмешливо-задорные искорки. В руках Насти был узелок с обедом для Маринки. Из узелка выглядывала бутылка с молоком, заткнутая осередком кукурузного початка.
— Чего смотришь чертом? — с развязной снисходительностью спросила у него Настя.
Павел Платонович грустно усмехнулся в черные усы и, подавив смятение и горечь в душе, спокойно ответил, глядя на узелок:
— Тут, Настя, такая ситуация, что молоком не обойдешься. — И указал глазами на занятых разговором Маринку и техника-строителя. — …Беги домой да готовься гостей встречать. Зятек, кажется мне, приехал…
18
За далекими землями, покрытыми лесами и холмами, безмолвно догорел погожий закат. В небе, прямо над Бужанкой, молодо засверкала неподвижная звезда. С речки, с лугов наползла на Кохановку душистая и теплая свежесть, вокруг разлилась мягкая тишина, все больше наполняя собой густеющую синеву вечера.
Андрей помылся, побрился, надел праздничный костюм и вышел на свиданье с Маринкой. На сердце будто тяжелая глыба льда, хотя, казалось бы, никаких явных причин для сомнений не было. Он сидел на толстом горбе выбившегося из земли корневища прибрежной вербы, под сенью низко склонившихся ветвей, и бросал в речку камешки. Следил, как разбегались по воде круги, как плавно колебалась в ужасающей глубине яркая звезда, и старался ни о чем не думать. Но неотвязно мучил вопрос: «Придет или не придет?»
Когда он возвращался с поля, его встретила на улице Феня и заговорщицки шепнула:
— Сказала Маринка, что прибежит… Когда мать уснет.
«Значит, должна прийти…»
Под вербами сгущались потемки. С пригорка смотрели на Бужанку смоляными окнами хаты. Ясени возле них казались черными и неподвижными.
Только по ту сторону подступавшего к речке оврага, где на опустошенных огородах заложены первые фундаменты хат нового села, тускло светились на столбах электрические лампочки. А еще дальше, за растворившимся в синих сумерках выгоном, будто замер пассажирский поезд с освещенными окнами. Это виднелся коровник, скрывавший за собой длинные постройки колхозной усадьбы.
Село уже спало. И словно стремясь удостовериться в этом, из-за тучи воровато выглянул похожий на краюшку спелой дыни месяц. Его свет робкими бликами упал сквозь густые ветви вербы к Андреевым ногам, скользнул в воду и заструился через речку зыбкой дорожкой.
Андрей засмеялся. Нет, это был не беспричинный смешок забавляющего себя от безделья парня. Андрей представил, как в эту самую минуту его разлюбезная Маринка, кусая от страха губы, тихонько открывает на кухне окно и выскальзывает из хаты в малинник. Под ее ногами трещат сухие стебли, и она замирает, прислушивается: не раздастся ли сердитый окрик матери? Настя же наверняка слышит, как удирает на гулянку дочь.
Да разве одна Настя? Во многих хатах вспугивают сейчас сторожкую тишину взвизг половицы, скрип оконной рамы или двери. Шуршат сеновалы, трещат плетни… Это тайком от родителей пробираются на улицу хлопцы и девчата. А вдогонку им вздыхают отцы и матери, притворяясь, что вздыхают во сне. Ничего не поделаешь — каждый был молодым, каждый испытывал сладкую жуть вот таких побегов.
Девчата через садки и огороды держат путь к Евграфовой леваде, которой уже давным-давно нет, но осталось лишь название места, где сейчас посреди затравелой площадки высятся на дубовых подпорах качели. Так уж повелось: спешат ли девчата в кино или на выставу (так называют в Кохановке самодеятельные спектакли), идут на собрание или на концерт, все равно собираются стайками в Евграфовой леваде и оттуда направляются к клубу, оглашая село голосистыми, приводящими в бешенство собак песнями.
А хлопцы, только вырвавшись с подворья на улицу, степенно закуривают и дожидаются, пока на огонек не подойдет кто-нибудь из друзей-приятелей. Затем, позабыв о степенности, изо всех ног устремляются на перехват девичьим песням.
Сегодня клуб на замке (в жнива председатель колхоза и бригадиры пуще огня боятся наезда артистов и киномехаников). Да и зачем идти в клуб, если манила августовская ночь, дышащая ароматами увядающих хлебов, пряными запахами клевера, свежестью речки, над которой о чем-то таинственно перешептываются старые вербы.
Здесь, над Бужанкой, до первых петухов будет звенеть песнями и переборами гармоники гульбище. Потом оно чуть притихнет: из хоровода неведомо когда и как исчезнут многие девчата и хлопцы. То там, то сям — на берегу и в садках — будут раздаваться всплески смеха, звуки поцелуев, горячий шепот. А бывает, и ляснет звонкая затрещина, которую влепит строгая дивчина не в меру ретивому ухажеру.
Угасший было хоровод вскоре взметнется особенно ядреными голосами. Это начнут петь озорные частушки те девчата, которые не успели «присушить» кого-нибудь из парней, и те, кого природа обошла красотой, а доля угрожает одиночеством. В задорных песнях они будут скрывать свою тоску по любви и обиду на судьбу-злодейку.
Да, не стареет любовь. В таком же песенном буйстве шагала она по Кохановке и в годы юности отца и матери Андрея Ярчука. Только другими были песни, иными мечты, да и счастье рисовалось в других красках.
А Маринки все нет да нет.
За оврагом, у широкого плеса Бужанки, где плоский берег был щедро устлан ползучим шпорышем-муравой, уже давно шумела в исступленном веселье гулянка. Слышались взрывы смеха, взвизги девчат, переливы гармоники. Кто-то из парней, кажется Федот Лунатик, сильным и приятным голосом затянул песню. Ее подхватили девичьи голоса, но песня тут же угасла, утонув в дружном взрыве хохота. Все это сливалось в единый шум, почему-то наводящий на мысль о сельской свадьбе.
Маринка, ну где же ты?!
Луна вскарабкалась на середину неба, в самую гущу трепетных жемчужных звезд. Берег будто окатили голубым серебром, на которое темными узорами легли тени от верб. В синем мороке утопал горизонт, и небо над ним чуть поблекло: тлела далекая заря.
Андрей больше не мог сидеть. Докурил последнюю сигарету в пачке и, когда брошенный окурок, прочертив в воздухе огненную дугу, коротко зашипел в черной воде, решительно поднялся. Но уходить не хотелось. И не хотелось верить, что Маринка так и не придет. Наверное, подумала, что Андрей ее не дождался. Дуреха! Если б знала, как он любит! Знает ведь, что любит. А может, и нет. Андрей же не умеет говорить ей о любви. Почему-то стесняется тех нежных, самых ласковых слов, которые он мог бесконечно твердить про себя. Но сказать их Маринке?.. Чаще говорил какие-то глуповатые шутки. Они не столько смешили, сколько раздражали девушку. Но теперь скажет. Скажет, какая мучительно-сладкая томит его тоска, когда он не видит Маринку, не находится рядом с ней, не слышит ее родного щекочущего за сердце голоса, не смотрит в ее глаза. Ох, эти глаза! Поведет ими Маринка на Андрея, и они, плавясь в счастливом смехе, будто говорят: ой, не хитри, не хвастай. Я ведь тебя понимаю, ох, как понимаю, ох, понимаю! И искрятся, искрятся смехом, источая теплоту и нежную щедрость сердца.
И у Андрея, когда он влюбился в Маринку, сердце стало совсем, совсем другим. И сам он стал другим. Может, поэтому его теперь так волнует музыка? И щебет птиц, и запахи цветов, и детский лепет. Раньше он, кажется, не замечал, как красива в своей обыденности его Кохановка, как покорно-тиха и по-девичьи задумчива Бужанка; в его груди не рождали восторга безмолвные пожары утренней и вечерней зари, не вызывала безотчетной грусти звонкая тишина лунных ночей. Все, все стало не таким. И он сам…
Любовь делает человека добрым, мудрым и богатым душой.
Но где же ты, Маринка?
19
А хата Насти была наполнена застольным гомоном: шел пир в честь приезда однокашника Маринки по техникуму Юры Хворостянко. Но если сказать по правде, размахнулась Настя щедростью не только из-за Юры, сделавшего, по ее мнению, глупость, что по доброй воле приехал на работу в колхоз. Хотелось Насте, чтобы и Павел Ярчук посидел за ее вдовьим столом. Никогда ведь раньше не был он в этой немилой ему хате, и уже многие годы не встречались они вот так, чтобы можно было без оглядки на людей одарить его несмело-зовущей улыбкой, лукаво-предупреждающим взглядом и поддеть каленым словцом со смыслом; Насте желалось держать себя так, будто совсем не была она виновата перед Павлом. И верно, не чувствовала своей вины. Жизнь так обошлась с ней, что давняя вина — пустое по сравнению с тем, что он, Павел, живет да здравствует, а ее муж Саша сгинул на войне. Сердце подсказывало ей, что время не убило в Павле всего того, что буйно цветилось в дни их зеленой молодости. Сама не зная для чего, Настя надеялась заметить в нем остатки неугасшего жара и с грешной радостью ощутить свою бабью силу над ним… Вот и воспользовалась удобным случаем, пригласила в хату.
Пришел Павел Платонович вместе с Юрой Хворостянко. Приплелся и Серега Лунатик, учуяв, что его и Насти отношения могут затмиться нежданной тучей.
Покрытая вышитой скатертью столешница, казалось, стонала от закусок. Когда только успели хозяйки наготовить всякой всячины? Коричнево лоснились на большом блюде жареные цыплята, дымились в зеленой проседи голубцы, высилась на тарелке горка сползающих друг с друга вареников с вишней, рядом холодно белела сметана в расписной глиняной миске. Порезанный кусок сала на синем блюдце соседствовал с красным блюдцем, на котором лежала добрая горсть чищеных зубцов чеснока. Были здесь яички сырые и вареные, огурцы свежие и малосольные, помидоры с грядки и маринованные. И кто знает, какая еще таилась еда в дышащей теплом печи.
Царствовал на столе запотелый графин прославленной искристо-розовой «калиновки».
Павел сидел рядом с Серегой — на покутье, напротив них, спиной к двери, — Маринка и Юра. Разговор не клеился. Серега молча жевал вареник, хмурился от неловкости и нетерпеливо ждал, когда Настя нальет очередную чарку. Павел краем глаза осматривал горницу хаты, стол с обилием закусок и думал о том, как неузнаваемо изменилась вся атмосфера крестьянского бытия. Сгинули старые мисники, источенные шашлем скрыни, топорной работы лавки вдоль стен. Вот и в эту сельскую хату будто переселился вчерашний день городской квартиры — двухъярусный буфет, массивный шифоньер, плетенная из лозы этажерка с угнувшимися под тяжестью книг полочками, дешевый радиоприемник на тумбочке, металлическая, с трубчатыми спинками кровать, розовый абажур под потолком… За столом тоже все не по-староселянски: каждому отдельная тарелка, сверкающий нож, вилка, рюмка. В кокетливой вазочке — веер бумажных салфеток. Ничего похожего на ту хату, где росли Павел и Настя. Всплыл в памяти черный от времени непокрытый стол, высокая глиняная миска и деревянные ложки вокруг нее, вспомнилась привычка Насти ловко, будто невзначай, вылавливать из борща шкварки.
— Чего ты, Павел Платонович, язык прикусил? — встревожилась Настя затянувшимся молчанием.
— Думаю о том я, — ответил Павел, — что живешь ты как царица, а жалуешься на малые заработки в колхозе.
— Нашел царицу! — довольно засмеялась Настя. — От колхоза у меня одни мозоли на руках да болячка в спине. А все, что на столе, — домашнее.
— И мука на вареники домашняя? — удивился Павел.
— Разве что мука.
— А сало не с поросенка, которого колхоз дал?
— Ну, еще сало.
— А сметана не от коровы, что на колхозной земле пасется да кормится сеном, которое получаешь в колхозе?
— Ты еще скажи, что я колхозным воздухом дышу да на тебя, колхозного голову, бесплатно глаза пялю. — Настя, не таясь, обдала Павла таким взглядом, что Серега побагровел от ревности. — Наливайте по чарке! — и взялась за графин. — Вы, начальство, больно грамотные, когда надо считать, что дает колхоз людям. А чего не дает, так способностей подсчитать у вас не хватает.
— А что ты насчитала?
— Насчитала, что можно было б больше людям дать хлеба, чем вы плануете. — Настя, налив всем «калиновки», присела рядом с Маринкой.
Павел Платонович досадливо поморщился от слов Насти и поднял налитую рюмку.
— Ну так давайте выпьем за молодого строителя новой Кохановки Юрия Арсентьевича Хворостянко, чтоб чувствовал он себя своим человеком в нашем селе, чтоб пустил в нем корни и… — Павел выразительно посмотрел на Маринку, заставив ее опустить глаза и поморщиться от досады. — Одним словом, выпьем!
— Спасибо, спасибо, — Юра поклонился всем с чрезмерной скромностью. Дождавшись, пока выпили мужчины и обмакнули в «калиновку» губы женщины, выпил сам.
Натянутость за столом, томившая вначале Павла, постепенно размывалась теплынью хмельной волны, которая прокатилась по жилам. Вдруг обратил внимание на висевшую между окнами золоченую раму под вышитым рушником. В раме, когда присмотрелся, узнал портрет Саши Черных. Темные глаза не вернувшегося с войны мужа Насти смотрели из-под широких бровей с легкой надменностью и бесшабашностью, а Павлу казалось, что взгляд этот притворный, изо всех сил скрывающий муку, готовую страшным воплем исторгнуться из груди. Павел вспомнил тот далекий, затерявшийся в глубинах времени день в Австрии, когда смертельно раненный Александр смотрел на него затуманенным горячечным взглядом и слабеющим голосом молил хранить в тайне даже от Насти, что умирает он предателем.
Видения прошлого сдавили грудь; Павел достал из кармана сигареты, закурил и, не найдя на столе пепельницы, повернулся к раскрытому окну. Выбросив в черноту ночи огарок спички, задержал взгляд на калиновом кусте, который сонливо заглядывал в хату, щурясь красными гроздями в пасме электрического света. Но что это?.. Показалось?.. Куст испуганно шевельнул ветками. Павел некоторое время настороженно всматривался в темноту. Вспомнил об Андрее: «Не он ли шастает под окнами?»
Маринка поставила перед Павлом Платоновичем блюдце взамен пепельницы и предупредительно спросила:
— Дует? Я закрою окно.
— Закрой, закрой, — поддержала ее Настя. — А то комары в хату летят.
Маринка, вздохнув, стала закрывать окно, отводя от створок протестующие, в красных монистах, зеленые руки калины. Кажется, и она сторожко всматривалась в темную загадочность ночи.
Раскрасневшийся Серега также потянулся за сигаретой и, белесо поглядывая на Юру, спросил:
— А что нам скажет товарищ техник-строитель, к примеру, насчет двухэтажных домов? Зачем нам их советуют строить? Нужны они колхозникам или начальству хочется, чтоб мужик на голове друг у друга жил?
— Наше дело — выполнять заказ, — степенно ответил Юра. — Строим согласно проекту.
Серега выжидающе смотрел на Юру, надеясь, что тот продолжит свою мысль. Но Юра, убежденный, что только бесплодные умы щедры на слова, замолчал и принялся за цыпленка.
— А ты, Платоныч, как мыслишь насчет двухэтажных? — обратился Серега к Павлу, шумно выдохнув облако дыма.
— Правильно мыслю, — неохотно ответил Павел, покосившись на раму с фотографией. — В коллективных домах скорее зачахнет наша с тобой мужицкая психология.
— Какая такая психология?
— Кулацкая!
— Ну, это ты брось, Павел Платонович. Кулак во мне и не ночевал.
— Тогда как же ты сам, Сергей Кузьмич, смотришь на двухэтажные дома? — Павел посмотрел на Серегу с насмешливым любопытством. — Не одобряешь?
— Не одобряю!
— Почему?
— Будто и сам не знаешь, — Сергей ехидно скосил на Павла белесые глаза. — А чего же горожане стремятся хоть собачью будку, да иметь на природе?! Собственную, без соседей. Видел, сколько таких времянок вокруг Киева да Москвы? Я уже помолчу о капитальных дачных поселках. В садах сколько курятников понастроили! Говорят, присоветованы они для того, чтоб люди прятались от непогоды, когда работают в саду. Так строили бы для непогоды коллективные схованки — на пять-шесть участков одну… Ан нет! Каждому подай отдельную крышу. Мужику тем более крыша нужна, да с куском земли.
Слова Сереги озадачили Павла. В них звучало что-то и из его мыслей, только по-иному звучало. Ведь кому не понятна извечная тяга людей к матери-природе, тихая радость человека, когда он разговаривает с ней голосом сердца, сажая деревцо или цветы, лаская землю рукой или босой ступней или просто созерцая в уединении сказочные творения земли и солнца. Природа укрывает человека от суетности жизни, когда он утомлен или когда ему грустно, прячет от посторонних глаз, когда он любит, помогает ему отрешиться от всего, что мешает ощутить в груди радость творческого горения. Он, Павел, не против такого уединения.
Но ведь бывает и совсем иное уединение. Из глубин веков вынесли люди понятие, будто счастье человека только то, которое у него в кармане, в собственном доме. И хотя у нас давно родилось новое понятие о счастье, есть еще люди, которые не верят, что можно быть счастливым, не отгородившись от мира. Вот каждый из таких дует в свою дуду. Многие спешат урвать клок земли поближе к городу, огородить на нем свой дом и сделать его копилкой счастья. По их воле исчезают леса и появляются кустарники, окруженные глухими заборами, а вслед за этим исчезают люди и появляются жалкие человечки.
У них одна природа с теми селянами, которые, словно черт ладана, боятся коммунального дома. Впрочем, иные крестьяне хоть пока имеют основания смотреть на свой дом, а вернее, на земельный участок при нем, да на домашний скот, как на спасательный круг, который удерживает их, когда штормовая волна хлебо- и других заготовок (бушует же она из года в год) уносит и причитающиеся им, крестьянам, трудовые дары земли.
Конечно, Павел прекрасно понимает, что частная собственность колхозников и рабочих совхозов тоже никак не способствует скорейшему рождению у них коммунисчического сознания. Но огороды и домашний скот это овощи, фрукты, молоко, мясо, за которыми крестьянам не придется обращаться ни к артели, ни к кооперации. А ведь коммунизм, кроме всего прочего, предполагает и сказочное изобилие продуктов. Так надо же заботиться об этом изобилии! Эх, добраться бы Павлу до какой-нибудь высокой трибуны да напомнить в полный голос, что не надо бояться противоречий в нашей жизни. Без них никак не обойтись. Куда же деваться и от этой противоречивой ситуации, когда заинтересованность государства в изобилии продуктов совпадает с заинтересованностью крестьян в приусадебных участках и личном скоте, хотя государству противны частнособственнические устремления людей. Но ничего здесь страшного, ибо их сознание определится в конечном счете все-таки колхозным бытием.
Прервав течение мыслей, Павел возвратился к прежнему разговору. Спросил у Сереги:
— Где же ты слышал, что двухэтажный дом на четыре квартиры, который, как тебе известно, легче и дешевле построить, нежели четыре одноэтажных, мешает нашему брату иметь при доме свои участки под сад и даже огород? Только надо разумно планировать дом.
Серега зло покосился на Настю, которая ласково-укоряющим взглядом пыталась заставить Павла изменить тему разговора, и сказал:
— Как ни планируй, а если моя хата оторвана от моего садка и огорода, если во двор я должен слазить по лестнице, значит и я от земли оторван.
Павел метнул удивленный взгляд на Серегу: Лунатик говорил слова, с которыми он, Павел, не согласиться не мог, но сознаться в этом почему-то не хотелось.
— А потом, — продолжил мысль Серега, — если меня загонят на второй этаж, веранду я там не прилеплю. А без веранды дачник ко мне не пойдет.
— Вот-вот! — вдруг весело оживился Павел, отодвигая налитую Настей рюмку. — Ты сам и ответил на свой вопрос. А говоришь, кулак в тебе и не ночевал.
— Хватит вам! — взмолилась Настя. — Вы что, пришли ко мне казенные дела утрясать или в гости?
— Виноваты, — Павел взялся за рюмку. — Не будем об этом. Живи, Сергей Кузьмич, в своем доме. Никто не торопится лишать тебя твоей веранды.
— Благодарствую! — с ехидством ответил Серега и лихо опрокинул в рот рюмку.
Павел внутренне съежился от полоснувшей по сердцу неприязни к Сереге. Трудно с такими вести колхозное хозяйство. Он же считает себя безответственным перед артелью, а с артели старается урвать побольше. Сегодня такой «хитрец» работает в колхозе, чтобы иметь право на приусадебный участок, завтра кому-нибудь помогает строить хату, потому что это дело выгодное, послезавтра, прослышав, что на рынке подскочили цены на чернослив или грецкие орехи, стоит с мешком у дороги и дожидается попутной машины да еще ругает председателя, что специального транспорта для поездок в областной центр не выделяет. Копит гроши и строит себе новый домище, под черепицей и с верандами, но летом будет спать с семьей в вонючем сарае или в духоте на чердаке, а комнаты сдаст дачникам, «слупив» с них втридорога за жилплощадь, за свежие овощи с огорода, за ягоды и фрукты, за молоко детям, за близость хаты к лесу, где грибы растут, за пользование лодкой на Бужанке, за электроэнергию, за дрова, за выбитое стекло в окне, за сломанную ветку.
Конечно же, двух- или трехмесячное пребывание дачников в селе дает вот таким Лунатикам доход, превышающий их годичный заработок в колхозе. И короста стяжательства разъедает им сердца и души, на колхоз они начинают смотреть, как на свое подсобное хозяйство.
К счастью, не много в Кохановке вот таких Серег Лунатиков, но их вполне достаточно, чтобы отравлять духом корысти атмосферу в селе и вызывать горькую досаду у честных тружеников, которые на своем хребте везут артельное хозяйство. А ведь немало подобных Кохановок разбросано в окрестностях городов или даже вдали от них — на берегах сотен рек и озер, не говоря уже о морских побережьях…
Настя давно не видела Павла в таком изменчивом настроении. Подумала: а не ревнует ли он ее к Сереге, который по дурости ведет себя хозяином за столом? И делая вид, что не замечает ядовитых Серегиных взглядов, присела рядом с Павлом, плечом к плечу, будто для того, чтобы со стороны полюбоваться Маринкой и Юрой, которые о чем-то перешептывались. Юра, свесив над столешницей русый чуб, снизу вверх заглядывал Маринке в зарумянившееся лицо и вслушивался в сбивчивые ее слова; глаза Юры блестели, источая щедрую снисходительность, а губы кривились в досадливой улыбке. Маринка, опустив трепещущие ресницы, мяла в руках салфетку и что-то доказывала Юре.
Неловкую тишину нарушил Серега:
— Так, значит, ты, Павел Платонович, голосуешь за многоэтажки, как начальство велит? — спросил он и тут же осекся, уловив злой блеск в глазах Павла, которому уже трудно было удержаться, чтобы не высказать Сереге всего того, что запеклось на сердце.
Но не успел произнести ни слова. Будто пушечный выстрел, ахнул снаружи свирепый удар по окну. В спину Сереги и Павла, на стол и на пол с тонкой звенью брызнули осколки стекла.
Первой опомнилась Настя. Она кинулась к стенке и щелкнула электрическим выключателем. Комната окунулась в темень. Все, потрясенные неожиданным, молчали.
Потом откуда-то из-под стола подал испуганный голос Серега:
— А до окон на втором этаже холеру б дотянулись.
В ответ послышался зловещий хохоток Павла, затем резкие его слова:
— А ну, хлопцы, за мной! Надо поймать стервеца. — Павел был убежден, что ударил по окну не кто иной, как его сын Андрей.
Такая же мысль пронеслась, холодя сердце, у Маринки. Она кинулась из хаты вслед за Павлом Платоновичем.
Настины гости долго обыскивали малинник, садок, огород. Но тщетно. И никто не догадывался, что Маринка уже свершила суровый, но неправедный суд; она знала, где может быть Андрей. Выскочив на улицу, Маринка устремилась к старому баркасу, с незапамятных времен лежавшему вверх дном под соседским плетнем. Здесь не раз они сиживали с Андреем и не раз прятались за баркасом, если выходила со двора Настя. И точно: Андрей стоял у баркаса, сердито поблескивая в темноте белками очей. Маринка подлетела к нему и, задыхаясь, прошипела:
— Дур-р-рак! — и неумело хлестнула рукой по лицу. — Ненавижу тебя! затем всхлипнула и убежала, яростно хлопнув калиткой.
Вечер был испорчен. Ушел домой Павел, унося в груди лютость на Андрея; особенно злило его то, что сын, сотворив глупость, трусливо спрятался. Вслед за Павлом ушел Серега, взяв с собой на ночлег Юру Хворостянко.
А Андрей ни в чем не был виноват. Истратив всю надежду, что Маринка придет на свидание, не имея больше сил оставаться в неведении, он покинул условленное место над Бужанкой и, сам не зная зачем, пошел в направлении Маринкиного подворья. Издали увидел, что знакомая хата с бессердечным весельем светится всеми окнами. Не удержался, перемахнул через плетень и со стороны огорода подобрался к хате. Увидел в окно такое, что в голове помутилось, а сердце зашлось в немом крике: Маринка сидела за столом рядом с незнакомым плечистым парнем, смотрела ему в глаза, улыбалась и о чем-то весело щебетала. Андрей даже не знает, как снова оказался на улице. Теперь ему все ясно! Все! «…К нам приехал один человек, и мне надо побыть дома», — вспомнилась Маринкина записка. И насмешливые ужимки Фени вспомнились.
Он стоял возле знакомого баркаса, не ощущая самого себя, земли под ногами, дрожащей тьмы, надвинувшейся со всех сторон. Только опаляющие молнии в сердце.
Сделал шаг, другой в направлении Бужанки и почувствовал, что ноги не хотят повиноваться, будто из них вынули кости. «И ногам тяжко уходить отсюда», — с горькой усмешкой подумал Андрей, расслабленно опускаясь на днище перевернутого баркаса. Вдруг рядом раздался сердитый голос матери:
— А ты чего тут сидишь?!
Андрей вздрогнул от неожиданности. Мать стояла в двух шагах от него с толстой дубинкой в руке, будто призрак, сотканный из мутнеющей от близкого рассвета ночной темноты.
— Да так… Не спится… — Андрей даже не узнал своего голоса, осипшего, погрубевшего.
— Знаю, почему тебе не спится. Ишь, батько наш как разгулялся!
В словах матери Андрей уловил зловещие интонации, предшествующие обычно буре.
— Настя женишка выписала для Маринки из города, а он в сватья напросился! — осведомленно говорила мать, с трудом сдерживая нарастающий гнев. — Я ему покажу, черту усатому!
— Мамо, идите домой, — Андрей забеспокоился не на шутку.
— Пойду, пойду… Вот только гляну в окно на их теплую компанийку и пойду… А ты тоже ступай. И чтоб завтра духу твоего в селе не было уезжай!
— Куда уезжать?
— Хоть на целину! Батько говорил, что требуют из колхоза одного комбайнера. Уезжай и забудь эту червивую Маринку! Плюнь на нее! Есть же у тебя гордость? — И мать с угрожающей решительностью зашагала к Настиному подворью.
Андрей окаменело сидел на баркасе и, потеряв ощущение времени, раздумывал над словами матери. Неожиданно услышал звень разбитого и падающего стекла, увидел, как исчез свет в окнах Маринкиной хаты. Через минуту из калитки метнулась женская фигура. Сердце сжалось в тревоге: мать что-то натворила, а теперь убегает. Но то была не мать. То была Маринка. Она подлетела к Андрею, обожгла ударом по щеке и бросила в лицо слова, которые он ей никогда не простит и не забудет.
На востоке, на самом краю земли, небо уже пило лучи еще невидимого солнца. Ночь светлела, делалась дымно-сизой, и казалось, светлела сама тишина, баюкавшая спящую зоревым сном Кохановку. Андрей усталой походкой шагал по берегу Бужанки куда-то за село, мучительно стараясь найти какую-то самую нужную, главную мысль.
20
Секретарь парткома Степан Прокопович Григоренко часто подтрунивает в душе над собой из-за того, что навещают его мысли о старости. Но ведь и вправду не молодой: давным-давно шестой десяток разменял. А с виду Степан могуч, словно заматерелый дуб, перенесший бури и ураганы. Идет он по улице — залюбуешься! Как парубок — рослый, прямой, плечистый! И хоть малость портит его фигуру заметная толщина в поясе, но зато усиливает она впечатление несокрушимости здоровья Степана Прокоповича. Кажется, разбегись он, и ничто не устоит на пути, даже каменная ограда. Не погасли и веселые светлячки в темных глазах Григоренко, хотя брови над ними, некогда черные, покрылись изморозью седины, точно такой, какая напрочно оседлала его в прошлом цыганскую голову.
Степан Прокопович с веселым удивлением будто со стороны оглядывается сам на себя и уже без веселья раздумывает над тем, как долго сердце обыкновенного человека способно переносить неутихающие бури житейских страстей (именно житейских, ибо партийная работа для него не служба, а сама жизнь), бури большие и малые, в которых Степан Григоренко, руководитель будомирской партийной организации, не чувствует недостатка. Они окатывают его то радостью за какие-то успехи района, то повергают в смятение, если не удается свершить очередное дело. Нередко торжество чередуется со скорбью, удовлетворенность — с негодованием… Нет дня, нет часа, чтоб не глодали секретаря парткома какие-то заботы и тревоги. Вот и пошаливает сердце, временами сердито стучит изнутри, словно напоминает: «Человече, имей совесть! Побереги меня, если дольше хочешь видеть солнце». И для пущей убедительности иногда плеснет в груди горячей болью.
А с сердцем шутки плохи. Осерчает, и получай инфаркт — модную ныне болезнь, которая нет-нет да вдруг сбивает с ног человека, невзирая на его положение и заслуги.
Да, есть у Степана основание опасаться за свое сердце. Изрядно подызносилось оно еще в молодости, изболелось по Христе, не пересилевшей холодного лукавства матери и без любви вышедшей замуж за Олексу, сына кулака Пилипа Якименко. В начале коллективизации повесился Олекса, и со временем Степан женился на Христе, став отцом двух ее и Олексы дочурок. Потом родился сын Иваньо. Степан трепетал от счастья, когда носил на руках шаловливого малютку и слышал его невнятный ласковый лепет. Но не долгим было счастье: по ложному доносу на два года упрятали Степана Григоренко в тюрьму, и снова пришлось его сердцу захлебываться в немых рыданиях и томиться в смертной тоске.
А затем война. Унесла война и Иваньо, и Христю, и приемную дочку Олю. Иваньо и Христю унесла тайно, оборвав их жизнь неизвестно где и неизвестно как. Когда эта страшная весть прилетела в партизанский отряд, которым Степан командовал, ему казалось, что он не переживет, что на сей раз у его сердца уже не хватит сил перенести чернейшую из черных бед. Перед глазами неотступно маячило родное личико десятилетнего Иваньо: оно то улыбалось ему, то корчилось в муках; слышался предсмертный вопль Христи, и Степан почти терял рассудок.
До сих пор не дает покоя Степану Прокоповичу загадочность исчезновения жены и сына, а также причастность к этой ужасной тайне, как утверждает Серега Лунатик, кохановского учителя Прошу, повешенного немцами. Покойный Антон Карабут, довоенный секретарь райкома партии, успел шифром сообщить Степану осенью сорок первого, что в домике Прошу — явочная квартира подпольщиков, а сам учитель будет работать у немцев по его, Карабута, заданию. Но что случилось потом?
Двадцать два года минуло с тех пор. Давно у Степана новая семья, растет дочка Галя со смешными раскосыми глазами, широкоскулая — вся в мать, уроженку Средней Азии. Там в сорок пятом и сорок шестом лечился он в госпитале после тяжелого ранения, там познакомился с медсестрой Саидой… Невысокая, стройная, она поразила Степана своей женской кротостью, материнской заботой и страхом перед его черной партизанской бородой. И дикой неприметной красотой своей ужалила сердце — точеным лицом с чуть выпирающими скулами под смуглой, необыкновенно гладкой кожей, удлиненным разрезом темных пугливых глаз, полными и яркими губами. Она следила за ним беспокойным взглядом, в котором сквозил интерес ребенка, пытаясь угадать его мысли и желания. Десять долгих месяцев госпитального бытия и каждодневные встречи с Саидой сделали свое дело: он полюбил ее так, как, казалось и Христю не любил. Потом четыре трудных года учебы в партийной школе.
Но не во власти человека заглушить голос памяти. В сердце Степана продолжала жить боль по Иваньо и Христе. А тут еще нелепые слухи между людьми, что будто Христя и Иваньо бродят по белу свету и по каким-то загадочным причинам не появляются в родных местах. Но никакие розыски с участием милиции ни к чему не привели. И все-таки сердце ждало какого-то чуда.
Ох, сердце, сердце… Может, легче жилось бы на свете, если б не было оно таким чутким, незащищенным, быстро воспламеняющимся и легко ранимым.
Вот и недавно. Кажется, пустячный случай, а Степан Прокопович несколько раз принимал капли.
Проезжал через Будомир инструктор сельского обкома партии Арсентий Никонович Хворостянко — остер на язык, но в общем-то сердечный, открытый человек, успевший в свои сорок с небольшим лет поседеть и обрести фундаментальное благообразие, выдававшее в нем руководящего работника. Направлялся Хворостянко в соседний район и остановился перекусить в Будомирской чайной. Степан Прокопович проводил гостя в «боковушку» отдельную комнату, заказал обед на двоих и спросил у Арсентия Никоновича:
— Что за дела позвали тебя в этот район?
Хворостянко неопределенно засмеялся, отвел в сторону глаза и ничего не ответил. А когда выпили по рюмке коньяку и начали обедать, сказал будто между прочим:
— В обкоме ходят слухи, что ты на пенсию собираешься. Неужели правда?
У Степана Прокоповича кольнуло под сердцем.
— Слухи или у начальства есть мнение? — с деланным безразличием переспросил он.
— Тебе уже сколько лет? — уклонился от ответа Арсентий Никонович.
— Первенство держу по возрасту среди секретарей парткомов. Но разве старый конь борозду портит?
— А все-таки сколько?
— Ну, скоро шестьдесят. Возраст, конечно, не пионерский.
— То-то, — с загадочностью произнес Хворостянко. — Пора молодым дорогу уступать. — И когда Степан Прокопович взялся за графинчик с коньяком, Арсентий накрыл ладонью рюмку, любуясь своей решительностью. Больше не пью. Дела.
Арсентий Хворостянко уехал, а Степан Прокопович с онемевшим сердцем все размышлял над его словами, удивляясь тому, что инструктор разговаривал с ним с тенью виноватости и чувством неловкости.
Вспомнился Степану давнишний спор с Арсентием Никоновичем, когда состоялось разделение обкома, равно как и облисполкома, на сельский и промышленный. Они сидели с Хворостянко в одном из обкомовских кабинетов и обсуждали это ошеломившее всех событие. Степан Прокопович тогда с притворной наивностью спросил:
— Темный мы народ — работники районного масштаба. В голове аж хрустит от мыслей, а понять никак не могу.
— Что же тут непонятного? — не уловив подвоха, спросил Арсентий Хворостянко.
— Зачем создают два обкома?
— Для усиления руководящей роли партии, — Арсентий смотрел на Степана Прокоповича с чувством своего превосходства.
— Для усиления? — продолжал удивляться Степан. — А скажи, Арсентий Никонович, сахарные, плодоконсервные, спирто-водочные заводы да и тот же мясокомбинат в чьей сфере влияния будут? Их ведь не отделишь от сельского хозяйства.
— Да… Сельский обком будет курировать эти предприятия, — с уверенностью ответил Хворостянко.
— А что же тогда остается на долю промышленного обкома?
— Все остальное.
— Что именно? Суперфосфатный завод? Его бы тоже не следовало отлучать от земли.
— Скажешь еще! — досадливо засмеялся Хворостянко. — Ты так и авторемонтный завод подчинишь сельскому обкому.
— А почему бы и нет? — искренне удивился Степан Прокопович. — Разве авторемонтный завод не выполняет заказов колхозов, совхозов, автоколонн, обслуживающих, скажем, сахарные заводы? А потом, нельзя забывать, что существует совнархоз, где к тому же есть партком.
— При чем тут совнархоз?! Зачем путать партийное руководство с планирующими и координирующими органами? Ну да, есть совнархоз! Есть и отраслевые министерства. А теперь будет еще два обкома.
Степан вздохнул и, скосив хитрый взгляд на Арсентия Никоновича, почесал бритый, отдающий синевой подбородок. Потом наморщил лоб и продолжил разговор:
— Ну, хорошо. Два обкома, так два. А зачем два облисполкома? Это что, две советские власти? Одна промышленная, а другая сельская? Да и комсомол расчерепашили на две когорты.
Арсентий Хворостянко опасливо покосился на приоткрытую дверь, начал собирать со стола и укладывать в ящик бумаги, давая понять Степану Прокоповичу, что он не намерен продолжать этот скользкий разговор. Затем бросил на собеседника насмешливо-въедливый взгляд и изрек:
— Ну, партизан, доболтаешься когда-нибудь!
— Почему? — с тем же притворством удивлялся Григоренко. — Говорю, что думаю, что на сердце. И не на базаре, а в обкоме партии делюсь своими мыслями.
— Между прочим, в обкоме партии больше ценятся здравые мысли, — не скрывая иронии, заметил Арсентий Никонович. — Я, например, сужу по-иному: верхам все виднее. Там обобщают опыт всей страны, а ты смотришь на положение дел только со своего шестка. — И, помолчав, добавил без связи с предыдущим разговором: — Потом не забывай: сегодня ты секретарь, значит, тебе и власть в руки, в масштабе района, конечно, и почет, и соответствующие блага. А завтра не секретарь, и следовательно…
— Никто? — продолжил мысль Степан Прокопович.
— Не совсем так, но…
— В этом и беда наша, — Григоренко с сожалением посмотрел на Арсентия. — Боясь потерять кресло, иные люди подчас не решаются раскрывать рта, хотя видят, что творятся нелепости. И еще хуже то, что действительно могут дать им по шее, если раскроют рот. Пора с этим кончать, иначе загубим порученное нам дело.
— А ты пойди к кому-нибудь из секретарей обкома и поделись этим мнением, — насмешливо заметил Хворостянко.
Степан взорвался:
— Слушай, Арсентий! Ты же куда мудрей, чем стараешься казаться! Я тебя знаю с комсомольского возраста! Почему вдруг вилять стал?
Хворостянко вздохнул так, что испуганно шевельнулись перед ним листки настольного календаря, взял дрогнувшей рукой из портсигара папиросу и после мучительной паузы заговорил:
— А ты разве всерьез относишься к моим словам? Я б на твоем месте держал бы себя… не знаю как. Помнишь, приехал я к тебе в район и стал давать указания, чтоб колхозники продавали собственных коров в колхозы. Ты упрямился, доказывал, что это неразумно. А я настаивал: такова была директива. И ты сдался. А что получилось? Ты оказался правым. Кормов не хватило даже для колхозного скота. А наши обещания колхозникам, что они будут получать молоко в колхозе по потребностям, оказались фикцией. В глаза же людям стыдно смотреть.
— Ну вот, теперь узнаю тебя: заговорил почти человеческим языком, Степан Прокопович расхохотался и дружелюбно толкнул Арсентия Хворостянко кулаком в плечо. — Так надо же вылезать из болота, а не глубже забираться в него.
Не так давно, накануне жнив, Степана Григоренко, как и других секретарей парткомов, вызвали на очередное бюро обкома. Степан Прокопович приехал в областной центр на два часа раньше указанного в телеграмме срока, чтобы перед началом бюро попасть на прием к секретарю обкома партии и подробнее рассказать ему о бедственном положении района, вызванном неурожаем. Уже тогда было ясно, что колхозам будет трудно справиться с государственными поставками, не говоря о расчетах с колхозниками и грозящей бескормице для скота.
Федор Пантелеевич Квита встретил Степана Григоренко шуткой по поводу его высокого роста и могучего телосложения:
— Заходи, заходи. Не задень головой люстру!
Измеряя улыбчивым взглядом рослую грудастую фигуру Степана Прокоповича, секретарь обкома с наигранной опаской протянул руку навстречу его толстопалой ручище.
Степан осторожно и почтительно стиснул руку Федора Пантелеевича, всмотрелся в его моложавое, тронутое морщинами лицо, в серые глаза под чуть вспухшими веками и понял, что секретарь обкома старается шутками погасить на своем лице озабоченность какими-то другими делами и что находится он во власти мыслей, которые занимали его еще до появления здесь Степана.
— Садись, Степан Прокопович, только обещай не раздавить стул, пригласил Федор Пантелеевич.
— Постараюсь, — смущенно засмеялся Григоренко, усаживаясь.
Секретарь обкома сдвинул на край стола лежавшие перед ним бумаги, поднял на Степана Прокоповича погрустневшие вдруг глаза и спросил:
— Будешь плакаться в жилетку, чтоб скостили план поставок хлеба?
— Да, — Степан Прокопович виновато вздохнул.
— Не стоит. Вся область в таком положении. Этому вопросу и посвящается сегодняшнее бюро. Я вот что хотел спросить, — Федор Пантелеевич звякнул о настольное стекло ключом от сейфа. — Дошли до меня слухи, что ты недоволен разделением обкома партии.
— И не только обкома, — ответил Степан с горестной, чуть вызывающей усмешкой и ощутил в груди едкую злость на Арсентия Хворостянко: «Донес-таки…»
— Ну так вот, уважаемый товарищ Григоренко, — Федор Пантелеевич постучал ключом от сейфа о стол, и в его глазах мелькнула снисходительно-добрая насмешка. — Вынужден тебе напомнить, что согласно Уставу партии коммунист должен отстаивать свое мнение до принятия организацией или вышестоящим партийным органом решения.
— Но Устав позволяет коммунистам обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в любую партийную инстанцию, — теперь уже снисходительно улыбался Степан Прокопович.
— Верно, разрешает обращаться, но не болтать об этом где бы то ни было, — Федор Пантелеевич резко поднялся, легкой походкой подошел к сейфу, открыл его и достал оттуда какие-то бумаги. — Вот, например, как поступил я. Почитай… Только чтоб это между нами…
Степан не поверил своим глазам: перед ним лежала копия письма в ЦК партии Украины; в нем секретарь обкома излагал будто бы его, Степана, мысли. Федор Пантелеевич Квита писал, что разделение обкома партии на сельский и промышленный практикой не оправдало себя, а лишь усложнило работу.
21
Степану Прокоповичу показалось, что тот памятный доверительный разговор словно породнил его с секретарем обкома. С нетерпением ждал случая, когда удобно будет спросить у Федора Пантелеевича, пришел ли ответ из Киева на его письмо… И вдруг эта встреча с Арсентием Хворостянко, его прозрачный намек на то, что в обкоме партии есть мнение, будто ему, Степану Григоренко, пора уступить дорогу кому-то из более молодых. Почему так неожиданно? И нет ли здесь связи между его последним разговором с секретарем обкома и этим, видать, не случайным заездом в Будомир Арсентия Хворостянко?
Оттого, что он чего-то не понимал, о чем-то не догадывался, сердце Степана плавилось в тоскливой боли, а мысли шли вразброд.
Конечно же, не хочется Степану уходить на пенсию! Но совсем не потому, как говорил ему Арсентий Хворостянко, что, если «сегодня ты секретарь, значит тебе и власть в руки… и почет, и соответствующие блага. А завтра не секретарь, и следовательно…» Никаких «следовательно», потому что «блага» от своего секретарства Степан видит далеко не в том, в чем видит их Арсентий, — кажется, примитивный и в то же время какой-то загадочный человек.
И пусть натруженное сердце временами расплескивает в груди горячую боль, не может спешить Степан подвести черту под своей жизнью коммуниста, под деяниями своими — успешными, а иногда и не успешными. Хоть несколько лет, но должен он побыть еще у настоящего дела и трудом своим, умноженным на опыт и на страстное желание добра людям, помочь тому самому главному взлету жизни села, после которого, наконец, уже не будет вынужденных различными обстоятельствами приземлений.
Степан Григоренко был свидетелем и участником почти всех предыдущих взлетов. Особенным восторгом наполняли грудь те, коим открыли просторы исторические съезды партии, начиная с Двадцатого. Но то ли от чрезмерного усердия, то ли от неумения получалось нередко так, что после трепетного в упоительных надеждах взлета следовало удручающее приземление. И кажется Степану, что взлеты прерывались из-за «триумфальных аркад», спешно воздвигавшихся на пути сельского хозяйства области. Да, да! Сельское хозяйство, шагнув в годы советской власти от сохи до умнейшей техники, все-таки терпело неудачи, идя к ним через многочисленные триумфальные ворота, позади которых гулко звенели пустеющие кассы колхозов и совхозов, голодно мычал на фермах скот и горестно вздыхали крестьяне, подсчитывая свои скудные заработки. А он, Степан Григоренко, разум и совесть тружеников земли, нечего греха таить, не спешил поднимать тревогу. И не только из-за того, что набат не ласкает слух, особенно тогда, когда победно звучат фанфары, а и потому, что действительно есть в области заметные маяки — колхозы и совхозы, где земли родят обломные урожаи, а животноводство не приносит убытков. Степан Прокопович из кожи лезет, чтоб перенять опыт маяков и научить людей своего района лучше хозяйничать. И уже не раз бывало, что Будомирский район стоял одной ногой на ступеньке, с которой виднелись крыши показательных хозяйств. Но вдруг выяснялось, что какие-то другие районы тянут вниз показатели области или соседние области снижают уровень вала республики, и по давно заведенному обычаю «благополучным» районам «накидывали» планы по сдаче хлеба, свеклы, мяса, молока, яиц… И ступенька безропотно подламывалась… Область торжественно проходила через очередные «триумфальные ворота», а район с тревогой оглядывался на свое ослабленное хозяйство и прикидывал, как в будущем году не рухнуть еще ниже.
Но бесконечно так продолжаться не может. Всем становится ясно, что истончаются жилы земли, усыхают родники, питающие веру крестьян. И Степан Григоренко убежден, что вот-вот примолкнут литавры и трезвый голос державы спросит у людей, командующих боевым фронтом земледелия, умеют ли они смотреть вперед дальше, чем на один год, на один план. А значит, и с него, со Степана, спросят. И он готов делами ответить, только чтоб был твердый план для района — без «встречных» и «поперечных».
Но как пережить этот малоурожайный шестьдесят третий год, когда почти у половины колхозов района недород?
Много тревог, забот, дерзостных надежд будоражит сердце Степана Григоренко. В этом его жизнь. И ни за что не поверит Степан, что обком партии без всяких причин вдруг предложит ему отказаться от этой нелегкой жизни.
22
Уверенно шагать по жизни — это целая наука. Так, во всяком случае, мыслит Арсентий Никонович Хворостянко — отец Юры. И если ты постиг эту науку да еще тебя не обходит стороной удача — нет тебе цены как человеку и нет конца служебной лестницы, по которой ты можешь устремляться вверх, на радость себе и на пользу державе.
Однако о себе Арсентий Хворостянко не может сказать, что он очень удачлив. Многие люди в его возрасте, в том числе и немало однокашников Арсентия по заочной Высшей партшколе, давно стали секретарями горкомов, обкомов, председателями исполкомов, а он только рядовой инструктор обкома. Но и в то же время сколько его товарищей, с которыми вместе начал выбиваться в люди, так и не поднялись выше районных горизонтов. Вот и разберись: удачлив Арсентий Хворостянко или нет. Кто его знает.
Да… и все-таки Арсентий Никонович убежден, что случай единственный и законный властелин человеческой судьбы. Нередко по его воле обыкновенный человечишка вдруг возносится на такие вершины, о которых он и мечтать не смел, а бывает, что и человек-глыба, гигант мысли игрой случая низвергается в пучину безвестности.
Впрочем, Арсентий Хворостянко мыслит значительно шире. Он прекрасно понимает, что случай может сослужить добрую службу только благоразумным, деловым, одаренным людям, то есть подобным ему.
И вот такой счастливый случай…
Дело было во время туристской поездки вокруг Европы на теплоходе «Подолия». Одним из туристов был никому не известный работник Будомирского райкома партии Арсентий Никонович Хворостянко. Поездка как поездка: множество приятных знакомств на теплоходе, чужие берега и чужие города, калейдоскоп впечатлений, и в итоге — усталость и отупение от всего увиденного и услышанного. Арсентий Никонович поначалу вел дневник, а потом забросил его и стал записывать в блокнот только анекдоты, услышанные от артистов, писателей, художников. Под каждым анекдотом Арсентий аккуратным каллиграфическим почерком проставлял дату и фамилию знаменитости (ему казалось, что незнаменитостей, кроме него, на теплоходе не было) и предвкушал удовольствие, с каким он будет пересказывать эти анекдоты в Будомире и называть ошеломляюще-известные фамилии людей, с которыми он, Арсентий Хворостянко, теперь знаком.
Надо отдать должное, что и Арсентий Никонович понравился своим спутникам. Понимая, что хотя молчание не всегда свидетельствует о присутствии ума, но говорит об отсутствии глупости, Арсентий, когда в салоне теплохода или за ресторанным столом велись беседы о новинках литературы, драматургии или живописи, о зарубежных светилах искусства, только улыбкой и глазами принимал участие в этих беседах.
Но если заходил разговор о положении в деревне, тут Хворостянко витийствовал с глубочайшим знанием дела и волнением, которое его слушателям с особой силой передавалось тогда, когда в рюмки разливался из фляги прихваченный Арсентием в дальнюю дорогу спирт — наиболее остро впечатляющий продукт сельского хозяйства.
В одном из европейских городов к группе туристов с теплохода «Подолия» подошли студенты и затеяли разговор о том, какой образ жизни лучше — капиталистический или социалистический.
После возвращения из туристской поездки Арсентий Хворостянко не без самолюбования рассказал об этом разговоре райкомовцам. А секретарь райкома затем похвалился в обкоме:
— Хворостянко наш отличился за границей.
— Чем?
— Одна буржуазная газета назвала его суперкоммунистом.
— Да ну?.. Хворостянко? За что такая честь?
— Когда его тамошние студенты спросили, нравится ли ему жизнь в Советском Союзе, он ответил, что не нравится.
— ??!!
— Да-да, так и ляпнул. Тогда студенты пристали с расспросами: «Почему да чем не нравится?» А он, шельмец, знаете, что ответил? «Мне не нравится, что в Советском Союзе семичасовой рабочий день. Лучше бы шестичасовой. Не нравится, что предоставляется за счет государства только месячный отпуск; лучше — если бы трехмесячный». Не нравится, видите ли, ему, что надо еще платить деньги в столовых и ресторанах, за такси, за одежду в магазине. Недоволен он и тем, что большие расходы на армию, которую вынуждены держать из-за угроз империалистов. И еще что-то и еще… А потом спросил у студентов, чем нравится им их строй, и они с хохотом убежали.
Об этом интервью Арсентия Хворостянко заграничным студентам написала районная газета, приводил его в своей лекции кто-то из областных пропагандистов.
А потом вдруг Арсентия Хворостянко выдвинули на работу в обком партии, и он был убежден, что решающую роль в этом сыграла его поездка за границу — тот самый случай, который является царем вселенной.
Правда, через два года произошло неожиданное: кто-то из сослуживцев принес на работу книжечку известного писателя «На „Подолии“ вокруг Европы» — увлекательно написанные путевые заметки. В них дважды мелькала и фамилия Арсентия Никоновича. Описывался также и нашумевший разговор с иностранными студентами, с той лишь разницей, что интервью студентам давал, если верить книжечке, не Арсентий Хворостянко, а ее автор писатель с довольно известным именем.
В обкоме подняли Арсентия Никоновича на смех. А он, вначале опешив, затем так искренне возмутился «произволом» писателя и с таким негодованием принялся сочинять опровержение в издательство, выпустившее в свет книжечку, что все поверили в правоту Арсентия. Даже начали уговаривать его проявить благородство и не ставить известного литератора в неловкое положение.
Хворостянко укротил свою ярость только после того, как кто-то шепнул ему на ухо, что видел эту книжечку на столе у секретаря обкома с дарственной надписью автора.
С той поры Арсентий Никонович великодушно позабыл о своей туристской поездке — никогда не затевал о ней разговора. И почему-то стал избегать встреч с секретарем обкома.
Но у инструкторов есть такая не очень приятная обязанность: время от времени заступать на суточное дежурство по обкому партии; и тогда уж хочешь не хочешь, не уклониться от «свидания» с начальством. А Хворостянко все-таки уклонялся. Получалось так, что дежурить ему приходилось как раз тогда, когда Федор Пантелеевич Квита находился в отъезде. Вот и недавно Арсентий Никонович дежурил, властвуя в кабинете секретаря обкома, уехавшего на несколько суток в дальний район.
Во время этого дежурства подвернулся новый, с приметами знамения случай, коему, видимо, предстояло вновь повернуть течение жизни Арсентия Хворостянко.
А случилось вот что. Вечером в кабинете секретаря обкома раздался звонок правительственного телефона. Арсентий дрогнувшей рукой поднял трубку и по-военному доложил:
— Дежурный по обкому Хворостянко слушает!
— А-а, привет, Арсентий! — откликнулась трубка знакомым фальцетом. Как живешь?
Хворостянко узнал голос ответственного работника ЦК партии Украины, с которым он когда-то познакомился в санатории.
Обменялись приветствиями и ничего не значащими фразами.
— Где Федор Пантелеевич? — спрашивали из Киева.
— Уехал в район.
— Передай ему, пусть нас не торопит с ответом на свое письмо. Письмо дельное, убедительное, и тут надо помозговать, посоветоваться.
— Что за письмо? — поинтересовался Хворостянко.
— А ты не в курсе?.. Впрочем, это не для огласки. Но могу сказать по секрету: Федор Пантелеевич предлагает слить ваши сельский и промышленный обкомы в один. Правильно предлагает, но ты же понимаешь, на чье решение он посягает?
— Понимаю, поэтому я от вас ничего не слышал, — ответил Арсентий Никонович, перейдя на официальный тон. — Звоните завтра утром, Федор Пантелеевич должен быть на месте.
Закончив разговор, Арсентий Хворостянко опустился в мягкое кресло и обхватил ладонями голову. Было над чем задуматься. А вдруг действительно сольют обкомы? Вспомнился давнишний разговор со Степаном Григоренко о том, что разделение обкома на сельский и промышленный — абсурд, вспомнились ходящие в народе злые анекдоты по этому поводу. Все может быть… А если нет? Если Федору Пантелеевичу дадут по шапке за его письмо? От этого Арсентию Хворостянко беды, конечно, не будет. Но при объединении обкомов он наверняка останется не у дел. Наверняка! Арсентий Хворостянко хорошо знает обкомовские кадры: с такими зубрами не посоревнуешься — все работяги, имеют образование, большой опыт, а он, Хворостянко, был взят в область только потому, что при учреждении двух обкомов потребовались новые работники.
И пусть! Арсентий Хворостянко готов работать там, где от него больше пользы народу и партии. Ну, что такое областной центр? Тут и человеком себя по-настоящему не чувствуешь. Много ли значит инструктор обкома, когда в городе столько секретарей обкомов и горкома, председателей облисполкомов и их заместителей, директоров институтов, театров, ученых, писателей, артистов. На торжественных собраниях Арсентию Хворостянко не то что в президиуме — в партере не всегда место находится…
Другое дело — районный центр. Ты там можешь быть первым из первых, согласно твоему положению и твоим заслугам.
Но это, как любит выражаться Арсентий Никонович, эмоциональная и десятистепенная сторона вопроса. Важнее то, что в районе можно на полную силу развернуть свои организаторские способности. Работа в обкоме научила его многому. Главное — показатели. То есть — результаты трудовых усилий народа. Важно, чтоб район стал маяком. А этого Хворостянко может добиться, если возглавит партийную организацию. Пройдет год-два, и зашагает победной поступью район впереди всей области. Передовикам же, как известно, почет и уважение. Ведь есть же секретари парткомов, избранные в ЦК.
В тот памятный вечер Арсентий Хворостянко и замыслил вернуться в милый его сердцу Будомир, где он когда-то работал, близ которого родился и вырос. Правда, маячил преградой бывший партизанский командир Степан Григоренко. Но не пора ли Степану Прокоповичу на заслуженный и почетный отдых? Ведь потрудился он на своем веку немало. Много пережил… Ранен… Придется подсказать ему насчет пенсии.
С тех пор Арсентий Никонович не упускал случая, чтобы не побывать в Будомире. Вот и сегодня надеялся завернуть туда. Тем более есть причина: уехал в Кохановку на работу Юра. Надо посмотреть, как он там устроился, помочь советами и, разумеется, дать понять председателю колхоза, что под его начало попал не кто-нибудь, а его, Арсентия Хворостянко, родной сын.
23
Старческий сон зыбок, как туманная дымка на ветру. Зашуршит под печью мышь, и Кузьма Лунатик уже слышит ее и сквозь дрему долго и обстоятельно размышляет над тем, что кошка совсем обленилась и пора ее завязать в старый мешок и тайком забросить в какой-нибудь грузовик дальнего рейса, проходящий через Кохановку.
Спит старый Кузьма в кухне на лежанке. Встает он всегда раньше всех, тихонько выходит во двор и, отойдя подальше от хаты, долго кашляет, проклиная на чем свет стоит табак и людей, которые надоумили его курить. Но сегодня Кузьма не торопился, хотя в окна уже стучался подслеповатый рассвет, а кухонька наполнялась пепельной прозрачностью. Не выспался он из-за того, что сын его, Серега, пришел домой после полуночи, крепко выпивший, и привел с собой на ночлег приехавшего вчера в Кохановку молодого техника-строителя со смешной фамилией Хворостянко. Пока улеглись спать, в горнице долго слышался говор, злой смешок Сереги. В кухню несколько раз заходила Наталка — его жена, сердито гремела в темноте горшками, доставая из печи грушевый узвар. Вот и не хочется Кузьме вставать. Он с кряхтением повернулся на другой бок, зашелестев сенником, закрыл глаза и попытался мерным дыханием убаюкать себя. Но под окном зычно загорланил петух: «Ку-ка-ре-к-у-у-у!» Кузьма досадливо хмыкнул: в пении петуха ему всегда слышится озорной призыв: «Пойдем вы-пье-е-м!» На этот призыв откликаются соседские петухи. Но они вопят уже другое: «Нема на что-о-о!»
Петушиные стенания набирали силу, прокатываясь по всему селу.
Скрипнула дверь, и в кухню зашла Наталка. Кузьма услышал, как звякнула она подойником, и понял, что невестка отправляется на ферму доить коров: значит, теперь целую неделю будет ходить на работу с утра.
Наталка давно ушла, а Кузьма все думает о ней. Хорошую невестку бог послал ему — не скупую, сердечную, ласковую. Кажется, покойная жена Харитина так не заботилась, чтоб был он сыт, одет в чистое и не оборван. Только у самой Наталки нет счастья. Не склеилась у них с Серегой семейная жизнь. И не покидают, видать, невестку надежды, что отыщется ее отец, пропавший на войне. А надежды, если они не сбываются, сушат сердце и затмевают радость. Впрочем, нельзя сказать, что на людях Наталка очень уж безрадостная и замкнутая. Кузьма сам не раз слышал, как она пела с женщинами на сенокосе или на буряках. Да еще как пела! Будто родилась в Кохановке и с молоком матери впитала ее буйную песенность. Голос у Наталки — чистое серебро: более тонкого и сильного подголоска и не вообразишь. Но звучит в нем что-то особенное, словно не от земли, а от какой-то непонятной Кузьме утонченности характера, от необыкновенной женственности, совсем не похожей на необузданные натуры кохановских молодиц.
Удивительно, как Наталка, дочка интеллигентных родителей, втянулась в трудную и хлопотливую селянскую жизнь. Управляется дома и на ферме да еще находит время посидеть у телевизора, которым год назад обзавелась семья Лунатиков.
И текут, текут мысли старого Кузьмы. Временами он даже не различает, где мысли, а где сновидения. Вот видится ему бывший заместитель головы колхоза Василь Васюта. Высокий, кривоногий Васюта подкрадывается к Наталке, которая стоит у стога и накладывает на телегу сено. Осклабившись, он обнимает Наталку, шепчет ей какие-то слова. Наталка выгибается, пытается вырваться из ручищ Васюты, но он подламывает ее и валит к подножию стога. Наталке, наконец, удается высвободить руки; в один миг на красном лице Василия вспыхивают багровые, налившиеся кровью борозды следы ногтей. Промокая платком кровь на разодранном лице, он яростно матерится и упрекает Наталку, что не понимает она шуток.
А вот Василь Васюта перелетает через плетень в огород, лихо удирая от пьяного Сереги, который «желает объясниться» с ним.
Приступ кашля развеял сновидения, и Кузьма заворочался на лежанке. В это время под окном снова раздалось протяжно-голосистое: «Пойдем выпье-е-ем!..» Кузьма вспомнил об обещании Насти поставить бутылку «калиновки», если он поможет разладить любовь ее Маринки и Андрея Ярчука.
«Спасибо, что напомнил», — весело подумал о петухе Кузьма и проворно поднялся с лежанки.
Зажег свет, включил электроплитку и поставил на нее большую кастрюлю с водой. Затем долго колдовал над приготовленными с вечера кореньями, дробя их на мелкие кусочки. Высыпав снадобье в огромную глиняную миску, где был замочен мак, Кузьма сел на пол и, зажав миску в коленях, начал большим деревянным пестом растирать мак. Потом замесил тесто для вареников.
План у Кузьмы был прост. Под лесом, где раскинулся молодой сад, стоит обветшавший домик погибшего в войну учителя Прошу. В нем помещается весенняя сторожка колхозного пасечника. А сейчас, когда ульи вывезли далеко за село — на поля гречихи, пасечник тоже живет возле пчел, в шалаше. И Кузьме поручили присматривать за домиком. Вот старик и решил заманить туда Андрея и Маринку.
Бросая в кипяток большие бокастые вареники с тертым маком и «чудодейственным» зельем — «сухоткой», Кузьма сочинял речь, какую должен будет произнести перед Андреем:
«Будь другом, Андрей Павлович, окажи великодушную помощь. Пчелы на пасеке захворали, колхозная, можно сказать, собственность гибнет — два роя: выскакивают из ульев, как кузнечики, и дальше не летят. А я знаю средство от этой болезни: надо, чтобы хлопец и дивчина, у которых любовь, поели из одной миски меду этих пчел. Лучше, если с варениками. И пчелы тут же выздоровеют. Не смейся. Пчела — она разумнее человека. Она этими самыми… токами чувствует…»
Кузьма был убежден, что не найдется в Кохановке человека, который отказался бы «на дурняка» поесть меду с варениками.
Когда вареники были готовы, Кузьма сцедил из кастрюли кипяток, полил их сверху сметаной и завернул кастрюлю в газету, затем в старую фуфайку как делает это невестка Наталка, — чтобы еда томилась в собственном пару и долго оставалась горячей. Поставил сверток на припечек и, испив из кувшина ряженки, начал собираться в село на разведку: надо было узнать, где Андрей — в поле у комбайна или дома.
Тихонько вошел в горниду, где спали богатырским сном Юра Хворостянко и Федот — великовозрастный внук Кузьмы. Из боковой комнатушки раздавался храп Сереги.
Кузьма потормошил за плечо Федота и, когда тот очумело заморгал большими черными глазищами, тихо прошептал ему:
— Вставай, Федька… До машины пора.
Федот отбросил простыню, которой был накрыт, и, потягиваясь до хруста в плечах, лениво начал одеваться. Затем, присмотревшись в потемках к часам-ходикам, заторопился.
— Этих не буди, — Кузьма имел в виду Юру и Серегу. — Они целую ночь где-то волочились.
Федот не удостоил деда ответом. Схватил со стола сверток с едой, с вечера приготовленный матерью, выскочил в сенцы и загремел там умывальником. Не успел Кузьма надеть свой видавший виды пиджачишко с привинченной к нему медалью «Партизану Великой Отечественной войны», как шаги Федота уже протопали от хаты до калитки.
«Работяга», — с удовлетворением подумал о внуке Кузьма и, смахнув на палец со стены мелу, стал начищать медаль. Ведь дело предстояло необычное, и надо было выйти на люди при полном параде.
Медаль Кузьмы Лунатика имела свою историю и давала ему повод считать себя самым героическим стариком во всем районе.
24
Случилось это во время немецкой оккупации. Кузьма Лунатик работал на Бужанке паромщиком. Обязанность его была нехитрая: гонять через речку закрепленный на металлическом тросе паром, гонять не мотором, а руками, дергая за деревянную клюшку, в пазу которой скользил трос. Если на паром въезжали подводы или автомашина, Кузьма требовал помощи от своих пассажиров, даже если это были немецкие солдаты. Для такого случая на пароме имелись запасные клюшки.
Кузьма стал замечать, что после того как побывает на пароме немецкая автомашина, она, отъехав не так далеко от речки, останавливается со спущенным одним, а иногда и двумя скатами. Немцы, чертыхаясь, начинали менять колеса.
Заподозрив неладное, Кузьма внимательно осмотрел настил парома. К ужасу своему, заметил, что, если наступить на одну доску, она угибается и из дырки высовывается, как жало осы, большой гвоздь. Тут же Кузьма подбил доску клинышками, чтобы она не прогибалась.
А на второй день обнаружил, что клинья из-под доски вновь вынуты, а к перилам была приколота записка. Детскими каракулями в ней писалось: «Дядька Кузьма, если не хотите пойти кормить рыб, то не суйте носа в чужое просо. Следите, чтобы гвоздь не гнулся и не тупился. Смерть фашистам!»
Кузьме показалось, что он стоит не на пароме, а на зыбком подмостке виселицы; даже петля на шее почудилась, и он, судорожно глотнув ставший вдруг холодным воздух, расстегнул воротник сорочки и затравленно оглянулся на берег. Еще раз посмотрел на бумажку, и она показалась ему черной, а буквы на ней будто причудливый росчерк слепящей молнии. Почему-то вспомнилось давно слышанное или виденное на экране: в минуту опасности записку съедают, дабы не попала она никому в руки. Машинально скомкал бумажку, поднес ее ко рту и словно ощутил, что от нее пышет огнем. Помедлил, раздумывая, и сообразил: глотать записку ни к чему; и тут же, разорвав ее на мелкие клочки, развеял над Бужанкой. Белыми бабочками покружившись в воздухе, клочки лениво падали на воду и медленно уплывали от парома. Но страх у Кузьмы не проходил: ему подумалось о том, что кто-нибудь может выловить эти «бабочки», склеить их, и тогда…
Сбежав на берег, Лунатик стал бросать комья земли в гущу мятых лепесточков. Пока не утопил все, не успокоился.
И потянулись дни страха. Кузьма даже не знал, кого он больше боялся: фашистов или тех неизвестных людей, которые подбросили записку и чьи глаза, как ему мерещилось, постоянно устремлены на него. Тем не менее он исправно следил, чтобы гвоздь безотказно вонзался в колеса немецких машин.
Через некоторое время Кузьма стал вести счет «ужаленных» колес делать зарубки на перилах парома. Когда зарубок появилось больше тридцати, произошло неожиданное: Кузьма не узнал машину, уже побывавшую на пароме, а теперь следовавшую куда-то обратным рейсом, и позволил гвоздю «сработать». Водитель грузовика — белобрысый, плоскогрудый солдатик — догадался, что не случайно после парома колесо машины второй раз оказывается проколотым. Он и ехавший с ним унтер-офицер — вооруженный автоматом пожилой человек с серым, уставшим лицом — вернулись к переправе, осмотрели настил парома и без труда обнаружили нехитрое приспособление.
Зловеще усмехаясь, шофер-солдатик подозвал Кузьму и указал ему на гвоздь. Кузьма, изумленно рассматривал дырку, нажимал на доску, проверяя пальцем острие гвоздя, ожесточенно скреб в загривке и недоуменно разводил руками; можно было подумать, будто он и вправду ни в чем не виноват. Тем не менее солдатик, как молодой петушок, подпрыгнул возле Кузьмы и, размахнувшись, влепил ему затрещину. Старик, ухватившись рукой за щеку, взвыл, но тут же умолк, увидев, что унтер-офицер, державший в руках автомат, уставил на него злые и холодные глаза.
— Я тут ни при чем! — заикаясь, оправдывался Кузьма. — Убей меня гром, не виноват!
Унтер-офицер, подняв автомат, толкнул побелевшего Кузьму в грудь стволом и начал теснить его к краю парома.
— Не виноват!.. Не виноват я!.. Хрест святой! — Кузьма лепетал скороговоркой, задыхаясь от ужаса перед неотвратной смертью. Он пытался ухватиться за ствол автомата и отвести его от своей груди. На самом краю парома это ему удалось. Он цепко держался за черную сталь, смотрел выпученными глазами унтер-офицеру в лицо и хрипло, истончившимся голосом просил: — Гражданин немец, помилуй! Не виноват!
Немец пытался вырвать из рук паромщика оружие, но тот, почувствовав, что спасения не будет, тянул на себя автомат, не видя, что стоит над самой водой.
На помощь унтеру кинулся белобрысый солдатик-шофер. Но было поздно. Кузьма уже балансировал на краешке настила и, держась за автомат, тянул за собой немца. Казалось, вот-вот оба сорвутся с парома. И немец, боясь упасть вместе с паромщиком, выпустил оружие, а Кузьма, взмахнув от неожиданности руками и бросив автомат через голову в Бужанку, тоже рухнул в воду, взметнув столб брызг.
— Спасите-е! — завопил он, вынырнув метрах в пятнадцати от парома, хотя течение речки было не такое уж сильное. Отряхнув с головы воду и посмотрев ошалело на берег, снова пошел ко дну.
Немцы молча наблюдали, как тонул сносимый течением паромщик. Через минуту он вынырнул уже метрах в тридцати. Суматошно побарахтав руками и крикнув «спасите!», снова скрылся под водой. Еще и еще раз показалась на поверхности его голова и слышался хриплый вой. Последний раз Кузьма появился близ кустов, росших прямо в воде. Уже не имея сил кричать, он широко открытым ртом глотнул воздух и, перестав сопротивляться, скрылся в глубине, из которой еще некоторое время выскакивали пузыри.
Вскоре на берегу появились два полицая. Были здесь и вездесущие мальчишки. Полицаи заставили их раздеться и искать на дне автомат господина унтер-офицера. Мальчишки искали ретиво, наперегонки наряя в воду. Первым нащупал на дне автомат восьмилетний Тарасик — сын Югины. Он проворно затолкал скользкое железо в илистое дно, вынырнул, отдышался и снова утенком пошел под воду.
За всем, что происходило у парома, наблюдал Кузьма Лунатик. Выросшего на Бужанке, его не так легко было утопить. Кузьма сидел в зарослях ивняка по шею в воде, лязгал зубами от холода и пережитого страха и размышлял над тем, где ему теперь прятаться после случившегося.
Прятаться довелось Лунатику, пока не была освобождена Кохановка. И за все пережитое Кузьма выхлопотал себе награду — партизанскую медаль. Даже сын Серега часто бросает на нее завистливые взгляды и вздыхает так тяжко, что Кузьме хочется дать ему поносить медаль, но только в будний день.
Начистив глиной медаль, Кузьма Лунатик перекрестился на угол с образами, прошептал: «Господи благослови», и вышел из хаты.
Солнце еще не взошло, но село уже проснулось. Слышались заспанные голоса, мычание коров, скрип калиток, звон пустых ведер у колодцев. Кузьма поежился от утренней свежести и в нерешительности затоптался у порога: идти на поиски Андрея еще было рано.
В соседнем дворе петух загорланил свое привычное: «Пойдем выпье-е-м!», и Кузьма не без сожаления мысленно ответил ему: «Нема на что-о!..»
25
Всю эту ночь Андрей провел на ногах. Не в силах совладать со своей ревностью, изнемогая от тяжкой обиды и сердечной боли, он до рассвета блуждал по берегу Бужанки. А с рассветом, боясь встреч с людьми, подался через косогор в поле и сам не заметил, как оказался в Чертовом яру.
Земля здесь бросовая из-за суглинка и крутых скатов яра, поросшая пыреем, осотом, молочаем. Весной в Чертовом яру пасут скот, а сейчас зелень тут местами выбита, а местами так заматерела, что и косой ее трудно брать.
Андрей спустился на самое дно яра и остановился у Черной кринички. «Черной» криничка зовется, видать, потому, что дно ее и стенки аспидно-черные, и от этого прозрачная и очень холодная вода в ней тоже кажется черной. Странно: вокруг серый, с красноватым отливом суглинок, а родник отыскал в грунте «пробку» чернозема и пробился сквозь нее к солнцу.
Родник бьет сильно, отчего поверхность воды всегда беспокойная, с живым клокочущим бугорком посредине. Вода выливается из кринички в заболоченную, укрытую свежей зеленью ложбинку и говорливым ручейком быстро бежит к недалекой Бужанке. С незапамятных времен живет здесь этот родник, и кто знает, какое уже поколение хлеборобов пьет из него серебристую студеную влагу.
У Черной кринички Андрей снял с себя пиджак, бросил его подкладкой на росную траву. Солнце еще не взошло, и криничка была будто наполнена дегтем, так густа и непроглядна ее чернота. По сельскому обычаю Андрей зачерпнул воды фуражкой и стал пить долго и жадно, ощущая ломоту в зубах и онемение в горле. Словно тушил в себе пожар, словно топил сердечную боль. Потом плеснул несколько горстей обжигающего холода в лицо, вытерся платком и, оглянувшись на лес, заорал:
— Ого-го-го-о!
Нет, не озорства ради. Он и сам не знал для чего; возможно, пробуждалась в нем та нравственная сила, которая в минуты потрясений угасает, лишая человека возможности здраво мыслить и делать разумные поступки.
Когда в лесу на Андреев голос откликнулось протяжное и басовитое эхо, Андрей с болью подумал о Маринке и снова крикнул:
— Ну и будь счастлива-а!
«Счастлива-а!.. — громко откликнулся лес и тут же, с оттенком грусти, тише повторил: — Счастлива…»
— Будь!
«Будь!.. Будь…»
Глядя со стороны на Андрея, можно было подумать, что парень или свихнулся, или валяет дурака от избытка энергии и от безделья. А он, не в силах смириться с происшедшим и с тем, что изобразила перед ним его щедрая фантазия, принял, наконец, решение, какое подсказала ему мать: «Уехать!» Принял, может, потому, что это было легко сделать: вчера он слышал, будто снова, как и в прошлые годы, пришла из района бумага, в которой обязывали председателя колхоза выделить для уборки урожая на целинных землях одного лучшего комбайнера. В прошлые годы поступали по заведенному обычаю: «на тебе, боже, что мне не гоже» — посылали самого захудалого комбайнеришку, а если хорошего, то провинившегося чем-то, снабдив его фиктивными справками об убранных им площадях хлеба, от чего зависела оплата его труда на целине. А теперь поедет он, Андрей Ярчук, действительно зрелый комбайнер. Пробудет там два-три месяца, а потом решит, по каким путям направлять свои стопы. Подумаешь, Маринка! Не только света, что в окне. Да и на Кохановке мир клином не сошелся. Кохановка — это гнездо, где родился он и растил крылья. Не сидеть же в этом гнезде всю жизнь. Надо полетать, свет увидеть, испытать себя в чужих краях.
Ведя с самим собой этот нелегкий разговор, Андрей надел пиджак, отряхнул фуражку и направился к лесу, через который лежал кратчайший путь в Кохановку.
Лес стоял на горе — дремотный и какой-то пугающе-таинственный. Отсюда, из глубины яра, он казался похожим на фантастическую густо-зеленую тучу, опустившуюся с неба.
Но вот лес стал преображаться: зеленый, с ранними подпалинами и с сединой от налившихся семян, он вдруг утратил густоту окраски и начал слабо румяниться — вначале заалели верхушки деревьев, затем краснота стекла на кроны. Андрей понял, что у него за спиной, в немыслимо далеких далях, взошло солнце.
Еще минута, и росное серебро на траве побагровело, впереди Андрея задвигалась безобразно-длинная тень, будто прокладывая ему путь. Вот тень уткнулась в кусты, поросшие местами по краю канавы, окаймлявшей лес, и, укорачиваясь, стала вонзаться в гущавину листвы. Андрей перескочил через канаву в лес.
В утреннем лесу всегда кажется неуютно и сыро. Нужно некоторое время, чтобы обвыкнуться и как-то слиться с лесом. Андрею было знакомо это ощущение, и он, передернув плечами, оглянулся вокруг. Оглянулся и окаменел завороженный. Кажется, такого он еще не видел: в тех местах, где вдоль канавы не росли кусты, в лес густыми потоками червонного золота понизу вливалось солнце. Стоящие на опушке и ближайшие в глубине леса стволы деревьев ярко краснели и были похожими на воткнутые в землю гигантские слитки раскаленного металла. Бедная на растительность земля под ними тоже полыхала жаркой краснотой; она была перечеркнута множеством параллельных прямых теней, казавшихся среди фантастического свечения угольно-черными.
А в глубине леса еще таились сумерки, стыдливо прикрываясь сизой дымкой. Но по мере того как где-то там, над краем земли, солнце все выше поднималось в небо, лес наполнялся прозрачностью, а червонно-золотые стволы деревьев и земля между ними теряли горячую красноту и начинали источать ярко-желтый свет. Сумерки в глубине леса отступали все дальше.
Потом стали вершиться чудеса с листвой. Вначале поток солнца не проникал в глубь листвы, задерживаясь в кронах деревьев, стороживших опушку. И листва тогда казалась застывшей, угрюмой. А теперь, освещенная набравшими силу лучами, она ожила, затрепетала нежной зеленью, и лес, до этого будто сдерживавший дыхание, вдруг задышал полной грудью.
Андрей тяжко вздохнул и зашагал напрямик между деревьями. Волшебство природы не принесло ему успокоения.
Андрей даже не заметил, что кончился лес, и он шагал по тропинке к дороге, ведшей от Воронцовки к Кохановке. Опомнился, когда поднялся на бугор и увидал недалекую Кохановку. Неосознанно отыскал среди череды хат крышу Маринкиной хаты, и ему вспомнилось, как в прошлое воскресенье они ездили с Маринкой в Будомир. Просто так, чтоб побыть вместе, потолкаться в магазинах.
Когда гуляли по людной улице, сколько удивленно-восторженных взглядов, устремленных на Маринку, заметил он! Женщины и те заглядывались на нее. А он шагал рядом с ней, смущенный и счастливый, и, чувствуя на себе множество чужих глаз, боялся, как бы не наступить самому себе на ногу, не споткнуться и не упасть… Андрей еще никогда не бывал таким счастливым!
А теперь… теперь будет счастливым другой.
Из плена мучительных раздумий Андрея вырвал визг автомобильных тормозов. Рядом с ним, на дороге, остановилась «Волга».
— Ты что, хлопец, оглох? — беззлобно спросил, выглядывая в окошко, пожилой водитель.
Андрей растерянно улыбнулся.
— Как найти голову кохановского колхоза? — это уже спросил Арсентий Никонович Хворостянко, сидевший рядом с водителем.
— В конторе правления или где-нибудь на хозяйстве, — неуверенно ответил Андрей, присматриваясь к незнакомому человеку.
— Садись с нами, подскажешь, куда и как, — предложил Хворостянко. — А то мне надо скорее отпустить машину.
Андрей открыл заднюю дверку «Волги» и уселся на мягкое сиденье. И только теперь почувствовал, что он очень устал и что ему смертельно хочется спать.
26
В доме Ярчуков в это раннее утро с небывалым накалом грохотала семейная баталия. От крупного разговора даже испуганно позвякивали стекла в окнах и трепетно зыбилась вода в кадушке, стоявшей в углу горницы.
Павел Платонович каменно-неподвижно сидел за столом и, склонив голову на руки, терпеливо ждал, сцепив зубы, пока жена его — Тодоска — выпалит весь заряд своего кипучего гнева. Но сегодня ярость Тодоски была неистощимой. У ее ног, на полу, валялись черепки кувшина и жалобно белели осколки тарелки. Трудно было поверить, что скуповатая и бережливая Тодоска могла подкреплять свои обвинения мужу в его тяжких прегрешениях свирепыми ударами посуды об пол. Высокая, плоскогрудая, уставив на Павла большие серые глаза, в которых колюче-гневно полыхали искры, она громким, стенающим голосом выговаривала:
— Чтоб ты света белого не видел! Чтоб тебе ноги повыкручивало! Как ты можешь шляться по курвам, не стыдясь ни людей, ни сына?! Да неужели я хуже той лупоглазой ведьмы — Насти?!
— Я по делу был, пойми! — простонал Павел, подняв на мгновение красное лицо, искаженное мучительной гримасой.
— Знаю я твое дело! — и Тодоска, проворно выбрав на столе среди груды мытых тарелок одну, с пожелтевшей щербинкой, снова ахнула ею об пол. Лакал самогонище да липнул до Насти!
— Никто не липнул, — с вялой безнадежностью оправдывался Павел.
— Не липнул? Все вы мужики такие: как выбьетесь в начальство, так родная жинка вам уже не по нраву, и шастаете, как кобели шелудивые, по чужим хатам, где мятой юбкой пахнет. Да если б моя власть, я бы всех вас, начальников, наперед чистила б, как кабанчиков, чтоб от вас и мужским духом не пахло, да еще колокол тяжелый на вас вешала б, чтобы звонил непрестанно и говорил людям, где вы шляетесь, окаянные, и рты ваши поганые позашивала, чтоб не хлестали горилки и не брехали дома жинкам, что ни в чем не виноваты!
Павел Платонович, дивясь ораторскому дару жены, покачал головой и хохотнул утробным смешком.
— А ты не скалься! — еще больше повысила голос Тодоска. — Ишь, по делу он был у Насти!.. Думаешь, я не вижу, как она бесстыже пялит на тебя свои поганые глазищи?! И люди видят и говорят мне — и о Насте и о дочке ее. Гарная парочка собралась под одной стрехой! Одна тебя околдовала еще с молодости, а другая Андрею задурила голову, чтоб не скучно ей было, когда в село приезжает. А сейчас, видишь, Андрей уже не нужен ей, потому что городской хахаль приехал! А где же стыд?! Где совесть?.. Нет, я не потерплю! И тебе череп проломлю и Насте кипятком морду исправлю! А Андрея усылай из села от позора! Усылай сейчас же! Пусть на целину едет, не то руки на себя наложу!
Терпение Павла лопнуло. Доведенный до белого каления, ощущая полное бессилие перед неиссякаемым потоком бранных слов жены, он с исступлением обрушил на стол сразу оба кулака с такой силой, что с потолка посыпалась глина.
— Молчать! — рыкнул Павел Платонович.
Глаза Тодоски испуганно застыли на месте. Уставив их на мужа, лицо которого страшно перекосилось, а черные усы задергались, будто хотели отвалиться, она отступила шаг назад и неожиданно спокойным, даже ласковым тоном произнесла:
— А я молчу. Чего ты? Чего ты вызверился? Я же ни слова… Молчу, молчу… — на лице ее появились неподдельные смирение и кротость. — Кваску дать тебе? Холодненький, из погреба. Перебрал небось вчера той «калиновки».
Долгим и тяжелым взглядом, ощущая бешеные удары сердца, смотрел Павел на жену, не понимая, действительно ли опомнилась она и нашла силу укротить свою ярость, или кроется за ее покорными словами бесовская хитрость.
— Ты почему не пошла сегодня на работу? — стараясь перевести разговор на другое и подавить в себе бешенство, спросил Павел Платонович.
— А ты почему прохлаждаешься? — Тодоска глянула на мужа со злым лукавством и, взяв в углу веник, стала спокойно сметать в кучу позвякивающие осколки посуды. — Жнива, люди чуть свет в поле или на току, а председатель колхоза сидит в хате и с жинкой воюет. Гнать тебя надо с председателей! Зажирел!
— Не болтай, говорю, глупостей!.. — Павел Платонович строго погрозил жене пальцем и спросил: — Андрей пошел к комбайну?
Тодоска опять вспыхнула и приняла воинственный вид:
— У тебя хоть трошки есть памяти или всю «калиновкой» вышибло? Ты же отец! Видишь, что сын казнится, что сохнет сдуру по этой Настиной цаце. Сегодня же выпроводи его из села. Пусть едет на целину!
— В милицию, на отсидку, он поедет, а не на целину, — зловеще усмехнулся Павел Платонович. — Ишь, нашкодил, а теперь удирать?!
— Где нашкодил? — всполошилась Тодоска. — Ой боже, что случилось? Чего ж ты молчишь?
Видя, что Тодоска взялась за кувшин, стоявший на буфете, Павел Платонович постарался ответить успокоительно:
— Окно расчерепашил ночью в Настиной хате.
— А-а, — Тодоска облегченно засмеялась. — Это меня в милицию можешь отправлять. Я окно размолотила.
— Ты?!
— Я! И очень жалею, что не все побила и хату заодно не подпалила. Но следующий раз сделаю. Пойди только туда.
— Так это ты была под окнами у Насти?! — Павел Платонович смотрел на жену не то с недоверием, не то со страхом. — Куриная твоя голова. Ну, зашла бы в хату да разговор наш послушала.
— Значит, у меня куриная голова? — чуть побледнев, спокойно переспросила Тодоска, и ее глаза недобро заметались по комнате.
В это время заскрипела дверь, и на пороге хаты встал Андрей.
— Что у вас тут за тарарам? — спросил он, не видя, как мать проворно задвигает под печь совок с осколками посуды. — На все село слышно.
Сердце Павла Платоновича заныло, когда разглядел он потемневшее, осунувшееся лицо сына и какие-то помудревшие глаза. Вздохнул украдкой и спокойно ответил:
— Да вот решаем с мамой насчет целины. Ехать тебе туда или нет.
— Я уже сам решил. Еду.
— Разумный хлопец, — подала голос Тодоска. — Нехай едет да света увидит.
Андрей бросил на вешалку фуражку, начал снимать пиджак и как бы между прочим сказал отцу:
— Там тебя представитель обкома ищет… Батька техника-строителя.
— Где он? — насторожился Павел Платонович.
— Был в конторе. Потом пошел к Насте.
— Зачем к Насте?
— Ну… к сыну пошел, — Андрей ответил через силу.
— К Юре? Да он же у Лунатиков ночевал.
— У Лунатиков? — переспросил Андрей, кинув озадаченный взгляд на отца.
27
Кузьма Лунатик вышел в село, когда солнце выглянуло из-за леса и обдало Кохановку еще не горячими, но щедро-яркими лучами. Старик неторопливо брел через выгон. Облитая росным серебром чахлая мурава на выгоне была исполосована зеленой чернотой следов — здесь прошел недавно на пастбище скот. За выгоном высилось среди безмолвно толпившихся акаций белостенное здание, где помещались клуб, библиотека и контора правления колхоза. Туда и направлялся старый Кузьма, надеясь увидеть в конторе Павла Ярчука и спросить у него, где находится сейчас Андрей — дома, в поле или где-нибудь на колхозном дворе.
Главное для Кузьмы было — договориться с Андреем. А Маринку в любой час можно застать на строительной площадке и дать ей знак, что Андрей ждет ее по экстренному делу в хатине учителя Прошу. Затем Кузьма мигом доставит туда кастрюлю с варениками и банку с медом.
Если сказать по правде, Лунатик старался сейчас не столько из-за обещанной Настей «калиновки», сколько из-за того, что надоело ему томиться от безделья и чувствовать себя забытым, никому не нужным. Да и хорошо знал он, что Кохановка любит всякие веселые события и одаряет их героев благосклонностью и вниманием. А этот грех — страстишка хоть к какой-нибудь славе — за стариком водился с молодости.
С председателем колхоза Кузьма встретился неожиданно. Павел Платонович появился на тропе, петлявшей по огородам от старых левад к выгону; он всегда так ходил из дому в контору правления. По его быстрой энергичной походке и по тому, что капелюх надвинут на самые глаза, Кузьма понял, что председатель чем-то рассержен и в такую минуту к нему лучше не подступаться. Он так и сделал: приняв крайне озабоченный вид, круто повернул к тускло синевшей внизу Бужанке и быстро зашагал навстречу упруго дохнувшему влажному ветерку. Но тут же услышал требовательный голос Павла Ярчука:
— Кузьма Иванович, минуточку!
Лунатик с притворным удивлением покрутил головой по сторонам, будто не зная, кто и откуда позвал его, затем, посмотрев на председателя, с подчеркнутой радостью откликнулся:
— А, Павло Платонович! Здоров був, голова! Как спалось, отдыхалось?
— Спасибо, — хмуро ответил Павел. — Инструктора обкома видели?
— Какого инструктора?!
— Настя Черных к вам его направила.
— Ко мне?! — Кузьма испуганно перекрестился, ибо всегда чувствовал за собой какую-нибудь вину: то баловался самогоноварением, то прихватил с колхозного тока сумку зерна.
— Ну, не лично к вам. В вашу хату. У вас же ночевал техник-строитель?
— У нас, у нас.
— Вот он к нему и пошел.
— Там хата открыта. А строитель еще тово… спит, — поспешил Кузьма успокоить и себя и Павла Платоновича. — Но если надо, я уже скачу до дому! — он перебрал обутыми в разбитые парусиновые туфли ногами, тщетно стараясь изобразить застоявшегося рысака.
— Не надо, — остановил его взмахом руки Павел. — Разыщите лучше Тараса и скажите ему, что приехал представитель обкома. Пусть идет к нему и действует по обстановке.
— Все ясно как белый день! — Кузьма снова нетерпеливо затоптался на месте. — А насчет горилки и закуски Тарасу намекнуть?
— Боже вас упаси! — Павел измерил Лунатика строгим, предупреждающим взглядом и зашагал через выгон к белостенному зданию.
Когда Павел Ярчук поднялся уже на крыльцо правления колхоза, Кузьма Лунатик вдруг вспомнил, что не спросил об Андрее. Но окликать председателя не осмелился и, досадливо почесав в затылке, стал прикидывать в уме, где сейчас может быть Тарас Пересунько — секретарь партийной организации кохановского колхоза.
28
Тарас Пересунько — младший сын Югины, родной сестры Павла Ярчука. Теперь он был хозяином в старом ярчуковском доме, откуда Павел и Тодоска переселились в новый дом, построенный после войны в опустошенной леваде. Тарасу уже под тридцать. Отслужив в армии, он вернулся в Кохановку и женился на молоденькой учительнице начальной школы Докие (или Докие Аврамовне, как звали ее школяры), невысокой, стройной девушке, не очень красивой, но с живыми ясными глазами, добрым, доверчивым взглядом и мелодичным, несильным голосом.
Югина и ее муж Игнат — тяжко покалеченный на войне — очень гордились тем, что Тарас, простой хлопец с семилетним образованием, взял в жены учительку, и приняли ее в семью с той лаской и нежностью, на которую только способны простые люди.
А когда пошли у Докии и Тараса дети (сейчас их уже двое), Югина, повторив судьбу бабушек многих поколений, взяла заботы о них на себя. Да и не только о детях. Несмотря на то, что Югине давно перевалило на шестой десяток, она вела все хозяйство в доме и ухаживала за одноруким и одноногим Игнатом.
Некогда могучий, краснолицый, гнувший своими ручищами конские подковы, Игнат жил теперь, как клубок боли, которая часто просыпалась в нем и начинала терзать пронизанное многими осколками тело.
Почти лишенный возможности передвигаться, Игнат целыми днями слушал радио или читал газеты и журналы, а потом тайком доставал из-под матраца толстую тетрадь в черной клеенчатой обложке и подолгу сидел над ней с карандашом в руках. Тарас догадывался, что за «бухалтерию» ведет его отец в черной тетради, ибо нередко, заглядывая в нее, задавал Тарасу неожиданно-каверзные вопросы.
— Ну, как ты мыслишь, Тарас, новым культом у нас еще не пахнет? спросил однажды Игнат.
— Вроде нет, — ответил Тарас, хотя временами и сам был не прочь покритиковать начальство: после разоблачений культа личности это стало модным в селе. Иногда доставалось даже секретарю обкома партии, хотя все, кто когда-либо встречался с ним, относились к нему с уважением, как к человеку умному, знающему жизнь и людей, умеющему смотреть в корень.
— Ой, смотри! — Игнат недовольно хмурил брови, если Тарас не разделял его опасений. — Чтоб не было, как в тридцатых!
В тридцатых годах Игнат Пересунько пострадал из-за культа. Как-то весной купил он в Виннице на рынке поношенные ботинки и завернул их в газету, не обратив внимания, что в газете был напечатан портрет наркома. Один гражданин, приметив это, потребовал от Игната идти за ним. Привел в какое-то помещение и, не говоря ни слова, «заехал» Игнату в ухо. А Игнат, полагая, что гражданин хочет отнять у него ботинки, развернулся и так ткнул ему кулачищем между глаз, что тот летел через всю комнату до противоположной стены. Откуда-то взялись люди в военном, скрутили Игната. Целую неделю сидел он в «холодной». Обошлось все благополучно только потому, что, пока выясняли личность Игната, самого наркома объявили «врагом народа».
И теперь Игнат со знанием дела раскрывал свежие газеты, прикидывая в уме, может ли газета привести несведущего человека к беде.
Но самыми неприятными для Тараса вопросами отца были те, которые касались не обязательных, по мнению Игната, или неразумных государственных расходов.
— Вот скажи мне, Тарас, — спросил однажды у сына Игнат, — не через меру ли мы щедры на помощь чужим странам?
— А как же иначе? — удивился Тарас. — Жить под одним небом и не помогать тем, кто в беду попадает?
— Я не о том, — сказал Игнат, выслушав сына с вежливым вниманием. Кто же будет против того, чтобы дать голодающим трохи пшеницы, или построить больницу в тех краях, где людей морит всякая холера и чума, или подкинуть грошей и лекарств после землетрясения? Но разъясни ты мне толком, зачем нам, скажем, строить за границей… это самое… где мячи ногами гоняют… стадионы?!
— Стадионы? — Тарас посмотрел на отца с недоверием. — Что-то не слышал о таком.
— Не слышал? — Игнат зашелся язвительным смешком. — А у меня есть вырезочка из газеты. — И старик, достав из-под матраца тетрадку с записями, извлек из нее клок газеты.
Тарас читал заметку о «комплексе спортивных сооружений» с недоуменным и растерянным видом. На этот конкретный вопрос он ответить не мог, хотя понимал главное — то, что понимают все; наше государство, идущее к коммунизму, оказывает помощь слабым странам не корысти ради, а по законам братства и дружбы.
Заметив озадаченность сына, Игнат продолжил разговор:
— А вот скажи, во сколько мильенов тот стадион нам обойдется? Не знаешь? А я примерно знаю. Подсчитал! На эти гроши можно было б если не всю, то половину нашей области шоссейными дорогами покрыть!
— Придет время, возьмемся и за дороги, — сердито ответил Тарас и прикрикнул на отца: — Читали бы, тату, лучше «Кобзарь»! Слушать надоело! Неужели вы, когда жили своим хозяйством, ничем не делились с соседями?
— Ну ладно, — вроде опять шел на мировую Игнат. — Не будем говорить о разных там стадионах и плотинах, которые в чужих краях строим за свои кровные гроши, хотя они нам самим нужны. Не об этом разговор. Ты вот что скажи: сколько стоит тот, говорят, хрустальный, вперемежку с золотом палац спорта, что в Киеве на Бессарабке построили? Не знаешь? Стоит больше, чем обошлись бы шоссейные дороги между главными селами области!
— Брехня! И никакой он не хрустальный и не золотой! Сам бывал там!
— Нет, не брехня. Золотой! — настаивал Игнат. — И вот мне не понятно, почему не повременить было с этим палацем и не построить вначале дороги? Ты же знаешь, что весной и осенью, да и летом после дождя на наших дорогах потоп. Уже можно было б построить дороги на те гроши, что убухали их на запасные части для разбитого в распутицу транспорта!
— Правительству виднее, что сперва надо строить.
— А может, и не виднее? Ты много видел в Кохановке членов правительства? Они больше ездят туда, где дороги хорошие и где хозяйства богатые.
— Это уж совсем неправда! — горячился Тарас. — Сколько раз в нашем селе бывал секретарь обкома?!
— Ну, бывал… два раза? А что толку? Дороги после этого асфальтом покрылись?
Дороги в спорах Игната занимали чуть ли не главное место, может быть, потому, что во время войны побывал он во многих странах и теперь с ревнивой завистью вспоминались ему виденные там трассы, покрытые асфальтом или брусчаткой. И Тарас не очень бы обращал внимание на язвительную болтовню отца, если бы нечто подобное нет-нет да и не мелькало в разговорах других людей. Вот и несколько дней назад, в клубе, когда перед началом фильма показывали киножурнал. На экране появились гигантские арматуры какого-то диковинного радиотелескопа. Диктор бойко стал объяснять, что телескоп этот очень сложен и очень дорог, что предназначен он для прощупывания глубин вселенной; посланный им пучок энергии может обнаружить в безбрежных просторах космоса неведомые миры и, отразившись от них, вернется на землю. И кто-то саркастически бросил в затемненном зале:
— В чужие миры тыкаемся, а в своем порядка не наведем?
Вокруг одобрительно засмеялись.
И эта реплика, этот смех больно хлестнули Тараса по щекам. Он подумал, что никто другой, а именно он, секретарь парторганизации и завклубом, виноват в том, что люди не всегда умеют подняться своим разумением до уровня общегосударственной политики, не всегда могут проникнуть мыслью и сердцем в сокровеннейшие глубины нашей жизни, с ее сложностями, с ее путями в экономике и политике, с ее перспективами. Но что он должен делать? И как? И с кем? Есть, конечно, комсомольская организация, есть учителя, агроном, зоотехник, фельдшер. Но что возьмешь, например, с комсомольцев, если даже инструктор райкома комсомола, выступая перед людьми, не отрывает глаз от бумажки?
Вот все эти вопросы Тарас Пересунько выплеснул вчера в беседе со Степаном Прокоповичем Григоренко. Рассказал ему о настроениях мужиков, о каверзных вопросах отца и о его тетради в черной обложке.
Степан Прокопович долго прохаживался по своему просторному кабинету, опустив голову, будто искал что-то на полу. Потом остановился перед Тарасом, сидевшим у раскрытого окна на стуле, и спросил:
— Ты не читал такую книгу: «Хлеб — имя существительное»?
Тарас отрицательно мотнул головой.
— Прочитай. Оказывается, писатели тоже умеют смотреть в самый корень. Так вот, в этой книге писатель ведет разговор со священником, и оба режут такую правду-матку, что хочется им в ноги поклониться. Ведь раньше нередко бывало так… Решают селяне строить церковь и выбирают для нее самое красивое, высокое место, чтоб белым лебедем плыла она над окрестностями, а ее золоченые купола чтоб светили солнцем, так сказать, местного значения. Приглашают известного архитектора, не суля ему за работу ни лауреатской премии, ни победы на всесоюзном конкурсе. Кликали настоящих художников, чтоб расписали стены и своды святого храма. Храм действительно дышал святостью, ибо сотворен он был по канонам искусства.
А как мы строим свои храмы? Хорошо, если есть в селе клуб, построенный по типовому проекту. Типовому! Понимаешь? Зодчий может сидеть где-то в Киеве или Москве и создавать проект клуба, скажем, для нашей Кохановки, не зная и не ведая, как это здание впишется в панораму села и местности, будет ли его архитектура созвучна с душевным складом нашего подолянина! А что внутри этого «типового» клуба? Ты видел хоть одну настоящую картину? Встречал хоть одного мало-мальски известного художника, который бы вложил свой талант, свое творческое волнение в оформление сельского клуба?
Но главное впереди… Раньше селяне приходили в церковь, как на спектакль. А какие голоса встречались в церковном хоре! Не перевелись же они, черт возьми! Священник выступал иногда не хуже оперного певца; проповеди свои читал так, что слезы вышибал у прихожан. Видишь, как религия опиралась на искусство? Были у нее свои обряды, традиции.
А где наши обряды? Болтаем только, что в пропаганде идей коммунизма надо опираться на лучшие образцы нашего искусства и литературы… Не опираться, а саму пропаганду необходимо сделать подлинным искусством!
— Но религия дурманила народу головы, — не удержался Тарас от замечания. — Поэтому ей и надо было изворачиваться.
— Вот-вот! — Степан Прокопович перестал прохаживаться по кабинету и словно навис над Тарасом. Тарас поднял вверх голову и заметил, что на лице секретаря парткома мелькнуло что-то очень живое, мальчишеское. Григоренко, отступив шаг назад, чтобы удобнее было смотреть на своего собеседника, продолжал: — В этой книге священник так и говорит писателю, что вы, мол, коммунисты, исходите из верного положения о бесспорности вашей идеологии, опирающейся на бесспорные, доказанные практикой законы природы, и полагаете, что ваши идеи победят сами собой. И знаешь что, Тарас Игнатович?.. — Григоренко подождал, пока утихнет грохот пронесшегося под окнами самосвала. — Этот служитель бога прав. Мы действительно привыкли считать, что поскольку идеи коммунизма основываются на высочайшей человечности и справедливости, значит, они воспримутся сами по себе или при небольших усилиях нашей пока что примитивной в условиях села пропаганды да при участии газет, радио, кино. Это пассивные позиции, учитывая, что село шло к социализму путем немалых жертв и ошибок. Да и шестьдесят третий год не сулит нам ни богатого хлеба, ни доброго настроения селян. Об этом мы еще будем сегодня говорить… Так вот, крестьяне — собственники по своей психологии, к тому же в некоторой своей части они при нашем худом хозяйничании разуверились, что колхоз выведет их на большую дорогу жизни. Вот тут и становится ясным, что идеи коммунизма мы утверждаем в сознании тружеников земли не всегда умело.
С крестьянином надо говорить о коммунизме, глядя ему в глаза, обращаясь непосредственно к его уму и сердцу, исходя из особенностей его жизни, из конкретных дел, которыми он живет сегодня, сейчас. Может, нам нужны в каждом селе какие-то специально подготовленные кадры?
Не обеднеет же колхоз, если будет содержать хотя бы одного человека умного, одаренного, способного — быть жрецом наших идей? Нужны новые традиции, новые обряды. Возможно, воскресные слушания специальных бесед. С пением Гимна Советского Союза, с хором лучших голосов! С образной, художественной, я бы сказал, речью без единого казенного слова. И человек этот обязан во всем являть собой образец нравственной чистоты. Он должен стать умом и совестью крестьянина, комиссара ЦК партии в селе, ученым наместником нашего пропагандистского аппарата.
И если в ряду других вопросов он будет раскрывать перед людьми во всей обнаженной сложности проблемы войны и мира, не будут они недоумевать, почему нам приходится раскошеливаться на помощь слаборазвитым странам, не будут думать, что их обирают.
Короче говоря, надо в селе ставить на прочные ноги, как мы привыкли казенно выражаться, настоящую устную пропаганду. Над этим еще надо подумать многим светлым головам. Но факт, что идеи коммунизма мы обязаны пропагандировать по-настоящему!
В кабинете на некоторое время воцарилась тишина. Григоренко уселся за свой стол и привычно потянулся за коробкой с сигаретами. А Тарас, шумно вздохнув и поерзав на скрипучем стуле, спросил у него:
— Где же, Степан Прокопович, взять нам этих самых жре-цов? последнее слово он выговорил с трудом. — Да еще таких святых, чтоб ни водки не пили, ни по бабенкам не шастали?
— Можно подумать, — засмеялся Степан Прокопович, выстрелив изо рта струей табачного дыма, — что я да ты только тем и занимаемся, что хлещем водку и по бабам шляемся.
— Ну, мы другое дело. У меня жена. — Тарас развел руками.
— Вот с тебя и надо начинать! — серьезно заметил Григоренко.
— Нашли жреца, — смущенно засмеялся Тарас.
— Ну, хорошо, — Григоренко, измерив Тараса оценивающим взглядом, тоже засмеялся. — Допустим, тебе это не по плечу. Но не перевелись же у нас народные таланты? Их полно! Может, для начала следует отобрать из самодеятельных коллективов лучших чтецов и певцов, собрать в городах молодых артистов, которым не светят большой экран и высокая сцена, да создать для них специальные курсы… Рано или поздно партия начнет решать эту проблему.
Но это не значит, — убежденно продолжал Степан Прокопович, — что мы должны сидеть сложа руки. Есть же в Кохановке интеллигенция! Надо дерзать. Начинайте с малого. Вот ты мне скажи, Тарас Игнатович, — наморщив лоб, Григоренко поднял на Тараса вопросительно-требовательные глаза, — у вас в клубе висят портреты кохановчан, погибших в боях с фашистами?
Тарас отрицательно покачал головой.
— Неужели и на это нужны специальные указания? — Степан Прокопович сердито ткнул в пепельницу сигарету. — Люди не знают своих героев-земляков! Как же вы молодежь воспитываете? Да и к самому клубу по-иному станут относиться, если там, на почетном месте, кохановчане увидят портреты своих погибших в боях дедов, отцов, братьев, сыновей. Шапки станут снимать!
— Сделаем, Степан Прокопович! — Тарасу передалось волнение Григоренко, и он поднялся со стула, заслонив своим крупным и плотным телом окно.
— Сделайте немедленно!
Степан Прокопович снова встал из-за стола и, устремив на Тараса грустно-загадочный взгляд, сказал:
— Присаживайся, Тарас Игнатович. Разговор еще не окончен.
Тарас опустился на стул, ощутив, как за сердце ущипнула неизъяснимая тревога. Его пугала вдумчивая сосредоточенность и подчеркнутая твердость, застывшие на лице секретаря парткома.
— Разговор у нас получился хороший, — с непонятной медлительностью проговорил Степан Прокопович. — Но вызвал я тебя совсем по другому делу. Ты, конечно, знаешь, что год этот неурожайный. А государству нужен хлеб. Есть указания — во всех колхозах больше полкилограмма на трудодень не давать.
— У нас урожай сносный! Хватит и для плана и для людей! — одним духом выпалил Тарас.
— Все равно. Придется вывозить на заготовки все, что уродило, кроме семян и… по полкило на трудодень.
Тарасу показалось, что отяжелел воздух. Спиной ощутил, как устало дышит в окно разморенный солнечным жаром летний день, а спине делается зябко.
Будто издали услышал приправленный горькой смешинкой голос Григоренко:
— Так что немедля всем нам надо становиться жрецами и Цицеронами.
Тарас ответил пресекшимся от волнения голосом:
— Степан Прокопович… А мы тово… Мы уже выдали на трудодень по килограмму…
Григоренко окатил Тараса ледяным взглядом и яростно громыхнул кулаком по столу.
29
Из Будомира Тарас возвратился перед полночью, поэтому сегодня проснулся позже обычного. Когда открыл глаза, увидел, что возле кровати стояла Докия и смотрела на него с теплой любовной улыбкой. А горенка спальня Тараса и Докии — ломилась от переполнявшего ее солнца. Светлые и пышные волосы Докии, ниспадавшие на красную блузку, будто горели в ярких лучах, и блузка будто горела. Сама Докия тоже светилась, ясно-голубые глаза ее, похожие на два лучистых солнца, ярко освещали чуть загорелое курносое лицо.
— Здоров спать! — Докия засмеялась звонко, по-девчоночьи, и Тарасу послышалось, будто в горле жены перекатились серебряные горошинки. — Минут пять гляжу на тебя, а ты не просыпаешься! Ну, разве так можно — не чувствовать законной супруги? Да еще храпишь так, что мухи от страха убиваются о потолок. — И снова весело перекатились серебряные горошинки.
Тарас, вдохнув тонкий запах духов, струившийся от Докии, порывисто поднялся и расправил плечи так, что под майкой хрустнули кости.
— У-у, медведь… — Снова любяще засмеялась Докия и, порывисто обняв мужа за горячую со сна шею, прислонилась щекой к его небритой щеке. Сейчас же бриться! А я побежала в школу. Сегодня кончаем ремонт.
Не успел Тарас опомниться, как Докия, дурашливо потрепав рукой его густую шевелюру, крутнулась на низеньких каблуках своих маленьких туфелек, быстро застучала ими по глинобитному полу и скрылась за дверью.
Через несколько минут Тарас стоял в большой горнице перед зеркальным шкафом и торопливо водил дребезжащей электробритвой по щекам и подбородку. Свет из окон падал на него со стороны, и Тарас видел себя в зеркале в полный рост — обутым в поношенные хромовые сапоги, в армейских бриджах, местами запятнанных машинным маслом (Тарас не расставался с мотоциклом, и от пятен уберечься ему трудно). Белая трикотажная майка подчеркивала широкую крепкую грудь и тугие мускулы на сильных крупных руках. Лицом Тарас, да и телом, был похож на отца, каким тот был в молодости: смуглые обветренные щеки дышали здоровьем, глаза из-под черных бровей смотрели на мир улыбчиво и с чувством собственного достоинства, свидетельствуя о доброте и внутренней силе.
Кончив бриться, Тарас повернулся к этажерке, чтобы взять на верхней полке флакон с одеколоном, и встретился с мертвенно-пристальным взглядом отца. Игнат сидел на топчане, спустив долу единственную ногу, а обрубок второй в подвернутой и прихваченной ремнем штанине положив на распорку деревянного костыля, прислоненного к столу.
В горнице, кроме их двоих и спавших за марлевой занавеской детишек, никого не было. Югина хлопотала где-то на подворье возле сарая, откуда доносилось нетерпеливое хрюканье двух подсвинков.
— Чего ж не хвалишься новостями? — спросил Игнат, заскрипев костылем.
Тарас налил на ладонь одеколона, плеснул им в лицо и, закряхтев от горячего жжения, ответил:
— Неважнецкие новости…
— А все ж таки? — Игнат нетерпеливо заерзал на месте.
— Ну, сами знаете, — нехотя стал продолжать Тарас, растирая лицо. Мы еще кое-какой урожай получили. Хватило бы для себя и для плана. А в других колхозах — труба. Все выгорело к едреной бабушке.
— Ну? — Кажется, Игнат уже знал, что скажет дальше сын, и смотрел на него с презрительной колючестью.
— Вот вам и «ну»! — рассердился Тарас и, будто назло отцу, с ожесточением бросил: — Велено больше полукилограмма на трудодень не выдавать! А за то, что мы с Павлом Платоновичем выдали по кило, шкуру с нас сдерут, а из колхоза все зерно под метелку!
Игнат неожиданно зашелся ядовитым смешком, а на лицо его наползла такая мучительная гримаса, что поблекшая чернота глаз сверкнула слезой.
Тарас смотрел на отца с жалостью и тревогой.
— Чего это вы?
— Вспомнил, как речь одну произносил в двадцать девятом, — с трудом вымолвил сквозь смешок Игнат. — Доказывал мужикам, что в колхозе любая засуха будет нипочем.
— Ну, тату, знаете… вы как дите маленькое, — Тарас вспомнил вчерашний разговор со Степаном Григоренко, вспомнил мудреное словцо «жрец» и, придвинув к топчану стул, горячо заговорил, глядя отцу прямо в глаза: Держава наша — это одна большая семья. А в семье не может быть, чтоб один ходил в суконных галифе, а другой стыдным местом сверкал. Раз неурожай надо делиться, надо выручать державу. Мы же на нашей планете не одни живем? Не одни! Стало быть, торговля ведется. Вот мы договорились, скажем, доставить зерно в какую-нибудь страну, а у нас неурожай. Значит, надо платить золотом за неустойку, поскольку обязательства свои не выполнили…
— А перед хлеборобом нет у вас обязательств? — сердито перебил сына Игнат. — Почему за все беды мужик должен расплачиваться? Может, в соседнем колхозе неурожай оттого, что руководство там безголовое! Солнце над всеми одинаково пекло! У нас уродило, а у них нет, и нам же за это дуля под нос?! Когда конец этому будет?!
«Хреновый из меня „жрец“», — с горькой иронией подумал Тарас и, ощущая полную свою беспомощность, сказал:
— Рассуждаете вы, тату, как отсталый элемент.
— Я тебе как «элементу» костылем по голове!.. — Игнат, сняв культю ноги с распорки костыля, угрожающе придвинул его к себе. — Это небось Степан выслуживается перед начальством, «дает план»! Сейчас же езжай в обком до первого попавшегося секретаря! Расскажи все честь по чести!..
В это время скрипнула дверь, и на пороге встал Кузьма Лунатик. По его блудливой улыбке на благообразном старческом лице, светившем переспелой синевой носа, нетрудно было догадаться, что он давненько стоял в сенцах и прислушивался к жаркому объяснению сына с отцом.
— Доброго ранку в вашей хате! — бойко поздоровался Кузьма и, шагнув с порога в горницу, сдернул с головы видавший виды картузишко, а затем галантно поклонился, прижав картуз к груди.
Не успели Игнат и Тарас ответить на приветствие старого Лунатика, как он без передыху повел речь:
— Велено мне собственноручно Павлом Платоновичем сопроводить тебя, Тарас Игнатович, в нашу хату. Требует там твоего прибытия… этот самый… как его?.. Ага! Конструктор… Нет-нет… инструктор из обкома, стало быть, партии. Велено так же Павлом Платоновичем горилкой инструктора пока не подмасливать, а присмотреться, что к чему, и действовать по обстоятельствам времени. Вот так…
30
Вскоре дед Кузьма и Тарас Пересунько торопливо шагали обочиной улицы в направлении дома Лунатиков. Тарас ступал размашисто, чуть вывертывая наружу носки сапог, а Кузьма семенил вприпрыжку и рядом с рослым Тарасом был похож на сутулого мальчугана.
Когда поравнялись с подворьем, в глубине которого виднелась старая, в соломенной папахе хата Лунатиков с молодым вишняком под окнами, Кузьма увидел Маринку. Она шла им навстречу, направляясь, видимо, на строительную площадку. Тарас завернул в подворье, а Кузьма остановился у калитки, поджидая девушку.
Маринка шла неторопливо, опустив глаза и ничего не замечая вокруг. В клетчатом платье и белой косынке, она была совсем похожа на девчонку-школьницу. Но уже в самой походке — грациозно-легкой, в заметной налитости маленьких грудей, в смелом развороте плеч да и в том, как задумчиво были опущены ее глаза, говорившие о каких-то сокровенно-трудных мыслях, — во всем этом уже явственно просматривалось сквозь чистый аромат юности таинственное и волнующее женское начало.
Кузьма кашлянул, чтоб обратить на себя внимание Маринки, и она подняла на него замутненные тревогой и грустью глаза, под которыми были заметны трогательные тени.
— Доброго ранку, диду, — поздоровалась девушка, проходя мимо.
— Здравствуй, золотце! — с наигранной бодростью ответил Кузьма Лунатик; его смутило безразличие Маринки. — Мариночко, дивчатко мое славное, постой минуточку!
И старик проворно перебежал через дорогу к остановившейся девушке.
— Ты ж мне нужна, как нашему голове Директива из района! — весело продолжал Кузьма. — Ну, дыхнуть не могу без твоей помощи! Зарез смертельный и окончательный.
— Что случилось? — встревожилась Маринка.
— Не очень страшное, но… страшно важное! Все тебе растлумачу по параграхвам, только обожди меня тут одну минуточку. Сейчас я сбегаю в хату, захвачу нужную мне штукенцию, чтоб потом не возвращаться домой, и мигом буду тут. Обождешь?
— Обожду, если надо. Только недолго.
Кузьма торопливо побежал в хату. С порога окинул любопытным взглядом горницу и, задержав глаза на Арсентии Хворостянко, уже открыл было рот, чтобы поздороваться с инструктором обкома. Но, увидев в руке Арсентия Никоновича вилку с наколотым вареником, так и застыл с открытым ртом. Тут же панически перевел взгляд на стол, где высился графин с искрившейся в солнечном луче сливянкой, и заметил в окружении тарелок кастрюлю, в которой он варил вареники. Еще раз ошалело посмотрел на сидевших за столом и занятых разговором отца и сына Хворостянко, на Серегу, подносившего Тарасу стакан со сливянкой, и с похолодевшим сердцем кинулся на кухню. На припечке увидел только фуфайку и скомканную газету.
— Серега! — крикнул Кузьма, заставив гостей в горнице испуганно притихнуть.
— Чего вы орете? — зашипел Серега, вломившись на кухню.
— Вареники слопали?!
— Ч-ш-ш! А вам-то что? Есть больше нечего?
— Чтоб вас разорвало! — тихо заскулил Кузьма. — Не про вашу честь варились!
Серега никак не мог взять в толк, почему так рассердился отец; он был убежден, что вареники варила Наталка.
— Борщ доставайте из печи. Молоко вон стоит. — Он указал на полку с кувшинами.
— Ладно, — Кузьма тяжко вздохнул и отвернулся.
— Там еще осталось несколько штук, — сжалился Серега над отцом. — Но я думал — Тарасу дать закусить.
— Ладно, давай Тарасу. Компания так компания. — И старик, на удивление Сереге, зашелся тихим удушливым смешком.
Постояв еще минутку на кухне, Серега с недоумением пожал плечами и вышел в горницу. А Кузьма, неистово перекрестившись на единственную, черную от мушиных следов икону-доску в углу кухни, открыл окно и, покряхтывая, выбрался в огород: пройти через горницу у него не хватило храбрости.
Когда завернул за угол хаты, увидел, что Маринка стояла на улице на прежнем месте, а к ней спешил через подворье Юра Хворостянко, заметивший девушку в окно. Кузьма потоптался на месте, подумал и, махнув рукой, пошел вокруг хаты к сенцам, чтоб попасть в; камору. Маринка теперь его не интересовала. И поскольку рухнула надежда разживиться у Насти «калиновкой», он решил идти на другой край села, где одиноко грустила в колхозном саду старая хатенка учителя Прошу, чтобы поставить закваску для самогонки.
В каморе Кузьма положил в мешок буханку хлеба, кусок сала, дрожжи и с этой небольшой ношей вышел на улицу. Маринки и Юры здесь уже не было.
Путь Лунатика пролегал мимо конторы правления колхоза. Здесь он неожиданно столкнулся с Андреем, который, сойдя с крыльца, сосредоточенно рассматривал какие-то бумажки, затем аккуратно складывал их и прятал во внутренний карман пиджака.
— Эй, Андрей Павлович! — окликнул его Кузьма Лунатик. — Дело к тебе есть!
— Что за дело? — невесело спросил Андрей, подойдя к старику.
— Ты завтра утром будешь свободен?
— Нет, деду Кузьма, — покачал головой Андрей. — Сегодня уезжаю на целину.
— Тю-тю! — присвистнул Лунатик. — Чего это тебе дома не сидится?!
— Кому-то надо ехать.
— А Маринка? Ой, гляди, проворонишь дивчину? Я уже приметил, что техник-строитель вьется вокруг нее.
— Ну и на здоровье! — Андрей ответил со злым безразличием, и Кузьма уловил в прищуренных глазах парня боль.
— Э-э, нет… — старик пристальнее всмотрелся в лицо Андрея. — Не дело говоришь. Зачем же такую славную девку упускать? Или поссорились?
— Не спрашивайте, — буркнул Андрей и полез рукой в карман за сигаретами.
— И дурак! — неожиданно вспылил Кузьма.
— Почему дурак? — переспросил Андрей, прикуривая сигарету.
— Дурак, что таишься от меня! Дед Кузьма в любом деле может воспомоществовать.
— В этом деле никто не поможет. — И Андрей тяжко вздохнул.
— Эта самая, как ее? Ага!.. любовь!.. расстроилась? Так мы ее в два счета склеим! Навечно! Как электросваркой!
— Интересно, — Андрей саркастически засмеялся, измерив старика насмешливым взглядом.
— А ты не смейся! — и Кузьма с таинственным видом оглянулся по сторонам. — Слушай, какой я тебе пропишу рецепт. Только слушай! Проберись в Маринкину хату, выломи из печки кирпичину и носи ее в кармане. Хрест святой, не брешу, что Маринка сама к тебе прибежит.
— И долго нянчить в кармане кирпичину надо? — иронически спросил Андрей.
— Не веришь?!. — Кузьма обидчиво поджал губы, затем поскреб пальцами в бороденке. — Могу дать другой рецепт. Научный! Слушай. Поедь в Будомир на базар и купи у гончара новый горшок. Только не торгуйся, плати, сколько запросит. А приедешь домой, просверли в горшке побольше дырок. Уразумел? Потом поймай кожана, или, по-научному, летучую мышь, посади ее в тот горшок и поставь его вверх дном в муравейник, в глухом лесу. И тут же удирай что есть духу! Чтоб ты, не дай бог, не услышал свиста кожана, иначе оглохнешь! Потом, когда муравьи обточат кожана, возьми его косточки и найди меж ними вилочку и крючочек. Понял? Если хочешь, чтоб дивчина любила тебя, зацепи ее тем крючочком. За какое место, не скажу, пока не поставишь магарыч!
— А вилка зачем же? — с веселым любопытством спросил Андрей.
— Про вилку могу без магарыча сказать: если вдруг разлюбил ты дивчину, толкни ее незаметно вилкой в бок, то и она тебя разлюбит и уйдет. Понял?
— Понял.
— Будет магарыч?
— Не будет.
— Почему?!
— Уезжаю я, деду Кузьма.
— Ну и дурак!
— Какой есть.
В это время Андрей и Кузьма увидели, что со стороны колхозного двора торопливо шел через выгон Юра Хворостянко. Кузьма, который все время думал, как будут чувствовать себя те, кто ел его «противолюбовные» вареники, смотрел на чем-то озабоченного Юру с любопытством и бесовской хитрецой, а Андрей — с ломившей сердце неприязнью.
Андрею показалось, что техник-строитель ощутил его неприязнь и поэтому вдруг остановился, не дойдя до них десяток шагов. Юра смотрел на Андрея и Кузьму каким-то не то отсутствующим, не то испуганным взглядом, а лицо его, вдруг покрывшееся испариной, исказила гримаса подступившей к горлу тошноты. Тут же он резко повернул в сторону огородов и неожиданно побежал к недалекой конопле.
— Что с ним? — озадаченно спросил Андрей, когда Юра нырнул в сизо-зеленую чащу.
Старик странно хихикнул, отвел в сторону виновато-блудливые глаза и неопределенно ответил:
— Может, тебя напужался. А может, мутит после опохмелки. — И тут же пугливо покосился в сторону своей хаты. — Ну, мне пора, Андрюха, прощевай.
31
Сгущавшийся мрак постепенно скрыл очертания предметов, находившихся в поле зрения Павла Платоновича. Павел лежал в постели на боку и широко раскрытыми глазами смотрел на комнату. Уже глухая ночь, а ему не спалось. За спиной, у стенки, мерно и ровно посапывала Тодоска.
Завтра в десять утра Павлу и Тарасу Пересунько надо быть в Будомире, на бюро парткома. Придется держать ответ за то, что поспешил выдать на трудодни хлеб. Нет, Павел Платонович не чувствовал за собой вины: колхозники получили заработанное даже еще не полностью. Ведь сколько вложили они труда, чтобы в такой засушливый год собрать хоть средний урожай. Но тревога глодала сердце. А вдруг они с Тарасом чего-то не понимают? И наверняка не понимают, если призывают их к ответу, несмотря на то, что колхоз полностью выполнил государственный план хлебозаготовок, кроме еще не убранных крупяных.
Сегодня Павел Платонович звонил по телефону в партком, пытался выведать, что их ждет на бюро. Но Степана Прокоповича не застал. На звонок откликнулся Клим Дезера, с которым у Павла Платоновича были не очень добрые отношения. Павел несколько лет назад остро покритиковал Дезеру на партийном активе за то, что тот, приехав в Кохановку как уполномоченный райкома партии, без знания дела заставил трактористов глубоко вспахать участок заливной земли с наносным гумусным грунтом. В итоге гумус был завален толстым слоем песка.
Наткнувшись на Дезеру по телефону, Павел не удержался и спросил, зачем вызывают его и Тараса в Будомир. Дезера же, уловив тревогу в голосе Ярчука, ответил со зловещим смешком:
— Не беспокойся, Павел Платонович, не обидим. Вызываем, чтоб выдать сполна за все сразу.
— За что именно? — с притворной беспечностью спросил Павел.
— За все, что творится в твоей Кохановке!
И Павел Платонович размышлял теперь над тем, что мог иметь в виду Клим Дезера. «За все, что творится в твоей Кохановке». Может, дошел до парткома слух о той дурацкой истории с представителем милиции? Надо же: в дни уборочной, когда язык с плеча не снимаешь, а люди находят время выкидывать разные коники-макогоники. Кто же это сотворил? Впрочем, Кохановка — она и есть Кохановка. В ней немало хлопцев и девчат, которые ночи не доспят, а отчебучат иногда такое, что потом весь район потешается.
Ой, Кохановка, Кохановка! Нет милее и нет постылей тебя! Будто вся судьба Павла, вся жизнь, все боли и все радости, все прошедшее, настоящее и будущее — все собралось в этом привычном родном слове «Кохановка». Почему? Не потому ли, что украинское слово «кохання» означает «любовь»? Кто его знает…
Сколько же красивых сел на Подолии! Павел Ярчук, когда был на войне, видел чужие земли, дальние страны. Говоров много слышал, песен, вникал в смысл жизни встречавшихся ему добрых людей (добрые люди везде есть). Там, за границей, в который раз убедился, что все люди умеют страдать на всю глубину потрясений и кипуче радоваться, когда жизнь дарит им счастье.
И все-таки ни один виденный Павлом уголок земли не мог сравниться с Подолией, где села купаются в свежей зелени садов, где поля каждый год, кроме нынешнего, дремлют в благостном изнеможении под тучными хлебами, где пахучий ветерок с Буга — словно дыхание цветов. И люди здесь по-особенному душевные, веселые, говор их похож на песню, а их песни — что сладкие грезы. Все здесь заставляет улыбаться, чувствовать в сердце тепло и любовь.
Но самое красивое из красивых сел Прибужья — это Кохановка. И вряд ли кто-нибудь станет спорить, если пройдется по тенистым, в акациях и ясенях, улицам села, если увидит, как нежатся в шелесте садов белостенные, с примесью мягкой голубизны, опрятные хаты, если прогуляется по берегу спокойной Бужанки, в чистые воды которой задумчиво смотрят с берегов старые вербы. И клуб добрый в Кохановке и богатый колхозный двор с чеканными постройками.
На людей кохановских тоже не приходится жаловаться. Правда, всякие есть. Есть и настолько неуемно-веселые, что их неожиданные проделки нередко боком выходят председателю колхоза Павлу Ярчуку. Не успело, скажем, село натешиться над сыном Сереги Лунатика — Федотом, которого Андрей с Маринкой заставили выволочь на людские глаза украденные доски и разворотить при этом плетень (Федот потом три дня «хворал», не работал), как новая «кумедия» всколыхнула Кохановку. Приехал в колхоз инструктор обкома Арсентий Никонович Хворостянко — то ли сына (техника-строителя) навестить, то ли по другому делу, — Павел Платонович так и не разобрался, ибо Хворостянко чем-то отравился во время завтрака у Лунатиков. И чтобы побороть свою хворь, решил Арсентий провести денек наедине с удочками. Но в Бужанке рыба в жару клюет плохо, и Павел Платонович разрешил гостю посидеть с удочками у колхозного пруда с карпами и карасями, где рыбалка для всех простых смертных запрещена.
…В ведре, рядом с сидевшим на берегу рыбаком, плескалось уже несколько карасей. Хворостянко бдительно караулил поплавки двух удочек, но вскоре ему понадобилось куда-то на минутку отлучиться, а когда вернулся, увидел, что оба поплавка исчезли под водой. В это время мимо проходили на сенокос женщины. Не обращая на них внимания, Арсентий Хворостянко проворно кинулся к удилищам, сделал лихие подсечки и без особого искусства выхватил на берег… Что это?! У рыбака от изумления страшно перекосилось лицо, а женщины за его спиной взвизгнули и зашлись истеричным хохотом. На одном крючке удочки прочно «сидел» соленый огурец, а к другому была прихвачена резинкой запечатанная четвертиночная бутылочка, наполненная какой-то жидкостью.
Женщины, уронив вилы и грабли, катались от хохота по траве, а Арсентий Хворостянко ошалело Пялил глаза на пруд, тщетно пытаясь уразуметь, как случилось сие чудо.
Развеселившиеся женщины заставили незадачливого рыбака проверить содержимое четвертинки. Там оказалась крепчайшая самогонка! Когда он вылил ее на траву и поднес зажженную спичку, самогонка вспыхнула синим пламенем.
А ведь ни одного водолазного костюма во всей округе нет. Павел Платонович в этом совершенно уверен. Каким же образом и кому удалось устроить такой воистину цирковой номер?
Арсентий Хворостянко потом добродушно посмеивался над шуткой, удивлялся искусству неизвестного «водолаза», а когда поехал в райцентр, все-таки строго внушил начальнику милиции, что в Кохановке безнаказанно занимаются самогоноварением.
На второй день в селе появился уполномоченный районной милиции. Павел Платонович даже отдал в его распоряжение свою машину — «козлика», чтоб удобней было с самогонщиками бороться. И видать, добре боролся представитель власти, ибо крепко притомился, вечером уснул прямо в машине. Когда уполномоченный ложился спать, «козлик» стоял под акациями у конторы правления колхоза. А ночью будто волки сожрали машину.
Обнаружился «козлик» вместе с представителем милиции на самом краю села, возле домика погибшего в войну учителя Прошу, за которым доглядывал Кузьма Лунатик. Кузьма, оказывается, приготовил там закваску и, заночевав в домике, готовился к «священнодействию». Утром вышел по воду, чтоб охладить змеевик, и тут же у порога врезался пустыми ведрами в радиатор машины… Звон, крик! Представитель милиции проснулся, продрал глаза и, увидев сквозь открытую дверь хатенки куб со змеевиком, заржал дурным смехом. Решил, бедолага, что и во сне ему самогонщики мерещатся.
А вечером колхозный грузовик увозил в райцентр полкузова змеевиков и кубов, изъятых в Кохановке представителем милиции и членами сельсовета.
Неужели и за все это спросят с председателя колхоза?
Сквозь открытое окно в комнату вливалась паркая теплынь ночи. Слышалось далекое бормотание грома. Но тщетные надежды. И без того редкие этим летом дожди обходили земли района стороной. Хлеба горели, не шли в рост кукуруза и свекла, даже огороды стали чахнуть. Шестьдесят третий год грозил бесхлебьем.
Снова погромыхало. Павел Платонович приподнялся на локтях, пытливо посмотрел на небо. Увидел, как на мгновение ощерилась зарницей ночь, и опять донесся перекатистый рокот, будто сама темень ворчала черной волчицей. Почему-то вспомнилось детство, суеверный страх перед раскатами грома и успокаивающие слова матери.
Вдруг в памяти воскресли и другие слова ее, которые сказала она Павлу перед самой смертью:
«Сыночек, я б тебе небо пригнула, если б могла…»
Как сохранила память эти слова матери? Тогда ему было только шесть лет, а сейчас за сорок. Образ матери давно растаял в быстротечной реке времени, и нет даже фотографии в доме, ибо веровавшая в бога Марина, жена Платона Ярчука, считала святотатством оставлять для потомков лик земной женщины нетленным. Только иногда во сне является Павлу мать: она водит его, маленького, по кохановским левадам, каких уже давно нет, водит по полям и лесу и говорит что-то доброе, мудрое, успокаивающее. А проснется Павел, и не может припомнить ни лица матери, ни ее слов.
Ой, мамо, мамо. Твой сын годами уже тебя догоняет, а ему кажется, что жизнь его только начинает разбег и впереди ждет его… Кто знает, что ждет Павла? Позади море сердечной боли! Буря была б, если б все вздохи его объединились в один. А сколько невыплаканных слез? И все потому, что в тридцатых годах погиб с мукой в сердце отец, что растоптали мечту Павла и не выучился он на летчика, что Настя — любовь его несчастная — стала женой другого. А потом война… Затем немыслимо трудные послевоенные годы.
И струились, струились в бессонную ночь мысли Павла Ярчука, сплетаясь в причудливую вязь, сквозь которую он видел разные события и судьбы разных людей.
32
Павел Платонович направился в Будомир один — без Тараса Пересунько, который уже второй день хворает. Приехал Павел в райцентр намного раньше назначенного срока, надеясь застать Степана Григоренко еще дома. Как-никак Степан Прокопович приходится ему двоюродным братом: не станет же он скрывать, какие «сюрпризы» ждут Павла Ярчука на бюро.
Жил Степан Прокопович с семьей в добротном белом домике с крыльцом, густо увитым диким виноградом. Привычного подворья перед домом не было, а только песчаные дорожки между цветочными клумбами, кустами сирени и садовыми деревьями. Это жена Степана Саида с дочуркой Галей так украсили небольшой клочок земли, обнесенный невысоким штакетником. С весны и до осени ярко цвели на нем, приходя на смену друг другу, цветы, удивляя людей и радуя птиц. Не зря каждую весну именно возле дома Степана, как утверждал он, раздавалась первая в Будомире, еще робкая соловьиная трель.
К огорчению Павла, он уже не застал Степана Прокоповича дома. И Саиды не было — ушла в больницу, где она работала врачом. Открывшая дверь Галя, протирая заспанные раскосые глаза, смущенно приглашала «дядьку Павла» в хату, но он, узнав, что хозяев в хате нет, отказался и, поласкав рукой чуть скуластую смуглую мордашку Гали, вернулся к стоявшему у калитки «козлику» и поехал к центру Будомира.
В большом дворе, примыкавшем к двухэтажному зданию парткома, Павел Платонович увидел голубую «Волгу», и сердце у него екнуло. Он узнал машину секретаря обкома. А когда зашел в приемную Степана Григоренко, молодая секретарша с копной светлых волос на голове встревоженно сказала Павлу:
— Федор Пантелеевич будет присутствовать на заседании бюро.
Тут же выглянул в дверь Степан Прокопович.
— Принесите сводки заготзерна, — сказал он секретарше, а затем перевел озабоченные глаза на Павла Ярчука, и Павлу стало не по себе от хмурого, укоризненного взгляда Степана.
— Ты чего так рано? — спросил, наконец, Григоренко. И, не дожидаясь ответа Павла, сказал: — Раньше двенадцати не понадобишься. Можешь идти в чайную завтракать. — И резко захлопнул дверь.
Павел, досадливо крякнув, вышел на улицу. Не торопясь, расслабленной походкой, ощущая в груди тесноту, направился к чайной.
Вскоре он сидел за столом в углу пустынного еще зала и с безразличием рассматривал меню. А когда подошла официантка, заказал яичницу с колбасой и бутылку пива.
Завтракал, не ощущая вкуса еды. Тревожила Павла Платоновича предстоящая встреча на бюро с секретарем обкома партии. Знал он, что Федор Пантелеевич бывает крутоват с провинившимися коммунистами.
В памяти еще свежа была история с бывшим заместителем председателя кохановского колхоза Василем Васютой — его, Павла, первым заместителем. Казалось, бывалого и тертого Василя ничто и никогда не могло сломить. Чувствовал он себя в колхозе хозяином больше, чем Павел Платонович. А однажды крепко выпивший Василь прямо сказал:
— Спихнул бы я тебя, Павел, с председателя, да твои ордена людям глаза ослепили. Мешаешь мне развернуться.
— А ты поделись со мной своими планами, — насмешливо сказал ему тогда Павел, поглаживая черные усы. — Если поверю, что сумеешь «развернуться» лучше, чем я, — сам людей уговорю избрать тебя председателем. Только чур тогда держи меня в заместителях.
— О, це дело! — Василь Васюта, с недоверием заглянув в карие глаза Павлу, все-таки начал объясняться: — Нет у тебя, Павел Платонович, хитрости и подхода к руководителям. А у меня есть! Я могу быть всяким, каким надо руководству! Демократия? Давай демократию! Умею признавать вину, каяться и так критиковать себя на собраниях, что аж мякина из меня сыплется. План? Дам план!.. А главное — по-человечески надо приглянуться начальству. Знал я одного такого начальника, когда был деятелем заготскота. Жалуется он, допустим, на какую-нибудь болезнь, а я тоже уже болен! Так ему распишу свои болячки, что смотрит он на меня, как на брата родного. Или он силой хвалится. И я тоже силач! Только чуть-чуть поменьше… А то еще станет доказывать, что правдив он и честен. Но дудки! Я почти такой же! Почти — заметь это. Одним словом, я всякий, какой нужен, но не лучше начальства!
Павел Платонович, натопорщив усы и сдвинув брови, ответил тогда Василю:
— Все эти твои способности можно пропечатать одним словом: подлость! Удивляюсь, как такому субчику удалось пролезть в партию?
— Но-но! Потише на поворотах! — пьяно заорал Василь, размахивая кулаками. — Я тебе по-дружески душу раскрыл! Не плюй туда, голова!
Павел понял, что надо немедленно освобождаться от Василя Васюты. Но вскоре уехал в Киев на Выставку достижений народного хозяйства, а Васюта на время остался его замещать.
Случилось это в первую же весну после того, как чьи-то горячие головы посоветовали колхозникам продать свои коровы в колхоз, с тем чтобы потом брать молоко на общественной молочарне. Не обошло это «поветрие» и Кохановку. Скрепя сердце многие кохановчане отвели своих буренок на колхозную ферму. Кузьма Лунатик тоже спровадил свою коровенку Комету. А весной, как раз тогда, когда Павел Платонович укатил в Киев изучать выставку, Комета испустила дух — то ли от бескормицы, то ли от старости, сказать трудно, ибо Василь Васюта распорядился не подпускать ветеринара к подохшей корове, а немедля вызвать Кузьму Лунатика.
По дороге на ферму Кузьма узнал от людей, что Комета подохла, и насторожился. Увидел ее издали, лежавшей за изгородью. А вокруг Кометы прохаживался на кривых ногах Василь Васюта, одетый в юфтовые сапоги, галифе и потертую шоферскую кожанку.
— Ваша? — строгим тоном спросил Васюта, испепеляя старика негодующим взглядом и указывая пальцем на Комету.
— Кто? — будто ничего не видя, переспросил Кузьма.
— Корова!
— Корова?
— Да!
— Какая корова?
— Вот эта! Зеньки протрите!
— А-а, эта… Эта в прошлом годе была моя, а как продал вам, так стала ваша. — Кузьма невинными глазами смотрел в крывшееся красными пятнами лицо Василя Васюты.
— Ты порченую нам продал! — перейдя на крик и обращаясь к старику уже на «ты», Василь угрожающе помахал кулаком над головой.
— У меня была исправной, — с невозмутимостью отвечал Лунатик.
— Не валяй дурочку! Возвращай в колхоз гроши!
— Нет грошей. Истратил.
— Это меня не касается! Продавай что-нибудь и вноси в кассу. Иначе!..
За этим «иначе» старому Кузьме почудились бог весть какие беды, и он взмолился:
— Побойся Христа, Василь Еремович!
Василь Васюта Христа не испугался, но смилостивился:
— Страховка у тебя была на корову?
— Была.
— Иди в канцелярию, оформи документ на страховку, потом поезжай в район, получи страховые гроши, доклади к ним из своего кармана и внеси в кассу!
На второй день Кузьма Лунатик, не поймав попутной машины, пешком направился проселочными дорогами в Будомир Погода стояла солнечная, мягкий ветерок гнал по небу ослепительно белые с задымленными краями облака. С вышины падал неумолчный звон жаворонков. Вдали черными жуками ползали по полям тракторы. Кузьме шлось легко и даже весело. Он уже смирился с тем, что придется ни за что ни про что раскошелиться, и с любопытством посматривал на свежую черноту засеянной земли, вдыхал ее пряную влагу и ощущал, что в нем радостно пошевеливается давно уснувшая душа хлебороба.
На стыке дорог, ведущих из Яровенек и из Лопушан, Кузьму Лунатика догнала голубая «Волга» и резко затормозила рядом с ним. Из машины выглянул шофер — уже не молодой, но и не старый дядька с приветливым, тронутым морщинами лицом. Измерив старца любопытно-изучающим взглядом, он спросил:
— Папаша, скажите, будь ласка, на Будомир как проехать?
— Прямехонько до леса, а потом вправо на шоссейку, а она, кроме как в Будомир, никуда не приведет, — охотно и бодро ответил Кузьма.
— Спасибо. А вы куда путь держите? — поинтересовался шофер.
— Я тоже в Будомир.
— Так садитесь, подвезу!
— Мне? В легковую? — изумился Лунатик. — Я ж в легковой не умею ехать! — И проворно уселся рядом с шофером. Захлопнул дверцу, поерзал на сиденье и, когда машина тронулась с места, сказал с радостной благодарностью: — Вот спасибо тебе, хлопче! Есть же добрые люди и промеж шоферов.
Не подозревал старый Кузьма, что шофер этот не кто иной, как секретарь обкома партии Федор Пантелеевич Квита.
— Живете в Будомире? — поинтересовался Квита.
— Нет, из Кохановки я. А в Будомир иду страховку получать.
— Беда стряслась?
— Ага. Корова в колхозе подохла.
— В колхозе? А при чем тут страховка?
— Моя корова подохла. Комета!
— В колхозе ваша корова? — Квита поглядывал на своего случайного собеседника с сомнением. — Не понимаю.
— Я и сам, хлопче, не понимаю. Как была жива коровка, так была не моя, колхозная. А как сдохла, так сразу же стала моя. — И Кузьма обстоятельно рассказал, как все было.
— А ваш Васюта не прав, — посмеиваясь, сказал Квита и, скосив на деда серый глаз, посоветовал: — Пожалуйтесь на него.
— Нет, человече добрый, — мотнул своей иконописной головой Кузьма. Мы жаловаться не привыкли: с начальством загрызешься — наплачешься потом.
— А вы все-таки попробуйте.
— И пробувать не буду! — категорически ответил старик, а затем ехидно спросил: — А ты на своего начальника пойдешь жаловаться?
— У меня начальник хороший.
— То тебе повезло, — Кузьма завистливо вздохнул.
— Ну, тогда знаете что? — настаивал на своем Квита. — Зайдите к секретарю райкома и не жалуйтесь, а посоветуйтесь. Спросите у него, правильно ли будет, если вот так случилось и с колхозника требуют деньги.
— Не пойду. Будет секретарь дохлой коровой заниматься! У него целый район на плечах. Да еще подумает, что я по знакомству к нему. Степка же Прокопов — наш, кохановский. Я его с пеленок знаю.
— Тем более удобно посоветоваться.
— Ты так думаешь? — заколебался Кузьма. — Треба покумекать.
За разговором не заметили, как приехали в Будомир — старинное, пыльное местечко, раскинувшееся на буграх. Квита умышленно остановил машину напротив рынка, и Кузьма, прежде чем проститься, достал из-за пазухи завязанный в узелок платочек и неторопливо стал развязывать его зубами, кося глаз на шофера, надеясь, что тот великодушно откажется от денег. А секретарю обкома было интересно узнать, сколько шоферы «лупят» с попутных пассажиров. Наконец старик протянул ему рублевку. Квита будто заколебался, а затем сказал:
— Не надо. Вам и так гроши нужны.
— Вот спасибо, человече добрый! — Кузьма поспешно спрятал рублевку в платок и ушел.
Минут через пять Федор Пантелеевич сидел в кабинете Степана Григоренко и рассказывал, какую прелюбопытную историю услышал он сегодня. А Степан Прокопович и не подозревал, что речь идет о случае, происшедшем в его районе.
— Вот гад! — бурно реагировал он на рассказ секретаря обкома. — Я бы с такого руководителя колхоза голову снял!
В это время в кабинет вошла секретарша, положила на стол папку с какими-то бумагами и, бросив виноватый взгляд на секретаря обкома, спросила у Григороенко:
— К вам никого не пускать? А то там какой-то дедок из Кохановки очень просится.
— Пошлите его ко второму, — ответил Степан Прокопович.
— Говорит, что надо только к вам.
— Да прими ты его, — вмешался в разговор Федор Пантелеевич, угадав, какой дедок сидит в приемной. — Мне даже интересно послушать, с какими делами ходят к тебе колхозники. — И, взяв газету, уселся на диван.
— Зовите! — сказал секретарше Григоренко.
Тут же в кабинете появился Кузьма Лунатик.
— Доброго дня тебе, Степан Прокопович! — торжественно поздоровался он, сдернув с большого лысого черепа картузишко и подозрительно глянув глубоко провалившимися глазами на человека, который сидел на диване и читал газету, закрывшись ею.
— А-а, Кузьма Иванович! Здравствуйте! — Степан вышел из-за стола, потиснул высохшую, в черных бороздках руку старика и усадил его на стул. Какими ветрами?
Кузьма, шмыгнув тонким и багровым носом, с ходу начал «держать совет»:
— Вот скажи мне по чести, Степан Прокопович… Допустим, осенью ты купил себе корову, а весной она у тебя подохла. Мог бы ты стребовать гроши?..
— Минуточку! — вставая со своего места, перебил Григоренко Кузьму, и в его голосе прозвучала тревога. Сверкнув пронзительным взглядом на отгородившегося газетой Федора Пантелеевича, он, выпучив черные глаза и налившись румянцем, зловеще-тихо спросил у Кузьмы: — У вас корова подохла?
— Нет-нет! — старик испуганно замотал лысой головой. — Немае у меня никакой коровы! Я так, к примеру, хотел спросить.
— Не крутите! — нетерпеливо рыкнул Степан Прокопович и тихо пристукнул кулаком по столу. — Подохла у вас корова?!
— Отцепись ты от меня, человече добрый! — заныл Кузьма и тоже поднялся. — Ничего у меня не дохло! Отцепись! И нет у меня времени с тобой разговоры разговаривать! — старик накинул дрожащими руками на вспотевшую бледную лысину картуз.
— Обождите, Кузьма Иванович, — уже сдержанным голосом сказал Григоренко, выходя из-за стола. — Давайте поговорим спокойно. Не делайте из меня дурака перед секретарем обкома партии.
Тут Федор Пантелеевич не выдержал и, опустив газету, взорвался надсадным хохотом. А Кузьма, узнав вдруг «шофера», рванулся к двери.
Степан Прокопович догнал деда на выходе из приемной и почти силком водворил его обратно в кабинет, где на диване все еще корчился от смеха Квита.
— Покажите страховые бумаги! — потребовал Григоренко.
Когда Лунатик протянул ему бумаги, Степан схватил их, разорвал и швырнул в корзину.
— Что ты наделал! — плаксиво заорал Кузьма. — То ж гроши!
— Не волнуйтесь, Кузьма Иванович, — Степан уже улыбался спокойно и виновато. — Езжайте домой и считайте, что никаких грошей вы никому не должны. А этот Васюта (Степан знал, что Павел Платонович в Киеве) придет к вам домой и извинится.
Кузьма даже не поблагодарил Степана Прокоповича. Бороденка его затряслась, близко поставленные глаза побелели и заволоклись слезой. Сунув от растерянности картуз за пазуху, он ушел из кабинета поникший, будто не обрадованный тем, что произошло.
Павел Ярчук хорошо знает, чем кончилась эта грустная и в то же время смешная история. Василя Васюту вызвали на бюро парткома, согнали там с него сто потов, записали «строгача» и сняли с работы. Васюта взъярился на такую тяжкую меру наказания. Поехал с жалобой в обком партии. Там внимательно разобрались в его деле, взвесили, что ранее Василь Васюта уже трижды наказывался в партийном порядке, и по предложению Федора Пантелеевича Квиты исключили его из рядов партии. А секретарю парткома Степану Григоренко указали на слабое изучение руководящих колхозных кадров.
Так что ждать пощады от секретаря обкома Павел Платонович не мог, хотя и особой вины за собой не чувствовал.
33
— И еще один вопрос повестки дня. Не знаю даже, как его сформулировать, — Степан Прокопович, навалившись широкой грудью на стол, пробежал взглядом по лицам членов бюро парткома, а затем остановил укоризненные глаза на Павле Ярчуке. — Мы тут уже много говорили о недороде и о том, что наш долг — изыскать максимум возможностей, чтобы выполнить план хлебопоставок. Всем вам известно, что поступили указания ограничить в колхозах нормы выдачи зерна на трудодень. Но нашлись проворные председатели, я имею в виду товарища Ярчука, которые поторопились раскошелиться и рассчитаться за трудодни более высокими нормами. — Степан Прокопович снова неприязненно глянул на Павла, и лицо его будто потускнело, а гулко-полый голос стал тихо-глуховатым. — Меня поражает близорукость товарища Ярчука, его неумение мыслить категориями государственных интересов. Мы на эту тему недавно обстоятельно беседовали с секретарем кохановской парторганизации товарищем Пересунько.
— А почему он не на бюро? — поинтересовался Федор Пантелеевич Квита. Секретарь обкома сидел рядом со Степаном Григоренко.
— Болен Пересунько, — хмуро ответил Павел. — Отравился чем-то.
Наступила короткая тишина. Ее нарушил голос Степана Григоренко:
— Вам слово, товарищ Ярчук!
Павел Платонович поднялся со стула, сдвинул его вперед себя и цепко ухватился обеими руками за ребристую спинку. Нервически пошевелил черными усами, сумрачно обвел взглядом знакомые, сосредоточенные лица членов бюро и остановил глаза на секретаре обкома.
Федор Пантелеевич смотрел на Павла вопрошающе и как будто с грустью, и Павел, глубоко вздохнув, заговорил, обращаясь, казалось, только к одному секретарю обкома:
— Меня тут корят тем, что я не хлопочу об интересах державы… Вначале скажу, почему я… а вернее, не только я, но и правление колхоза…
— Ты за правление не ховайся, — спокойно бросил фразу Клим Дезера, и за этим спокойствием Павел уловил что-то злое, вызывающее.
— Я не ховаюсь, — Павел досадливо посмотрел на Дезеру — уже не молодого человека, у которого кожа лба и бесцветные брови складочками лезли вверх, к волосам. — И готов лично отвечать, если где нахомутал. А пока объясню, как есть. Когда зерно было вывезено согласно плану государству, мы решили дать хлеб колхозникам, потому что в иных семьях давно сусеки подметены, а жатва в самом разгаре, и людям надо кормиться не как-нибудь. Вот и выдали за полгода аванс.
— Хороший «аванс»! — снова послышался голос Дезеры — на этот раз со смешком. — По килограмму зерна!
Степан Прокопович сердито постучал по столу карандашом. А Павел, сверкнув на Дезеру потемневшими глазами, ответил дрогнувшим от негодования голосом:
— Неужели так жирно? И чему вы ухмыляетесь, товарищ Дезера? От этого горючими слезами надо плакать! Или, может, вы не знаете, какие гроши стоит килограмм зерна? Вас бы за такое жалованье заставить работать!
— Товарищи, это не дело, — вмешался в перепалку секретарь обкома. Дайте председателю колхоза высказаться. Товарищ Ярчук, — обратился Федор Пантелеевич к Павлу, — скажите, пожалуйста, вас предупреждали, чтоб не спешили с авансированием?
— Нет. Никаких директив не было. — Павел Платонович отпустил спинку стула и сделал рукой жест в сторону секретаря обкома: — Да и сами вы говорили на пленуме, что хватит руководителям колхозов быть только хлопчиками при директивах, а надо выбиваться в хозяева. И колхозники сейчас, случай что, сразу же за грудки берут председателя. Ведь раньше как было? Пляши под дудку района, делай все, что тебе велит секретарь райкома, и до смертной доски будешь сидеть в председателях. А теперь по-другому: не нравится людям голова колхоза, на первом же собрании дадут по шее.
— Как же тогда этот проходимец Васюта держался у вас заместителем? спросил Федор Пантелеевич, и Павел уловил в серых глазах секретаря обкома устрашающий холодок. — Я не ошибаюсь, Васюта из Кохановки?
— Да, — сникшим голосом ответил Павел. — Присоветовали нам Васюту в районе, а мы сразу раскусить его не сумели. Моя вина… Могу объяснить подробнее.
— Не надо, — Федор Пантелеевич поднялся со своего места и стал неторопливо снимать с себя белый пиджак из легкой парусины. — С Васютой ясно. Продолжайте по существу. — И секретарь обкома, повесив пиджак на спинку стула, уселся на место. В белой рубашке с короткими рукавами он будто помолодел.
Павел Платонович почувствовал, что и его одолевает духота, но снять пиджак не решился.
— Хорошо, — продолжил он. — Только я хочу высказать все, что у меня накипело. Может, я чего-нибудь не понимаю и в другой раз промолчал бы, чтоб не отнимать у стольких людей время. Но раз тут присутствует сам секретарь обкома партии, скажу обо всем, от чего меня, как хлебороба, мутит.
— Очень хорошо! — откликнулся Федор Пантелеевич. — Между коммунистами только такие разговоры и должны быть.
— Вот я и говорю. — Павел бросил беспокойный взгляд на технического секретаря — полного мужчину с рыхлым бабьим лицом, который сидел за отдельным столиком и вел протокол. — Я, конечно, согласен, что раз держава наша из-за недорода попала в силок, надо ее выручать. Всем нам ясно, что такое обязательства на международном рынке и какое значение имеет для других стран наша им помощь хлебом. Но не могу уразуметь, как же мы хозяйничаем, если только один неурожайный год вышиб нас из седла? А если два-три года подряд будет недород? Куда же смотрят планирующие органы?
И вот еще какая гложет меня думка. Мы строим коммунизм. Мы хотим, чтобы на нас равнялись все народы мира. Так, может, будет правильным сначала построить у себя такую жизнь, чтоб все видели, каков он есть, коммунизм, и знали, на что надо равняться? Другими словами, надо не только пшеницей, но и примером нашей жизни помогать другим странам.
Павел Платонович на минуту умолк, собираясь с мыслями. В кабинете стояла такая тишина, что слышно было, как в руке технического секретаря, записывавшего выступление Ярчука, торопливо шуршала авторучка.
— Далее, — продолжал Павел. — Ни для кого не секрет, что многие крестьяне смотрят сейчас на землю чертями. А почему? Ответить можно коротко, а можно и подробнее. Если коротко, то скажу: не кормит земля мужика. А если подробнее, то тут разговор большой. Вот только за формулировки боюсь. Вылетит слово, сядет на карандаш если не нашему секретарю, то такому «принципиальному» товарищу, как Дезера, — потом не открестишься.
— Сущность, сущность важна! — довольно засмеялся Дезера и смахнул ладонью капельки пота со складок лба.
— Так вот, по сущности. В Киеве я был в гостях у одного своего однополчанина. Живет он, дай бог мне при коммунизме так жить.
— А нельзя ли без бога на бюро парткома? — шутливо заметил Степан Григоренко, сверкнув белыми зубами.
— Виноват, к слову пришлось. — И Павел Платонович конфузливо шевельнул усами. — Живет однополчанин хорошо. Работа интересная — научный сотрудник. Семья дружная, квартира просторная, свой автомобиль, дача на Днепре, лодка большая с мотором. И вот в разговоре о селе обронил он слова, которые за живое меня задели. Сказал мой товарищ, что у мужика душа волосьем поросла от жадности, от кулацкой психологии и всякое такое прочее. Оказывается, он когда-то принимал участие в коллективизации да в раскулачивании и судит о крестьянине по тем временам; запомнилось ему, с каким трудом многие мужики расставались с личным хозяйством. Не стал я товарищу перечить, а сказал в шутку, что пора уже личные автомобили, дачи, моторные катера обобществить, с тем чтобы все люди пользовались ими поочередно. Не понравилось! Заскулил. Стал доказывать, с каким трудом наживал он имущество. Тогда я ему напомнил, что многие мужики во время коллективизации рассуждали точно так же; ведь их единоличное хозяйство тоже не с неба им свалилось.
К чему я все это говорю? А к тому, что крестьянин теперь совсем другим стал. Кроме колхоза или совхоза, не мыслит он себе другой формы хозяйничания на земле. Он действительно хозяин, ему даже вручили акты на вечное пользование землей. Но вот беда: не дают селянину хозяйничать. Скажу о последних годах: за него стали думать в районе, в области и выше. Да вы не хуже меня знаете: не задание дают колхозу, сколько и какой продукции он должен продать государству, но и обязательный план посевных площадей и план развития животноводства. Водят мужика, как дите малое, за руку и говорят: это сей тут, а это там, а этого вовсе не сей; такую скотину разводи, а такую не разводи. И мужик обязан делать все, что ему говорят, хотя душа его немым криком кричит, ибо сам он лучше иных знает, что и как ему надо делать, чтобы и государственные планы выполнить и самому не остаться в накладе. Для этого, между прочим, в колхозах есть и ученые-агрономы, и зоотехники, да и мы, председатели, вместе с правлением тоже не без царя в голове. Ведь, если сказать правду, не засуха виновата, что в этом году район остался без пшеницы! Шаблон в земледелии виноват. Ликвидировали по чьему-то приказу черные пары и сразу сели на мель.
А попробовали б отпустить колхозы «на беспривязное содержание» да при этом установили между колхозами и государством нормальные экономические взаимоотношения, то есть дали колхозам твердые планы, тогда вопрос об агрономии и вообще о ведении сельского хозяйства решился б сам собой.
Павлу Платоновичу вдруг показалось, что говорит он слишком долго, да и напряженная тишина в кабинете смутила его. Он испуганно посмотрел на наручные часы, хотя не засек время, когда предоставили ему слово. Кинул вопросительный взгляд на Степана Григоренко, но тот, склонив голову на руки, спрятал под ладонями глаза. Посмотрел на секретаря обкома и увидел, что он, нахмурив брови, делал в блокноте какую-то запись. Обвел взглядом членов бюро парткома. Встретился с подбадривающими глазами редактора газеты — молодого губастого парня с рыжими вьющимися волосами, уловил зловещую улыбку на бледном лице Клима Дезеры и заметил, как нервно вздрагивают ноздри его тонкого носа.
Ощутив горьковатость во рту, продолжил речь, будто в омут нырнул:
— И решится тогда главнейшая проблема, которая все время держит нас за грудки. Суть ее в том, что крестьяне, работая целый год в поле или на ферме, не знают, что они получат за свой, прямо скажу, не легонький труд. Ему, селянину, говорят, что он хозяин земли, а этот хозяин не имеет права распорядиться плодами трудов своих, потому что, кроме основного плана поставок, ему потом дают еще несколько сверхпланов.
В этом — главнейший корень наших бед, — продолжал Павел Ярчук, глядя перед собой страждущими глазами. — А каждый корень, если он живой, дает ростки. Люди смотрят на землю, как на недобрую мачеху, и надеются только на побочные заработки, а сыновей и дочек своих стараются скорее выпроводить из села, подальше от земли, от крестьянской судьбы. И бегут селянские дети в города на любую работу, становятся там портными, малярами, каменщиками, официантами, сборщиками утильсырья — кем угодно, только бы не быть хлеборобами.
34
Степан Прокопович слушал Павла Ярчука с затаенным дыханием, втянутой в плечи головой; будто стоял под грушей, с которой падали плоды, и ждал, что вот-вот тот же Павел обрушит с самой вершины дерева наиболее крупный, твердый от незрелости плод и оглушит до беспамятства.
Глубоко честный и независимый ум Степана Григоренко все-таки плутовал с самим собой. Каждое слово Павла обжигало выстраданной сердцем и выношенной в душе правдой. И в то же время Степан Прокопович досадовал, что Павел Ярчук при всей его рассудительной мудрости решился на такое рискованное выступление в присутствии секретаря обкома партии. Как отнесется к этому выступлению Федор Пантелеевич? Ведь то, о чем говорит Павел, зависит не только от секретаря обкома. Во всяком случае, Степан Прокопович не будет торопиться высказывать свое отношение к честной исповеди Павла. А может, не так уж прав Павел Ярчук? Может, и он, Степан, мыслит сейчас ограниченно? Ведь там, наверху, денно и нощно думают, как лучше и быстрее вывести сельское хозяйство страны на широкую дорогу. Сколько решений, постановлений, реформ! А дело?.. Больше бюрократической лихорадки, чем дела. Если человек тонет, его надо спасать, а не толковать о его добродетелях или пороках.
Ох, как не легко быть секретарем парткома! А еще считает себя образованным марксистом — высшую партийную школу окончил. Может, и вправду пора на пенсию?
Горькие Мысли затуманили Степану Прокоповичу голову, надвинулись на него набатным звоном, и он на какое-то время потерял самого себя, будто забылся во сне. Очнулся от тишины. Увидел, что Павел Ярчук сидит на своем стуле с побелевшим от волнения лицом И, разглаживая рукой усы, виновато смотрит в пол.
Степан Прокопович тяжело вздохнул и вопросительно посмотрел на секретаря обкома. Но тот что-то записывал в блокноте.
— Будем обмениваться мнениями? — нерешительно спросил Степан Прокопович, продолжая косить темный глаз на Федора Пантелеевича.
— Позвольте мне сказать! — раздался голос Клима Дезеры.
— Пожалуйста, — Степан Прокопович окинул Дезеру настороженным взглядом.
Дезера встал, невысокий, жилистый, наморщил лоб, отчего светлые брови почти спрятались под низко стриженные волосы.
— Давно я в партии, — раздумчиво начал Дезера, устремив глаза к потолку, — но с таким, с позволения сказать, случаем сталкиваюсь впервые. Голова колхоза коммунист Ярчук, оказывается, не знал, что не имеет права самовольно, без разрешения парткома, выдавать колхозникам аванс. Не знал… Может, вы, Ярчук, не знаете также, что зерно — золотой фонд государства и что его расходование должно быть под контролем партии? Вы же не первый год на посту председателя! — голос Дезеры набирал звенящую силу, а в глазах разгоралось благородное негодование. — И, не понимая таких элементарных вещей, Ярчук еще дает нам рецепты, как надо строить коммунизм. Больше того, ему не нравится, как партия осуществляет свою руководящую роль на селе! За что же ратует Ярчук? За анархию! Он, видите ли, лучше знает, что и где ему надо сеять. Но при этом не думает: надо ли в интересах государства сеять то, что ему хочется? А как понимать требование Ярчука о том, чтобы «отпустить колхозы на беспривязное содержание»? Как понимать?! — на лице у Дезеры было написано искреннее негодование. — Вдумайтесь, товарищи, в смысл всего этого! Ярчук плачет, что держава обижает крестьян, не позволяет им распоряжаться плодами трудов своих… На партийном языке такие заявления надо квалифицировать как мелкобуржуазный уклон! Ибо у нас нет различия между интересами колхозников и интересами государства вообще. Если государство берет зерно на какие-то потребности, то удовлетворение этих потребностей в равной мере и в интересах крестьян!
В заключение хочу сказать, — Дезера понизил голос, как бы придавая своим словам особую значимость, — что я искренне возмущен эгоистическим, насквозь пропитанным кулацкой психологией, беспринципным и, я бы сказал, антипартийным выступлением товарища… Нет, какой он мне товарищ!.. Бывшего председателя кохановского колхоза Ярчука. — Дезера с трудом перевел дыхание и сверкающим от возбуждения взглядом посмотрел на секретаря обкома партии.
— Почему бывшего? — удивился Федор Пантелеевич.
— Я полагаю, товарищ секретарь обкома, — с оттенком торжественности, на высокой ноте, ответил Дезера, — что после услышанного здесь Ярчук не может оставаться ни в партии, ни на посту председателя! У меня, как члена бюро, по крайней мере есть такое предложение. — И сел, оглянувшись на членов бюро с чувством исполненного долга.
Федор Пантелеевич озадаченно посмотрел на Степана Григоренко и, видимо, уловил в его глазах растерянность. Потом повернулся к Дезере и спокойно спросил у него:
— Скажите, товарищ Дезера, сумеете ли вы объяснить кохановским колхозникам необходимость снятия Ярчука с поста председателя, если бюро поручит вам провести там перевыборы?
— Безусловно, — откликнулся Дезера.
— И уверены, что колхозники вас поддержат?
— Уверен. Авторитет партии в колхозах непоколебим!
— Ясно, — Федор Пантелеевич загадочно улыбнулся. — Значит, надеетесь на авторитет партии. — И обратился к Степану Григоренко: — Разрешите мне высказаться.
Когда Степан Прокопович предоставил ему слово, Федор Пантелеевич неторопливо поднялся со стула, повернулся к Павлу Платоновичу и спокойно, даже как-то буднично спросил:
— Товарищ Ярчук, вы в своем выступлении не только дали объяснения членам бюро парткома, но и поставили ряд вопросов лично передо мной. Так я вас понял?
Павел Платонович согласно кивнул головой и стал вытирать платком бледное вспотевшее лицо.
— Попробую кратко ответить на них. Итак, о коммунизме, как маяке для всех народов мира. Прав товарищ Ярчук, что надо примером своей жизни показывать всем странам, каков он есть, коммунизм… Но нельзя забывать, товарищ Ярчук, что коммунизм — это не только обилие продуктов в стране, серые глаза Федора Пантелеевича прятали под чуть вспухшими веками горьковатую иронию. — Вспомним, с чего мы начинали после революции?.. С нуля! Вы не хуже меня знаете историю нашего государства… А чего достигли? И тут не нужны пояснения. В прошлом темная и нищая Российская империя стала самым могущественным, самым просвещенным, самым демократическим государством. И селянские дети, товарищ Ярчук, бегут в города, между прочим, и для того, чтобы стать студентами университетов, институтов, техникумов. Селянские дети вместе с детьми рабочих управляют ныне государством, занимают командные посты в промышленности и в армии, являются творцами в науке и искусстве. Нет ли во всем этом воспламеняющего примера для народов, порабощенных капиталом? Еще какой пример!
Федор Пантелеевич перевернул листок блокнота, коротко посмотрел на какую-то запись и продолжил:
— Конечно, строить новое общество, какого еще не знало человечество, не так легко. Мы идем к коммунизму не только путями побед, какими, например, являются наши успехи в электрификации страны, строительстве тяжелой промышленности, боевом оснащении армии, завоевании космоса и многом другом. Бывают на нашем пути и ошибки и неудачи. Мы видим цель, но не всегда сразу находим верный путь к ней. Жертвы, ошибки и заблуждения заставляют скорбеть наши сердца, но прибавляют нам мудрости, а великая вера в будущее умножает нашу энергию… Мы также понимаем, что являемся Колумбами коммунизма, открывая всему миру пути к нему. Другие народы пройдут этими путями, уже не сталкиваясь с бедами, которые гнули нас во время поисков. Пример этому — успехи народов социалистического лагеря. Все это надо учитывать, товарищи, замечая в нашей жизни какие-то неполадки или сталкиваясь, например, с трудностями в колхозном строительстве.
Секретарь обкома умолк и склонился над блокнотом, лежавшим на краю стола. Никто не подозревал, что Федор Пантелеевич мучительно думал сейчас над тем, стоит ли говорить присутствующим здесь людям, что промахи в нашей сельской экономике родились еще в период коллективизации, когда допустили нарушения ленинского кооперативного плана, и это привело не только к ошибкам в ведении сельского хозяйства, но и к экономической и правовой дискриминации колхозников. Можно, конечно, сказать, но тогда как объяснить нынешнее положение, когда культ Сталина разоблачен? Ведь хорошо же начали после 1953 года. Почему не удержались? Не скажешь же, что там, наверху, кажется, зреет нечто похожее на новый культ и что его политика последних лет в области сельского хозяйства усложнила положение дел. Не скажешь и о письме в ЦК партии Украины, в котором Федор Пантелеевич попытался, доказать нелепость разделения обкома партии на сельский и промышленный, не скажешь о втором письме, где обосновал, что пока не разумно лишать крестьян личных коров и урезывать приусадебные участки. Говорить все это здесь ни к чему.
Федор Пантелеевич закрыл блокнот, задумчиво потер подбородок и продолжил:
— Конечно, если б у нас раз и навсегда утвердились незыблемые законы, определяющие, взаимоотношения государства и колхозов, все было бы гораздо проще. Но в нашей жизни еще столько сложностей, что многое нам не удается предусмотреть и часто приходится принимать особые решения, исходя из создавшейся обстановки. Вот и теперь, в силу чрезвычайных обстоятельств, принято решение закупить в колхозах максимальное количество зерна, чтобы недород не сказался пагубно на всей экономике страны.
И вот в этой нелегкой обстановке, — Федор Пантелеевич положил руку на плечо Степана Григоренко и обвел требовательным взглядом сосредоточенные лица членов бюро, — главная задача партийной организации района состоит в том, чтобы объяснить колхозникам, почему мы вынуждены пойти на такие крайние меры. Прав товарищ Ярчук: мы так дохозяйничались, что крестьяне перестали нам верить. Не гарантирует им колхоз твердого заработка. От этой болезни надо избавляться, и чем раньше, тем лучше. Но в этом году создались особые условия, и если честно, искренне объяснить людям, что речь идет об очень серьезном — о могуществе нашего государства, о гарантиях нашей мирной жизни, они не станут особенно роптать на жидкий заработок. Разумеется, всему есть предел. Будем надеяться, что шестьдесят третий год — последний год, когда нам приходится обращаться к столь крутым мерам.
Теперь два слова по поводу выступления члена бюро товарища Дезеры, секретарь обкома кинул спокойный взгляд на притихшего Дезеру. — Меня оно удивило и огорчило… Было время, когда вот так, с налета, навешивали людям ярлыки и этим решали их судьбу. Не вернутся те времена, товарищ Дезера! Мне, как секретарю обкома партии, было очень интересно выслушать честную, проникнутую заботой и болью о судьбе села речь коммуниста Ярчука. Я во многом с ним солидарен! И даже когда говорил, что селянские дети бегут в города не только от земли, но и в науку, я не хотел этим оспорить безусловный факт большого отсева молодежи из села. Правда есть правда, и недостойно коммуниста закрывать на нее глаза!
Федору Пантелеевичу надо было хоть к концу рабочего дня попасть в обком, поэтому он спешил. Вел машину на большой скорости, зорко следя за дорогой. И в то же время по давно укоренившейся привычке косил глаза на поля, прилегавшие к шоссе. Наметанный взгляд замечал, что свекловичные междурядья не пестрят сорняками, но и сама свекла не идет в рост — гложет ее засуха, видел молочно-розовое цветение гречихи, заградительными полосами росшей между дорогой и полями; на пшеничном жнивье высились кучи еще не свезенной в скирды соломы.
Вязко шелестел под колесами машины асфальт, в вековой задумчивости стояли по обочинам раскидистые липы. Федор Пантелеевич все еще размышлял над тем, что услышал на заседании парткома в Будомире. Как щедра жизнь на сложности!
Много еще надо приложить сил и ума, чтобы укрепить нарушившееся содружество земли и человека, вернуть крестьянину ощущение его владычества на земле, возродить в нем радость общения с природой. И если при этом селянин во взаимоотношениях с государством почувствует себя на равной ноге, страна будет завалена продовольствием, — в это, Федор Пантелеевич верил, как верил в то, что не может остановиться бег времени.
Но вот как избавить партийный и государственный аппараты от бурбонов, подобных Климу Дезере? Нарушение какой гармонии жизни породило такую низость души и ее стойкость перед свежими ветрами? Как мирится с этим прозорливый дух человека?
А Степан Григоренко? Вспомнились встревоженные глаза Григоренко, когда Федор Пантелеевич попросил его поскорей оформить протокол бюро парткома и позаботиться, чтобы выступление Павла Ярчука было там записано потолковее. «Зачем?» — испуганно спрашивали глаза Степана Прокоповича.
Федор Пантелеевич пояснил:
— Надо будет послать в Центральный Комитет.
Не понял Григоренко секретаря обкома. Подавил вздох и г трудом проговорил:
— Хорошо. Будет сделано.
Может, действительно в жизни Григоренко наступил тот момент, когда исчерпана дерзновенность таланта руководителя? Помнится Федору Пантелеевичу, что инструктор обкома Хворостянко нечто подобное тоже говорил ему. Вполне возможно, что пора Григоренко уходить на пенсию. Надо подумать об этом без горячности, памятуя, что доводы разума должны опираться на знание обстоятельств и… любовь к человеку. Да, да! Любовь к человеку! И тут дело не только в самом Степане Григоренко, а и в тех человеках, к судьбам которых он, как секретарь парткома, причастен.
35
Второй день Маринка не показывала глаз на улицу. Прибегал к ней бригадир строительной бригады — притворилась больной. И в самом деле чувствовала себя так, будто по сердцу телегой проехали. Проклинала Андрея за побитые стекла в окне; это считалось, по обычаям Кохановки, равным тому, что хату или ворота вымазали дегтем. Сгорала от стыда. Не могла укротить слез, закипавших на глазах от тяжкой обиды. Ждала, что Андрей подаст весточку или улучит момент, когда нет дома мамы, и придет с повинной. Но от Андрея ни слуху ни духу. Даже подружка Феня забыла дорогу в ее ославленную хату.
Правда, вчера, несмотря на поселившееся в доме горе, навестила Маринку и радость. Приходила учительница Докия Аврамовна — славная женушка Тараса Пересунько — и унесла с собой висевший в горнице портрет отца. Объяснила, что в школьной фотолаборатории его увеличат, а затем вывесят в клубе на почетном месте, рядом с портретами других кохановчан, сложивших головы на войне.
Маринка родилась после того, как ушел отец в партизаны. Один разочек держал он ее, крохотную, на руках, неожиданно заявившись зимней ночью. Так мать ей говорила. Но Маринке казалось, что она знала об отце все-все тоже по рассказам матери. Кажется, и голос его знала, и смех, и улыбку. Знала, что он добрый, красивый, храбрый… Часто видела его в снах, разговаривала с ним, называла «татом» и просыпалась очень счастливой. Потом рассматривала его портрет и ласково твердила про себя: «Тато… татуся… таточко любый…» И много раз плакала тайком, что не суждено ей утолить свою неистощимо-нежную любовь к отцу. А мать будто угадывала ее настроение и принималась опять рассказывать о нем, о том, какой он был сильный, работящий.
Многое в доме сделано умелыми руками отца: стол, мисник, топчан, табуретки… Каждый гвоздь в стенке тоже вбит им… Чудно Маринке… Все в хате живет, все она видит, до всего притрагивается. А отца нет. И никогда не будет. Но ей кажется, что она чувствует теплоту его рук, когда берет сделанную им скалку, или когда вытирает стол, или вешает на гвоздь рушник.
Сегодня утром, выйдя из своей светелки в большую горницу, где разбитое окно было завешено рядном, сразу же увидела пустое место на стене: там висел портрет. И вспомнила: вечером будут открывать в клубе «Портретную галерею героев, погибших в борьбе с фашистами». На душе у Маринки посветлело, и кажется, острее запахло в хате луговой травой и ромашкой, которыми был устелен пол.
Маринка решила идти на строительство. Сколько же можно сидеть дома из-за этой дурацкой истории? Да и с Андреем надо как-то объясниться… Но он еще попляшет перед ней, пока добьется прощения.
И Маринка заторопилась. Быстро умылась, заплела косу, надела плиссированную юбку и белую, в васильках блузку. Затем, глядясь в зеркало, начала старательно повязывать на голове белую, из тонкого батиста косынку.
В это время вернулась из лавки мать. Она принесла большой лист стекла, опоясанный полотенцем, и лепешку замазки. Осторожно прислонив стекло к подоконнику, сварливо сказала Маринке:
— Приходи пораньше с работы да помоги окно застеклить.
— Очень надо! — холодно засмеялась Маринка. — Я заставлю стеклить того, кто разбил.
— Заставишь ее, коросту сладкую, — с ненавистью в голосе ответила Настя.
— Кого это «ее»? — изумилась Маринка, глянув на мать синими глазами, под которыми обозначились тени.
— Тодоску! Кого же еще?
— Тодоску! — беззвучно шевельнула губами Маринка. — А разве… не Андрей?
— Нет, Тодоска, чтоб ей глаза так повыбивало! Еще и хвалится бабам у криницы да плещет языком черт знает что. А Андрея, слава богу, на целину спровадили.
От этих слов у Маринки подкосились ноги, а сердце будто обожгла черная молния.
— На целину? Зачем? — еще не веря услышанному, прерывисто-тихим голосом переспросила она.
— Чтоб от тебя подальше! Не пара ты ему! — ядовито ответила Настя, укладывая в свои слова все презрение к Тодоске. Но вдруг заметила помертвевшее лицо Маринки и испуганно ворохнула глазами. Потом виновато пояснила: — На месяц или на два уехал он…
Маринка заметила, как губы матери скривились от жалости к ней, и это окончательно сломило ее. Всхлипнув, она порывисто выбежала в светелку, упала там на кровать и, уткнувшись лицом в подушку, дала волю слезам.
Только теперь до ее сознания стал доходить ужасный смысл всего происшедшего. Она ни за что тяжко оскорбила Андрея. Ни за что…
А из большой горницы слышались жалостливые причитания опомнившейся Насти:
— Зачем ты надрываешь сердце да ясные глазыньки мутнишь из-за того шалопута?! Что ты в нем нашла? Да таких Андреев, как воробьев под стрехой, полное село!.. Ой, дура, ой, глупая! Тебе ж счастье само в руки плывет! Или повылазило? Юра дышать на тебя боится, глаз не сводит. И такой хлопец, такой хлопец!.. Лучшего жениха и во сне не увидишь!
Слова матери сливались для слуха Маринки в напевный плач, не трогавший ее сердца. Она задыхалась от собственного плача, от рвавшейся из груди боли, от жалости к себе и Андрею, от ощущения беспомощности и чего-то непоправимо-страшного. Понимала: надо что-то делать. Но что? И вдруг перестала рыдать, пронзенная сверкнувшей в сознании мыслью: ехать вслед за Андреем; пусть что будет! Тем более что ее «практика» в колхозе подходит к концу, а отчет о ней почти написан.
Но куда ехать? Маринка знала, что Целинный край — это безбрежное море хлебов с редкими островами усадеб. Только Павел Платонович может сказать, куда направился Андрей. Но к нему она не пойдет! А к кому?.. К Тарасу Пересунько! Он должен быть в курсе дела. Нет, нет, не к Тарасу, а к жене его, к Докии Аврамовне! Докия выспросит все у Тараса.
36
Докию и Тараса Маринка разыскала в клубе.
Большой, с высоченным потолком зал, наполовину заполненный шеренгами стульев, хранил в зеленом полумраке свежую прохладу. Солнечные лучи пробивались сюда с трудом: небольшие подпотолочные окна были затенены завесой акаций, густо дыбившихся вокруг здания клуба.
Маринка, неслышно зайдя в зал, молча смотрела на Докию и Тараса, склонившихся над столом и что-то клеивших. Под галеркой, вознесенной вверх резными деревянными столбами-колоннами, увидела огромный щит, обтянутый красной материей, а на щите — ровные ряды вправленных в застекленные рамки портретов. Никогда не думала Маринка, что так много погибло кохановчан на войне! Ей стало не по себе: десятки пар глаз смотрели на нее с фотографий — одни строго, даже угрюмо, будто с укоризной, другие с улыбкой или иронической ухмылкой. И столько знакомого в этих взглядах и лицах! Не сразу поняла, что черты давно ушедших из жизни людей повторили живущие в Кохановке потомки — сыновья, дочери, внуки, которых она знает наперечет.
Вдруг встретилась с самыми знакомым глазами! С портрета смотрел на нее отец, и чуть заметная улыбка теплилась на его упрямых губах. «Александр Мусиевич Черных, пропал без вести в 1943 году», — прочитала Маринка под фотографией и задохнулась от вдруг нахлынувшей жалости к отцу, к себе. Даже позабыла, где она и зачем пришла. Неотрывно глядела в родное лицо.
Опомнилась, когда услышала стук Докииных каблучков. Повернула голову: Докия была уже рядом — по-особому светлая, какая-то праздничная. Ясно-голубые глаза ее смотрели на Маринку с сердечной добротой и в то же время таили печаль. Докия, видать, поняла состояние девушки и с робкой нежностью обняла ее за плечи.
— Пришла посмотреть? — приветливо спросила Докия.
— Да, — несмело ответила Маринка и подумала: ни за что не заговорит она здесь с Докией об Андрее.
В это время подал голос Тарас:
— Маринка, ты почему не провожала Андрея?
— Я… я не знала, что он уезжает, — после короткого раздумья ответила Маринка, чувствуя, что щекам ее делается горячо.
— Ох, как он высматривал тебя! — засмеялся Тарас. — Крутил головой во все стороны, будто петух. Мало шею не свернул.
— Куда же он уехал? — стараясь казаться безразличной, спросила Маринка.
— В Киев. А оттуда специальным поездом на целину.
— Куда именно?
— Кто ж его знает? Теперь жди письма.
Маринка еще некоторое время постояла перед портретами, побродила по залу и ушла на строительную площадку.
В этот день в клубе перебывало много людей. Будто невзначай зашел бригадир тракторной бригады Евген Заволока — невысокий, кряжистый, в замусоленном синем комбинезоне. Зашел и, глянув на ряды портретов, сдернул с головы кепку, даже не поздоровался с Докией и Тарасом. Молча стоял перед фотографией своего старшего брата Тимофея, хмурил густые брови и о чем-то думал…
Потом появилась Тодоска и заплакала в голос, увидев портреты сестры Оли и учителя Прошу. Смолкла только тогда, когда Тарас с подчеркнутой озабоченностью сказал Докии:
— Может, портреты не стоит в клубе выставлять? А то вместо веселья здесь одни слезы будут.
— Не выдумывай! — Тодоска сердито повела глазами на Тараса. — В каждой хате фотографии покойных висят! Так что ж, по-твоему, мы только и делаем, что плачем над ними? Ну, нехай тут, в клубе, для начала кто пустит слезу. Как же удержаться, если память боли воскресает? Вон сколько их не ходит теперь по нашим улицам!
Тодоска еще долго вздыхала, рассматривая на снимках знакомые лица кохановчан. Но вот в зале появилась Настя Черных, и Тодоска, вспомнив о чем-то неотложном и сделав вид, что не заметила Насти, тут же ушла.
Настя провожала Тодоску кривой картинной улыбочкой. Когда захлопнулась дверь зала, она весело, с чувством своего превосходства, засмеялась, с явным расчетом, чтобы ее услышала Тодоска. Затем певуче поздоровалась с Докией и Тарасом, которые по-прежнему хлопотали у стола, вырезая из старого «Огонька» репродукции батальных картин. Бегло пробежав любопытным и погрустневшим взглядом по портретам на красном щите, Настя остановила глаза на фотографии Александра Черных.
— А чего же моего муженька с самого краю? — ревниво спросила она.
— По алфавиту, — сдержанно ответил Тарас. Он недолюбливал Настю и побаивался ее острого языка.
— Надо было по очереди — кто за кем убит или пропал, а не по алфавиту… Все ты, Тарас, держишься за буквы. Вот уж буквоед! — Настя засмеялась и скосила лукавый взгляд на Докию. — Как вы, Докия Аврамовна, живете с этим казенным параграфом в штанах?
Докия, весело глянув на могучую фигуру мужа, тоже засмеялась озорно, со знакомой Тарасу звенью серебряных горошинок в горле. Не удержался и Тарас — хохотнул коротким смешком.
— А знаете что? — вдруг посерьезнев, спросила Настя. — Надо сплести большой венок из барвинка. На всю стену.
— Ой, конечно же! — всплеснула руками Докия, обдав Настю благодарным взглядом. — А мы и не додумались! Помогите нам, Настя!
— Помогу. У меня целый клинок барвинка за хатой. Да и у других вдов есть. Вдовьи цветы, — Настя тускло усмехнулась, и у ее пухловатых губ появились горькие складочки, а в синих глазах тенью шевельнулась грусть. Пойду звать солдаток, которые не на работе. — Поправив белый платок на голове, она легкой походкой зашагала через зал к выходу.
37
Павел Ярчук возвращался из Будомира в небольшом подпитии. После бюро, которое закончилось для него благополучно, обедал он с председателем яровеньковского колхоза в чайной, где и позволил себе, несмотря на то, что предстояло самому вести автомобиль, выпить добрую толику спиртного. Поэтому поехал домой кружными полевыми дорогами — здесь мало встречного транспорта и совсем нет дорожной милиции.
По сторонам проселка, за чахлой голубизной придорожной полыни, то пробегала белая накипь гречихи, за которой виднелось унылое жнивье, то глянцево зеленела линованная скатерть свеклы, то нависала над мелким кюветом кукуруза с поникшими лентами листвы. Паркий день был на исходе. Натрудившееся солнце будто разомлело от собственного жара и раскинуло в небе полупрозрачную дымчатую кисею.
Павлу Платоновичу даже спинка сиденья казалась горячей. Дышавший в открытые окна машины воздух был накаленным и от завихрявшейся пыли терпким. Но тем не менее Павел был в том бодром расположении духа, когда хотелось неустанно с кем-то говорить, что-то доказывать, утверждать или хотя бы обстоятельно размышлять.
В его памяти звучали слова, сказанные ему на прощанье секретарем обкома:
«Похвально, товарищ Ярчук, что умеете смотреть на вещи со всех сторон. Но помните, что обязаны еще смотреть и с разных позиций».
Павел даже гордился тем, что на бюро парткома, где обсуждались конкретные вопросы, выступил с речью, затронувшей многие беды села. И казался смешным его испуг, когда произносил свою трескучую речь Клим Дезера.
Хорошо отбрил секретарь обкома Дезеру. Клим желтым потом облился, когда понял, что сыграл не в ту дуду. А после бюро вьюном выскользнул из кабинета и куда-то исчез.
Павел Платонович, держа руки на руле машины, раздумчиво смотрел вперед на узкий пыльный проселок и улыбался своим мыслям. Представил, что рядом с ним сидит Федор Пантелеевич Квита и он, Павел Ярчук, просвещает его в тех скрытных тонкостях современного крестьянского бытия, о которых секретарь обкома, может, и понятия не имеет… В самом деле, знает ли Федор Пантелеевич, что истончилась прежняя хлеборобско-песенная жила в крестьянине, что нарушилась идущая от времени сохи и плуга сердечность родства между селянином и полем? Это уже не те избитые истины, о коих говорил сегодня на бюро парткома Павел Ярчук. Это явственные приметы нового века; их в категориях разума не сразу и постигнешь, особенно издалека.
Ведь раньше как было? Только застучит под окном весенняя капель, зазвенит в небесной шири рассыпчатый голос жаворонка, тут же душа хлебороба заноет, а сердце смятенно ударит тревогу: посмотри, дядька, озимые, принюхайся к семенам в сусеках, ощупай мозолистыми руками плуг да борону и бди — будь начеку, ибо близится пора сева! Вспыхнув, готовился селянин к выходу в поле, как на первое свидание. Юношеское нетерпение, робость перед не признающей сентиментальности невестой-землей, гордое чувство мудрого сеятеля и строгого повелителя, разлив тихой радости от близкого пробуждения природы — все это было невыразимым счастьем для него и праздничным страданием; за порогом весны всегда горела звезда надежды.
И не только было так тогда, когда жил селянин особняком. Будоражащие сердце чувства пришли с ним и в колхоз, на общественную землю. Любовь его к земле-кормилице казалась неистребимой, как боль и ласка матери. К этой любви прибавилось еще чувство соперничества в коллективном труде, неизведанная радость от непривычной безбрежности полей, на которых сгинули заматерелые межи. Прибавилась гордость, что шагнули в поле диковинные машины. Стала забываться ноющая боль в спине и тупая ломота в руках неизменные спутники плугаря.
Весна спешила на встречу с летом, шли в рост хлеба, баюкая надежды селян. Наступало лето, и близился заветный день первого снопа. Жнива вламывались в колхозную жизнь бурным и трудным праздником. На токах из пыльных грохочущих недр молотилок лились золотые ручьи ржи или пшеницы, образуя сыпучие горы зерна, при виде которых млело жадное до хлеба сердце крестьянина.
С каждым годом жизнь меняла почерк сельского бытия. Все больше железных чудищ, наделенных доброй, сказочной силой и умом, табунилось на колхозных дворах, с тем чтобы весной, содрогнув улицы и хаты, выйти в поле.
И со временем случилось то, что и должно было случиться: машины, заслонив хлебороба от тяжкого труда и тревожных забот, наполнили новым содержанием царствовавшую веками поэзию общения человека с землей. На смену старой песне, которой аккомпанировал посвист кнута над вспотевшим крупом лошаденки, родилась симфония моторов. Родилась несравненно новая поэзия, поселившись в сердцах истинных властелинов полей — механизаторов. И совсем другая у этой поэзии сущность. Нелегко даже определить, что больше волнует сердца трактористов и комбайнеров — любовь к машинам и ощущение своей власти над ними или любовь к земле и причастность к таинствам ее плодородия. Да, да! Когда смотришь на чумазого хлопца, восседающего на тракторе, то кажется, что он до самозабвения упоен своим умением и своим правом повелевать машиной.
Но в чьем же все-таки сердце живет теперь та тревожная любовь, без которой земля как жизнь без надежды? В чьем сердце? Конечно же, в его, Павла Ярчука! И в сердце агронома. И еще в сердцах механизаторов. Но ведь это только горсточка среди сельского многолюдья. Многие мужики стали поденщиками в колхозе. Разбрасывает Иван или Петро удобрения в поле, или скирдует на жниве солому, или копнит на лугу сено — это труд без начала и без конца, и крестьянин участвует в нем, как, скажем, участвует плотник в постройке каменного дома. Здесь есть поэзия труда, но нет поэзии созидания в наиболее конкретном смысле. Ибо тому же плотнику творческую радость приносит даже сделанная им табуретка, но не испытывает он счастливого волнения, если к табуреткам готовит только ножки. Кажется, все просто… А если еще подумать о селянах, занятых на фермах, на строительстве, в мастерских… Они давно не хлеборобы в прежнем смысле слова. Они мыслят другими категориями о своем труде и о своем месте в многоотраслевом колхозном производстве.
Павел Платонович довольно хохотнул и от избытка добрых чувств дурашливо вильнул «газиком». Конечно же, колхоз стал производством! Конечно же, крестьяне стали повелителями машин (хотя машин еще чертовски мало) или подсобниками возле них. И психология у крестьянина теперь несколько другая — уже ближе к психологии рабочего… Может, где-то здесь и лежит ключ к новым взаимоотношениям хозяйства и колхозника? А почему бы и нет? Гарантировать селянину заработок да установить дополнительную оплату за качество и перевыполнение норм труда — он горы свернет, да еще растолчет их…
Впереди, на дороге, Павел Платонович заметил стаю разгуливающих ворон. Прибавив газу, он с мальчишеским озорством на большой скорости погнал машину к иссиня-черным птицам. Вот они все ближе и ближе — замерли на месте и, избочась, косили глаза в его сторону. Еще мгновение, и машина окажется в гуще стаи. Но птицы, медлительно взмахнув крыльями, вдруг с граем поднялись над дорогой, и автомобиль промчался по пустому месту.
Павел Платонович удовлетворенно крякнул и сбавил газ. Подумал о том, что и воронье ныне другое. Эти черные горластые и прожорливые птицы всегда беспечно бродили по пятам плугарей, выбирая из свежей борозды червяков. Когда же появились в поле первые тракторы, вороны с паническим криком улетали от них за версту. А теперь чуть ли не на голову трактористу садятся.
38
Вот и Кохановка. Машина, распугивая кур, мягко бежала по тихой, заросшей спорышем улице, много раз перечеркнутой косыми лучами предзакатного солнца. Павел Платонович держал путь к центру села, к конторе правления колхоза.
Вдруг впереди увидел двух женщин; они несли, держась за края ручки-дуги, большую, плетенную из лозы корзину, доверху наполненную чем-то зеленым в синих звездочках. Узнал Маринку и Настю. Хотел было остановиться, но тут же будто услышал крикливо-въедливый голос своей Тодоски и проехал мимо, успев заметить, что в корзине — свернутый венок из барвинка.
«Что это значит? — подумал с тревогой. — Может, помер кто?»
С этой мыслью Павел и подъехал к клубу. Остановив машину у крыльца, направился в контору правления. Навстречу ему вышел, щурясь на солнце, Тарас Пересунько.
— Выздоровел? — спросил Павел Платонович, пытливо посмотрев в осунувшееся лицо Тараса.
— Да, отстрадался, — смущенно засмеялся Тарас, притронувшись рукой к животу. Затем настороженно спросил: — Снимали стружку на бюро?
— Всякое было, — ответил с усмешкой Павел Платонович. — Собирай коммунистов, буду докладывать. — И, увидев в открытую дверь клуба красный щит с фотопортретами, в контору не пошел, а заинтересованно прошагал в зал.
Первым, кого узнал на щите Ярчук, был Александр Черных. От такой неожиданности Павел замер, неотрывно глядя на знакомый портрет и ощущая, как к голове его бурными толчками приливает кровь, а лоб покрывается противным липким потом. Павлу показалось, что темные глаза Черных смотрят на него из-под широких бровей с издевкой и надменностью. Это потрясло Павла Платоновича до судорог. Сделав вдруг несколько стремительных шагов вперед, он поднял руки к портрету и схватился за рамку.
— Кого ты вывесил здесь?! — с бешеной яростью заорал он на стоящею сзади Тараса. Матерно выругавшись, Павел резким движением сорвал со щита портрет и с омерзением хрястнул им об пол. — Это… это же… власовец!..
Да, злоба — плохой советчик. Ослепленный ею, Павел не заметил, что под галеркой стоял с молотком в руках Серега Лунатик, который помогал Тарасу закреплять на стене щит славы; не увидел и стаи вездесущих мальчишек, прибиравших под командой Докии Аврамовны зал.
— Павел Платонович! — с испугом проговорил Тарас. — Что вы мелете? Что за чепуха?
— Не чепуха! На моих глазах подыхал в Австрии. Может, и от моей пули! — Павел отшвырнул сапогом рамку с портретом и, наступив на осколки стекла, повернулся к Тарасу. — Ты понимаешь, что ты натворил?! Понимаешь?
Опомнившись, Павел досадливо и виновато посмотрел на Докию, стоявшую среди притихших мальчишек, окинул мятежным взглядом зал. Серега Лунатик, будто ему нет ни до чего дела, неторопливо вышел в открытую дверь.
— Эх, черт! — мучительная гримаса перекосила лицо Павла Платоновича; он сокрушенно поскреб затылок, затем провел неспокойными пальцами по усам и, исподлобья глянув в растерянное, бледное лицо Тараса, горько усмехнулся: начнется теперь катавасия.
— Расскажите, что все это значит? — сумрачно спросил Тарас.
— Трудная история, — тяжко вздохнул Павел Платонович. — Не хотелось ее трогать…
В это время в зал клуба ворвалась Настя. Помертвевшее лицо ее было искажено ужасом, а ледяные сумасшедшие глаза кричали ненавистью к Павлу: Серега Лунатик уже успел все рассказать ей.
— Ты что?! Ты что?! — огрубевшим, плачущим голосом спрашивала она, бросая взгляды то на Павла, то на щит, где уже не было портрета Саши. — Ты убил его? Ты его убил?! — и Настя бросилась к лежавшему на полу портрету, подняла и смахнула с него рукой осколки стекла, порезав при этом ладонь. Ворог ты лютый! Я догадывалась, что таишь что-то! Чуяло сердце! Теперь знаю! Ой, боже!..
А на пороге стояла Маринка.
Сердце Павла Платоновича тоскливо сжалось, и он так растерялся, что не мог произнести ни слова.
— Настя, успокойся, — наконец через силу проговорил он. — Не заставляй… говорить правду. Тебе же лучше.
— Убийца! — истерично взвизгнула Настя, замахнувшись на Павла рамкой, испятнанной кровью.
— Мама! — закричала с порога Маринка. — Мама…
Павел Платонович беспомощно посмотрел на окаменевшего Тараса и скорбно улыбнулся:
— Ну что ж… Придется сказать то, о чем не хотелось говорить…
Настя испуганно притихла, уставив на Павла горячечный взгляд. А он, вдруг ожесточившись, мрачно изрек:
— Александр Черных — изменник Родины! Служил у Власова. Я его видел перед концом войны смертельно раненным.
Наступила жуткая тишина. Давняя смерть прикоснулась сейчас ледяной рукой к сердцам всех, кто находился здесь.
Ни Настя, ни Маринка не могли поверить услышанному.
— Ты лжешь! — с напряженным спокойствием сказала Настя. — Держава не назначила б Маринке пенсию за отца.
— Незаконно назначила. По ошибке!
В буйственном запале не рассчитал Павел Платонович разящую силу своих слов, не подумал, что незащищенному сердцу Маринки трудно будет вынести такой страшный своей сущностью и неожиданностью удар. Да и позабыл он, что Маринка тоже здесь, в клубе, не видел, как она, трепещущая, прижалась, будто прячась от ударов, к подошедшей к ней Докии.
— Брешешь, собака! — не сдавалась Настя, хотя в ее надрывном голосе уже звенел страх. — У меня документы хранятся: сгинул Саша без вести!
Павел подумал о том, что он действительно ничем не может подтвердить своих слов. Черных был подобран санитарами после боя, одетый в красноармейскую форму, без единого документа в кармане. Кто-то из уцелевших власовцев позаботился тогда о нем. Однако другое сейчас ломило душу Павла — невыразимо больно ужалило слово Насти: «убийца!» Пусть и в самом деле подкосили Сашу пули, которые выпустил из пулемета он, сержант Ярчук, но это не убийство.
Будто закричало что-то внутри Павла Платоновича. Он страдальчески посмотрел в холодные, испуганные глаза Насти и тихо спросил:
— Настя, что я тебе сделал плохого? Почему ты всю жизнь мучишь меня?.. Я же тогда… помнишь?.. когда вернулся перед войной из армии, ни словом тебя не попрекнул, хотя самому утопиться хотелось. Что я тебе сделал?.. Я даже правдой о Саше не хотел тебе боль причинить… Но вот так все случилось… — горло Павла перехватила спазма, и он осекся, часто заморгав повлажневшими глазами.
Во взгляде Насти померк холодный блеск и осталась одна только боль. Она тихо заплакала и стала завязывать платком порезанную руку.
А у открытых дверей стоял Серега Лунатик, напряженно прислушиваясь к каждому слову, произнесенному в зале. Он мысленно понукал Настю, требуя от нее яростного гнева и негодующих слов. А когда Настя заплакала, догадливое сердце Сереги уловило победу Павла и, как всегда, ожесточилось.
Вечером Серега Лунатик, закрывшись на кухне, писал ровными печатными буквами анонимное письмо в обком партии. Из письма явствовало, что, как стало известно, голова кохановского колхоза коммунист Ярчук из побуждений мести убил на фронте своего односельчанина Александра Черных, который до войны женился на его, Ярчука, невесте. Затем Ярчук долго преследовал вдову Черных и, убедившись в бесплодности своих домогательств, сорвал в клубе со щита славы портрет ее мужа, объявив его власовцем. Будучи пьяным, Ярчук сознался секретарю парторганизации Тарасу Пересунько, что застрелил в Австрии Александра Черных. Этот разговор слышал колхозник Серега Грицай. Но Пересунько покрывает Ярчука, так как является его племянником. Покрывает Ярчука и его двоюродный брат — секретарь парткома Будомирского производственного управления Степан Григоренко.
39
Анонимные письма, поступающие в обком партии, обычно уничтожают, не придавая им значения. Но письмо из Кохановки показалось в секретариате загадочным, и ему «дали ход». Через некоторое время письмо лежало на столе Арсентия Никоновича Хворостянко с короткой резолюцией: «Расследовать».
Арсентий Хворостянко, прочитав анонимку, разволновался. Еще бы: Маринка Черных, на которой собирается жениться его сын Юра, может оказаться дочерью предателя. А кому из уважающих себя людей, а тем более партийных работников, интересно завести такую родню?! И Арсентий Никонович первым делом позвонил в Кохановку и через Тараса Пересунько передал, чтобы Юра срочно приехал домой в связи с болезнью матери. Надо было предупредить Юру, дать ему добрые советы, узнать от него подробно о событиях в Кохановке, а затем уже поехать в Будомир для беседы со Степаном Григоренко.
История эта могла иметь два исхода, и оба они в общем-то устраивали Арсентия Хворостянко. Если действительно окажется, что отец Маринки власовец, то само собой расстроится нежелательное сватовство Юры; Юра ведь тоже не лыком шит — не захочет, чтоб биография его оказалась с зазубринами. Если же подтвердится вина Павла Ярчука, то Арсентий Никонович в благородном негодовании спровадит, наконец, на пенсию Степана Григоренко.
Но загадывал Хворостянко-старший преждевременно. К концу рабочего дня позвонила ему на службу жена — Вера Николаевна — и веселым голоском сказала:
— Арсик, на работе не задерживайся. У нас дорогие гости.
— Кто?
— Не скажу. Приезжай — увидишь. Я уже накрываю стол. — И, засмеявшись, положила трубку.
Не догадывался Арсентий Никонович, что это уже успел приехать домой Юра, а вместе с ним — Настя Черных.
Вера Николаевна считала, что вопрос женитьбы Юры и Маринки решен окончательно, и встретила Настю с распростертыми объятьями. Юра, увидев мать в добром здравии, смутился, но никаких вопросов задавать не стал; догадался, что родители захотели повидаться с ним.
А Вера Николаевна, дородная и румяная, улыбчивая и предупредительно-внимательная, показывала ошеломленной Насте квартиру, доверительно, со щедрой сладостью в голосе рассказывала, что они с Арсентием со временем уедут в Будомир, а тут останутся хозяйничать Юра и Маринка. В Будомире Хворостянки намерены обзавестись собственным домиком в живописном месте, чтоб лес и речка рядом, и будет тот домик как дача всей их, пока небольшой, хворостянковской династии.
Настя только в кино видела подобные квартиры — с газом, ванной, всякими машинами для стирки и для уборки; даже кофе варит здесь какая-то хитроумная аппаратура. А книг и диковинных безделушек сколько на полках! А картин на стенах! И везде чехлы: на стульях, на тахте, на пианино. Полы отливают янтарным блеском — ходить страшно по ним. Много света и простора. Врывающиеся в раскрытые окна звон трамвая и шум автомобилей тоже казались Насте музыкой.
Только редкие вздохи напоминали, что нет полной радости в осуществляющихся мечтаниях Насти. После того, что случилось в клубе, черный камень не переставал давить ее сердце. Будто в кошмарном сне жила в последнее время. Проснуться бы и узнать, что не было клуба, не было страшных слов Павла Ярчука, не было пепельно-серого, искаженного ужасом лица Маринки, а затем ее страшных беззвучных рыданий дома.
Настя боялась, что дочь лишится рассудка. Да спасибо Юре. Целую неделю долгими часами сидел он возле Маринки, утешая ее, уговаривая. Доказывал, что Маринка не в ответе за отца, что, может, все сказанное Павлом Ярчуком неправда. А если и правда, то за давностью времени не стоит придавать этой правде значения, тем более что власовцы и полицаи, не совершавшие во время войны убийств, уже помилованы государством.
Понимала Настя, что оплакивала Маринка свою любовь к отцу, попранную им же, отцом, оплакивала свою прежнюю жизнь, светлую и чистую, а теперь замутненную позором… Легко ли сознавать, что отец, чей образ, созданный рассказами матери и своей, щедрой на доброту фантазией, с нежностью носила в своем сердце, оказался не героем, а жалким предателем.
И тревога не покидала Настю. В душе она уже раскаивалась, что уехала из дому, оставив Маринку наедине с еще не улежавшейся тяжкой бедой.
В передней раздался сиплый звонок, и Юра, помогавший матери накрывать стол, кинулся к двери. Вошел Арсентий Никонович, держа в руках сверток с бутылками.
— А-а, ты уже прискакал?! — обрадовался он, с любопытством глянув из-за Юры в столовую, где сидела на тахте Настя. — У нас действительно дорогие гости!
Передав Юре бутылки, Арсентий Никонович радушно поздоровался с Настей и, потирая руки, со знанием дела оглядел расставленные на столе закуски:
— Икорка — хорошо!.. Грибочки… лимончик… паштет… сальце… Отлично! Ставь, Юра, коньячок и боржоми, да воздадим хвалу земным благам!
— Может, моей «калиновки» попробуете? — несмело предложила Настя.
— Самогонка? — Арсентий пытливо посмотрел на гостью.
— Настойка, — Настя от смущения опустила глаза. — Калиновая горилка.
— А что? Попробуем!
Вышедшая из кухни Вера Николаевна окинула мужа снисходительно-любящим взглядом и весело пожаловалась ему:
— Настасия Демьяновна не только «калиновки» привезла. Целый чемодан гостинцев: гусь жареный, колбаса домашняя, мед. — И с ласковой укоризной сказала Насте: — Мы ж не в голодном краю живем. Зачем было везти?
— Так полагается, — извиняющимся тоном ответила Настя.
— Это не дело, — покачал головой Арсентий Никонович. — Вы ставите нас в неловкое положение.
— Да мы ж свои люди! Какая неловкость? — Настя смотрела то на Веру Николаевну, то на Арсентия Никоновича с чувством недоумения и легкой обиды.
— Ну, будем садиться за стол, — прервала спор Вера Николаевна и прикрикнула на Арсентия: — Иди мой руки!
Направляясь в ванную комнату, Арсентий Никонович незаметно подмигнул Юре. Юра понял отца и, спросив у матери: «Где штопор?» — вышел из столовой.
В сверкавшей кафельной белизной ванной комнате Арсентий Никонович предусмотрительно пустил воду и зажег газ. А когда зашел, прикрыв за собой дверь, Юра, начал разговор под плеск падающей струи и шум горелки:
— Что тебе известно об отце Маринки?
— Уже прослышал? — Юра с горечью улыбнулся.
— Нам полагается знать все.
— Зачем же тогда спрашиваешь?
— Ты что, маленький?! — Арсентий Никонович смотрел на сына со строгим недоумением. — Если подтвердится, что он власовец, о твоей женитьбе на Маринке не может быть и речи!
Лицо Юры покрылось красными пятнами, а губы мелко задрожали.
— Почему? — чуть слышно спросил он у отца. — Чем же Маринка виновата?
— Не прикидывайся дурачком! — у Арсентия Никоновича даже глаза побелели от негодования. — Если тебе наплевать на то, что у тебя будет жена — дочь изменника Родины, так мне, работнику партийного аппарата, это небезразлично! Шутка ли: Хворостянко породнился с семьей предателя!
— Отец… Но я же люблю ее…
— Понимаю… Надо взять себя в руки. Хочешь — устрою перевод из Кохановки.
— Что ты! Люди засмеют!
— Будто людям нечем заниматься, кроме твоей персоны.
— Ты не прав, папа… Вот я в Кохановке без году неделю побыл, а что-то начинаю понимать. Неправильно мы живем.
— Интересное открытие, — Арсентий Никонович, намыливая руки, бросил на сына саркастический взгляд. — Может, пояснишь?
— Понимаешь, там люди, кажется, меньше всего думают о себе.
— Это мужик-то о себе не думает? — Арсентий Никонович весело захохотал.
— Во всяком случае, так мне кажется. Был я на фермах, на току, на свекловичных полях. И знаешь, как там работают? Будто им это одно удовольствие, хотя к вечеру на свекле бабы еле спины разгибают. Везде смех, песни. Даже если ругают бригадира или председателя — тоже с шуточками. У меня на строительной площадке мужики вроде не работой, а игрой заняты. А над скудными заработками своими только подсмеиваются.
— Привыкли, знают, что шиш получат, — хмуро усмехнулся Арсентий Никонович.
— Может, и так, — Юра пожал плечами. — На меня с недоверием посматривают. Городской, мол.
— Ну, валяй, заслуживай у них доверие, — вытирая вафельным полотенцем руки, Арсентий Никонович смотрел на сына с уничтожающей иронией. — Но их доверие путь в партию и на высокие должности тебе не откроет. За границу ты тоже не ездок со скомканной биографией.
— Старомодный ты какой-то, — со вздохом ответил Юра. — Насколько я понимаю, когда принимают в партию, смотрят человеку в душу, а не в анкету его жены.
— Не все понимаешь, — Арсентий Никонович засмеялся тем неприятным смешком, который говорит о презрении к собеседнику или в лучшем случае о полном превосходстве над ним. — А когда подписывают партийные документы, смотрят уже не в душу, а в анкеты.
— Очень жаль, если это так… Но я думаю, что не так. Теперь другие времена.
Арсентий Никонович ничего не успел ответить, ибо в ванную комнату заглянула Вера Николаевна.
— Почему вы так долго?! — с напускным неудовольствием прикрикнула она на мужчин. Учуяв неладное, спросила упавшим голосом: — Случилось что-нибудь?
— Ничего не случилось, — пряча глаза, буркнул Арсентий Никонович и тут же на ходу сочинил: — Юра просит похлопотать о стройматериалах для Кохановки. А я ему объясняю, что Кохановка ничем не лучше других сел.
— За столом разве не можете поговорить об этом?! — Вера Николаевна опалила обоих колючим взглядом — в отместку за минутный испуг.
— Не надо вообще говорить об этом, — просительно сказал Юра.
— Хорошо, — Арсентий Никонович посмотрел на сына понимающими глазами.
Настя держала себя за обедом скованно, на лице ее блуждала потерянная улыбка. Юре казалось — это совсем не та женщина, что верховодила на вечеринке в своем селянском доме. С какой веселой властностью направляла она тогда разговор мужчин, как по-женски уступчиво задиралась в споре с Павлом Ярчуком! Почему сейчас она другая — трогательно-беспомощная, растерянная, даже в чем-то жалкая. Ведь закусок на столе в доме Насти было не меньше, чем здесь, и не беднее они были. Сервировка разве попроще?.. Или гложет ее весть о позорно-трагической судьбе мужа, о которой услышала так поздно и так неожиданно?.. А может, извечная крестьянская застенчивость мешает ей быть здесь самой собой.
Трудно было понять Юре, почему синие глаза Насти подернуты дымкой грусти, а улыбка на чуть увядших губах таит тень скорби. Да, конечно, судьба мужа навсегда черной тяжестью легла ей на сердце. Но сейчас о другом думала Настя. Нет, может, не думала, а, словно обнажив все свои чувства, пыталась прикоснуться ими вот к этой городской жизни, о которой столько мечтала для своей дочери. И, к своему удивлению, пока не могла уловить ни умом, ни сердцем, что же здесь то самое главное, манящее, отличающее эту жизнь от селянской. Просторная квартира и все, что в ней?.. Нет, наверное. Разве при добром заработке нельзя в селе построить дом со многими комнатами и высокими потолками да так вот богато обставить его? Можно. При добром заработке… Или все дело в заработке?.. Сколько лет при нынешних доходах селянина, да если он еще не механизатор, придется копить деньги, чтобы в хате появились пианино, телевизор, холодильник, пылесос, стиральная машина, такая вот мебель, картины, посуда? Ого-го!..
Тут Настиной грамотности не хватит, чтобы подсчитать. Да и не все это нужно в селянской хате, если вокруг нее в весеннюю и осеннюю распутицу грязь по колено. Хорошо в городе — асфальт кругом. Но зато, когда выйдешь из дому, сразу в чужом мире незнакомых людей. И нет сада, нет куста калины с ласковой листвой, о которую можно остудить разгоряченное лицо.
Как снежинки на ветру, метались мысли Насти, не находя пристанища. Нет, пока не понятна ей эта жизнь, хотя видно, что она лучше сельской…
Когда Настя выпила вторую рюмку, все ее мятущиеся чувства присмирели. Она увереннее стала держать в руке вилку, уже без робости закусывала и весело смеялась над анекдотами, которые рассказывал Арсентий Никонович. В то же время бросала внимательные взгляды на Юру, чтобы запомнить его вкусы и привычки, — зять ведь будущий!
И снова вспомнила о Маринке. Как она там одна дома?
40
Вот и познала Маринка самую лютую человеческую боль — смертную тоску сердца. Куда же деть себя, как просветлить черную сумятицу в голове и унять нестерпимую тяжесть в груди? Кажется, легче броситься в огонь и заживо сгореть, чем вот так задыхаться в муке и слезах.
Не хватало сил выйти со двора. Пугала встреча с людьми, страшили их понимающие глаза. А родная хата будто смрадом наполнена. Все здесь, что еще недавно излучало для Маринки тепло работящих и незнакомых отцовских рук, — все казалось теперь мерзким и ненавистным.
Если б была сила не поверить в то, что отец надругался над ее нежной любовью к нему, отнял у нее дорогое слово «тато», навлек на семью презрение, а может, и ненависть людей! Если б все, что она узнала об отце, было неправдой!
Как жить дальше Маринке, если нет у нее права на свое прошлое? Совсем недавно она играла в самодеятельном спектакле роль героини-партизанки, храбро вершившей суд над предателями! А сама — дочь власовца… И сколько бы Юра Хворостянко ни успокаивал Маринку, все его доводы казались не чем иным, как жалкими ухищрениями совести и разума. Ведь почти в любой книге о войне она находила среди героев похожего на того, чей портрет, увенчанный вышитым рушником, висел в горнице. А он — трус и предатель… Стрелял на фронте в своих… Может, и по кохановским улицам ходят люди, которых осиротили его пули. А Маринка встречалась с ними со спокойной совестью и без чувства тяжкой вины. Вместо того чтобы казниться, она получала от государства пенсию, на которую не имела никакого права.
Как перенести такое?.. А Андрей… Теперь Маринке понятно, по каким причинам выпроводили его на целину. Павел и Тодоска давно, видать, решили, что не пара ему Маринка — дочь изменника Родины. Но он-то хоть догадывался о чем-нибудь? Почему ж молчал? Почему так беспечно расточал свою любовь к ней, зачем привораживал ее сердце? Если б был рядом Андрей, если б можно было узнать все сразу. Но он где-то на краю земли, обиженный на нее и оскорбленный. Ни за что дала ему пощечину и ничего не успела объяснить о Юре Хворостянко. Но теперь уже все равно. Теперь и самой Маринке ясно, что не имеет она никакого права на любовь Андрея, ибо оказалась не такой, какую он полюбил.
И сердце захлебывалось в немых воплях от безысходности и отчаяния.
Умереть… Эта мысль не раз заставляла вздрагивать Маринкино сердце. Надо умереть… А мама? Как оставить ее одну выплакивать горе? Но что мама? Для нее будто не случилось ничего. Поголосила немного и успокоилась на упрямой мысли, что Павел Ярчук сказал ей неправду. Собрала кошелку гостинцев и поехала к Хворостянкам в гости — о свадьбе Маринки и Юры договариваться… Нет, не быть свадьбе. Ничему не быть. И не подняться над Бужанкой ее белокаменному дворцу. Сегодня привиделся дворец Маринке во сне — нелепый, с мрачными, испятнанными рыжей плесенью стенами; он стоял почему-то за лесом в Чертовом яру, окруженный дикой непролазью терновника, в которой, как откуда-то знала Маринка, кишмя кишели змеи.
Она проснулась, ощущая страх и холодное онемение во всем теле. В горенке уже было полусветло, за окном слышался скрип проезжавшей мимо подворья телеги. Маринка приподнялась на кровати, поправила сбившуюся простыню и распахнула окно. В комнату полилась пьянящая прохлада. Глубоко вдыхая ее, почувствовала головокружение и ломоту в висках. Снова улеглась, натянув к подбородку одеяло. Позади ночь не ночь — тяжкие думы с непрестанными вздохами-стонами сменялись кошмарными сновидениями.
Под окном неожиданно загорланил петух, и Маринка испуганно вздрогнула. По телу прокатился озноб. Но вскоре нахлынула теплая волна, почему-то коричневая, и Маринка погрузилась в нее с радостной успокоенностью. Наконец-то ее оставили трудные мысли. Голове сделалось легко, как и всему телу, и она куда-то уносилась в теплом коричневом мороке. Хорошо вот так бездумно парить и куда-то медленно падать. Но почему она такая легкая? Да, да, ее тело как пушинка! И Маринке делается страшно. Она начинает понимать, что, погружаясь в морок, растворяется в нем. Еще мгновение, еще, и тела уже нет — нет рук, нет ног, нет боли в груди. Даже страх растопился в мягкой теплыни, и осталась только витающая в красноватом тумане зыбкая, сонливая мысль. А потом ничего не осталось.
Проснулась Маринка от стука. Открыла глаза и тут же прищурила их: горенка была полна солнца. Пока глаза привыкали к яркому свету, она раздумывала над тем, почудился ли ей стук или действительно кто-то зашел в хату. Потом вспомнила, что над кроватью открыто окно. Приподнялась, ощущая головокружение и легкую тошноту, кинула взгляд на подворье. Но там пустынно. А на подоконнике лежали свежая газета и письмо.
Смахнула вялой рукой «почту» себе на одеяло, снова улеглась на подушку. Полузаплетенная коса собралась в жгут и мешала голове, однако у Маринки, кажется, не было сил пошевельнуться. Но коса все-таки мешала; пришлось выпростать из-под одеяла руку и расправить на затылке волосы. Эта же рука нащупала на одеяле письмо, поднесла его к глазам. Какой знакомый на конверте почерк! И почему так бешено заколотилось сердце?.. Это же от Андрея!
Будто прошло удушье. Андрей!.. И вроде не было черной сумятицы в голове… Андрюшенька!.. Исчезла жуткая своей тошнотворностью вялость. Маринка порывисто приподнялась и дрожащими руками разорвала конверт.
Но с первых же строк письма будто хлынул в душу могильный холод.
Вот каких слов дождалась она от своего Андрея:
«Марина!
Не хотел тебе писать и растравливать сердце, но прошло время, и мне чисто по-человечески захотелось понять, откуда в тебе взялось столько лжи, подлости, бесстыдства. Слышал я от людей, что в молодости твоя мать точно так же поступила с моим отцом: клялась ему в верности, а замуж вышла за другого. Но тогда хоть отец находился далеко — в армии, его надо было долго ждать. А как ты могла, встречаясь со мной каждый вечер, таить от меня, что у тебя есть жених, что у вас с ним всем сговорено? Про запас меня держала или для того, чтоб не было скучно дожидаться счастливого избранника? Но как же ты ему в глаза смотришь? Где твоя совесть? Откуда такое бессердечие? Эх, нет у меня слов, чтоб сказать напрямик все, что я о тебе думаю. Видать, в крови у вас жестокая подлость и гнусное предательство.
Прощай!
А. Я.».
41
Слух о том, что раскрылась тайна безвестного исчезновения на фронте Настиного мужа Саши Черных, всколыхнул Кохановку. От хаты к хате, от криницы к кринице перекатывались волны ошеломляющей новости, все больше взвихриваясь дополнительными подробностями и деталями. На фермах, на колхозном дворе, на току, где собирались хотя бы двое, велись оживленно-взволнованные разговоры. При появлении Павла Ярчука многие смотрели на него с оторопью и тем любопытством, с каким смотрят на человека с загадочно-страшным прошлым. Все больше расползался слух, что Павел, встретившись где-то в австрийских горах с Черных, самолично застрелил его.
Не всем верилось, что Черных перебежал на сторону врага. Но и трудно было допустить, что Павел, хотя человек он с крутоватым характером, мог убить его только из чувства мести — за Настю. Настораживало и другое зачем Ярчук так долго скрывал предательство Черных; и удивляло — как мог проговориться, если убил его безвинно.
Больше всего эти вопросы занимали самую щедрую на фантазию часть населения Кохановки — женщин. Им важен был повод и страшная сущность происшедшего. У Павла Ярчука, наверное, кровь в жилах застыла б, если б услышал он рожденные силой воображения подробности его встречи на фронте с Сашей Черных.
Да, бабье творчество — воистину неиссякаемый кладезь. Можно диву даваться изобретательности возбужденной людской молвы, умеющей родить под ветром любопытства картины достовернее самой действительности. Даже стычка Насти Черных и Павла Ярчука в клубе обросла такими домыслами, что Докия Аврамовна, бывшая свидетельницей этой стычки, а потом услышавшая бабьи разговоры, за голову схватилась и дома насела на Тараса:
— Ты же секретарь парторганизации! Собери коммунистов и комсомольцев, объясни, что и как!
Разговор происходил в хате. Тарас сидел за столом и, торопясь по каким-то своим делам, наспех обедал.
— Что я могу объяснить? — досадливо спросил он у Докии, стоявшей рядом. — Павел Платонович даже мне ничего толком не рассказывает. Ересь какую-то порет! Говорит, видел Черных смертельно раненным, в красноармейской форме.
— Но Черных же сам ему сознался, что власовец!
— А кто это слышал?
— Неужели не веришь Павлу Платоновичу, своему дядьке?! — Докия бросила на мужа удивленно-осуждающий взгляд.
— Я-то верю, но люди могут не поверить, — Тарас поднялся из-за стола. — У Насти на руках да и в военкомате — официальные документы. В них ясно сказано: Александр Черных пропал без вести при выполнении задания партизанского штаба. А у Павла Платоновича? Что-то вроде сказки…
— Как же быть? — Докия смотрела на Тараса с растерянностью. — Село прямо кипит от разговоров.
— Ничего тут не сделаешь, — невесело ответил Тарас. — Я звонил в райвоенкомат. Попросил, чтоб послали запрос в Москву, где, говорят, в архивах хранятся захваченные во время войны власовские документы. Может, и списки есть.
Помолчали. Тарас, глянув на часы, стал искать фуражку.
— Жаль Маринку и Настю, — вздохнула Докия.
— Ты бы сбегала к ним, — наставительно посоветовал Тарас. — А то Маринка небось ревет с утра до ночи. Перестала ходить на строительство. Объясни ей, что ни она, ни мать тут ни при чем. Только найди хорошие слова. Ну такие… душевные.
В эти дни Докия дважды заходила в Настину хату. Но каждый раз заставала там Юру Хворостянко. Он встречал ее понимающим, но недовольным взглядом, давая понять: обойдемся, мол, без помощников. И Докия, поговорив о том о сем с Настей, уходила, пряча чувство досады.
А вчера поздно вечером услышала от Тараса, что Юра и Настя уехали в Средне-Бугск. Тогда же и решила: «С утра навещу Маринку».
И вот это раннее утро. Докия неторопливо шла обочиной улицы, стараясь не ступить мимо тропинки, в седой от росы спорыш. Как и полагается учительнице, одета она не как-нибудь. Серая плиссированная юбка, синяя кофточка и белое монисто придавали ей непривычную для буднего села нарядность. Докия не без основания полагала, что аккуратная одежда должна привлекать к учительнице внимание людей и вызывать уважение. Но по молодости своей не подозревала — Кохановка не то что уважала, а искренне любила ее за сердечную приветливость, открытый нрав и простоту. Если видит или слышит Докия смешное — смеется, как школьница, а встречается с чьей-либо бедой — печалится, как и все другие сельские женщины. Жила она среди людей, словно воплощение добра и доверчивости, всегда готовая помочь другим чем только может и как умеет. Построил кто новую хату — Докия первая советчица, как расставить в комнатах мебель, какие гардины повесить на окна, какими картинами украсить стены. Бегут к Докии за советом, какой фасон выбрать для платья, как назвать новорожденного, где достать нужную книгу. Многие девушки даже поверяют ей свои сердечные тайны.
Знала Докия и о любви Маринки и Андрея, но не понимала, что произошло между ними в последнее время. Догадывалась: появление в селе техника-строителя и внезапный отъезд Андрея на целину — события одной цепи, и тревожилась, как бы необузданные сердца да строптивые характеры влюбленных не привели к беде. А тут еще эта загадочная история с отцом Маринки.
И Докия спешила… Село уже начало свой трудовой день, возвещая об этом сизыми дымками, которые, будто дыхание хат, струились над крышами в еще прохладное небо. Докия издали заметила, что только труба над Настиной хатой грустила без дыма. И сердце ее облилось холодком.
Настино подворье показалось ей печальным и пустынным, хотя у порога хаты, сбившись в кучу, сокотали некормленые куры. Даже крикливо рдевшая рясными гроздьями калина под окном не порадовала глаз Докии. Предчувствуя недоброе, она торопливо подошла к дверям и, нажав на щеколду, толкнула их. Но двери не поддались. Стала барабанить своими маленькими кулачками в почерневшие дубовые доски… В хате ни шороха. «Может, ушла Маринка на строительную площадку?» — мелькнула успокоительная мысль, но тревога не растаяла. И тут же Докия заметила распахнутое окно хаты. Торопливо подошла к нему и заглянула внутрь.
Будто сердце оборвалось, когда увидела на кровати у окна Маринку мертвенно-бледную, с закрытыми глазами и посиневшими, запекшимися губами.
— Маринка! — испуганно позвала Докия. — Марина!
Губы Маринки жалко вздрогнули и приоткрылись. «Пить», — догадалась Докия. Быстро сбросив туфли и подобрав выше коленей юбку, она, легкая и гибкая, взобралась на подоконник, опустила ногу на край кровати. Оказавшись в комнате, метнулась в большую горницу и тут же вернулась с кружкой воды. Осторожно подсунула руку под горячую Маринкину шею, бережно приподняла ей голову и поднесла кружку к губам.
Через некоторое время на бледном, даже зеленоватом лбу Маринки взбугрились капли пота и начали медленно скатываться к иссиня-черным бровям. Докия краем простыни промокнула девушке лоб и заметила, как при этом шевельнулись ее длинные и темные ресницы. Маринка медленно открыла глаза. Дикие и мутные, они поначалу ничего, кроме беспамятства, не выражали, но постепенно начали проясняться, будто невидимый ветерок сдул с них туманную пелену. Еще мгновение, и они запылали синевой, радостно заискрились, а на щеках Маринки выступил слабый румянец.
— Андрей, спасибо… — тихо и жалостливо проговорила она. — Я получила твое письмо…
Докия только теперь заметила лежавшие поверх одеяла разорванный конверт и листок тетрадной бумаги, исписанный ровным почерком.
— Я сейчас… сейчас немножко отдохну и встану, — снова заговорила Маринка.
— Лежи, лежи, тебе нельзя вставать, — сдерживаясь, чтобы не заплакать, Докия поправила на Маринке одеяло.
— Нет, нет, я сейчас! — Маринка приподнялась, взяла с табуретки свою кофтенку и судорожно стала надевать ее поверх белой, с короткими рукавами сорочки. — Я сейчас!
— Ну, нельзя же. Ты больная! — взяв Маринку за плечи, Докия попыталась уложить ее на подушку.
Маринка вдруг затрепетала всем телом и с бесчувственной горячностью обвила ее шею холодными, слабыми руками.
— Андрей!..
42
Степан Прокопович Григоренко сидел в плетенном из лозы кресле под увитой диким виноградом стеной своего домика и наслаждался отдыхом. Позади суматошный рабочий день — один из многих дней конца жатвы, когда партком производственного управления напоминает штаб ведущего наступления полка, а он, Степан Прокопович, — его командира.
Стоял тихий вечер. Клумбы источали обновленные запахи цветов, легко вздохнувших после дневной жары. Близко к дому подступали садовые деревья неподвижные, отягощенные зрелыми плодами. От них тоже веяло свежим и влажным ароматом, наводившим почему-то на мысль о приближающейся осени. В подкрашенном вечерней зарей небе носились в изломанно-стремительном полете ласточки.
Заходить в дом Степану Прокоповичу не хотелось. Жена его, Саида, еще с утра заступила на суточное дежурство в больнице. Значит, придется ужин готовить вдвоем с не очень послушной дочуркой Галей. Но есть еще не хотелось. Да и Галя занята с подружками — непрерывно включает недавно купленный магнитофон, и «модная» музыка гремит в раскрытые окна на всю улицу.
Магнитофон стал в доме небезопасной игрушкой. Однажды Галя записала на пленку, как Степан распекал по телефону яровеньковского председателя колхоза за какую-то оплошность. А во время ужина «угостила» отца этой магнитофонной записью. Степан только кряхтел от досады на себя, впервые со всей ясностью поняв, что раздражение при деловых разговорах — плохой помощник, а крутые слова не лучшие аргументы.
Потом он отомстил Гале сполна. Замаскировав на кухне микрофон, выждал, когда языкастая Галя начнет пререкаться с мамой по поводу мытья посуды, и включил запись. А в присутствии Галиных подружек продемонстрировал горячий «кухонный диспут». Сколько было хохота и визга! Теперь Галя, прежде чем огрызнуться на какое-либо замечание, бросает испуганный взгляд на магнитофон.
Не нравится Степану Прокоповичу, что увлекается его двенадцатилетняя дочурка сверхмодными песенками, записанными через радиоприемник. Что за вкусы у подростков! Ведь не музыка, а металлический лязг, не голоса, а стоны или вопли. И сейчас из окна ржаво дребезжали тарелки джаза и гнусавил сиплый голос — не то старушечий, не то пропойцы-мужика.
Странно Степану Прокоповичу. В эпоху высочайшего расцвета науки и техники, когда ум вознес человека в космические дали и когда коммунизм из идеи превращается в реальную действительность, находятся «жрецы» от искусства, творящие нечто пещерное, вне радуги жизни, вне природы прекрасного, словно живут они на дне безнадежного отчаяния. Впрочем, действительно — все подделки под искусство есть не что иное, как следствие нравственного вырождения и утраты всякой духовной связи со своим народом. Вот и появляется музыка, в которой вместо страстности выражения, грациозности и гармоничного равновесия ритм наполняется пошлой какофонией, перемеженной бредовым шепотом, возведенным в ранг песни. Тьфу!.. А подростки, раскрыв от удивления рты, поражаются этой непривычной «новизне», не в силах по достоинству оценить ее своим еще зеленым умом и зыбким чувством.
Степан Прокопович любит наедине поразмышлять о сложностях жизни и назначении в ней человека. Но не успели его мысли взять привычный разбег, как послышался хлопок калитки, и на песчаной дорожке, ведущей к крыльцу дома, появился сутулый, одетый по-праздничному старик с объемистым узелком в руке. Степан узнал в нем Кузьму Лунатика из Кохановки и крайне удивился, что тот вдруг пожаловал к нему домой, да еще в такое неурочное время.
Кузьма, не видя за цветочной клумбой Степана, в нерешительности остановился, с робким любопытством оглянулся на цветник, на рясные белостволые яблони, затем устремил пристально-вопрошающий взгляд в раскрытое окно дома, откуда выплескивался какой-то музыкальный фаршмак. Вдруг сквозь сонм звенящих и дребезжащих ударов вырвался разбойный посвист, а затем надсадный мужской вопль. Будто кому-то всадили нож между лопаток (это певец так начал песню), и ошарашенный Кузьма даже присел от неожиданности. Дрожащей рукой он быстро перекрестился и в испуге попятился к калитке.
Степан не удержался — захохотал. Крикнул в открытое окно Гале, чтоб выключила магнитофон, и когда музыка оборвалась, поспешил к неожиданному гостю.
Увидев Степана Прокоповича, Кузьма приободрился, старческое лицо его засветилось виноватой улыбкой.
— Здравствуйте, Кузьма Иванович! — первым поздоровался Степан, протягивая старику руку. — Что, не понравилась вам музыка? — И кивнул головой на окно.
— Пусть бог боронит, — Кузьма зачем-то сдернул с головы картуз и покачал лысым белым черепом. — Я думал, беда в твоем доме стряслась. А это, говоришь, радио? Наверное, по пьяному делу буянят.
Степан погасил смешок, догадываясь, что Кузьма приехал с какой-либо просьбой или жалобой. Без энтузиазма спросил:
— Что-нибудь случилось, Кузьма Иванович?
— Случилось? — с удивлением переспросил старик, но, видать, вдруг вспомнил, зачем пришел, и лицо его приняло озабоченное выражение. Прискакал я к тебе, Степан Прокопович, как к нашему районному батьке!
— Какой же я батька? — усмехнулся Степан. — В сыновья вам гожусь.
— Ты не суперечь! — Кузьма смотрел на Степана Прокоповича с любовной улыбкой, хотя в глубоко сидящих глазах его засверкали плутоватые огоньки. — До сих пор горючими слезами плачет по тебе Кохановка, потому как никто в ней не может сравниться с тобой ни разумом, ни добротой.
— Ну, это вы уже наговариваете на кохановских людей. — Степана разбирало любопытство, какая же последует просьба после столь откровенной лести.
Но Кузьма вдруг заговорил с неприкрытой иронией:
— А что ты знаешь о кохановских людях? Ты у кого из них, кроме Павла Ярчука да Тараса Пересунько, был в хате за последние десять лет? Конечно, — старик заговорил вроде со снисхождением, но ирония в его голосе зазвучала еще едче, — где тебе взять времени на нас, простых да смертных? На твоих плечах весь район, а над тобой начальства в области, как семечек в тыкве. И каждый наказы дает да отчетов требует. Вот и мечешься между начальством и головами колхозов, а для нас, глубоких колхозников, часу уже и не остается. — Старик скрипуче засмеялся, потирая рукой длинный багровый нос и пряча в глазах бесовскую хитрецу.
— Ой, Кузьма Иванович! Вы все такой же насмешник! — Степан терялся в догадках и не знал, как держать себя.
— Да побойся бога! — с притворной обидчивостью ответил Кузьма. Какая тут насмешка? Святую правду говорю! Нам же снизу видней, что делается на верхотуре.
Такого острословия Степан Прокопович раньше не замечал за старым Лунатиком и, усмехнувшись, с любопытством глянул на продолговатый узел в его руке. Серьезно спросил:
— Что же привело вас в такое позднее время ко мне?
— Как тебе сказать?.. Без нужды мы к начальству не ходим. — Кузьма выразительно посмотрел на дверь дома. — Но вот интересно мне: ты нашего брата только на службе, в казенном кабинете, принимаешь или можешь и в хату пригласить?
— Да, конечно же! — спохватился Степан. — Заходите в хату, будьте гостем.
— О, это уже почти по-христиански! — обрадовался Кузьма. — А то у меня такое дело, что при посторонних ушах, да еще стоя, его не разгрызешь.
Озадаченный Степан повел старика в дом.
В просторной гостиной Галя и ее две подружки «колдовали» у магнитофона.
— Неужели это все твои девчата?! — поразился Кузьма, всматриваясь в лица девочек.
— Вот моя, — Степан ласково взял Галю за плечи. И сказал ей: — Тебе, дочка, быть сегодня хозяйкой. Поставь на плиту чайник да посмотри, что у нас там стынет в холодильнике.
Затем пояснил Кузьме:
— Сегодня я холостяк. Жинка дежурит в больнице.
Кузьма промолчал, шевеля губами вслед каким-то своим мыслям и теребя пальцами обветшалую бороденку. Степан Прокопович догадался: поразили старика по-восточному раскосые глаза Гали и ее смуглое скуластое лицо. Но пояснять ему ничего не стал.
Подружки Галины убежали домой, сама Галя ушла на кухню собирать ужин, а Кузьма с любопытством оглядывал квартиру Степана Григоренко.
В просторной гостиной с восточными коврами на полу и над диваном стояли пианино, стол, сервант и тумбочка с магнитофоном. Но Кузьму больше всего поразили книжные полки, видневшиеся сквозь раскрытую дверь в спальню, которая служила и кабинетом.
— Неужели все прочитал?! — ахнул старик, бесцеремонно заходя в спальню и рассматривая книги.
— Конечно, — усмехнулся Степан.
— Тогда я дюже разумно сделал, что пришел к тебе. А то была думка махнуть прямо в область, к самому секретарю обкома товарищу Квите. Мы же с ним знакомы! Но сейчас вижу, что и у тебя хватит грамотности кое-что мне растлумачить, а может, и написать письмо в правительство.
После этих слов Кузьма подошел к своему узлу, лежавшему под пианино в гостиной, и, развязав его, достал большую, оплетенную тонкой лозой бутыль, заткнутую осередком кукурузного початка. Затем торжественно водрузил бутыль на стол.
— Что это? — понизив голос, спросил Степан Прокопович, догадываясь, какая жидкость в оплетенке.
— Самогонка! — вызывающе выпалил Кузьма.
— Магарыч? — помрачневшее лицо Степана Прокоповича стало наливаться краской.
— Нет, этот самый, как его?.. ага!.. экс… экспонат… Ты думаешь, старый Кузьма такой лопух, что пойдет к партийному секретарю с магарычом? Каждый знает, что выгонишь в три шеи! Тут, брат, дело посурьезнее.
Степан Прокопович был окончательно сбит с толку. Присев на стул и усадив на диване Кузьму, он уставил на него требовательные глаза.
— Только не перебивай меня, Степан Прокопович, дай высказаться по порядку. — Кузьма деловито шмыгнул багровым носом.
— Ну, слушаю.
— Слушай. — Старик поерзал на диване, как бы испытывая его надежность. — Поначалу вот такая… как ее?.. ага!.. пре… преамбула! Значит, так… Только не перебивай, будь ласков.
В это время зашла Галя со скатертью в руках. Степан тут же взял со стола оплетенку и поставил ее на пол, у ног Кузьмы. Старик при этом нахмурил седые брови и обидчиво шевельнул усами. Но когда увидел, что Галя стала накрывать стол тугой белоснежной скатертью, удовлетворенно крякнул.
— Ну, рассказывайте, — поторопил Степан.
А Кузьма не мог оторвать любопытного взгляда от Гали, которая, выдвинув из серванта ящик, загремела вилками и ножами, потом, сдвинув стеклянную створку, начала доставать тарелки.
— Значит, так, — продолжил разговор Кузьма. — Вот ты, Степан Прокопович, партийный секретарь района, к самогонке относишься как к злостному элементу.
— Разумеется, — Степан ухмыльнулся не только словам Кузьмы, а еще тому, что Галя, сверкнув на отца плутоватыми заговорщицкими глазами, поставила на верх серванта микрофон и щелкнула кнопкой магнитофонной записи.
— Но я должен со всей сурьезностью сказать, — развивал свои мысли Лунатик, — что самогонка, или, по-научному, самодельная горилка, нужна в селянской жизни так же, как, скажем… на собраниях президия. Без нее никакого порядка.
Кузьма не догадывался, что теперь каждое его слово улавливает и записывает неведомая ему хитроумная машина — магнитофон.
Старик степенно, с глубокой убежденностью в непреклонной своей правоте, стал доказывать Степану Прокоповичу, что традиции украинского села, да и не только украинского, обязывают крестьянина пригласить, скажем, на свадьбу всех родственников до единого человека.
— А это, имей в виду, — Кузьма будто пригрозил Степану Прокоповичу, целая рота! Набирается человек шестьдесят, семьдесят! И каждого треба угостить до стельки! Где же набрать столько грошей, чтоб купить такое море казенной водки? Кто это выдержит такую нагрузку на карман? Вот, стало быть, надо немедля издать такой закон, который бы позволял… нет, не позволял, а требовал от селян гнать горилку на тот случай, если кто свадьбу справляет или провожает сына в армию, кто день рождения отмечает или к кому из города родня должна приехать… Да мало ли бывает случаев, когда нам без горилки труднее, чем тебе без директивы из области!
Степан, еле сдерживая смех, помалкивал. Он не хотел вступать в разговор, дабы не портить магнитофонной записи. А Кузьма воспринял его молчание, как неоспоримость своих доказательств, и с воодушевлением продолжал:
— Так почему же, едят его мухи, милиция не разумеет этого?! Приехал, понимаешь, в село полномоченный и махнул с членами сельрады по хатам, где есть самогонные аппараты. Заранее знал, куда идти! И меня, раба божьего, тоже застукали! Полную машину кубов да змеевиков нагрузили!
Дальше Кузьма стал подробно объяснять, у кого именно из кохановчан изъяли самогонные аппараты, называя людей по фамилиям или по уличным кличкам — не всегда благозвучным.
За окнами день почти потух, и в комнате стал разливаться синий сумрак. Вошла из кухни Галя, осторожно держа в каждой руке по две тарелочки — со шпротами, скибочками сала, красной икрой и костромским сыром. Степан Прокопович поднялся ей навстречу, боясь, что она уронит тарелки. Но в это время в спальне зазвонил телефон.
— Иди, папа, сама управлюсь, — сказала Галя.
В спальне, где в окно заглядывал со двора густой куст сирени, уже было полутемно, и Степан Прокопович, прежде чем снять телефонную трубку, включил электричество.
В трубке послышался знакомый певуче-гортанный голос Саиды. Она всегда, когда дежурит, звонит вечером домой. Саида интересовалась, все ли дома в порядке, и сказала, что завтра задержится в больнице позже обычного, ибо привезли девушку с сильным нервным потрясением, за которой Саиде надо понаблюдать. Степан Прокопович не стал распространяться о том, что у них неожиданный гость, и, пожелав жене счастливого дежурства, вернулся в столовую.
Здесь уже тоже горел свет. Магнитофон был выключен, а Галя хлопотала у стола, расставляя закуски.
Степан Прокопович принес из холодильника запотелую бутылку «столичной» водки, поставил на стол две рюмки и торжественно произнес:
— Прошу, Кузьма Иванович, к столу! Будем вечерять, а заодно и попробую объяснить вам, что самогонка не друг в нашей жизни, а лютый враг. — И налил «столичной» чуток себе, а гостю — полную рюмку.
Кузьма смотрел на Степана досадливо-сожалеющим взглядом.
— Значит, ничего я тебе не доказал? — спросил он со вздохом.
— Нет, — ответил Степан. — Дело в том, что в жизни людей есть традиции и есть вредные пережитки, с которыми надо бороться… Ну, за ваше здоровье!
— А чего же налил себе такую кроху? Десны полоскать?
— Нельзя мне много. Сердце…
— Больное?
— Да.
— То-то не можешь ты понять мужика. — И Кузьма лихо опрокинул содержимое рюмки в рот. Не закусывая, поднял с пола свою бутыль. — А теперь попробуем моей, незаконной. Незаконная бывает слаще законной.
— Нет-нет, — запротестовал Степан. — В мой дом со своей выпивкой не ходят. Обидите.
— Брезгуешь? — старик с неохотой поставил бутыль под стол.
— Я же сказал: я против самогонки. Давайте закусим.
Тем временем Галя, прислушиваясь к застольному разговору, перемотала на магнитофоне ленту и, лукаво подмигнув отцу, включила воспроизведение звука. Вначале брызнула громом меди какая-то музыка, записанная раньше.
Кузьма, прислушиваясь к магнитофону и решив, что это радиоприемник, какие имеются в Кохановке почти в каждой хате, особого интереса к нему не проявил. Он старательно накалывал на вилку непослушную шпротину.
Степан Прокопович, разрезая на тарелке упругий помидор, свежо пахнущий грядкой, краем темного смеющегося глаза поглядывал на своего гостя.
Вдруг музыка оборвалась, и послышался хрипловатый, усиленный репродукторами голос Кузьмы Лунатика. Кузьма, как это всегда бывает в первый раз, не узнал своего голоса и продолжал единоборствовать со шпротиной. Из магнитофона между тем неслась его страстная речь:
«…Должен со всей серьезностью сказать, что самогонка, или, по-научному, самодельная горилка, нужна в селянской жизни так же, как, скажем… на собраниях президия. Без нее никакого порядка».
При слове «самогонка» Кузьма икнул и застыл с раскрытым от крайнего изумления ртом. Близко поставленные и глубоко сидящие глаза его, казалось, сольются сейчас в один большой глаз — так округлились они и выпучились, сверкая то ли слезой, то ли каким-то внутренним огнем.
А магнитофон продолжал вещать о традициях украинского села и о необходимости «гнать самогонку».
— А… а… я тебе сейчас о чем толковал?! — вдруг заорал Кузьма на Степана Прокоповича. Его лицо выражало неуемный, почти детский восторг, радостное удивление и растерянность. — Нет, нет! Ты послушай! Послушай, что говорит радио!
Степан снисходительно посмеивался и кидал предупреждающие взгляды на Галю, которая зажала ладонями рот и захлебывалась от хохота.
— Есть же разумные люди! — продолжал бурно восторгаться Кузьма. Тоже понимают, не то что ты, Степан Прокопович!
Степан не успел опомниться, как Кузьма выхватил из-под стола бутыль, ловким движением руки раскупорил ее, налил полные рюмки, а затем торжественно, с чувством своей правоты, водрузил оплетенку на середину стола.
— Пей! Само радио советует!
Степан, облокотившись на стол и закрыв ладонями глаза, беззвучно смеялся, а в комнате не утихала громкая, с металлическим звоном проповедь о том, что на казенную водку мужик грошей не напасется, а посему нужен закон о самогонке.
Кузьма торжествовал:
— Во-во!.. Понимают! Святую правду кроют! Эх-ма, есть правда на белом свете!
А затем стал уговаривать Степана, глядя на него с чувством собственного превосходства:
— Ну, пей же! Пей! Ничего с твоим сердцем не сделается, ежели хлебнешь стаканчик самогонки и скажешь об ее крепости свое партийное слово.
Магнитофон уже жаловался на милицию и на сельсовет, которые стоят поперек дороги самогонщикам.
— Какой большой свет, а везде одинаково делается, — продолжал удивляться Кузьма. — Я только, только сейчас рассказывал о таком же! Во! Слышишь, Степан Прокопович, и у нас в Кохановке так было! Ей-бо, не брешу!
Лунатик залпом выпил рюмку самогонки, затем, потирая от великого счастья руки, стал цепким взглядом высматривать на столе, чем бы ему закусить, как магнитофон начал называть знакомые фамилии и неблагозвучные уличные клички кохановчан, пострадавших от наезда милиции… Кузьма подскочил со стула как ужаленный. В глазах его затрепетал ужас, а по лицу стала разливаться бледность. Он трижды перекрестился, попытался что-то сказать, беззвучно шевеля губами и судорожно глотая воздух. А потом, так ничего и не сказав, опрокинул стул и метнулся к дверям. Тут его и настиг Степан Прокопович, крикнув Гале, которая, упав грудью на подоконник, визжала от смеха, как поросенок: «Выключи!».
Когда магнитофон умолк, Степан Прокопович усадил Кузьму на место и начал его успокаивать:
— Не радио это! Магнитофон — машина такая. Вы говорили, а Галя записала ваш голос.
— Не… Не бреши… — слабым и просящим голосом ответил Лунатик. Ничего она не записывала… Она на кухне хозяйничала.
— Машина сама записывала.
Встревоженный бледностью лица Кузьмы и сумасшедшинкой в его глазах, Степан Прокопович долго и обстоятельно разъяснял, что такое магнитофон; ссылался на патефонные пластинки, на старые граммофоны.
Старик, притихнув, некоторое время размышлял над словами Степана, а затем немощно сказал:
— Нет, без чертячей силы тут не обошлось.
Степан опять стал убеждать его.
Наконец Кузьма будто успокоился и даже обрадованно засмеялся.
— А я сейчас проверю! — оживляясь, сказал он. — Так, говоришь, нечистая сила тут ни при чем? Вот я сейчас прочитаю молитву, а твоя машина пусть попробует запишет ее. Вот хай попробует, а я потом послушаю.
Степану Прокоповичу ничего не оставалось, как согласиться на условие своего гостя, уверовавшего в то, что уличит Степана в сношениях с нечистой силой.
…К удивлению соседей и прохожих, из раскрытого окна дома секретаря парткома Степана Григоренко вдруг разнеслось хмельное молитвенное песнопение:
Христос воскресе из мертвых. смертию смерть поправ и сущим во гробах живот даровав…43
Через некоторое время на обочине улицы возле подворья Степана затормозил, мигнув красными огнями, «газик». Из машины вышли Павел Ярчук и инструктор обкома Арсентий Хворостянко. Видя, что окна в доме секретаря парткома ярко освещены, они уверенно зашли в калитку, но вдруг точно споткнулись о невидимый порог. Оба явственно услышали… церковную молитву (!). Дребезжащий старческий голос, старательно и самозабвенно выводил хвалу Иисусу Христу! Впечатлительному Арсентию Хворостянко даже почудился сладостный дым ладана.
Павел Ярчук и Арсентий Никонович растерянно осмотрелись по сторонам: в тот ли двор зашли?.. В тот!.. Удивленно переглянулись и, не зная, что и подумать, быстро зашагали сквозь густеющую синеву вечера к крыльцу дома.
Неожиданный приход гостей поверг Степана Прокоповича в смятение. Магнитофон уже молчал, а Степан, здороваясь с Павлом и Арсентием за руки, потерянно и глуповато улыбался, догадываясь, что мрачное молчание пришедших вызвано их крайним недоумением. А тут еще на столе бутыль с самогоном мозолила всем глаза!
Сбивчиво стал объяснять нелепую ситуацию, посматривая с вымученной улыбкой и укоризной на Кузьму Лунатика, который стоял, не обращая ни на кого внимания, возле магнитофона и смотрел на него с почтительным удивлением.
На выручку отцу, сама того не подозревая, пришла Галя. С визгливым хохотом, заикающейся скороговоркой она бесхитростно рассказала, как «дедушка напугался самого себя…».
Когда была преодолена неловкость и гости уселись на диван, Степан полушутливо, полусерьезно предложил Кузьме Лунатику взять со стола свою бутыль и вылить самогонку в раковину водопровода на кухне. Кузьма понял главное: самогонка не должна оставаться на столе, а хозяин дома не должен иметь к ней отношения. И он, взяв в руки оплетенку, обратился к Павлу и Арсентию Никоновичу, будто жалуясь на Степана:
— Может, хоть вы попробуете моего лекарственного зелья! А то Степан Прокопович дуже гордый. Брезговает и гнет линию против самогонки.
Не получив согласия, старик с сожалением спрятал оплетенку в узел и стал прощаться.
— Если вы домой, обождите чуток, — сказал ему Павел. — Подвезу.
— Другой бы не согласился, — весело откликнулся Кузьма. — А я не откажусь! Побегу занимать лучшее место в машине. — И вышел из дому, догадываясь, что начальству надо о чем-то потолковать без свидетелей.
Когда за Кузьмой Лунатиком закрылась дверь, Степан Прокопович, не скрывая тревоги, спросил:
— С какими-нибудь вестями?
— Да вот, — хмуро заговорил Павел Платонович, — в обком партии анонимка на меня поступила. Товарищу Хворостянко поручили расследовать.
— О чем анонимка? — насторожился Степан Прокопович.
— Трудная история, — Павел вздохнул и с грустной неторопливостью стал рассказывать о своей памятной фронтовой встрече с Черных и недавней бурной стычке с Настей в кохановском клубе.
Степан Прокопович, слушая невеселое повествование Павла, нервно прохаживался по комнате. Задумчивым взглядом следил за ним Арсентий Хворостянко.
— Что же ты молчал до сих пор?! — накинулся Степан Прокопович на Павла, когда тот закончил исповедь сообщением о болезни Маринки.
— Разговор об этом у нас с тобой не заходил, — Павел виновато развел руками. — Да и не хотелось усугублять беду Насти.
— Голова ты садовая! — лицо Степана покрылось румянцем. — Да будет тебе известно, что Черных партизанил в моем отряде! И по моему заданию в разведку ходил, с которой не вернулся!.. Ему Настю жалко! А меня тебе не жалко, моих партизан не жалко? Да, может, этот Черных карателей нацелил на наш отряд!
— Об этом я не подумал, — растерянно ответил Павел. И после томительной паузы спросил: — Но что изменилось бы, если б я сразу рассказал о встрече с ним?
Последние слова будто ударили по лицу Степана Прокоповича. Он даже отпрянул от Павла и, уставив на него темные, негодующие глаза, гневно спросил:
— Тебе разве все равно — живет вокруг нас правда или ложь?.. Ты же коммунист! Если советская власть простила полицаев, власовцев и других сволочей, прислуживавших фашистам, из этого не следует, что ты можешь покрывать кого-нибудь!.. Государство может прощать, но забывать никогда!.. Если хочешь знать, ты совершил преступление еще тогда, когда увидел этого негодяя Черных умирающим. Ты должен был сказать в медсанбате, какая штучка попала к ним. Хотя бы для того, чтоб не похоронили его в братской могиле вместе с геройски погибшими нашими солдатами, чтоб почестей воинских ему не отдали, чтоб на могиле его, кроме чертополоха, никакого знака!
Арсентий Хворостянко смотрел на Степана Прокоповича немигающим взглядом, и в его глазах гнездился не то страх, не то завистливое удивление. А Павел Ярчук, пересев с дивана на стул, склонил голову над столом и в тяжкой задуме обхватил ее руками.
— И то, что сейчас дочка Насти в больнице, — жестким голосом продолжал Степан, — тоже твоя вина. Всю свою жизнь она считала, что отец ее герой. И вдруг такое потрясение!
— Тут и любовная ситуация примешалась, — будто нехотя подсказал Хворостянко.
— Что за ситуация? — Степан Прокопович достал из серванта еще две рюмки, поставил их на стол рядом со своей и налил водки. — Давайте выпьем, а то сердце скулит от досады и злости. Садись, Арсентий Никонович, к столу.
Галя, которая была на кухне и, видать, прислушивалась к разговору взрослых, тут же появилась в столовой, и из ее ловких рук скользнули на стол две тарелки и приборы.
Павел Платонович отказался от рюмки, а Степан и Хворостянко молча чокнулись и выпили.
— Так что же за любовная ситуация? — заинтересованно переспросил Степан Прокопович, когда Галя ушла на кухню.
— В болезни Маринки, — с непонятной усмешкой стал пояснять Арсентий Никонович, — виноват и его сынок, — он кивнул головой на Павла. — Написал ей с целины такое письмецо… Как последней девке!
— Это Андрей? — перебил Арсентия Никоновича Степан. — Вот обормот! А что у них — любовь с Настиной дочкой?
— Вроде да, — сквозь вздох сказал Павел Платонович, подняв голову и разгладив усы. — А тут появился в селе техник-строитель, сын товарища Хворостянко, и начал женихаться к Маринке. Андрей и приревновал.
— Ну, не совсем так, — спокойно возразил Арсентий Никонович. — Мой Юра закончил техникум, в котором учится Маринка. Естественно, зашел к ней в гости. И только…
— Слушай, Павел! — Степан Прокопович вдруг посмотрел на Павла Платоновича с недоброй подозрительностью. — Андрей после службы в армии не набылся еще дома, а ты его на целину спровадил. Меня это удивило… Не связан ли отъезд со всей этой кутерьмой?
— Как тебе сказать? — Павел Платонович, уставив глаза в стол, развел руками.
— Ясно! — Степан грустно усмехнулся, и во взгляде его мелькнуло не то сожаление, не то презрение. — Так сказать, родительской властью хочешь вершить задним числом судьбу сына таким образом, чтоб не породниться с семьей власовца?.. Желание понятное. Но раньше куда смотрел? При чем же теперь Андрей да Маринка, если они действительно полюбили друг друга? Или ты сам не любил никогда?
— Ну хватит! — взорвался Павел Платонович. От закипавшей в нем безадресной лютости и беспомощности черные усы его стали нервически подергиваться. — Хватит гонять меня, как шелудивого цуцика, по углам и бить со всего размаха! Сам понимаю, что неладно все получилось. Но пришел я сюда не каяться и не в жилетку плакаться, а по делу. Ты можешь отозвать с целины Андрея? — Павел смотрел на Степана Григоренко так, будто тот был в чем-то виноват перед ним.
— Да, да, — поддержал Арсентий Никонович. — Врачи советуют. Говорят нужно потрясение на потрясение, так сказать, клин клином… Словом, надо, чтоб Андрей появился в больнице и объяснился с Маринкой.
— Ну что ж, — ответил Степан Прокопович. — Если врачи советуют, вызовем…
44
В утреннем саду свежо пахло дозревающими антоновками. Только что выглянуло из-за леса солнце и бросило косые, еще не горячие лучи под яблони, будто хотело отыскать упавшие за ночь плоды.
А собранные яблоки — краснобокие и совсем красные, желтые и белесые высокими запотелыми горками высились на соломенных подстилках в тени, которую бросала зеленая от бархатистого мха соломенная крыша доживающей свой век небольшой хатенки. В ней когда-то обитал учитель Прошу, принявший мученическую смерть от рук фашистов.
Недалеко от хатенки, у столика на железной ножке, сидел Кузьма Лунатик и крошил на расстеленной тряпочке табак. Столик этот Кузьма года три назад соорудил сам, когда наткнулся на торчавшую из земли трубу. Раньше здесь был дровник, потом свалка садовых подпорок. Заинтересовавшись трубой, старик попытался ее выдернуть, но это оказалось не под силу. Тогда забил трубу еще глубже в землю, наглухо заколотил длинной деревянной затычкой верхнее отверстие, а к затычке пришил огромными гвоздями маленькую круглую столешницу, некогда бывшую крышкой квашни.
Рядом с одноногим столиком виднелась заросшая чахлой полынью и заваленная гнилыми яблоками выемка — след от погреба, в котором во время оккупации немцы нашли скрыню с «крамольными» книгами, изобличившими учителя Прошу. От гнилых яблок в выемке тянуло кислым, бражным запахом, и это наводило Кузьму Лунатика на грустную мысль о том, что ставить теперь закваску для самогона ни к чему, пока не разживется он новым змеевиком взамен изъятого милицией.
Сегодня старому Кузьме предстояло идти в «глиняный поход». Вчера председатель колхоза Павел Ярчук привселюдно попросил его вспомнить забытые глинища и показать их технику-строителю Хворостянко. Очень уж нужна колхозу хорошая глина для строительства — красная и белая. Ну что ж, Кузьма не против послужить для общества, если сам Павел Платонович перед ним шапку снял. Значит, еще ценят старика в селе.
И Кузьма мысленно обозревал окрестности Кохановки — овраги, промоины, обрывистые берега Бужанки, отроги Чертового яра — места, где глина пробивалась на поверхность сквозь толщу чернозема. Одно тревожило старика: вот-вот приедет за ним техник-строитель, а он не может покинуть без надзора грузовик с яблоками. Грузовик стоял у дверей хатенки, будто прислушивался в безмолвной задуме к гудению пчел, хлопотливо роившихся над его кузовом. В кузов еще с вечера были нагружены яблоки, и сейчас солнечные лучи неторопливо пили с них холодную, пахучую росу. Уже давно должен был прийти внук Кузьмы — Федот, чтобы везти яблоки в Воронцовку на сушарку. Но, видать, проспал. И Кузьма лениво поругивался про себя.
А Федот уже был в саду. Насвистывая что-то беспечно-веселое, он шел напрямик, со стороны огородов, пригибаясь под низкими яблонями, которые то и дело норовили смахнуть с его забубенной головы фуражку.
— Доброго ранку, диду! — поздоровался Федот, неожиданно появившись из-за угла хаты.
Кузьма даже вскинулся от испуга, просыпав на колени табак.
— А, что б тебе!.. — незлобиво ругнулся старик. — Будто нечистая сила из проруби — выскакиваешь всегда!.. Не можешь, как люди, дорогами ходить?
— Для меня кругом дороги, — беззаботно засмеялся Федот и полез в кабину машины.
Прогрев мотор, Федот осторожно, чтобы не задеть ветвей яблонь, повел грузовик к выезду из сада. Когда проезжал через укатанную, неглубокую канаву, не успел прибавить газ, и машина, потеряв инерцию, заскользила задними колесами по влажной глинистой крутизне. Федот стал раскачивать грузовик, чтобы рывком выскочить из канавы, как вдруг почувствовал неладное: задняя часть машины стала оседать вниз, отчего лобовое стекло кабины уже смотрело в небо. Убрав газ, Федот выглянул в дверцу назад и похолодел от ужаса. Там, где была канава, зиял узкий черный провал, и грузовик, свесив в него задние колеса, держался только на раме, легшей на противоположную закраину канавы.
— Диду! — не своим голосом заорал Федот, выскочив из кабины.
Но Кузьма уже и сам бежал к грузовику.
— Подземный ход! — выдохнул старик, увидев дыру под колесами.
Федот и Кузьма не могли оторвать глаз от подземной черноты, гипнотизировавшей их своей таинственностью, загадочной связью с давно отшумевшей здесь жизнью. Будто услышали отголоски той давней жизни, а наяву увидели следы людей, обитавших когда-то на этой, такой знакомой, родной земле. Молодой Федот и старый Кузьма одинаково были взволнованы, одинаково ощущали разгоравшееся в них жаркое любопытство и мальчишеский азарт открывательства.
— Как бы машина не бабахнулась в эту дыру, — заговорил, наконец, Федот и осторожно ступил в канаву; тут же почувствовал, что земля под ногами уползает вниз. Испуганно отпрянул назад, и вовремя. Дно канавы рядом с машиной стало оседать и вдруг с гулом оборвалось, раскатив подземное эхо. На Федота и Кузьму глянула уже большая черная пасть подземелья, и дохнул из нее сырой, могильный холод. А гул все продолжался — ухали на невидимое дно обрывающиеся комья глины.
— Тут же прорва золота! — преодолев оцепенение, простонал Кузьма, и в его глубоких глазах огоньками полыхнула алчность. — Фонарь есть у тебя?!
Федот подошел к открытой кабине машины, приподнял сиденье и достал оттуда серебристый цилиндрический фонарь. Затем опасливо приблизился к провалу и нацелил вниз невидимый в лучах солнца пучок электрического света. Без труда рассмотрел в светлом кругу заплесневелую стенку, а затем и дно, куда упала обвалившаяся глина.
— Пока не приехали за мной, надо поискать! — Кузьма смотрел на Федота с нетерпеливой и злой требовательностью. — Сейчас я сбегаю за лестницей, а ты поищи лопату!
Федот вспомнил, как его «протирали с песочком» на комсомольском собрании за доски, «организованные» на лесопилке, и будто от озноба передернул плечами. Но подземелье все-таки манило своей жуткой загадочностью. Конечно же, интересно побывать там первым! Но вот золото… Вдруг, в самом деле, там горы золота?.. Федот не имел понятия, зачем одному человеку, даже одной семье, много золота. Ну, можно поставить золотые коронки на зубы, можно сделать для деда золотую челюсть. А еще зачем? Золото не деньги, за него мотоцикл или телевизор не купишь… Нет, Федот не такой дурак, он, конечно, понимает, что золото можно превратить в деньги. Но это занятие не по нему. Вот если б найти под землей что-то диковинное, чего люди еще не видели!
Тут Федот услышал приближающийся шум мотора и заметил, что на дороге из села заклубилась пыль…
Когда Кузьма Лунатик вышел из-за домика, волоком таща длинную деревянную лестницу, то, к своей горчайшей досаде, увидел, что возле вздыбившейся в канаве машины Федота тормозил колхозный грузовик. И старик, тут же приняв какое-то решение, свернул с тропинки в сторону, где под яблонями, на пересохшей земле, росла чахлая трава.
— Федот! — требовательно крикнул он внуку. Когда Федот оглянулся, Кузьма выразительно потряс в руках концы лестницы и уронил ее на землю.
Федот понял замысел деда: смотри, мол, вот лестница… Но Федота сейчас интересовало другое. В кузове подошедшей машины сидели на скамейке-перекладине две девушки с лопатами, а в кабине — Феня, которая еще недавно работала на «пожарке», и Юра Хворостянко. Странно, что не Феня, а Юра сидел за рулем, хотя водительских прав, как было известно Федоту, техник-строи гель не имел.
«Вот прилипала!» — с ревнивым чувством подумал Федот, глядя, как Феня, прижавшись к плечу Юры, проверяла, выключил ли он зажигание и рычаг передачи скоростей.
Когда Феня — длинноногая, полногрудая, сияя от избытка энергии и веселья лучистыми глазами, — выскочила из кабины, Федот понимающе и хитровато подмигнул ей, но девушка сделала вид, что не заметила этого, и с преувеличенным удивлением заахала, увидев завалившийся грузовик.
— Подземный ход раскрылся, — с деланным безразличием стал объяснять подошедшему Юре Федот, кося глазами на приближающегося деда. — Говорят, золота тут тьма!
— Так оно тебя здесь и дожидается, — вяло засмеялся Юра, хотя в глазах его промелькнуло любопытство. — Но посмотреть бы интересно.
— Давай! — Федот заговорщицки подмигнул Юре. — Тащи лестницу. Дед вон ее в траве спрятал.
И тут коршуном налетел на молодежь Кузьма Лунатик:
— Ну, чего рты пораззявили? Не видели, как этот лопух в прорву влетел?! — Кузьма метнул грозный взгляд на Федота. — Пусть теперь торчит, пока трактор не пришлют, а мы давайте по глину! — И старик снова выразительно посмотрел на внука, говоря ему глазами: «Не зевай».
Но Юра Хворостянко уже понимал хитрость Лунатика.
— Зачем спешить, дед Кузьма? — с наивным спокойствием сказал он. Пусть роса спадет. Ведь не во все места машина пройдет. Пешком придется ходить.
— Не придется, я дорогу машине укажу! — настаивал Кузьма, подталкивая к шоферской кабине Феню. — Садись, Фенька, за баранку!
Феня выжидательно посмотрела на Юру, не зная, что делать.
А Юра, перепрыгнув через канаву, деловито зашагал в направлении хатенки, где лежала в траве лестница. Легко поднял ее на плечи и, лавируя между яблонями, принес к провалу.
Лунатик понял, что хитрость его не удалась.
— А может, вправду не спешить? — притворно засомневался он. И вдруг самоотверженно предложил: — Ладно, давай, Федот, полезем, обсмотрим, что там да как. А вы стойте на карауле и, если нас завалит, кличьте людей на подмогу.
Но Юра взял инициативу в свои руки. Подняв под яблоней толстую подпорку, обвалил ею края дыры и, убедившись, что земля больше не падает в провал, спустил туда лестницу.
— Юра! — Феня испуганно вцепилась в его рукав. — Вдруг завалит?
— Ну и пусть завалит, — с откровенной издевкой сказал Федот. — Все равно он на тебе не женится.
— А он мне нужен не для этого! — вызывающе ответила Феня, окатив Федота презрительным взглядом.
— Для чего же? — искренне удивился Федот.
— Для того, чтобы рядом с ним твоя дурость была видна!
Слова Фени уязвили Федота, но он раскатисто захохотал.
— Вот спасибо! Крой меня еще! Когда ругают, удача приходит. — И, бросив на дно подземелья лопату, Федот первым начал спускаться по лестнице.
Вскоре снизу послышался его гулкий голос:
— Юра, давай сюда!
…Мертвая подземная немота была напоена затхлой и студеной сыростью. В ярком луче фонаря, рассекавшем густую зловещую тьму, Федот и Юра осматривали подземный ход. Неширокий, в два шага, с угловатым сводом, он тянулся одним концом в сторону села, другим изгибался к лесу. Стены и своды подземелья, местами обваленные, были покрыты толстым серым махром плесени, а где сочилась влага — холодной слизью. В глаза бросались устрашающие, похожие на змей корневища, вившиеся под сводом; одни мертвые, истлевшие, другие — упругие, живые, с волглым коричневым оттенком.
Ощущая лихорадочную дрожь в теле, Федот к Юра медленно шли по подземелью в сторону леса. С острым любопытством рассматривали под ногами черепки каких-то сосудов, обломки досок, превратившиеся в труху. И вот за поворотом луч фонаря уткнулся в завал. Глыбы земли, сорвавшись со свода, перегородили проход. Над завалом, образуя новый свод, густо сплелись корни какого-то дерева.
— Зря пошли в эту сторону, — почему-то шепотом проговорил Федот, ощупывая лучом фонаря небольшой лаз под корневищами.
— Давай вернемся, — предложил Юра.
— Давай, — согласился Федот и, когда посветил фонарем назад, заметил, что недалеко от завала выглядывают из стены белесые камни.
Когда подошли к ним, разглядели, что стенка в этом месте выложена камнями и заштукатурена глиной. Камни виднелись там, где штукатурка обвалилась.
Юра лопатой стал обстругивать штукатурку, и вскоре обозначился квадратный замурованный вход. Что там? Юра постучал лопатой, потом потолкал стенку плечом — тщетно: камни не поддавались.
— Надо бежать за ломом, — сказал Федот, охваченный новым приливом любопытства.
В это время послышался гулко-раскатистый голос Фени:
— Ге-ей! Хлопцы! Где вы там?!
— Вот девка! — засмеялся Федот. — Минуты не может потерпеть без хлопцев. — И заорал: — Фенька, тащи сюда лом!
— Что-о?!
— Лом! Железяку!
— Сейчас схожу!
После короткого молчания Федот насмешливо спросил у Юры:
— Ты что, переключился с Маринки на Феню?
— Тебя это очень интересует?
— Не очень, но боюсь, как бы тебе наши хлопцы бока не намяли. Не успел в селе появиться, а уже двум девчатам головы задурил.
— О ком же ты больше печалишься — о Маринке или о Фене? — не без ехидства поинтересовался Юра.
— Я лично ни о ком, — натянуто засмеялся Федот. — Моя невеста, наверное, где-то еще подрастает.
— Моя тоже, — серьезно ответил Юра. — Так что передай хлопцам, чтоб зря не бесились.
— Эге-гей! Посветите! — послышался голос уже не Фени, а старого Кузьмы.
Федот направил свет фонаря в сторону голоса, но луч уперся в изгиб хода. Пришлось пойти деду навстречу.
— Ну, что тут? — осипшим от волнения голосом спросил Кузьма, и Федоту показалось в темноте, что глаза деда сверкнули, как у кошки, зеленым блеском.
— Что-то замуровано, — ответил Юра и, взяв у него лом, стал расшатывать каменную кладку.
Через некоторое время в стенке уже образовалась дыра, из которой ударил сладковатый и тошнотворный запах тлена. Федот торопился скорее посветить в глубь нее, но Юра все продолжал обваливать камни.
— Хватит! — не вытерпел Кузьма Лунатик. — Давай поглядим, что там сховано!
И вот в луче фонаря открылась высокая и просторная пещера. Вдоль стен — спаянное ржавчиной железячье — то ли сабли, то ли косы… Груда поросших плесенью книг в углу. Истлевшая, почти черная солома. На соломе что-то белело… Человеческий скелет! Рядом со скелетом — заржавевшая узенькая кровать с сохранившимся тюфяком, а на кровати среди каких-то лохмотьев тоже устрашающе белели кости.
Юра молча оттеснил от дыры Кузьму и Федота и несколькими ударами лома обвалил каменную стенку до основания. Затем все зашли в пещеру. Обратили внимание на свисавшую железную трубу, обросшую темно-коричневой коростой. Кузьма взялся за нее руками, осторожно пошатал и с изумлением проговорил:
— У меня же стол на этой трубе держится. А ну, посвети вверх!
В потолке увидели нишу, сквозь которую обвалились черные от гниения доски. Верхние концы досок были прижаты к закраинам ниши книгами темными, заплесневевшими, сросшимися. Стало ясно, что книги, которые лежали в углу пещеры, упали оттуда… И Кузьма вспомнил тот далекий день сорок первого года, когда он с учителем Прошу втаскивал в погреб скрыню с книгами.
— То ж учительский льох![4] — с удивлением воскликнул старик. — Его немцы гранатами обвалили!
Луч фонаря снова опустился вниз. Трудно было оторвать глаза от человеческих костей. Скелет, лежавший на соломе, был длинным и узким. Белый, как большой булыжник, череп покоился на сбившихся, не тронутых тленом светло-желтых женских волосах. На шейных позвонках тускло краснели бусины мониста. А на длинные кости ног были надеты черные ветхие валенки.
На кровати среди истлевших лохмотьев лежал скрюченный скелет подростка.
— А может, это… Христя и Иваньо? — с дрожью в голосе пролепетал Кузьма Лунатик.
45
Давно уже Степан не чувствовал себя таким молодым и сильным. Стоит ему только взмахнуть руками, и он легко поднимется над этой колчевато-скалистой землей. И вот он уже машет и летит. Бесстрашно, с упоительным восторгом, неторопливо проплывает над зияющим таинственной чернотой ущельем, над приземистыми окаменевшими деревьями. Нет, они совсем не похожи на деревья, но Степан откуда-то знает, что это именно деревья, как знает, что вон за тем глыбистым мрачным холмом сейчас откроется зеленое море равнины. Откуда он все это знает?.. За холмом действительно раскинулась памятная равнина — пустынно-дикая, безбрежная, но почему-то не зеленая. Степан летит над ней и удивляется: мертвенно-серая земля покрыта трещинами, которые чем-то напоминают морщины на лице давным-давно умершей матери… А вот и мать улыбается жалостливой улыбкой; она одиноко стоит среди равнины и зовуще тянет к нему руки. Степан плавно опускается на землю возле матери… Но это же не мать! Это первая жена его, Христя, сгинувшая куда-то в войну! Она стоит босая в росной траве (откуда же взялась трава?!) и заплетает длинную тугую косу — желто-светлую, как жаркое цветение подсолнуха.
— Христя, куда ты увела нашего Иваньо? — с робкой надеждой спрашивает у нее Степан, но голоса своего не слышит и чувствует, как холодеет в груди оттого, что Христя смотрит на него с испугом; она пятится, встряхивает головой, отчего коса ее распускается, закрывает лицо, а затем и всю Христю. И вот уже перед Степаном не волосы Христи, а желтое облако. Поглотив Христю, оно медленно уплывает в хмурую и холодную высь…
Степан начинает понимать: все это ему снится. И чтобы удостовериться в этом, кусает губу, как делал в детстве. Но вот только не может он вспомнить, должна ли губа во сне болеть, когда прикусишь ее, или не должна. Сейчас губа не болит. «Сон ли это?» — напряженно думает Степан, видя, как тает над ним желтое облако, в котором скрылась Христя.
И, ощущая гнетущую тоску, он одиноко стоит среди знакомой, удивительно знакомой равнины. Догадывается, что эту равнину уже видел в других своих снах. А может, не в снах? Может, давний предок его жил на этой земле, видел ее вот такой, и память предка каким-то чудом воскресла в его памяти?..
Степану кажется, что он сейчас еще подумает, приглядится к равнине и вспомнит что-то важное и очень нужное. Он пытливо оглядывается по сторонам и вдруг видит высокий курган, поросший белесым, метельчатым ковылем. Сердце Степана вздрагивает: он узнает курган, узнает черную от угасшего костра плешину на нем. Да ведь это он, Степан, жег там когда-то костер!..
И вот он у знакомых головешек. Но что это? Ему слышится, как гудит земля, и от этого стона земли сердце его немеет в страхе. Степан знает: гудит земля под копытами несметной конницы!.. Он взбегает на самую вершину кургана, мятущимся взглядом всматривается в безбрежную степь, но видит только ленивые волны на сизом вызревающем ковыле. А топот конницы все ближе. Уже не топот, а грохот, леденящий кровь… Однако страх вдруг исчезает: это не конница ворога, а гром! И сердце заколотилось с такой радостью, что грудь заныла от боли: будет дождь! Ой, как нужен дождь! А грохот все надвигается, и… Степан проснулся.
Мимо дома по булыжной мостовой проезжал грузовик, и от его надсадного рева дрожали стены.
Степан повернулся со спины на бок, прислушался, как гулко бьется сердце в груди, и подумал: «Вот так, в сновидениях, разорвется от радости или кошмаров, а люди будут говорить: он даже не знает, что его уже нет во сне умер…»
Сердце постепенно притихло, и Степан попытался снова уснуть. Перед глазами будто опять заколыхались волны ковыля на равнине… Чудно устроен человек. И прост он, и таинственного еще много в нем, как и во всей природе, во всем мироздании…
Бесконечность вселенной… Как постичь ее человеческим разумом? Как представить себе тайную безмерность пространства?.. Многое узнал человек. Многие двери природы отомкнул. Овладел сказочными силами, которые вынесли его за пределы земли. Но и сам человек в плену у этих сил оказался…
Текут и текут в сонном полузабытьи мысли Степана. Он будто не ощущает себя и будто видит свои мысли-грезы со стороны, как нечто реальное… Вот, кажется, он видит в безбрежной пустыне вселенной песчинку-землю. Эта песчинка заселена миллиардами живых, умных существ — мыслящих, любящих, страдающих, борющихся. Песчинка-земля заполонена страстями людскими. И горькое удивление вызывает мысль о том, что на этой песчинке бывают войны. Еще более удивительно, что многие люди на ней трепещут сейчас перед той силой, которую сами открыли и покорили. Разумные же существа!
И Степан, будто впервые прозревший, несется мыслью своей куда-то за моря-океаны, чтобы воскликнуть там:
«Эй, разумные существа! Посмотрите на себя, на свою земную обитель с высоты вселенной! Вдумайтесь в то, что такое вечность. Вдумайтесь!.. Вы жалкие пигмеи перед вечностью, хотя бы потому, что вечность как протяженность времени пока не подвластна вашему разуму. Ваша жизнь — это мгновение, мизерность которого даже не поддается измерению в категориях вечности. Цените же это мгновение и не употребляйте открывшиеся вам силы против подобных себе…»
Да, земные измерения времени перед вечностью действительно кажутся жалкими. Кто знает, не вскипала ли уже в титаническом буйстве атомов наша земля-планета, может быть вместе с живыми существами, которые, как и нынешние люди, сумели открыть дверь природы, но затем не сумели разумно распорядиться ее дремлющими в первозданной гармоничности силами. Да и кто знает, была ли это действительно первозданность или тоже очередная успокоенность, наступившая через многие миллиарды земных лет или спустя еще более продолжительные времена, которые в неочерченных рамках вечности тоже ничто.
Трудно все это постигать человеку, но надобно, дабы жизнь земную лишить опасной суетности и наполнить ее тем значительным содержанием, на которое указали величайшие в своем просветленном познании мира умы человеческие, ратовавшие за свободу, равенство и справедливость.
Да, полезно иногда человеку окунуться в дерзновенные грезы и рассудительной силой мысли оценить драгоценнейший дар природы — жизнь…
Районный военный комиссар подполковник Гнатюк — человек далеко не заурядный. Невысокого роста, полноватый, с темным крестьянским лицом и острыми серыми глазами, он всегда вносил с собой, так по крайней мере казалось Степану Григоренко, нечто дельно-строгое, приправленное внутренней веселостью и даже некоторой самонадеянностью. Нравился Степану военком Гнатюк; в чертах покладистого характера подполковника он улавливал нечто свое — давнее, молодое, но, к сожалению, ушедшее.
Вот и сегодня, появившись в кабинете Степана Прокоповича, Гнатюк ловко метнул на стоячую вешалку фуражку и с деловитой уверенностью подошел к столу.
— Здравия желаю, начальство! — подполковник крепко пожал Степану руку и раскрыл на столе знакомую коричневую папку. — Получен из Москвы ответ на запрос, которым вы изволили интересоваться.
— Это о чем? — удивился Степан Прокопович.
— О власовце из Кохановки.
— Ну-ну?! — Григоренко потянулся глазами к документу.
— Как и следовало ожидать, в моем приходе — полный порядок! выражение лица Гнатюка было хитровато-ласковым. — Вот официальное уведомление, что документов, подтверждающих пребывание Черных Александра Мусиевича во власовских бандах, не имеется!
— Так и пишут?
— Да, точно так. Вы что… недовольны?
— Я?.. — Степан Прокопович усмехнулся. — Обо мне вопрос не стоит. А вот будет ли доволен голова кохановского колхоза Ярчук? — И он, к удивлению Гнатюка, протянул руку к телефонной трубке.
В эту секунду телефон требовательно зазвонил.
Степан Прокопович досадливо поморщился и снял трубку. Звонил из Кохановки Павел Ярчук.
— А-а, легок на помине! Ты мне и нужен, — с ходу начал разговор Григоренко. — Так вот слушай: Москва отвечает, что человек, который нас интересовал, не значится в списках… Понимаешь, о чем я говорю?
На кохановском конце провода воцарилось молчание, потом послышался вздох, а затем сумрачный голос Павла Платоновича:
— Понимаю… Но сейчас не до этого…
И опять томительное молчание трубки.
— Чего ты молчишь? — недоумевал Степан Прокопович. — Опять что-нибудь стряслось? Андрей не прислал телеграммы?
— Прислал… выезжает… Я звоню не затем, — голос Павла Платоновича звучал с плохо скрытой взволнованностью. — Тебе надо приехать в Кохановку.
— Зачем?
— Надо… Только возьми себя в руки.
— Что случилось?! Не тяни! — Степан ощутил знакомый холодок в сердце.
— Нашлись следы Христи и Иваньо.
— Что?! Повтори!..
— Отыскались следы Христи и Иваньо.
Подполковник Гнатюк, видя, как побелело вдруг лицо Степана Григоренко, кинулся к графину с водой.
46
Никогда раньше Серега Лунатик с такой горячечно-тревожной пытливостью не оглядывался в свое прошлое. А теперь мысли словно раскрепостились и, взяв волю над ним, силком водили его по давно пройденным, трудным дорогам — темным, ухабистым, причудливо-извилистым, покрытым терновником. Сколько сотворено им зла на этих дорогах, столько и зарубок на совести… И вот, растревоженные ошеломляющей вестью о том, что нашлись останки Христи и Иваньо, ноют они, болят, кровоточат.
Разве мог знать Серега, что его донос в немецкую жандармерию ужалит смертью сердца невинных людей? Повесили фашисты учителя Прошу, повесили Олю — сестру Тодоски Ярчук, повесили двух хлопцев-подпольщиков… Целился в предателя, а сгубил самых воинственных и непокорных врагу. И все потому, что во времена оккупации, как, впрочем, во все другие времена, мерил людей меркой своего корыстного сердца, глядел на жизнь будто сквозь волчью нору — с порога своей хаты, о которой ревностно пекся, чтоб была она только с краю.
Почему же непреклонные законы государства не наказали Серегу за его тяжкий грех? Потому, что сотворил черное зло во имя мнившегося ему добра? Или сотворил под предлогом мнившейся справедливости?.. Лучше бы страшная кара, самая жестокая каторга, чем немое непрощение людей, которое каждый день видел он в глазах односельчан, слышал в потаенности их мыслей. От этого даже среди своего призрачного домашнего счастья был глубоко несчастен.
А теперь вот — Христя и Иваньо… Серега смутно подозревал, что каким-то образом имеет отношение к их загадочному исчезновению. При мыслях об этом ощущал в груди холодную тяжесть, будто носил в сердце оружие своей казни. Но старался не верить в гнетущие предчувствия и силой немудреных рассуждений укрощал голос смятенной совести. И еще злобствованием своим на людей, на их холодное, молчаливое отчуждение не давал размягчаться сердцу. Выискивал грехи и пороки у других и упивался ими, точно муха, набредшая на обнаженную язву. И еще любовь к сыну Федоту согревала Серегу в неприветливом для него людском море.
Ох, Федот, Федот… Когда он был крохотным Федяшкой, Серега мог часами носиться с ним по двору, до огороду, по улицам, села, испытывая вечно живое, ни с чем не сравнимое счастье отцовства. Нет же слаще любви, чем любовь к порожденному тобой ребенку, нет тревожнее надежд, чем надежды на благоденствие потомков твоих. Затем яд сомнения безжалостно отравил отцовское счастье Сереги. Чем больше подрастал Федот, тем становилось явственнее, что нет в нем ничего от отца — ни в облике, ни в повадках, ни в характере. Хлопчик тянулся к Сереге по извечной приверженности всех мальчишек земли к отцам, а он, сатанея в душе, казнился мыслью, не зачала ли Наталка Федота в немецком казино, где пробыла несколько дней… А когда приходит сомнение — уходит счастье. И любовь Сереги к Федоту становилась мучительной, настоянной на ревности и призрачной надежде, что тревоги его — плод больного воображения.
Пламенная любовь к Наталке, ослеплявшая и смущавшая когда-то утлый ум Сереги, тоже бесследно растаяла в обыденности супружеской жизни. Может, не умерли, только скрытые робость и удивление перед загадочностью натуры жены. Наталка, даже не пробудив в себе женщины по отношению к мужу, не родив хоть подобия симпатии, стала для него словно живой вещью в доме смиренной и безответной.
Так и жил Серега Лунатик в трудной суетности чувств и мыслей. Когда становилось невмоготу от безысходности, от страха за содеянное во время войны, от гнетущей серости жизни, пускался в пьянство и распутство, не стыдясь беспощадной людской молвы.
И вот этот роковой день… Никто иной, а именно сын его и отец обнаружили подземелье, где, казалось навечно было спрятано еще одно свидетельство невольного злодейства Сереги Лунатика. И теперь, когда неведомая сила заставляла Серегу непрерывно думать о том, как многие дни умирали голодной смертью заживо погребенные в сыром подземелье Христя с малолетним сынишкой, даже его зачерствелое сердце содрогалось от леденящего ужаса. И обливался холодным потом, когда вспоминал о Степане Григоренко. Что происходит в душе Степана, узнавшего, какую лютую смерть приняли его сын и жена? Как встречаться с Тодоской Ярчук — дочкой Христи? Да и со всеми людьми как встречаться Сереге, когда глаза их будто прожигают ему грудь?..
Кохановка замерла в непривычной пустынности улиц и в напряженной тишине. Село будто затаило дыхание. Не шелохнутся листья на деревьях, не послышится лай собак, не скрипнет колесо над криницей. Такая тишина бывает только в поле перед утренней зарей… Даже солнце, перевалив зенит, словно перестало катиться по белесому безоблачному небу, зависнув над Бужанкой.
А может, Сереге Лунатику только чудилась эта непробудно-зловещая тишина и вымерлость всего? Он шагал посреди пыльной и пустой улицы с непокрытой головой, на которой по-молодому курчавилась рыжая шевелюра, с расстегнутым воротом выцветшей, некогда зеленой рубахи, заправленной в потертые, пузырящиеся на коленях, серые штаны. Шагал неторопливо, чуть пошатываясь и заметно хромая.
Серега выпил почти графин водки, но хмельным не был. Чувствовал только тупую тяжесть в голове, сосущую пустоту в груди и желание куда-то идти, что-то делать, лишь бы не думать о том, что сейчас возле клуба собралась вся Кохановка на похороны останков Христи и Иваньо.
Уронив голову и уставив взгляд на пыльную дорогу, Серега только изредка поднимал мерклые глаза, осматриваясь по сторонам. Вспоминалась ему вчерашняя встреча с мальчишками. Крикливой гурьбой, толкая друг друга, они гонялись за мячом. А когда увидели Серегу, проходившего мимо, вдруг застыли на месте, бесцеремонно устремив на него любопытно-жадные взгляды… Присмотревшись к глазам ребятишек, Серега прочел в них не только любопытство, но и враждебность, страх, недоумение. И такая тишина водворилась над сбившимися в кучу хлопчиками, будто мимо них проносили покойника. Сереге даже стало зябко, и он невольно ускорил шаг. Думал, что услышит сзади себя разнобой насмешливых детских голосов: «Лунатик! Лунатик!» Ему и хотелось услышать эту привычную кличку, за которую всю жизнь оскорблялся, но, видать, обидной кличкой мальчишки не могли утолить обуревавшие их чувства. Это Серега хорошо понял. Детские глаза и сопровождавшая его тишина сказали больше, чем услышал бы он, окажись незамеченным, на бабьих посиделках. И может, вчера впервые на всю глубину ощутил, какая пролегла пропасть между ним и родным селом.
Сейчас Серега проходил мимо подворья Тараса Пересунько. Через штакетник увидел, что недалеко от хаты, в тени ясеня, сидел на табуретке однорукий и одноногий Игнат и качал подвешенную к ветке люльку с внуком. Серега с напускной будничностью поздоровался:
— Добрый день, дядьку!
В ответ Игнат молча чуть кивнул головой, окатив Серегу холодно-мертвенным взглядом. В этом взгляде, в землистом, костлявом лице Игната и даже в напряженной и неестественной позе его обрубленного тела Серега прочитал что-то страшное для себя. И ускорил шаг. Взгляд Игната будто преследовал его — чудился за каждой калиткой, в каждом окне хат, мимо которых проходил.
— Что они смотрят на меня, как на пса бешеного? — со свирепостью спрашивал у себя Серега и от беспомощности скрежетал зубами. — Куда же мне теперь? В лес, к волкам?
Почувствовал острую жалость к себе и зависть ко всем людям, даже к тяжко искалеченному Игнату. Ведь только он, Серега, живет с черной тяжестью в сердце, только он потерял в себе что-то такое, без чего трудно ходить по белу свету, только у него одного мертвеет душа, потому что уже невмоготу ощущать себя таким, каким он стал для людей, для жены, для сына…
Но почему стал таким? Как случилось, что поторопился он с доносом на учителя, который раскрыл перед ним мир, пусть небольших, но знаний, раздвинул его мышление до тех границ, когда он ощутил себя гражданином Державы, человеком, предназначенным для каких-то свершений? Ну, пусть не сбылись его мечты. Но почему же не поверил в учителя Прошу, который дал крылья этим мечтам?.. Трудно ответить Сереге на такой вопрос.
Когда-то в жизни его случилось страшное: он пришел к мысли, что людям нельзя верить. Случилось в те непонятные годы, когда к Кохановке начались аресты и Серега вдруг узнал, что многие мужики оказались не просто мужиками-хлеборобами, а «врагами народа». Он, как секретарь сельсовета, даже сам писал характеристики в НКВД, ломая голову над тем, какими фактами подкрепить на казенной бумаге «вражескую» деятельность в селе и «преступное» прошлое уже арестованных Платона или Ивана, Якова или Кондрата…
Но учитель Прошу — первый его учитель… Мог же усомниться Серега, что не враг он, не запроданец?..
С этими опалявшими мозг и сердце мыслями Серега неожиданно для себя оказался на площади перед клубом. Опомнился, когда вдруг услышал; как в звенящей тишине траурно заплакала медь духового оркестра. Вскинулся, будто от толчка, и увидел замершую толпу — множество обнаженных мужских голов и темных платков, которыми были повязаны женщины и девушки. А перед толпой два утопавших в цветах гроба над кузовом грузовика.
Одним взглядом охватил Серега все: и гробы, и духовой оркестр, и устремленные на него глаза людей. У всех — чужие, отрешенные лица… Вон стоит Степан Григоренко рядом со своей желтоликой женой и скуластой дочуркой. Вон сумрачно смотрит на Серегу Павел Ярчук. А вон сын Павла Андрей, вернувшийся с целины; он поддерживает под руку беззвучно плачущую мать, Тодоску.
Многие десятки глаз! Смотрят будто в самое сердце Сереги. И кажется, смотрят без ненависти, без презрения, а с грустью и болью, словно видят, как в его груди бьется маленькая, убогая, изломанная душа. Но почему же такая мерзкая слабость в ногах Сереги? Почему в голову и сердце ударила черная муть, а воздух, который он вдыхает, леденит кровь в жилах?
Сереге мучительно захотелось упасть на землю и по-волчьи завыть, забиться в воплях-рыданиях. Но вдруг встретился с глазами Федота, стоявшего близ грузовика.
«Зачем ты пришел?!» — с болью кричали ему знакомые глаза сына. И эти кричащие глаза будто развеяли мрак с сердца. Серега медленно повернулся и молча побрел с площади, ощущая, как вся родная Кохановка буравит ему, изгою, спину печально-укоряющими взглядами… Надо ускорить шаги… Быстрее за поворот улицы!.. Но протяжный плач оркестра сковывал ноги.
Серега направился домой. В его мозгу воцарилась холодная ясность: он уже знал, что это последний его путь; всем существом ощутил, что жизнь отринула его. Впрочем, мысль о смерти обитала в нем давно. А сейчас стучала в виски с беспощадной требовательностью.
Но как? Как вступить в схватку с собственной жизнью и познать вечное таинство смерти? Самым страшным казалось Сереге вот это беспощадно-ясное понимание неотвратимости того, что должно с ним случиться. Нет мочи ощущать, что твое время остановилось, что ты уже мертвец и различие между трупом и тобой лишь в том, что тебе дано еще задыхаться в немых воплях от терзающих тебя мук. Но довольно страданий! Хватит лютой сердечной боли и истязающего душу стыда перед людьми!..
И Серега спешил домой, как никогда еще не спешил. Спешил, чтоб помочь обрушиться тому, что уже давно было готово обвалиться.
А воображение услужливо забегало вперед и равнодушно, с жестокой картинностью, от которой подступала к сердцу тошнота, рисовало, как он разыщет сейчас бельевую веревку, выйдет в садок и накинет на шею петлю…
Вот знакомый двор и старая хата в тенистой глубине двора… Калитка сухо хлопнула, будто отсекла Серегу от мира, от всего прошлого. Этот неожиданный хлопок отозвался в груди остро-болезненным толчком, словно и в самом деле кто-то вонзил в нее горячий штык.
И тут же нестерпимая боль судорожно заворочалась в самом сердце, метая раскаленные иглы по всей утробе. Серега, схватившись руками за грудь, упал на выбитую траву и закричал так, что куры, мирно бродившие по двору, с паническим кудахтаньем разлетелись в стороны. Чудовищный огонь продолжал рвать сердце, и Серега, захлебнувшись в крике, уже только скрежетал зубами, медленно поворачивая свое непослушное тело, словно надеясь улечься так, чтоб огонь пригас. И впрямь, когда лег на спину, она присмирела и разлилась горячей волной по всей груди. Не смея больше пошевельнуться, Серега со смертельным ужасом прислушивался к тому, что в нем происходит, и округлившимися глазами смотрел вверх, где в ветвях молодого ясеня дробились лучи солнца. Боль постепенно угасала, словно через спину уходила в землю. И будто вместе с болью земля впитывала его самого… Он уже перестал чувствовать свое тело, перестал ощущать свое дыхание; только в голове — протяжный звон и сменившая ужас равнодушная мысль о том, что он уже умер. И было странно, что мысль эта живет в нем, мертвом, а глаза ясно видят шевелящиеся ветви ясеня и золотые блики солнца среди них. Но вот ветви замерли, будто окаменели, а блики превратились в неподвижные свечи. Исчез звон в голове. А затем погасли свечи и исчезло все…
47
Отходчивы сердца у людей. Услышав о внезапной смерти Сереги Лунатика, Кохановка ахнула от удивления, а затем горестно стала судачить о его трудной и горькой судьбе. Будто смертью своей Серега вымолил у людей прощение или хоть частично искупил перед ними свою неподсудную вину.
Впрочем, нет. Зрелище смерти извечно укрощает человеческие страсти и ввергает в тревожные размышления о бренности земного бытия.
На похороны Сереги пришли не многие — предосенняя страдная пора держала людей в поле, на токах, у силосных ям, где заготавливались корма. Но все-таки подворье Лунатиков было набито битком, когда гроб с телом покойника вынесли из хаты и установили на одноконную телегу. Молчаливо-скорбная процессия медленно двинулась на кладбище.
Наталка, одетая в черное платье и повязанная легким черным платком, шла рядом с гробом, держась рукой за телегу. Ни слова никто от нее не услышал, ни вздоха. Немая и будто безучастная ко всему, она смотрела аспидно-черными, прячущими зрачки глазами себе под ноги и думала какую-то трудную и давнюю думу. Чистое, покрытое загаром и тронутое морщинами лицо ее дышало увядающей красотой, явственно замутненной той болью, которая поселилась в ее сердце еще в дни трагической юности. И было странно, что в неподвижности лица Наталки не проглядывалось привычное покорство судьбе, а ощущалась какая-то рождающаяся, волнующая сила. Иногда Наталка поднимала глаза на шедшего рядом с ней Федота, и тогда в них вспыхивало что-то трепетно-живое, как дыхание надежды; будто взглядом хотела перелить в сына часть своей загадочно-живительной силы.
Женщины, провожавшие гроб с телом Сереги, почти с суеверным страхом поглядывали на Наталку — до неправдоподобия величественно-красивую в своем бесслезном горе. И тревожно косили глаза на мужей… Далеко вперед забегали ревнивые мысли женщин: не к добру, если в селе такая вот вдовушка появилась.
Только Настя Черных была безразлична к перезревающей красоте Наталки. Она шла сзади похоронной процессии и украдкой вытирала платком непрошеные слезы. Настя искренне оплакивала Серегу и, может, больше других понимала, что его смерть — это бегство слабого и грешного человека с недобрым сердцем от суда собственной совести и от беспощадности людского презрения… Но никто не задумывался над тем, что в здоровом организме селянского многолюдья еще жили метастазы давно прошедшей войны; время от времени они напоминали о себе внезапными человеческими трагедиями.
Похоронная процессия, пройдя выгон, свернула к кладбищу, вокруг которого густым караулом стояли ветвистые акации. Настя незаметно отстала от людей, чтобы у могилы Сереги никому не показать своих слез.
«Прощай, Сергей…» — мысленно произнесла и, вздохнув, зашагала назад. Надо было собираться в Будомир за Маринкой; сегодня ее выписывали из больницы.
Ох, Маринка, Маринка… Настя начинает думать о дочери, и уже о ней томится сердце в смутной тревоге. Давно не переживала Настя такого страшного горя, не испытывала такого дурманящего ужаса, как в первые два дня, когда врачи опасались за рассудок Маринки. Корила себя, что оставила дочь одну дома, проклинала Ярчуков, которых считала виновниками всех своих бед… А что же будет дальше? Настя знала, что вернувшийся с целинных земель Андрей днюет и ночует в Будомире и многие часы проводит в больнице. Может быть, поэтому Маринка заметно оживает. Неужели придется породниться с Ярчуками? Если б хоть не догадывалась Настя, что Павел и Тодоска тоже не хотят родства с ней…
Да, рухнули надежды на счастливую жизнь дочери в городе. Юра Хворостянко отступился от Маринки, узнав, что она любит Андрея. Но эту беду Настя как-нибудь переживет. Главное — единственная доченька ее была бы живой и здоровой.
Склонив голову, задумчиво брела Настя к своей улице через унылый в поднимавшемся солнечном жару выгон. Когда поравнялась со зданием клуба, услышала, что кто-то окликнул ее. И тут же увидела Павла Ярчука, высунувшегося в окно из комнаты правления колхоза.
— Подойди на минуту, — Павел требовательно махнул рукой.
Настя с неприязнью подумала о том, что Павел не нашел времени пойти на похороны Сереги. Приблизилась к окну, вызывающе посмотрела в коричневое от загара, усатое лицо Павла.
— Андрей звонил из Будомира, — первым заговорил Павел Платонович.
— Что там? — испуганно спросила Настя.
— Все хорошо, не беспокойся, — Павел сочувственно глянул Насте в глаза. — Велел передать тебе, чтоб ты в больницу не собиралась. Они с Маринкой уже домой едут.
— Какой проворный, — ревниво сказала Настя. — И кто его просил? Не жена ведь она ему!
Павел Платонович горько усмехнулся. Пристально глядя Насте в лицо, спросил:
— Неужели и теперь ты не поумнела?
Настя опустила глаза, а лицо ее вдруг покрылось румянцем. Виновато сказала:
— Да, твоя правда…
— Вот так-то лучше, — Павел тихо засмеялся с чувством легкого и безобидного укора. — Не надо нам вмешиваться в их отношения. Пусть как хотят.
— А что запоет твоя Тодоска?
— Тодоска тоже человек. Ей хочется для сына счастья, а не беды.
Настя посмотрела на Павла повлажневшими глазами, вздохнула и дрогнувшими губами сказала:
— Делай как знаешь… — И ушла.
Павел Платонович еще долго не уходил от окна. Настя давно скрылась в своей тенистой улочке, а он все смотрел в ее сторону, блуждал глазами по круглящейся зелени садков, из которых белели стены хат, и все думал о том, что жизнь никогда не оставляет человека без забот.
ОТ АВТОРА
Полтора года не был я в милой моему сердцу Кохановке. И вот опять брожу по ее знакомым улицам, с трудом вытаскиваю обутые в резиновые сапоги ноги из вязкого чернозема. Талые воды пресытили землю, и весеннему солнцу придется немало потрудиться, чтоб затвердели дороги и поля.
Я стою над разлившейся Бужанкой. Слева, за оврагом, среди голых, просыпающихся после зимнего сна садовых деревьев виднеются осклизлые фундаменты домов — заброшенное строительство.
Бужанка дышит пахучей прохладой. Она вышла из берегов, затопив на той стороне луг. В чистых и тихих водах ее купается глубокое небо с редкими, дымчатыми облаками и плавится ослепительное золото солнца.
Сзади слышится чавканье болота. Оглядываюсь — и вижу приближающегося на рыжей кобылице Павла Платоновича Ярчука. Он сидит в седле, по-молодому прямо, одетый в брезентовый плащ. Серая мерлушковая шапка низко надвинута на брови, и это придает усатому, обветренному до красноты лицу Павла лихой, задиристый вид.
Подъехав ко мне, Павел Платонович легко соскакивает с лошади, бросает повод на луку седла и радушно здоровается со мной. Мы с Павлом одногодки и старые приятели. Но он всегда в первые дни моего пребывания в Кохановке обращается ко мне на «вы», и я угадываю в этом подчеркнуто-уважительном обращении скрытую иронию. Думается мне, что Павел как бы упрекает меня за далекость от сельской жизни, а мои вопросы, касающиеся земли и хозяйства, не принимает всерьез.
Павел всегда удивляется тому, что, живя в далекой Москве, я почти не позабыл родного языка и разговариваю с земляками «по-кохановски». Но в то же время недоумевает, почему бы мне и мои книги не писать по-украински, хотя знает, что я еще безусым юнцом стал солдатом и прослужил в армии, работая военным журналистом, до седых волос.
Мне приходится отвечать будто в шутку:
— В книгах ведь главное — голос сердца, душа народа и правда жизни… Пишу-то я о нашей Кохановке и о тебе, усатом дьяволе. И волей судьбы пишу на том языке, многие тайны которого удалось постичь уже зрелым, испытавшим горечь заблуждений умом.
Павел вроде и соглашается со мной. Даже как-то извинительно уточняет мои объяснения: «Приятно, конечно, когда о родной Кохановке читает многолюдье великой Руси». Но все-таки чувствую: не понять ему (да и многим другим моим землякам, к сожалению, не понять), что со школярским запасом слов, какой обрел я в детстве и юности, никому не дано всерьез стать писателем. Можно, конечно, заново окунуться в сказочное и певучее море родного языка, памятуя, что язык самый ощутимый образ народного духа. Но тогда в короткий человеческий век не успеть рассказать людям о том, что велит совесть. И да будет известно всем, что задуманные, но не написанные книги — это «утопленные дети» писателя.
…Стоим мы с Павлом Ярчуком над родной Бужанкой, со скрытой теплотой смотрим друг на друга и, взволнованные, не находим самых нужных, простых слов. А может, неловко старым солдатам выдавать волнение?.. Закуриваем, покашливаем и молчим.
Рыжая кобылица мягкими, бархатными губами теребит плечо Павла и косит на него крупный, лиловый глаз.
— Закурить просит, что ли? — усмехаюсь, я.
— Нет, она уже бросила и курить и пить, — отшучивается Павел и выдыхает в ноздри лошади облако табачного дыма.
Кобылица ошалело мотает головой, а я хлопаю ее по лоснящемуся крупу и говорю Павлу:
— На харчи, видно, не жалуется.
— Еще бы! — со скрытым довольством отвечает Павел. — Шестьдесят четвертый год не обидел ни мужиков, ни скотину. Постаралась землица.
— А почему же строительство забросили? — И киваю головой в сторону почерневших фундаментов.
— В этом году закончим, — Павел утвердительно машет рукой. — Вот только техник-строитель дезертировал.
— Куда?
— В колхоз к своему отцу, к Арсентию Хворостянко.
— Не понимаю. При чем тут инструктор обкома Арсентий Хворостянко и колхоз?
— О, вижу, вы не в курсе дела! — весело засмеялся Павел.
— Рассказывай! — тороплю я его. — Только не «выкай» мне, а то и я начну величать тебя во всех числах.
— Ну хорошо, — в глазах Павла мелькает веселая искорка. — Арсентий Хворостянко, когда объединили сельский и промышленный обкомы партии, перебрался было в Будомир. Избрали его там секретарем райкома.
— А Степан Григоренко?
— Степан Прокопович секретарствует у нас, в Воронцовке. Выделились мы из Будомирского района.
— Значит, на пенсию не ушел?
— Нет. Пока работает. А Хворостянко, когда стал секретарем в Будомире, начал наводить в районе свои порядки. Первым делом взялся обновлять председателей колхозов. И случилась такая петрушка: в Яровеньках, где самый крупный колхоз в районе, люди заартачились, не захотели снимать своего председателя. А Хворостянко настаивал. Тогда один шальной дедок предложил избрать головой колхоза его самого — Хворостянко. Все и проголосовали.
— Разве так можно? — удивился я.
— Можно, — с ехидцей засмеялся Павел. — Вот возьмем и тебя выберем вместо меня.
— Я вам нахозяйничаю!..
— Хворостянко тоже завопил. А в обкоме сказали: «Раз колхозники доверили — руководи…» И руководит… Из кожи лезет, чтоб в маяки выбиться да прогреметь на всю область. Вот мне и приказали отпустить к нему техника-строителя.
— А Маринка Черных разве не закончила техникум?
— Закончила, — ответил Павел, и на его лицо легла тень досады. Удрала с моим Андреем в Киевскую область. Работают там в совхозе и заочно учатся в институте.
— Поженились, конечно? — спросил я и смутился от нелепости своего вопроса.
— Расписались, — Павел погасил в глазах усмешку. — Настя и Тодоска поехали звать их в Кохановку.
— Что еще нового?
— Много нового! — Павел заговорил взволнованно: — Кажется, всерьез взялись за село. Повеяло теплым ветром…
Долго еще стояли мы на берегу разлившейся Бужанки, вдыхали свежесть полей и говорили, говорили…
Потом пошли по вязкой улице к старым левадам. Когда идешь селом после долгой разлуки с ним, каждая хата напоминает какое-либо событие, чью-то необыкновенную судьбу; память воскрешает годы детства, хоть и трудные, но удивительно яркие, наполненные песнями, росным серебром на холодных травах, птичьим щебетом и недозрелыми ягодами в садках. И кажется, что ни у кого другого, кроме тебя, такого детства не было, и чудится, что нет на земле-планете лучше места, чем родная Кохановка.
1960–1965 гг.
Кордышивка — Усух — Сосново — Летки — Вороновица — Москва
ПОСЛЕСЛОВИЕ
РОМАН О ЗЕМЛЕ И НАРОДЕ
«Вверху, в пространствах, тысячекратно повторенных во все стороны, бушуют звезды, а внизу всего только люди… Но какой ничтожной пустотой стало бы без них все это! Наполняя собой, подвигом своим и страданием мир, ты, человек, заново творишь его».
Эти замечательные слова Л. Леонова невольно вспоминаются в раздумьях о судьбах народных и людских, запечатленных в талантливой, воистину выстраданной всей жизнью книге Ивана Стаднюка «Люди не ангелы». В этом романе бушуют вихри истории, кажется, колеблется сама земная твердь, поддаваясь сотрясениям социальных сдвигов и войн; над Кохановкой, родиной стаднюковских героев, над всей Украиной встает порой печальное, ущербное солнце бед и тягчайших испытаний. И нередко сам народ в протяжных песнях говорит о страдании, лихолетье, постигших родную землю, о буре, вырвавшей сотни сыновей и разбросавшей их в бескрайние просторы войны.
На Вкраiнi свiт не бiлий Почорнiлый, закурiлий… Копитами шляхи збитi, Снарядами села зритi…Но человек не сдается… И каким бы пустым, ничтожным и безотрадно-трагичным было бы все это: и небо, и солнце и звезды, глядящие на мир с невозмутимых высот, — если бы не били из земли, из сердец человеческих горячие, неистощимые ключи подлинного мужества, доброты, патриотической любви к Родине, братства. Жизнь не умирала и в этих снарядами срытых селах, народ побеждал врагов своей земли, вновь возрождал все, чем он жил и радовался, вновь рождалось в сердцах юности чудесное чувство любви, вновь расцветал в душах прекрасный крестьянский дар понимания земли и хлеба… Наполняя своим подвигом, страданием, победами над неправдой мир, народ творил его как светлый мир красоты и счастья.
Иван Стаднюк (родился в 1920 году в селе Кордышивке Вороновицкого района Винницкой области) всей своей судьбой связан с народом — хлеборобом и солдатом; он пережил и как очевидец и как активный участник такие великие события народной жизни, формировавшие нравственный облик миллионов людей, как коллективизация и Отечественная война. Окончив за три недели до войны военно-политическое училище, он сразу попал в самое пламя приграничных боев; будущий писатель лично вывел из окружения группу бойцов, прошел затем с армией весь ее трагический и победный путь. И для него стало естественным свойством таланта мыслить не камерно, не приземленно-узко, а обобщенно-эпически, романтически взволнованно. Мир и человек в его повестях «Человек не сдается» (1946–1956 гг.), «Максим Перепелица» (1952–1956 гр.) предстают во всей полноте и правде, без смягчающих прикрас и «спасительных» недомолвок. Народный характер И. Стаднюк исследует пытливым и проникновенным взглядом художника. Он стремится воспеть мужество и юмор, страдания и «чудинку» в людях, любовь девушки и красоту материнского чувства как различные грани цельного народного характера, выдержавшего все тяготы и лишения в своем историческом пути.
Все лучшие черты И. Стаднюка как певца и летописца народных судеб проявились в романе «Люди не ангелы» (1 — 2-я книги). Это роман-исповедь, самое вдохновенное слово писателя о земле и народе.
На первый взгляд все, что есть в романе «Люди не ангелы», — и село Кохановка с его чарующими летними ночами, неистощимое лукавство поселян и юмор украинских дидов, шутки молодежи, герой-солдат и офицер Советской Армии, — все это встречалось порознь в «Максиме Перепелице», в книге «Человек не сдается» и других произведениях писателя. Но как ожило все это в новом произведении! Писатель будто уловил сердцем присутствие высшей правды в тех делах, которые его прежние герои вершили как бы по наитию. Он убедился еще раз в правильности тех простых «локальных» истин, которыми жили его герои, и сейчас свел их воедино, превратил мимолетные прозрения в своеобразное художественное ясновидение.
…В украинском селе Кохановке, окруженном садами, пикетами тополей, убегающих в степь, живут Павлик и его отец, пожилой вдовец-крестьянин Платон Гордеевич Ярчук. Теплота красок, задушевность интонаций, с которыми писатель воссоздает и несложную жизнь ребенка и тяжелую, глубокую любовь отца к сыну-несмышленышу, поистине чудесны.
Неожиданно близко от читательского сердца «всплывают» и другие, казалось бы, безыскусственные ситуации, ненарочитые образы, бывальщины вроде истории с продажей и обратной перекупкой старой лошади Карько, сцена смерти матери Павлика и гибели отца, картина душевной жизни Платона в год коллективизации. Благодаря этому и сама беленькая украинская мазанка с печью, лавками, окнами, и старая слива на дворе, и Карько, и утренние сны мальчика, и тяжкие вечерние думы отца превращаются на глазах читателя в родничок жизни, чутко пульсирующий, поражающий своей жизнеспособностью, красотой. И. Стаднюк превосходно передает душу, суть этой жизни, в которой, пожалуй, наиболее близки, тождественны закономерности бытия природы и человека. Он любит эту гармонию, эту близость человека и природы, хотя не скрывает, что покоится она нередко на каторжном труде, темноте, невежестве.
Люди достойны лучшего бытия, хоть они и не ангелы. Достойны хотя бы потому, что в «пределах», рамках этой «гармонии» гибнут без выхода многие лучшие их душевные движения, гаснут их недолгие порывы к звездам, к небу.
Умирает замученная трудами и болезнями мать Павлика. И нет предела ее любви к сыну, заботы о нем. Шепчет она ему со смертного своего ложа: «Сыночек… Я б небо тебе пригнула, если б могла… Расти без меня… Может, и счастье найдешь…» Но нет у нее сил хоть чуточку защитить сына от бед. Исковеркано что-то чудесное и в характере отца Павлика. Подбирая среди вдов будущую мать сыну, он не может отказать себе в желании покуражиться в тяжеловесных шутках над очередной «мамой». Так тяжко шутит лишь горе-горькое, так беда играет с другой бедой. Платон в общем-то знает, что жертвы его шуток ограничены в своем протесте, дерзости, понимает, в какую годину большого сиротства и вдовства живут они, и смягчается, невольно раскрывая человеколюбие своей души. Но и помочь всем этим сиротам и вдовам он не в силах.
Во всей атмосфере романа ощутима зрелая, выстраданная любовь и забота об этих детях земли, боль за то, что так часто они скованы в своем стремлении творить добро и радость.
И вот впервые прозвучало слово «колхоз». Писатель, на наш взгляд, исторически правильно ставит вопрос, пресекая всякие попытки ошибочного толкования его замысла, — надо было выводить людей из того состояния жизни, в котором они находились, не умиляясь прошлым.
Тревожно, рывками развивается действие романа. Создание колхоза, раскулачивание кулаков, а то и середняков — главных хранителей трудового опыта в селе, голод 1932 года, несправедливый арест Платона Ярчука, гибель его в 1937 году, тени близкой войны на границах Родины — все уместилось в рамках романа. Но горизонты социальной проблемы, поднятой в романе, пожалуй, еще шире. В чем существо этой проблемы?
Сейчас, зная наше недавнее прошлое глубже и яснее, мы вновь и вновь с изумлением и гордостью спрашиваем себя: какая же сила помогла советскому человеку пройти через многочисленные испытания, среди которых были и 1937 год и Отечественная война? И не только помогла пройти, а главное — решить все задачи социалистического, коммунистического строительства, разорвать ледовую кору культа личности, выправить все косо поставленные кирпичи в громаде нашего дома. Короче говоря, вновь предстал перед писателями в своей не познанной до конца сути, красоте и величии их вечный объект народный характер, правда его существования в эпоху величайших гроз и потрясений.
И. Стаднюк стремится раскрыть основы героической нравственности советского человека. В картинах душевной жизни своего героя — и на «черном диване» в кабинете следователя, и на Беломорканале, и на стройке металлургического комбината — показывает он богатство нашего человека, которое единственно и помогло ему выстоять и победить. Платон много раздумывает о судьбе крестьянской. До конца дней он «казнит» себя за вынужденную обиду земли, за мешок семян, который он украл, чтобы в голодный год спасти семью от смерти. Земля осталась незасеянной, прервалась какая-то святая для Платона закономерность в круговороте пахоты, посевов, жатвы. «С тех пор Платона не покидала беспокойная мысль о поле, обреченном на бесплодие. Тянуло оно его к себе, часто звало смотреть на черные комья земли, между которыми сиротливо зеленели редкие всходы… Платон Гордеевич чувствовал себя так, словно обидел ребенка или совершил нечто другое, ужасно постыдное, отчего нет покоя совести. Но и не раскаивался в своем поступке. Украденное зерно спасло семью от голодной смерти», — пишет писатель.
Платон не хочет, чтобы человек жил на земле вором, стремясь урвать и прожить, он жаждет прочной основы бытия, верит, что после всей неразумной суеты и спешки установится новая гармония жизни. Он не оправдывает репрессий над середняком, не оправдывает сверхбдительности 1937 года какими-то высшими соображениями, стремительностью исторического движения страны, зажатой в те годы в тесное кольцо империалистического окружения. Для него это все во многом неведомо, сложно. Он, как и первый сельский коммунист Степан Григоренко (один из лучших образов романа), видит, что и в этих условиях можно было действовать, опираясь на веру народа в светлое завтра. Но, с другой стороны, Платон отвергает всякие провокационные идеи о том, что репрессии предпринимаются властью в качестве прививки страха народу. И в этом проявляется качественно новая, социальная природа характера этого мужика! Нет в Платоне извечного недоверия мужика ко всему, что идет «от казны», от власти, от начальства, привычки унижаться перед ней, казаться маленьким и незаметным. «У нас власть какая — советская! А кто она? В сельсовете сидит мой племяш, в Виннице кооперацией ворочает тоже мой родич. Цари русские, чтоб держать людей в страхе, войско специальное держали, казаков. А теперь в армии что ни командир, то вчерашний хлебороб. Понимаешь — у мужика в руках оружие! И у рабочего, конечно. Сам нарком обороны — простой рабочий», — говорит Платон.
Герой И. Стаднюка мучительно ищет выхода из своих сомнений и круга мрачных картин, ищет за пределами своего жизненного опыта, обращается к разуму других людей. Он жадно ловит весть о том, что жизнь общества в целом идет «правильно», что в люди выходят и его сын и другие крестьянские дети. Всем развитием Дел в Кохановке, судьбами молодых героев романа писатель показывает, что народ прошел через все испытания благодаря вере в то настоящее и будущее, которое он строил.
Путь Павлика Ярчука в первой книге романа воссоздан на сравнительно небольшом временном пространстве. Он приезжает в соло незадолго до войны после службы в армии. Он словно впитал в себя все помыслы отца, благородство его сердца, его веру в социализм.
…Председатель колхоза Павел Ярчук, герой второй книги романа И. Стаднюка, — это уже не юный курсант, потерявший отца-хлебороба в трагический предвоенный год, с тревогой вступающий в первые приграничные будни 1941 года. Многое прошло перед ним — и порожистый, как русло горной реки, путь Советской Армии на запад, победа, и нежданная горькая встреча в Австрии с земляком Александром Черных, разрушившим когда-то его любовь к Насте, оказавшимся изменником — власовцем, и, наконец, послевоенные беды и боль хлеборобская… Павел воплотил в своем характере все, чем был жив народ, в особенности крестьянство, — и мужество строителя нового мира, и горечь первооткрывательских ошибок и трагедий, и нравственную красоту нового хозяина земли, и великодушие отца — забота о счастье, о любви сына Андрея и юной Маринки Черных, не знающей ничего о позорной тайне гибели отца. Это многогранный характер, в душевных драмах и волнениях его — мысль народная, сила духа миллионов простых победителей фашизма.
При создании этого образа И. Стаднюк, бесспорно, опирался на новую и диалектически глубокую философию отношения к крестьянину, земле, которую выработала вся наша литература в последние годы. Эта философия чужда и подозрительному догматическому взгляду на крестьянина как на убогого, заросшего коростой утробного стяжателя, низменного хапугу («разнуздай его — он и социализм слопает»), и слащавой идеализации, пейзанскому умилению. Сейчас всем ясно, что русский, украинский крестьянин не пасынок, общества, не некий общественный недомерок, недоросль, которому надо указывать даже, как землю пахать. Эта новая философия была уже и в первой книге романа И. Стаднюка, в произведениях ряда других современных писателей — М. Алексеева, П. Проскурина, С. Крутилина, Вас. Белова, продолжающих гуманистическую традицию русской классики.
Писатель воспевает талант труженика в Ярчуке, в Насте Черных, в Тарасе Пересунько, он показывает с особым вдохновением их всестороннюю человеческую одаренность, духовную значительность. Как не проста их жизнь, их взаимоотношения! Минувшее, история народная тугим узлом связали судьбы Ярчуков и Черных, героев и малодушных; пороги истории разметали людей, заронили в их сердца и души, как осколки в их тела, множество острых чувств, воспоминаний, нежности и ненависти, которые воистину кричат в них бессонными ночами. Так, секретарь парткома Степан Григоренко только через двадцать лет узнает о зловещей судьбине жены своей Христи и сына заживо схороненных в погребе учителя Кулиды, погубленного доносчиком Сергеем Лунатиком. И это открытие настигает как молния предателя, труса, убивая его! И это же событие словно распрямило, наконец, как пригнутую рябину, жену Сергея Наталку, человека великой внутренней красоты и сдержанности.
Павел Ярчук, единственный свидетель позора и гибели Черных, с чуткой человеческой теплотой врачует ту боль, которую несет его бьющая в душе правда не ведающей о године горя Маринке, сыну, наконец, Насте, в горестный венец которой жизнь напоследок вплетает новый черный цветок.
А как восстановить тот моральный ущерб, который нанесен был в силу разных сложных причин деревне, земле, утратившей умельцев, поэтов земледельческого труда, без которых «истончаются жилы земли, усыхают родники, питающие силы крестьян»? В сцене заседания бюро парткома, когда Павел Ярчук выступает самоотверженно, полагаясь на совесть свою, мудрость народную, в полный голос звучит голос современного крестьянства, звучат идеи мартовского Пленума ЦК КПСС.
Это расширение диапазона интересов писателя, познание истории через судьбы крестьянства позволило раскрыть такие колоритные характеры, как Настя, старый Кузьма Лунатик — персонаж, пожалуй, наиболее колоритный, покоряющий юмором и лукавством, нелицеприятной правдивостью и особой мудростью суждений.
Читатель, несомненно, обратит внимание на вдохновенное, почти песенное воспевание И. Стаднюком природы родной, «соловьиной» Винничины, ее синих сумерек, певучей красоты садов, завораживающих сердце полевых далей. Природа Украины словно вплела свою нить в художественное полотно Ивана Стаднюка, рассыпала свои краски, озвучила его повествование. И особенно романтично, возвышенно в связи с этим описание юношеской любви Павла Ярчука и Насти, сына его и Маринки Черных — мы видим всю чистоту и строгость народной этики, поэтичность этого праздника юных душ.
От украинской народной поэтической традиции и идет искристый юмор И. Стаднюка, ставший незаменимым средством для передачи мудрости народной, здоровья духовного, для создания целого ряда эпизодов и раскрытия характеров. Читатель, бесспорно, запомнит и выборы непьющего председателя, и изгнание «пьющего» правления, и ездовых в первой книге, чудачества Кузьмы Лунатика, вздумавшего своими средствами «иссушить» влюбленных, и многое другое… Сама стихия народной жизни — с бедами, юмором, любовью, песней — бьется в берегах романа И. Стаднюка, и мы верим в бессмертие народа, в его силу и красоту. Роман И. Стаднюка свидетельствует, что и для самого искусства первостепенное значение имеют национальные истоки творчества, развитое чувство национальной гордости связь с народно-поэтической традицией.
Виктор ЧАЛМАЕВ
Примечания
1
ТСОЗ — товарищество по совместной обработке земли.
(обратно)2
Копа (укр.) — копна хлеба в шестьдесят снопов.
(обратно)3
Фармуга — так на Подолии зовут боковой отсек в погребе.
(обратно)4
Льох — так зовут на Подолии погреб.
(обратно)



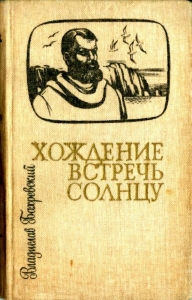
Комментарии к книге «Люди не ангелы», Иван Фотиевич Стаднюк
Всего 0 комментариев