Лев Жданов
― ОСАЖДЕННАЯ ВАРШАВА ―
Роман-хроника
(1830–1831 гг.)
От автора
На страницах моего романа «В стенах Варшавы», вышедшего в свет в начале прошлого года, обрисована одна из самых ярких полос в существовании соседней и родственной с Россией Польши, еще обладавшей призраком королевской самостоятельной власти. Правда, сами поляки иронически окрестили свое возрожденное на Венском конгрессе королевство «Когрессувкой». Конституцию, дарованную в 1815 году Александром, называли «куцой» и мирились с ней лишь как с временной мерой в ожидании великих щедрот и благ от своего нового, юного, «свободолюбивого», судя по речам, цесаря-круля…
Но судьба решила иначе.
Наместником царства назначен был цесаревич Константин, которому, по некоторым свидетельствам, его державный брат чуть ли не готовил корону автономной Польши с присоединением старых областей Литвы и Жмуди, давно вошедших в состав империи…
И это назначение, по общему единодушному признанию и русских, и поляков самых разных лагерей и партий, сыграло роковую роль в ходе польских дел.
Главным образом одному Константину ставят в вину все, что произошло плохого и тревожного на берегах Вислы, вплоть до кровавой «ночи 29 Листопада»…
Творцы этого переворота и защитники его тогда и после утверждали, что Константин вызвал переворот, принудил на такой отчаянный шаг людей, потерявших надежду на возможность мирного соглашения с насилием и произволом власти…
Угодовцы-консерваторы, польские постепеновцы и высшая шляхта, искренне ненавидящая всякие перевороты, боящаяся их даже больше, чем завоеватели-россияне, — и эти мирные обыватели шлют горькие упреки цесаревичу, не сумевшему подавить «бунт», когда он был в зародыше и не принял еще грозного вида народной революции…
История польская и отчасти русская, насколько последней то было доступно, — также не оправдала Константина…
Помянутый труд мой, роман «В стенах Варшавы», подробно рисует деятельность Константина на посту наместника Царства Польского, уделяя немало места его интимным, запутанным, даже загадочным до сей поры переживаниям…
В конце романа набросана общая широкая картина ночи 29 Листопада и событий, развернувшихся после нее, вплоть до оставления Варшавы Константином во главе русского небольшого отряда, который он повел к пределам русской Литвы…
Читатели, знакомые с названным романом, сами могут решить: насколько основательны обвинения и упреки, обрушившиеся всей тяжестью на голову одного человека?..
Но с его уходом дела пошли не совсем гладко и в самой Варшаве, и в целом царстве, освобожденном от чужой опеки.
Не говоря уже о грозовой туче, которая, по мановению из Петербурга, заклубилась сотнями батальонов, протянулась по граням Польши и готовилась охватить ее мертвым кольцом стальных штыков и медных орудий, — разлад и развал колебали все красивое и новое, что принесли за собой мгновенья первой победы польских патриотов над многолетними их господами… Безначалие и даже измена подтачивали корни юной свободы, зародившейся среди мучений, крови и борьбы.
Быстро, словно на экране волшебного фонаря, проносятся события. Яркие надежды, ликования и восторги первых дней свободы, золотое сияние зари вольности… Затем — ряд ошибок и промахов со всех сторон, крушение заветных, светлых надежд. Появление русской армии в пределах королевства… Недолгая, но упорная борьба, полная героических проявлений с обеих сторон… Варшава осаждена…
Столица сдалась, взята с бою, смирилась перед победителем и за ней покорился весь край, целый народ…
Почти все мы, даже в годы юности, когда многое так непонятно и чуждо неопытной, робкой душе, — и тогда мы с трепетным интересом пробегаем описание исторических, «славных» осад… Описание битв и героизм народов далеких, давно сошедших со сцены жизни, — заставляют наши сердца сжиматься больно и сладко…
Потом, когда мы сами вступили в ряды борцов, когда можем еще лучше оценить отвагу и красоту подвига, — уроки истории остаются, быть может, единственными, которые волнуют усталую душу нашу. Пошлая, мелкая повседневная борьба, сумрак окружающей жизни — озаряются образами героев, борцов древности…
А та борьба, которую рисует настоящая книга, эта эпопея разыгралась так недавно! Живые нити тянутся от этих событий прошлого, переплетаясь с тканью современных забот и дел, порождая отклики в сердцах живущих и ведущих борьбу людей…
Варшава не сдалась так «галантно», как Рим, Мадрид и Вена, Берлин и Париж, которые поочередно и безропотно принадлежали сильнейшему, был ли то Наполеон Корсиканец или Александр Всероссийский…
Сарматская столица не опустела, не запылала, как «скифская» Москва, ставшая могилой дерзкому завоевателю Наполеону. Нет!
По стародавнему обычаю, по классическим образцам все население веселого, шумного торгового города откинуло обычные заботы и дела, грудью встало на защиту родного угла… Пошло в бой почти без надежды победить неприятеля, подавляющего своей численностью, превосходством своего вооружения..
Не хватило мужских, сильных рук для дела… Пришли старики, юноши, женщины, даже дети. Героическая картина развернулась в пределах большого, кипучего города…
Славяне вообще, а русский народ даже больше других чуток и вдумчив, он чтит героизм и в своих противниках.
И я сочту свою задачу доведенной до конца, если эта книга и выходящий вслед за нею последний том под заглавием «Сгибла Польша!» отразят хотя бы отчасти великие мгновенья последней борьбы польского народа, геройские усилия и печальный конец последней схватки…
Правда, победитель проявил великодушие… Не повторились ужасы «резни в Праге», хотя бы и вызванной «пасхальной бойней» в Варшаве… Мирные граждане — напуганные, истомленные обыватели — были пощажены… Пали только окопы и твердыни Варшавы, взорванные на воздух…
И с ними пала Польша, пало «крулевство», был побежден целый народ…
Общий угодливый голос воскликнул:
— Слава победителям!..
— И честь побежденным храбрецам! — пронеслось над целым образованным миром вслед за первым воскликом.
Судить и тех, и других должна история… Нам бы хотелось их знать…
Л. Ж.
Часть первая ПЕРЕД ВОЙНОЙ
Глава I НАКАНУНЕ
Кто сеет ветер, даже невзначай, –
Тот урожаем бурю получай!
В. ШекспирРано спустился холодный ноябрьский вечер на островерхие крыши старой Варшавы, мраком и грустью наполнил ее шумные площади, людные, бойкие улицы и тесные, извилистые переулки, напоминающие в этот миг глубокие трещины ущелий в каменной громаде гор, а не коридоры между домами, построенными рукой человека.
Там, дальше от центра, на новых планах, где широко развернулись проезды и аллеи Уяздовская, Иерусалимская, и по ту сторону Вислы, за мостом, в предместье Праги, еще как будто догорает ясный осенний день, светлые сумерки борются с наплывающей тьмой и только медленно тают, словно неслышно, незаметно поглощает их все густеющий мрак.
Между землей, обнаженной, темной, остывающей землей, и темным небом реют последние отблески дня…
А в темном небе уже загорелись робкие, бледные звезды и, словно желая подражать небу, сверкнули, засияли узоры и нити земных огоньков: засверкал ночными огнями большой, многолюдный город.
Воскресный день сегодня, — и сдается, что ярче, веселее сверкают поэтому земные огоньки, большее количество их загорелось в окнах потемнелых домов… И будто гуще высыпали нынче звезды на темном куполе небес, желая посмотреть на веселую праздничную толпу, снующую по улицам и переулкам старого города, по широким аллеям и проездам новых планов Варшавы, еще слабо застроенных в конце 1830 года, когда начинается наш рассказ.
В ряду торговых заведений столицы, не знающих никакого воскресного отдыха, особенно ярко освещены и оживлены кофейни, кондитерские, молочные и столовые, кабачки, маленькие ресторанчики и шикарные рестораны, — места сборищ, излюбленные варшавянами.
Из окон аптек, размещенных на более людных улицах, где большие лампы горят позади урн, налитых жидкостями зеленого, голубого, малинового цвета, — оттуда льются разноцветные полосы света на тротуар со снующими прохожими, на грязноватую, влажную мостовую, по которой тарахтят колеса наемных дрожек, мерно ударяют копыта парных породистых лошадей, запряженных в красивые открытые экипажи и темные кареты аристократов, мелькающие особенно часто вблизи театров или на Дворцовой площади, на плацу Красиньского, на Сенаторской, Крулевской и других лучших улицах города.
Особенно людно и светло также в парикмахерских и цирюльнях, которых очень много рассеяно в этой щеголеватой столице. И вообще шляхта, редко отпускающая бороду, холящая свой всесветно известный польский ус, охотно прибегает к услугам брадобреев и «фризеров». А теперь особенно, когда больше 15 000 войска расположено в самой Варшаве и под ней, — спрос на мастеров-куаферов увеличился; почти на каждом квартале можно видеть старую дедовскую вывеску: медный таз на железной перекладине и руку, из которой фонтаном льется струя крови, грубо намалеванную на куске жести, с лаконичной надписью: «Цирюльня и кровь отворяют».
На более шикарных улицах над стеклянными дверьми, ведущими в подобное заведение, — золотыми буквами по яркому фону большой вывески, чаще всего по-французски, выведены имя и фамилия хозяина в первой строке, а во второй — Coiffeur et friseur. По бокам двери две меньшие вывески по-польски и по-французски гласят, что здесь «стригут, бреют, завивают, пиявки ставят и кровь отворяют». Фельдшерское искусство неукоснительно сочеталось с ремеслом брадобрея и парикмахера.
На окнах стоят деревянные болваны с женскими париками и накладками или даже восковые, довольно неискусно сделанные головы, заменяющие собой болваны. Тут же в высоких банках с водой чернеют притихшие, подобравшиеся в комочек пиявки, присосавшись к стенкам банки или к бумаге, которой она обвязана вместо покрышки.
Иногда целый сушеный крокодильчик или заспиртованная змея выставлена тут же, чтобы привлекать больше внимания проходящей публики.
Над одним из особенно показных заведений этого рода на Рымарской улице новая, свежепозолоченная вывеска гласила: «Vinceslas Makrot. Salon pour couper et friser les cheveux».
Обычного «friseur et coiffeur» не стояло также и на боковых вывесках. Окна, совсем на парижский манер, были украшены красивыми восковыми головками с венками из искусственных цветов на пышных волосах. Стеклянные урны, вроде аптечных, только поменьше, также были наполнены разноцветными жидкостями и озарены сзади светом ламп, усиленным благодаря отражению многогранных зеркальных рефлекторов.
Внутри «Салон» тоже был убран на особый лад — цветисто, крикливо и безвкусно. Много дешевой позолоты, поддельного бархата, мягких, восточного характера, пуфов, табуретов, кресел и диванчиков, затейных столиков, шкапиков, полок, где стояли кальяны и наргиле вперемежку с флаконами духов и туалетных вод, с секретными настоями против выпадения волос и проч.
Большие зеркала в золоченых рамах, фонарь с разноцветными стеклами, спускающийся с потолка, и камин в углу, где сейчас весело потрескивали горящие дрова, — дополняли общий вид обширной комнаты, напоминающей столько же парикмахерское заведение, сколько и гостиную дурного тона.
Для ожидающих очереди на двух-трех столиках были разложены иллюстрированные журналы — польские, французские и немецкие, несколько местных газет и два «зарубежных» органа из Кракова и Познани.
Кресла у всех семи зеркал были заняты, и еще человек пять перебирали терпеливо газеты и журналы, ожидая, когда освободится место для них. Лампы-бра, по две у каждого зеркала, ярко освещали покой, щелкали звонко ножницы, пахло духами, взбитым мылом; жалобно и нежно позванивала порой тонкая, твердая сталь бритвы, срезая жесткий волос на щеках очередного клиента… Круто подвитые, особенно изгибистые, щеголеватые мастера ловко пудрили побритые лица и затылки, поправляли прически, смахивали пудру с таким видом, точно свершали святую мессу, и так осторожно касались подбородка, носа и шеи клиентов, словно те были из хрупкого, тончайшего стекла, если не вылеплены даже из сбитых сливок.
Среди этого равномерно-сдержанного движения, среди общей особливо важной и звучной тишины мелькала там и здесь одна юркая постать; не унимаясь почти, звучал один мягко-назойливый и фальшиво звенящий голос самого хозяина «Салона», пана Войцеха Макрота.
Рыжеватый блондин среднего роста, правильно сложенный и глядящий крепышом, он поражал всех своим лицом. По лицу никак нельзя было решить: сколько лет Макроту? Мелкие, довольно приятные черты лица ни минуты не оставались в покое; мышиные, острые глазки вечно бегали и скользили во все стороны, не то подстерегая, не то опасаясь чего-то… Когда Макрот с повелительным видом покрикивал на мальчишек, подающих теплую воду и полотенца, лицо его распрямлялось, черты, жесткие и острые, выглядели все-таки молодо, и ему нельзя было дать больше 27–28 лет.
Но стоило ему обратиться с речью к кому-нибудь из клиентов — все лицо складывалось в приторную, заученную улыбку, морщилось, покрывалось складочками до самой шеи от вершины лба… Глаза принимали особое, осторожное, лисье выражение, какое можно наблюдать у помешанных да у шпионов. Пристальный, глядящий словно мимо и в то же время вперенный в вас взгляд… При этом казалось, что Макрот не уверен: может ли он подойти ближе к собеседнику и не получить пощечины?.. Но это было в первое мгновенье.
Убедясь, что пощечина не грозит, он становился как-то смиренно-нахален и въедчив и не столько вопросами, сколько своими взглядами готов был ввинтиться в душу к каждому собеседнику. А морщины на угодливо-улыбчивом лице так и не распрямлялись, преображая Макрота в очень пожилого человека, только молодящегося, красящего волосы и губы в молодой цвет, сверкающего двойным рядом мелких, редковатых, но крепких и острых зубов своей вставной челюсти.
Между тем зубы у Макрота были собственные, и ему исполнилось только тридцать лет. Но лицо, как настоящее зеркало души, верно отражало ту двойственность и распад нравственный, ту умственную нищету, какой отличался этот человек.
Одет он был тоже не так, как все, — в подчеркнуто национальный польский наряд, отдающий маскарадом: в старинную чамарку со жгутами и кутасами, в шаровары и польские сапоги с кисточками.
Русская власть запрещала в городах носить такой наряд, служащий символом «независимости» старой Польши… Но Макрот почти повсюду являлся в нем и даже в «крамольной» конфедератке, которая и сейчас лежала у него под рукой на ближайшем окне «Салона».
Но тут же рядом темнел и его другой головной убор: плюшевый цилиндр с расширенным по моде верхом, напоминающий дуло раструбом у старинного мушкетона.
Быстро метнувшись к одному из ожидающих, почтенному шляхтичу, который уже стал поглядывать на часы, очевидно, устав ждать, Макрот мягко и часто стал сыпать, морща свое личико:
— Что? Надоели газетки и журнальчики, шановный пан Мацей! Верю, понимаю. Как поглядишь кругом, на что тебе и журналы… Такие новости везде и всюду, что сердцу польскому не стерпеть!.. Да вот ждать уж и не осталось… Вот два местечка освобождаются, вот пане Ma…
И, не успев даже договорить, он перекинулся к двум молодым подпрапорщикам, которые как раз поднялись с мест и стояли, ожидая, пока двое мальчиков не снимут с их мундиров щетками последних пушинок, пока подаст им шинели рослый парень-«казачок», уже стоящий наготове у дверей.
— Ну, как, ваше сиятельство, — поворачиваясь то к одному, то к другому, еще слаще, еще вкрадчивее затарантил Макрот, — изволили остаться довольны моими мастерами? Счастлив весьма и очень. Недаром, значит, мои заботы и труды. От Теофиля из Парижа я сманил того черненького… А этот, который с вашим сиятельством, — чистый поляк, варшавянин… Но такого… профессора, скажу вашему сиятельству, и в самом Париже не сыскать… Не слышишь, когда бреет. Я сам только его и беру. Артист… художник!.. А как кровь пускает! Я думаю, ни один наш профессор, которых я слушал в университете, не сможет так легко найти артерию и пустить кровь… Просто…
Не найдя слов, Макрот поднял ладони к лицу и потряс ими очень выразительно.
— Да, действительно, работает прекрасно… Прошу, — протягивая червонец, довольно небрежно уронил один из юных офицеров.
— Ах, получить?.. Сей момент… Деньги… я и забыл про них. Настоящий наш старинный золотой… Не москальский, нет! Такие только еще и сберегаются на Волыни, на Литве… Ваши сиятельства теперь прямо оттуда?.. Я что-то давно не имел чести видеть ваши сиятельства.
Так, быстро сдавая сдачу и провожая к выходу обоих юношей, сыпал Макрот. Они все втроем уже стояли за порогом «Салона», в небольшой прихожей, ведущей к уличным дверям.
Оглянувшись и видя, что «казачок», по обычаю, остался в «Салоне» на своем посту, Макрот вдруг тихо, таинственно заговорил:
— Не знаю, какие вести вы изволили привезти с Литвы, ваши сиятельства… А вот я… брил сегодня нашего «старушка». Сам молчу и слушаю, что он со своим Курутой толкует… словно и не меня касается… А они…
— Скажите, пане, — вдруг совершенно просто задал вопрос один из провожаемых, — вы и к его мосци цесаревичу ходите работать в таком виде?.. В этом наряде? — пояснил он, отвечая на недоумевающий взгляд слишком любезного парикмахера.
— Ах!.. Да!.. Нет!.. Ну, конечно, его дразнить не стоит нашим милым нарядом, — тряся головой и махая руками, заспешил снова Макрот, — я по-европейскому одеваюсь… Но, — снова переходя на плохой французский язык, который тут же пересыпал польскими выражениями и словами, продолжал хозяин «Салона», — я вашим сиятельствам еще не сказал, что сказал Куруте «старушек»… А оно как раз Литвы ж и касается… Будто хотят все литовские полки заменить русскими, потому там… «списковых» стало много… Заговор большой открылся! И всех выдал один из офицеров…
— Вы лжете, пане… То есть виноват… Лжет тот, кто говорил так… Если что-нибудь и есть на Литве в войсках, то предатели, конечно, найдутся… Только — не наши офицеры…
— Вот-вот, и я так думаю, ваши сиятельства… Если есть…
Не дождавшись ответа, видя, что юноши уже берутся за ручку двери, он еще быстрей зашептал:
— «Старуше к» говорит, что офицер не мог выдать… своих. В заговоре вся шляхта… А тут, в университете… Я по старой памяти бываю у товарищей… Посещаю нашу alma mater. Как же! Так тут?!! Такое тут затеяно, ваши сиятельства!..
— Тоже заговор? — уже стоя на пороге, спросил холодно юноша, пропуская мимо себя старшего товарища. — Ничего! И тут предатели найдутся. Ну, желаю пану успехов в добром деле, — кинул офицер Макроту и скрылся за дверью, перейдя на крыльцо, где товарищ его стоял, поправляя движением плеч шинель и оглядывая оживленную улицу любопытным взором.
— Видал?.. Каков фрукт?.. — обратился к нему юноша.
— Да! А знаешь, Цезик, если бы мне и не сказали раньше, что за птица этот каналья Макрот, я бы и сам догадался… Стоит поглядеть на его Каинову рожу… И как еще добрые люди заглядывают в его вонючую нору… в это чертово гнездо!..
— Так же, как и мы с тобой, Фредя, заглянули нынче… Мастера у него превосходные. А по пути этот негодяй, желая что-нибудь выведать, часто первый выдает важные штучки… Когда знаешь и видишь змею, бояться ее нечего… А кто в Варшаве не знает Вацка Макрота, бывшего студента, изгнанного товарищами за шпионство, которым он занимался еще на гимназической скамье. Гад уверяет дураков, что он «пострадал» и выключен из almae matris, как он выражается, за принадлежность к заговору… Да кто ему верит?.. Ну, черт с ним! Как думаешь, Фредя: пойдем мы или поедем? — уже спустясь с крыльца и окунувшись в толпу, снующую по избитому, узкому тротуару, спросил тот, кого товарищ звал Цезей.
— Я и то думаю… Времени у нас много. Вечер чудесный. Чем трястись по вашей булыжной мостовой на скверных дрожках, лучше пойдем… И поболтать на ходу можно. Я еще так много хотел бы узнать раньше, чем…
— Чем мы попадем на наше заседание?.. Ну, изволь, пойдем. Перейдем только на другую сторону, где прохожие реже. Знаешь, все-таки оно спокойнее…
— У, ты у меня — сама осторожность, милый Цезя!.. Кстати, кузина Эмилия тоже многое поручила лично тебе передать…
— Кузина Эмилия?.. Интересно. Тоскует она там, бедняжка, в своей Ликсне, у тети Зиберг… А дядя Ксаверий и слышать не хочет, чтобы взять к себе дочку. Куда, говорит, мне с девчонкой цацкаться?..
— Да… не очень нежный отец наш почтенный дядя… Да Эмильця не о том одном и печалится… Впрочем, о ней после… А теперь, кузен, познакомь меня с общим положением дел… Для чего явился я сюда, ты знаешь. Как думаешь, кстати или некстати?
— Гм… Трудно сказать. Слушай и сам соображай… Вот видишь ли…
Сказал — и остановился. С нахмуренными бровями зашагал молча дальше, словно собирая мысли, обдумывая, как начать.
Высокий, стройный граф Цезарь Броель-Платер, ученик варшавской школы подхорунжих, был года на два моложе своего кузена графа Фердинанда Платера, тоже подхорунжего, только из Динабургской школы.
Но широкоплечий, даже грузный немного здоровяк, краснощекий Фредя казался гораздо юнее и жизнерадостнее своего варшавского кузена с его матово-бледным, нервным, худощавым лицом и выражением больших, красивых, темных глаз, серьезных не по годам.
Посланный из провинции по важному делу, Фердинанд Платер, обращаясь к столичному кузену с вопросом, имел в виду не только узнать текущие новости и картину общего настроения; он был уверен, что вдумчивый родственник вольно и невольно наведет кузена на счастливые мысли, даст ему полезные указания: как приступить к выполнению задачи, возложенной на юного офицера его единомышленниками? Предукажет теперь же, чего можно желать, на что надеяться, какого исхода ожидать в большом заговоре, затеянном литовской военной молодежью по примеру Варшавы.
Вот почему все время, пока длилось раздумчивое молчание графа Цезаря, последний чувствовал на своем лице пытливый, настороженный взгляд старшего товарища провинциала.
— Видишь ли… — протяжно, медленно, словно нащупывая выражения и мысли, заговорил наконец граф Цезарь. — Сказать можно много, и оно интересное, особенно теперь для тебя. Но… не главное. А если сказать то, что мне кажется важным… ты улыбнешься, если не рассмеешься совсем, и подумаешь, что я болею мнительностью… либо стал трусом. А право же: ни то, ни другое… И вот сам не знаю, как начать, что тебе говорить…
— Ну, разумеется, о нашем деле прежде всего… Тебя я знаю: все любишь заглядывать вперед. Интересно и полезно это зачастую. А порой — и мешает действовать… Знаешь, как Гамлету… Но все равно. Я же тебя пойму хорошо. Говори, что хочешь, как хочешь… Только сперва — о деле.
— Гм… Дело идет прекрасно… Даже слишком хорошо…
— Ну, разве можешь ты, Цезарь, так думать и говорить: «слишком» хорошо, когда речь идет о… о нашем деле!
— Вот-вот, видишь: я был прав. Ты уже вскипел. А я повторяю и настаиваю на своей мысли. Иногда чересчур поспешный ход событий вреден даже в таком великом, священном, справедливом деле, как наше. Лучше, если мелкие и крупные препятствия дают вызреть замыслам, отвевают все случайное, приставшее к делу не по глубоким побуждениям ума и сердца, а так… из подражания другим… Не говоря уже о мелких честолюбцах, о корыстных людишках, которые готовы пристать ко всякому делу, явно обещающему удачу… Но они же первые и предают дело, чуть подует холодным ветерком… Вот что смущает меня… Слишком много сочувствующих явилось у нашей бедной Польши… И так сразу!.. Даже, знаешь, сама Судьба словно решила явно нам помогать, вступилась за нас и за наши планы. А я не меньше Поликрата боюсь, когда Судьба, эта бездушная и завистливая каналья, начинает строить глазки людям, которыми любит потешаться извечно и будет тешиться до конца…
— Слушаю… слушаю… Хорони дальше, отпевай! Miserere mei, Domine… [1]
— Не хоронить, не отпевать я хочу!.. Воскресить задавленную отчизну, спеть забытую громкую песню вольной Речи Посполитой… Оттого-то я так и опасаюсь многого… И самые счастливые признаки вижу словно в дымке печали, в трауре грядущего… В самом деле, подумай, братик… Здесь, в Варшаве, — дело совсем готово…
— Неужели, Цезя?!
— Да, да… Верь мне. Чудо какое-то содеялось с нашей старой Варшавой, с этим «полупубличным» городом, как звал ее блаженной памяти круль Август-Станислав…
— Да!.. А Вену он называл просто «публичным домом»… Виноват, продолжай…
— Ты же, Фредя, тоже знаешь этот «второй Париж» наш… У всех, начиная от первого магната или знатной матроны и кончая последним приказчиком и его швейкой, у всех одно на уме: пожить веселее, завести интрижку, попеть, поплясать… А там хоть трава не расти! Только у хитрых израелитов, которые постарше, к этому прибавлена еще одна злая жажда: сорвать, где можно, с кого можно, побольше денег, нажиться поскорее!
— Ох, знаю, не говори, не тревожь сердца. Не успел я въехать в свой номер, а ко мне уже пархатый Лейзер, наш общий «друг и благодетель», — за долгом пожаловал… Ну, ну, говори. Что же дальше?
— А то, что за последнее время трудно узнать веселую Варшаву… Вся тоска, все сострадание к поруганной отчизне, которое много лет жжет, как огнем, души нам и нашим товарищам, — как будто все это разлилось по воздуху, затрепетало в каждой польской груди у обитателей беззаботной, шумной Варшавы. Ты, конечно, слышал, как в марте прошлого года хоронили пана воеводу Белиньского?! Вздорный, собственно, пустой, безвольный был старик. Особенно за последние годы. Но он — принимал хартию вольностей Великого княжества Варшавского из рук Великого Бонапарта… Он был истый поляк, последний свидетель счастливых дней нашей родины, истрепанной после пяти разделов, истерзанной своими предателями и чужими насильниками… И надо было видеть, как целый город сошелся проводить своего старика… И как злился бельведерский «хозяин», да ничего не мог поделать!.. Не запрятать же всю Варшаву в Брюллевские подвалы или в Кармелитскую тюрьму!
— Ох, правда!.. Я слыхал и пальцы грыз, что не мог тоже прискакать… пошуметь, отвести душу!
— Да, душу все отвели… после долгих лет уныния, рабской трусости и бездействия поистине позорного… И с этой минуты словно настал крутой перелом… Много горечи и обиды накопилось в груди за эти пятнадцать лет унижений и гнета… Казалось, людей охватила жажда свободы, тоска по нарушенной справедливости, отвращение к ярму, которое душит нас так давно. Прежние тайные кружки пополняются каждый день, народились новые. Теперь не только военные или студенты, чиновники, обыватели и те зашевелились…
— Как и у нас!.. Совсем как у нас, на Литве…
— А тут, словно удар грома, пронеслась весть о славных Июльских днях в Париже… Варшава затрепетала…
— Вся Польша, вся Литва, братик!.. Я знаю, я видел…
— А тут недели через три — восстание в Брюсселе… За старым троном Бурбонов, который распался в щепки там, на берегах Сены, — здесь, в Бельгии, потерпела крах власть насильницы Голландии.
— Какие это были дни, Цезя!.. И у нас тоже все кипело, ликовало… И только ждало, когда же наш черед?..
— Вот-вот!.. И здесь мы стали толковать об этом… Самые осторожные, нерешительные стали выпускать свои щупальцы из твердой скорлупы… Конечно, наши магнаты, генеральство и особенно — паны полковники думать не решались о перевороте… Сейчас каждому из них полк дает царскую наживу, помимо жалованья. А там что еще будет?.. Если и получит генеральство, так это не греет так, как поставка фуражей для полка… Но и трусливые кроты, и жадные воры все-таки почуяли, что они поляки, что они — люди, а не скот, не быдло, как наши темные хлопы по деревням…
— Не говори, Цезя… И хлопы в селах заворошились, почуяли что-то…
— Еще бы… Дух воли… победу права над силой, хотя бы и далеко свершилось это чудо от берегов родной Вислы… Да что говорить, осторожные политиканы, робкие хорьки, «Клуб патриотического товарищества» или — «оппозиция круля Николая», как зовут они себя на английский лад, — и те подняли голову, осмелели… У них зазвучали такие речи, пошли такие тосты, что до пяти тысяч членов теперь насчитывают в своих рядах…
— Ого! Оппортунисты они жалкие, что говорить… А все-таки подходящий элемент для подготовления обывательских сонных рядов…
— Проснулись все теперь, Фредя… Ты говоришь: хлопы по деревням забродили… А здесь и сапожники, и портные, мелкие торгаши — все в политику ударились… Вот что и пугает меня… Мы веселимся только, как французы… Умеем затеять «рокош», смуту на Сейм, завести свои круги… А делать революции не умеем… Слишком аристократы мы для этого… Но слушай дальше… Наступил тут один день… Никогда не забуду его. Еще недавно… шесть недель тому назад… Воскресенье, четвертого октября.
— Заупокойная месса? «Dies irae, dies ille!..» [2]
— Да, да… Ты уж слыхал, конечно?.. Но это надо было видеть… Самому быть в стенах костела, где до тысячи студентов, несколько тысяч народу: знать, офицерство, женщины, ксендзы, как один, пали на колени, громко молясь об упокоении души тридцати тысяч жертв, павших при избиении в Праге тридцать шесть лет тому назад!.. А что потом делалось на улицах?! Без особого шума, сдержанно, грозно шла толпа, без вызова, но тем более страшная… Скорбь — опаснее возмущения… И если народ понял это, он созрел!.. Этот день немного успокоил мою тревогу, рассеял мои опасения…
— Могу себе представить, что тут делалось!.. А что же те?.. Как допустили?.. Что сам «старушек»?
— Его не было, на счастье… Он вернулся спустя две недели. Ездил в Дрезден лечить психопатку жену…
— Княгиню Ловицкую, эту «неудачную Эсфирь», как ее называют у нас… Думала спасать Польшу, а теперь и слова не смеет пикнуть перед мужем… Правда, хорошо, что его не было. Тут бы явились войска… Полилась бы кровь…
— Нет, не думаю, Фредя… Он же не совсем безумный, не зверь… Путают, сбивают его, конечно… Груб он, как ему и подобает быть… Но все-таки главный его грех — его неразумие. Он, конечно, впутался бы… И без него день сошел лучше, без скандала, что и говорить… После этого дня узнать нельзя Варшавы. Словно в горячке все… Твердят, что «ждать больше нельзя. России теперь не до нас… Ее войска идут на Запад, усмирять чужие раздоры… А тут-то и можно нам подумать о себе». Чуть не открыто собираются люди, толкуют… Назначают время восстания…
— Послушай, да что же, наконец, там ослепли, оглохли?.. Ничего никому сделать не могут у вас, что ли?..
— О, они не слепы, ушей у них много. Но когда Бог захочет помочь угнетенным, он застилает взоры, лишает слуха их господ… На каждом шагу все наши недруги делают промахи и ошибки без конца… Строги там, где не надо, где нет виноватых, где только новые ряды недовольных вырастают после незаслуженной обиды, после преследования!.. А настоящие вожаки, участники заговоров — они невредимы. Судьба хранит их… Да что говорить… Шпионы, жандармы — и те служат теперь на пользу общему делу…
— Подкуплены нашей партией?..
— Есть и такие. Только немного. Где же закупить всю эту свору шпиков и доносчиков? Их на службе постоянных считается больше четырех тысяч негодяев, а сколько еще добровольных предателей?.. Вон у одного Макрота, толкуют, больше ста ищеек под рукой… Нет, всех не купишь, Иуды всех продать тоже не могут, хоть бы и хотели… Однако совесть есть и у шпиков… Многие работают на два фронта и своим больше дают знать бесплатно, чем чужим за деньги. Но кроме того, Бог помогает нам везде. Например, знаешь генерала Рожнецкого?..
— Жандарма, прохвоста и прихвостня бельведерского?.. Кто его не знает? Пусть придет день возмездия, первая веревка, самая высокая виселица, уже назначена для него и для Любовицкого… Их пара — пятак!
— Так удивляйся. Этот самый «голубой» архангел Константина оказал огромную услугу для святого дела… Удивляешься? Глаза раскрыл широко? Да, да… Помог нам, как никто…
— Послушай, не морочь меня, Цезя…
— И не думаю. Потерпи, сейчас все поймешь… Сыскная часть у генерала поставлена хорошо, говорить нечего… И если бы не агенты, преданные нам, которые его морочат, а каждый его шаг выдают патриотам, плохо бы пришлось всем кружкам и планам… Особенно теперь, в эти последние дни… Да нечистый попутал гадину… Проворовался он там у себя в штабе, в своей казне… Дело вскрылось… Если бы не «заслуги» негодяя по предательству, выгнали бы немедля голубчика… Да «старушек» решил сквозь пальцы смотреть на растрату… А Рожнецкий дрожит за свою шкуру все-таки… Как-нибудь отличиться задумал… И устроил заговор.
— Рожнецкий… против кого?..
— Против Константина! Провокация, конечно… Пустил двух-трех своих агентов… Те нескольких дураков втянули в дело… Серьезная публика на удочку не пошла. Нашим все раньше открыли… Они постарались только получше узел завязать, больше швали впутать в «список Рожнецкого».
— Ловко!
— Настал день, Иуда шасть к «старушку»: так и так… Опасный заговор. Готовы склады оружия… Покушение на вашу особу… Захват Варшавы… И прочее, прочее… Расписал, как по нотам. Дал ему Константин предписание. Пошли аресты. Начался сыск, следствие, допросы… Конечно, яснее дня оказалось, что весь заговор вышел из канцелярии самой «охранки»… Вместо патриотов и заговорщиков оказались переодетые шпики и подонки города… И досталось же «голубому» архангелу!.. Он даже два дня с подвязанной щекой должен был являться… И даже музыкой не занимался, как всегда. С тех пор, если и самые верные сведения приносит Иуда, ему больше нет веры… А он был нам всех опасней…
— Браво!.. Завтра же открываю национальную подписку на почетный пеньковый галстук для душки Рожнецкого… И всю виселицу его мы уберем чертополохом… Виноват!..
— Тише, безумец… Ты обращаешь на себя внимание… Да еще ео стороны таких хорошеньких мордочек, что я, пожалуй, не доведу тебя до заседания и ты застрянешь где-нибудь по дороге…
— Нет, не бойся… Ну, дальше, дальше…
— Дальше все так и покатилось, словно с горы… Удержу нет!.. Даже уж было день назначили для восстания. Восемнадцатое октября… И все было готово.
— Как? Месяц тому назад?.. Так почему же…
— Люди отговорили, умные люди… Наш Петрусь и сам осторожен… Он — вроде меня… Слишком хочет удачи и потому боится за все, обсуждает каждую малость… И вот почти в последние часы послали делегатов посоветоваться с такими людьми, как пан Баржиковский, граф Островский, Владислав, граф Густав Малаховский, оба Немоевские… И еще с иными… И в один голос все на собрании решили: ждать, пока русское войско пойдет в поход… А там, глядя по обстоятельствам, приступить к делу…
— Ну, это известная компания. Им жить хорошо, сравнительно… Да и прием их мы знаем: потихоньку да полегоньку… Чтобы без особых неприятностей!.. Им бы хотелось и яичек не побить, и яичницы покушать. Известные тихоходы. А если дышать трудно, если земля под ногами горит?! Если…
— Вот им так и говорили… А они в ответ: «Чем вернее нанести удар, тем скорее наступит настоящее облегчение и для каждого отдельно, и для нашей отчизны!» Даже Зверковский, пан депутат, и Тржциньский с графом Малаховским об этом же толкуют.
— Как? Те самые, кто год тому назад, с Винцентием Смагловским затевали «майский заговор»? Хотели в день коронации захватить здесь разом Николая, Константина, всю семью! И они?!
— Да, вот именно. Люди поумнели за год. А «майский заговор», по-моему, был с сильным душком провокации. Кружок Петруся только народился… Не было военной широкой организации… не было сил. Польша была в летаргии. Европа содрогнулась бы только, а не пришла на помощь кучке безумцев. Нет, с той поры все поумнели, говорю тебе. И хвала Пану Иисусу! Так октябрьский срок и отменили. Тем более что очень важный вопрос оставался еще открытым. Кто будет у нас…
— Вождем?
— Скорее вождями. Гетмана для войск уже наметили давно. Булаву получит, конечно…
— Наш Хлопицкий?
— К сожалению, так.
— Цезя, что ты говоришь! Как ты можешь!
— Успокойся… Позволь мне высказать, что я думаю, а не то, что ты чувствуешь. Дай докончить…
— Ну, говори, я послушаю. Только все же выражайся полегче. Мне больно слышать, что о нем…
— Выражаются непочтительно. А каково мне было пережить, когда я пришел к убеждению, что мой кумир, герой и надежда всей Польши, за которого я, как и другие дети, молился еще ребенком, когда просил у Бога возрождения для родины, что этот человек совсем не то желает, чего желает наш народ. И это бы еще не беда… Если бы он, храбрый генерал Хлопицкий, сподвижник Бонапарта, не был простым, ограниченным, нестерпимо узким человеком… Да, да. Это верно! Я за последнее время имел случай сталкиваться с ним. Он не верит, не надеется на силы и разум польского народа. И все спасение наше видит в союзе с Россией! Вот в чем грех вождя, заранее избранного народом! Вот в чем гибель дела, если даже Господь пошлет нам полную удачу.
— Цезя, Цезя! Да нет… Да ты!..
— Я не ошибаюсь. Знаешь, ума большого у меня нет. Характера тоже. Задумать большое, выполнить я не умею… Но понять чужой ум и душу могу порой с одного взгляда… Это у меня от природы. Я часто проверял себя… А тут я всматривался, еще и еще раз старался проверить свои соображения, свои выводы, свои ощущения… И говорю тебе — Хлопицкий будет вождем… даже против своей воли, как он явно выражает… Но это же погубит нас!.. Не его предательство, а его преданность родине, узкая, тупая, ограниченная одним ложным выводом, сделанным когда-то и раз навсегда. Он видел блеск гениального вождя, толкающего людей на великие дела. Знает, что Польша сама губила себя разладом. И он ослеплен блеском цезаря Бонапарта, сам мечтает быть таким же. Он любит Польшу, желает ей счастья, но по своему образцу… Он презирает и народ, и магнатов. Только за военными рядами признает некоторую осязательную силу и значение. А ты же знаешь, Фредя, можно ли теперь презирать народ, если он и хлопы по нашим диким селам и деревням зашевелились. С другой стороны, пусть испорчены магнаты и шляхта. Но в них заговорили святые чувства: любовь к родине, жажда свободы, негодование против гнета. Надо ловить эти минуты, сближать всех между собой, разжигать светлую искру… И понемногу разгорится огромный, небесный пламень… А Хлопицкий всех обдаст презрением, покажет свой кулак и скажет: «Слушайте меня!» Увидишь, так и будет. А что выйдет из того? Сам понимаешь, Фредя… Он уверен, что старая зараза зависти, раздоров неискоренима из души нашего народа. И он вызовет ее наружу. Я вижу это… Я этого боюсь…
— Иезус-Мария! Да может ли быть? Ты, правда, умеешь понять людей. Но он же не один. Есть другие. Они могут… Неужели они не способны ни на что, кроме короткого, искреннего порыва? Даже лучшие из всех. Я говорю о первых людях Польши, о Радзивиллах, Чарторыских, Пацах, Замойских… Говорю о генералах, не продавших еще себя до конца бельведерским жильцам. Большинство из них разделяет искренне убеждения Хлопицкого… Вернее, он от них набрался своих взглядов, как это свойственно ограниченному, властолюбивому человеку. Хлопицкий не глуп. Он только ограничен, узок. Одна идея может еще вместиться в его львиной голове. Но явится вторая — и ей там тесно… Ее гонят, чтобы избежать разлада в уме и в душе… А если ты сейчас подумал о молодежи или о тех депутатах последнего Сейма, которые не покрыли себя стыдом за безличность? Немоевские, Малаховский, Ледуховский, даже Зверковский. Мы уже говорили. Все поумнели и стали осторожны не в меру. Да не ради общего дела, а в страхе за собственную шкуру… И то сказать: пятнадцать лет жизни под угрозой ежеминутной возможности попасть в тюрьму и очутиться в Сибири. Эта марка кого угодно остепенит. Молодежь, конечно, на все готова, как я, как ты… как тысячи нас! Но за нами народ не пойдет, нам и войско не поверит. Нужны имена, люди, которые стоят высоко над другими… Такова уж наша польская натура. Мы и революцию можем делать только по старине, с магнатами во главе, с ксендзом и крестом сбоку… «Старая Польша» и «новую жизнь» умеет лишь начинать по-старому. А юная, молодая Польша? Та еще слаба. Страдания ее велики. Духом она могуча. А кучка нас небольшая. От хлопов, от народа мы оторваны. Да и что мы скажем народу? Поверит ли он, что мы любим его, когда до сих пор живем его трудами, хлопским потом и кровью? И жить иначе не умеем. Мы, молодые, сильные… А уж о наших отцах и говорить нечего.
— Да, правда, вот это правда, Цезя. И я думал не раз… Большой грех отцов наших и дедов лежит у нас на плечах. И как это поправить, даже исхода не видно… Надо бы разом волю дать всем, как во Франции, в Англии. Но там вся жизнь иначе. Надо бы научить темный люд. Да есть ли время теперь? Надо бы…
— Многое надо бы… А тут уж приспела пора браться за оружие. Больше ждать никто не может! Вот почему, Фредя, и повторяю: боюсь я за отчизну… Хотя самые светлые предсказания выпадают перед нами в минуту начала борьбы. И я, хотя иначе, чем пан будущий гетман Хлопицкий, готов сказать: начнем борьбу и победим… но будем побеждены сами собой.
— Оставь, молчи. Не говори так, Цезя. Мне страшно становится. И наконец, не забывай еще: как нас била судьба! А не сгибла Польша. И народ весь, как отдельные люди, умнеет от прежних уроков и неудач. Ты верно сказал: нарождается молодая Польша. И среди мелкой шляхты, и между ксендзами, в мещанстве, даже у хлопов я встречал людей, которые меня понимали, которым я охотно мог протянуть руку. А мы, а сотни из высшего шляхетства, отвергающие личную выгоду? Готовое на тяжелые личные жертвы ради отчизны и всего народа? Неужели все так и пройдет бесследно? Если нас нынче мало… Будут другие дни! Только надо не унывать, идти упорно к своей цели… И мы, нынче задавленные, побежденные, будем победителями. Не на час, а надолго. На многие годы, пока будет жить Польша. А я верю, она вечно будет жить. Иначе и не явилась бы среди народов такой сильной, яркой, смелой и безрассудной. Безрассудство — не грех. Это временная болезнь народа, как бывает у людей тяжкая хворь. Но мы излечимся сами и излечим наш народ от нее. И он будет равный между равными, а не раб у своих сородичей. Так я верю, так я думаю, Цезя. Так подыми же голову! Не тоскуй сам, не печаль, не обескураживай меня, провинциала, мой мудрый братец!
— По вере твоей дастся тебе, Фред. Где мне обескуражить тебя? Слушаю твои фантазии, и светлее стало на душе… Хотя тут же сам смеюсь своему легковерию… Ну, довольно. Мы уж пришли. Теперь ты приблизительно знаешь все, что у нас творится.
— Да, почти… А главное, вижу, что и как мне надо будет говорить по делу. Мы правда пришли…
В старинных стенах обширного Варшавского университета отведено особое помещение для многолетнего Королевского общества друзей науки, разрешенного всеми властями столицы.
Главными членами и заправилами Общества были профессора, лекторы, которых насчитывалось до пятидесяти, затем ученые профессионалы, проживающие в Варшаве, соискатели степеней и магистранты различных факультетов, частные лица, посвятившие себя каким-либо изысканиям, и члены-корреспонденты за границей.
Кроме закрытых заседаний и бесед, посещаемых исключительно членами Общества, оно устраивало иногда публичные заседания и лекции по разным вопросам научного характера, популярным почему-либо в данную минуту. Для этого Общество пользовалось одной из аудиторий, свободных обычно по вечерам.
Такое именно большое, публичное собрание назначено было Обществом друзей науки на воскресенье вечером 21 ноября, когда оба кузена — Цезарь и Фердинанд Платеры — вошли в освещенный подъезд университетского здания вместе с другой, полупосвященной публикой, спешившей послушать лекцию профессора-историка Лелевеля на тему «Рим-Республика, Рим-Империя».
Граф Цезарь, хорошо знакомый с помещением, прямо из обширной передней вместе с кузеном двинулся не в аудиторию за другими, а в боковые переходы и коридоры, ведущие в библиотеку того же Общества. Здесь одновременно с показным заседанием и лекцией, объявленной открыто, назначено было тайное заседание обширного кружка «Друзей Польши», служившего как бы наследником «Народного союза вольных каменщиков», основанного Маевским, Лукасиньским и компанией в расцвете масонских общин, когда сам Александр I не пренебрегал званием масона и русские власти у себя и в Польше делали всякие поблажки этим «просветительным» организациям.
Но времена переменились. Лукасиньский сидел в цепях, в темной келье особой, одиночной тюрьмы, недалеко от казарм российских полков Константина. Сотоварищи Лукасиньского — кто покончил с собой, не вынося пыток неволи, кто зяб и голодал в изгнании в Сибири…
Всякие просветительные союзы, даже невинного свойства, искоренялись, должны были уйти во тьму и подполье. А уж кружкам, носящим характер заговора, и подавно следовало прятаться как можно лучше. Шпионами наводнился не только город, но вся страна. Частные дома, театры, рестораны кишели соглядатаями. Одни костелы и университет относительно были еще ограждены от слишком явного вторжения шпионских элементов.
Святость храмов обезоруживала, казалось, и шпиков, которые, невзирая на всю грязь своего ремесла, оставались добрыми католиками и старались не навлекать неприятностей ни на костелы, ни на служителей святой католической церкви. И ксендзы, принимающие очень деятельное участие в политических движениях страны издавна, тем не менее оставались почти невредимы, конечно, за редкими исключениями. И среди доносителей, и среди польских следователей и судей находились «атеисты»-вольнодумцы, не щадившие сутаны и предававшие кое-кого из агитаторов-ксендзов.
Но это случалось очень редко.
А в университете сотоварищество еще было довольно сильно. Все почти знали друг друга, знали и «шпиков москальских» из числа студентов, вроде Макрота, и из служащего персонала. Поэтому здесь сыск был почти безвреден для молодежи, не опасен для своих кружков и чужих заговорщиков, которые пользовались порой гостеприимством almae marris для целей, далеких от чистой умозрительной науки.
И сейчас главари обширного заговора нашли удобным собраться под шумок лекции в просторном покое, где помещалась богатая библиотека Общества друзей науки.
Кузены остановились у двери, на которой прибита была доска с четкой надписью: «Королевское общество друзей науки. Канцелярия».
Они постучали и вошли в небольшой покой с полусводами, из которого раскрытая дверь вела в просторную библиотеку.
У стола против дверей сидел юный подхорунжий и проглядывал список лиц на листе бумаги, лежащем перед ним.
— Здравствуй, Платер. Ты на закрытое заседание? — обратился он к графу Цезарю. — Я тебя запишу.
— Вечер добрый. Пришел, как видишь. И не один…
— А пан… пан тоже? — вопросительно обратился юнец к Фердинанду и особенно пристально оглядел брелоки часов, которыми играл тот.
— Граф Фердинанд Платер с Литвы. Кузен графа Цезаря. Прошу записать и меня. Или я сам…
Медленно положив руку на стол, Фердинанд выставил палец с простым серебряным кольцом, где на эмалевом щитке амарантового цвета стояли две темные буквы, сплетенные между собой: P.P. (PrzyjacСt Polskiok).
— Литва, Польша и воля, — негромко добавил Фердинанд, протягивая руку к перу.
— Пусть пан граф не беспокоит себя. Я запишу сам, как водится, графа, — видимо, совершенно успокоенный паролем и кольцом новопришедшего, любезно заговорил подхорунжий. — Собственно, достаточно и того, что пан пришел со своим кузеном. Но пароль и знак мне приказано все-таки спрашивать. А я вижу у пана и масонский знак литовской ложи. Какой красивый… Лучше наших…
И юноша-заговорщик, отметив на листе имя Фердинанда, стал разглядывать золотой массивный жетон в виде равнобедренного треугольника. С одной стороны на нем была изображена недостроенная арка, у подножия которой лежал сфинкс, а с другой — пятиугольная звезда Соломона и две буквы внутри ее: G.L. Раскрытый циркуль своими острыми концами примыкал к нижним углам массивного треугольника, образуя второй, равный первому, треугольник, только пустой внутри.
Пока наивный офицерик разглядывал символическую безделушку, граф Цезарь пробежал глазами фамилии на листе.
— С нами — сотня… Ого! Дело растет по минутам. Тут же ж только делегаты и главари! Да все какие имена. Уминьский пришел, и Прондзиньский… И наших двое еще, гляди, Фредя, Венця Непокойчицкий и Залесский, Кон-стан. Пойдем скорее, Фредя, пока не началось заседание. Потолкуем кое с кем…
Бесконечно длинный, покрытый сукном стол в библиотеке, обычно заваленный газетами, журналами и новыми изданиями, присылаемыми со всех концов Европы, — теперь был пуст, сдвинут ближе к одной стене и на нем белели только листки бумаги да разложены были карандаши и очищенные гусиные перья для тех, кто желал бы записать что-нибудь во время заседания.
Секретарь собрания, юноша студент, был уже на своем месте, рядом с пустующим креслом председателя. Многие из присутствующих также заняли места за столом или перед ним, другие сидели в разных концах обширного покоя, курили, негромко беседовали между собой. Иные стояли в амбразурах окон и вели вдвоем, втроем оживленный разговор.
Фердинанд и Цезарь с порога увидели тех, кого желали встретить.
Константин Залесский и Винцентий Непокойчицкий, молодые богатые шляхтичи, лет 27–28, недавно окончившие университет, весело проводя время в привислянской столице, сначала слегка, наравне со всей передовой, горячей молодежью занялись политикой. Но чем шире рос заговор, тем сильнее увлекались агитацией оба приятеля и, наконец, попали в ближайший кружок лиц, окружающих подпоручика Гренадерского полка королевской гвардии, инструктора школы подпрапорщиков Петра Высоцкого, бывшего основателем и душою заговора.
Оба плотные, рослые, с красивыми, литовского склада, овальными лицами и волнистыми волосами, они походили друг на друга, имея нечто общее с Платерами и еще с тремя-четырьмя литовскими шляхтичами, пришедшими на собрание.
Старший, Непокойчицкий, по моде неслужилой литовской шляхты, носил бороду, которая легкими темно-русыми завитками мягко обрамляла его бледное, выразительное лицо.
Залесский брил усы и бороду, которая недавно стала погуще пробиваться, и отпустил лишь бачки-фаворитки, желая походить на европейского дипломата.
Оба стояли в амбразуре дальнего окна, ведя задушевный разговор.
К этой паре присоединились еще два литвина: пан Юзеф Страшевич и видный, упитанный блондин с голубыми ясными глазами и правильным, женственно-нежным лицом, Езекиил Станевич, маршалек (предводитель) дворянства в Россиенском повете. Вся компания увидала кузенов, едва те появились на пороге. Живой разговор оборвался, и приятели издали закивали с улыбкой вошедшим, пока они шли по зале, обмениваясь рукопожатиями и приветами с теми из знакомых, кто стоял на пути.
— Вечер добрый, пане Езекиил, пан Юзеф… Костик, Венцю, и вы оба в «списковые» попали? Вот уж верная поговорка: за компанию жид удавился, ксендз оженился… А наши два кутилки за серьезные дела принялись.
— Но, но, не смейся, пан графчик. Сам тоже рябчик… Посмотрим, кто еще сумеет лучше дело справить, тогда и посмеемся! — полушутя, полуобидчиво возразил Залесский.
— Да ты не обижаться ли вздумал, Венця?.. Так извини. Ты ж меня знаешь… И в твоем успехе я не сомневаюсь. Знаешь, новичкам всегда удача. Но отчего вацпаны так разбились по кучкам? Где Петрусь? Почему не начинается заседание? Мы думали, что уж опоздали… А тут…
— Да вот Высоцкого нет. Ждем, оттого… — отозвался Страшевич, худенький, нервный, полный какого-то неугомонного задора и огня.
— Подождем, поболтаем… Фредя расскажет нам, что нового на Литве у нас… Я уже давно оттуда, — обратился к Фердинанду Станевич. — Зажился у вас в веселой Варшаве… А уже пора к своей хате…
— О, нового немало… Хотя новости все старые… Набор объявлен… Да только теперь литвинов не оставляют у нас, в полках, как раньше было, а назначают в Россию, в московские полки… А нам будут кацапов присылать на пополнение службы… Каково?!
— Да, что ни год, все хуже!.. Прижимки и угрозы без конца… И так — целых тридцать шесть лет!
— Ну, я вам в таком случае расскажу о «рыцарском поступке» нашего властелина… Вацпаны знают светлейшую Витгенштейн, урожденную принцессу Радзивилл…
— Еще бы, эту… известную многим особу… бывшую добрую приятельницу Михаила Павловича…
— А что же, дружба — вещь неплохая… Она помогла принцессе, как сейчас увидите… Принцессе достались по наследству все домены и майонтки Радзивиллов, почти треть Литвы…
— А на этой трети — столько долгов, что если продать половину Литвы, все же не хватит, чтобы уплатить их!.. И лучше будет, если эти земли, которые пустуют, попадут в руки мелкой шляхте да хлеборобам после распродажи…
— Принцесса думает иначе… Оно попросила прежнего друга… Тот похлопотал у брата… И пришел указ: фамильных земель Радзивиллов ни за какие долги нельзя отчуждать и продавать!..
— Что вы говорите?.. Если так, тысячи семей разорятся… Они ссужали последнее… Да и богатые люди, которые верили гербу Радзивиллов, почешут затылки… Сколько новых слез и горя теперь будет?..
— Особенно среди процентщиков — иудеев наших… Они там больше всего запутаны, пане маршалек… Вы же знаете…
— Все одно… Нельзя нарушать справедливость и закон так грубо, так открыто, кто бы при этом ни пострадал — свои или чужие, католики либо жиды… И они тоже люди… Их жмут, они жмут…
— Ну, мало, видно, жали они пана маршалка, что даже их жалеет. А меня только интересует справедливый поступок… И то горе, какое испытают от разорения наши, близкие, а не жиды.
— Конечно, граф Фердинанд думает, как он желает… А я полагаю по-своему… Но все-таки начнем мы заседание сегодня либо нет?..
Такой же почти вопрос, только несколько в другой форме задавала публика, пришедшая на лекцию Лелевеля.
Назначенный час наступил, прошло пять, десять минут после него, а лектор не появлялся на трибуне.
Будь это в театре, давно бы уже послышались крики нетерпения, застучали бы палки, задвигались стулья.
Но здесь собралась своя, особенная публика, хотя и представляющая смесь всех сословий и кругов варшавского общества.
Кроме человек пятнадцати — двадцати из охраны, присланных для наблюдения и доклада, — вся остальная толпа, старые и молодые, аристократы, чиновники, адвокаты и врачи, типографы и наборщики, ремесленники и купцы, их жены и дочери, пришедшие на «лекцию» ученого историка, знали, что они услышат. Были уверены, что тем либо иным способом будут затронуты их самые горячие, затаенные чувства: любовь к несчастной отчизне, сдавленное негодование против гнета, лежащего на народе уже много лет…
Поэтому все сдерживали законное нетерпение и скорее дружелюбно тревожились по поводу запоздания лектора, чем сердились на его неаккуратность.
Публика переговаривалась, сидя в рядах и стоя кучками в аудитории. Иногда внятно всплывали отдельные слова, предположения:
— Болезнь?.. Арест?..
Но более рассудительные успокаивали слишком опасливых:
— Быть ничего подобного не может. Иначе публику давно бы распустили по домам… А то бы даже не дали собраться…
И успокаивались тревожные, но все напряженно ждали…
Странный вид имела эта толпа, наполняющая обширную аудиторию, ожидающая начала запоздалой лекции с таким волнением, с такими чувствами, как бы ждала важнейшего священнодействия, полного таинственного значения и чар, которому неизвестные помехи не дают начаться в должную минуту…
А в это самое время в небольшом покое, через коридор от аудитории, профессор Иоахим Лелевель сидел вдвоем с Петром Высоцким, и так была важна, так захватила обоих беседа, что они забыли, казалось, и самое время, и людей, ожидающих каждого из них.
— Простите, что я перехватываю на дороге пана профессора, — начал Высоцкий, когда Лелевель на просьбу поручика уделить ему несколько минут предложил войти в эту комнату. — Время не терпит… Раньше я не успел видеть вацпана. А откладывать беседы нельзя. Сегодня решительное собрание, вы, конечно, знаете. Дольше тянуть не хватит терпения и сил… Я это чувствую. Надо подготовить самое важное… Простите, я сейчас объяснюсь яснее… Я волнуюсь… и вообще плохой оратор… Но уважаемый профессор поймет…
— Прошу, прошу, пане подпоручик. Говорите, я вас слушаю… У вас там собрание, я слышал… У меня — лекция… Но, конечно, нечто весьма важное вынуждает пана подпоручика…
— О, конечно, пане профессор… Я прежде должен обратиться к пану как к ученому историку, авторитету в науке и мудрому знатоку жизни… Обращаюсь к признанному вождю нашей честной, пылкой молодежи, которая так чтит шановного пана профессора, так верит его словам… Учится у светлого наставника любить отчизну, искать для нее свободы, славы и счастья.
— О, вацпане слишком преувеличивает мои скромные труды и значение у молодежи… Я только исполняю долг человека науки и… честного поляка… не больше…
— Хорошо, пусть так, дорогой профессор. Не стану тревожить скромность пана. Но все же знайте: ожидаемый ответ для меня слишком важен… И не для одного меня, а для многих… Для целых тысяч людей, стоящих рядом со мною.
— Знаю и я, пане подпоручик, что в военных кругах ваше влияние далеко значительнее и важнее, чем мое среди студентов. Я слушаю.
И Лелевель с серьезным лицом внимательно уставился глазами в бледное, взволнованное лицо подпоручика, хотя он был уверен, что знает наперед все, о чем будет речь.
— Вопрос, повторяю, большой… И прежде вам, пане профессор, как делегату Народного Союза, принятому в нашей организации, должен сказать: у нас все готово, и восстание может вспыхнуть каждую минуту!.. Там сейчас в библиотеке соберется до ста человек: делегаты от всех польских частей войска, стоящего в Варшаве и под Варшавой. С провинциальными мы тоже давно столковались… Они ждут знака. Словом, целая армия готова поднять оружие на защиту отчизны, за ее освобождение… За волю и счастье народа… За все то, о чем так хорошо и горячо говорил уважаемый профессор тысячам из молодежи за годы своего служения науке и родине…
— Да?.. Вы уверены, что дело так далеко зашло?..
— Уверен, пане профессор. Когда вместе с почтенным паном профессором от Союза явились к нам делегатами два месяца тому назад депутаты высокого Сейма: высокочтимый граф Владислав Островский и достойнейший пан Ксаверий Бронниковский, — я тогда же почувствовал, что являются именно люди, которых нам не хватало!.. Переворот был назначен на восемнадцатое октября. Но мне понемногу удалось оттянуть, отсрочить на дальше… Я все опасался. Не был уверен, насколько сочувственно широкие круги общества, как вся Польша отнесется к перевороту, выполненному нами, военными людьми. В содействии средних и низших классов мы теперь уверились… А когда и ваш Союз… Когда такие лица, как пан профессор, как граф Владислав и пан Ксаверий!.. Тогда мы совсем воспрянули духом. Но тут еще вопрос. Хорошо ли вы знаете наши цели и замыслы?.. Можно разными путями идти к одной цели и наоборот… Скажите же нам прямо!.. Дайте совет… Если мы решили уничтожить навязанную нам конституцию, хотим сбросить с себя чужую опеку, желаем видеть Польшу единой и свободной, — стоит ли для того рисковать очень многим?.. Я не говорю о собственной жизни… Но польется, конечно, потоками своя и чужая кровь… Может быть… Нет, наверное даже вспыхнет война…
— Война?.. с Россией! Пан думает?! — вырвалось тревожно у Лелевеля. Но тут же, быстро подавляя невольное проявление страха, он, раздумчиво покачивая своей большой, тяжелой, по телу, головой, добавил, словно видя перед собой неизбежное: — А, пожалуй, пан прав: войны не миновать!..
И вздохнул не то с унылой тоскою, не то с решимостью…
— Да, да, войны не миновать, пане профессор! Но мы — победим!.. Если народ пойдет за нами, за войском… Если шляхта и магнаты будут такими же горячими патриотами на деле, каковы они на словах… А я верю, что так и будет… Но, дорогой профессор, самая горячая вера доступна минутам колебания, сомнения… Так скажи, решай, пан: есть ли надежда, что народ пойдет с нами?.. Что его лучшие вожди… и пан профессор, и другие, — окружат знамя свободы и борьбы, поднятое нами!..
Высоцкий умолк, выжидая ответа. Лелевель тоже молчал, погруженный в думы, словно стараясь проверить их и себя раньше, чем дать прямой ответ на такой жгучий вопрос.
Дать прямой, немедленный ответ особенно трудно было ученому профессору, вождю молодежи, убежденному революционеру в речах и в мыслях, потому что дело касалось не звуков, не речей, не отвлеченных представлений и понятий, — а жгучей насущной действительности… Оценить достоинства и промахи любой революции прошлых и настоящих времен — это одно. А когда придут и спросят: «Начинать ли грозный переворот во имя высшей Справедливости? Примешь ли ты сам, ученый теоретик и проповедник народоправства, участие в народном движении, в кровавой свалке?» Дать здесь прямой ответ было бы тяжелой задачей и для человека с более ярким, решительным характером, чем у профессора, республиканца в душе, отважного в мыслях и крайне робкого в житейских отношениях и делах.
Профессор понимал, что ответить отрицательно нельзя. Это значило бы свести на нет все, о чем он так красиво и горячо говорил своим слушателям уже много лет… За что терпел кару, был выслан из Вильны, преследуем в Варшаве… Что создало ему ореол патриота-мученика за правду и отчизну.
Но сказать прямо: да!.. Толкнуть людей на пролитие своей и чужой крови… И самому как бы обязаться, стать участником переворота?.. Против этого восставал и ясный ум, и мягкое сердце профессора… А ответ дать надо…
Вдруг новое соображение прорезало в его мозгу клубящийся рой смятенных мыслей и неясных впечатлений.
То, что говорит сейчас Высоцкий, в действительности может быть и не совсем так, как оно кажется энтузиасту… Тогда иное дело! Можно найти ответ достаточно приличный, ни к чему не обязывающий и в то же время именно такой, какого ждет собеседник… По существу тоже будет правдив данный ответ… Если верно все, что говорит Высоцкий, тогда двух мнений быть не может… Без колебания придется и ему, и Лелевелю идти за всем народом… Даже против воли!
И, подняв опущенную голову, устремляя свой несколько усталый, близорукий взгляд на бледное, худощавое лицо подпоручика, Лелевель решительно, твердо заговорил:
— О чем же, собственно, идет речь, пан подпоручик? Что хотят от меня услышать?.. Чего могут ждать? Я — такой же поляк, как и пан, как все ваши военные товарищи… Как обыватели и шляхта, сейчас сидящая там, в моей аудитории… Как весь народ польской земли. Войско вышло из недр этого народа. И что чувствует войско, может ли не чувствовать того же народ?.. Наверное, он разделяет все стремления своего войска… И пойдет об руку с ним на всякое доброе дело… О чем тут и говорить?.. Если целое войско… если сорок тысяч человек охвачены одним желанием, одною волей, направлены к единой цели, — они повлекут за собой и весь четырехмиллионный народ, как влекут к победе горячие кони тяжелую колесницу на стадионе.
Безмолвным, горячим пожатием только и мог выразить Высоцкий, какое впечатление произвели на него слова профессора. Даже легкая фальшь красивой заключительной фразы ускользнула от чуткого слуха, потому что слишком напряженно, всей душой он ожидал и вслушивался в суть ответа, а не в слова, какими были выражены уклончивые, тонко сотканные силлогизмы профессора.
— Теперь еще последняя просьба, — быстро подавляя радостное свое волнение, заговорил Высоцкий. — Обращаюсь от имени всех наших товарищей, дорогой, уважаемый пане профессор… Я уже говорил пану: во всяком деле нужны вожди. Военного мы наметили и знаем, любим его, как знает и ценит весь народ.
— Речь идет о… генерале Хлопицком, подпоручик?
— Ну, разумеется, пане профессор.
Лелевель едва удержался, чтобы не заговорить, а Высоцкий, не заметив ничего, решительно продолжал:
— Но кроме военачальника необходима твердая высшая гражданская власть, сильная собственной мудростью, знанием дела и доверием всенародным. Нас, готовых кровью и жизнью жертвовать для отчизны, — нас много. Но нет пока людей с историческими именами, которые знакомы и Польше, и Европе… Нет людей, составивших себе имя на гражданском и военном поприще… Сочувствие, правда, высказывают нам очень многие… Почти все… за небольшим исключением. Но одного сочувствия недостаточно… Нужно заручиться теперь же согласием некоторых лиц, способных образовать Народное правление в тот счастливый миг… Вы понимаете?..
— Д-да… конечно!.. Вопрос если несколько и преждевременный, все же весьма уместный, пане подпоручик… И делает честь заботливости и политической зрелости вацшна и товарищей его. А кого же вы думаете… Кто, собственно, намечен в это будущее Народное правление?
Лелевель особенно внимательно глядел теперь на Высоцкого и был почти уверен, что первой услышит свою собственную фамилию. Но Высоцкий, далекий всякого личного честолюбия и мелкого самолюбия, даже предположить не мог, что профессор считает именно себя одним из первых и необходимейших участников всякого правительства, какое может только возникнуть в освобожденной стране. Он спокойно начал перечислять, загибая пальцы, чтобы не забыть кого-нибудь:
— Граф Людвик Пац, граф Владислав Островский, пан Винцентий Немоевский, смелый депутат наипокорнейших калишан.
Высоцкий остановился, а Лелевель, безотчетно повторявший жестикуляцию его, после третьего пальца загнул четвертый и спросил:
— И четвертый?..
— Только три. Никого больше, — спокойно отозвался Высоцкий. — А кого же еще предполагал пан профессор? Прошу сказать.
— Я не предполагал… Никого, собственно. Потому что, повторяю, не думал о данном вопросе… Считал преждевременным даже. Да, рассуждая логически… Какое бы правительство ни учредилось… такая уж традиция… священный обычай, чтобы в нем был… князь Адам Чарторыский.
— Ах, вот речь о ком?.. Правда, дорогой профессор, граф Адам стал священной традицией в нашей «Конгрессувке»… А так как мы, непокорные, решили покончить со всеми традициями последних лет, — пусть не посетует на нас и эта… И ее долой! Правительство будет — без графа Адама. Мы не начнем «от Адама», как раньше бывало, — довольный ходом дела, пошутил подпоручик.
— Чтобы не кончить столпотворением вавилонским? Дай Бог, дай Бог! — с кислой улыбкой поддержал шутку профессор. — Но опять-таки, рассуждая последовательно, не лучше ли иметь такого человека, как граф Адам, — сомнительным другом, чем явным врагом?.. Я вот о чем подумал… И вообще, врагов у вас, даже в случае удачи, и чужих, внешних, и своих, домашних, — будет немало!.. Так стоит ли самим увеличивать их число?
— Спасибо за добрый совет. Конечно, он будет принят во внимание. Но мое личное мнение: ненадежный друг за спиной — опаснее трех врагов перед очами… Итак, позволь докончить мою… нашу общую просьбу. Авторитет пана профессора, его красноречие и любовь к родине должны оказать услугу общему делу… Пусть пан профессор поговорит с помянутыми лицами… и убедит их принять на себя бремя Народного Правления, когда пробьет час… Пан профессор сделает это, не правда ли?.. Хотя мы предполагаем приступить к делу не раньше января, февраля, когда русские войска двинутся за рубеж, во Францию, на помощь тамошнему тирану… Но все нужно обдумать заранее…
— Ах, вот как, в январе!.. Ну, тогда, конечно, времени хватит на все… И я постараюсь. Хотя ручаться за успех, конечно, не смею…
— О, только бы пан профессор захотел и взялся… А за успех уж я поручусь… Десять ставлю против одного… Вот, кажется, все… Теперь же…
Оба непроизвольно взялись за часы и у обоих вырвалось негромкое:
— Ах, Иезус-Мария!..
— Там уже ждут лишних двенадцать минут, — указал в сторону аудитории Лелевель.
— А там!.. — махнув рукой в другую сторону, в тон произнес Высоцкий. — Пока прошу простить меня, пане профессор… Мое почтенье пану…
— До приятной встречи… желаю успеха…
С последним крепким рукопожатием быстро расстались собеседники, поспешно разошлись в разные стороны.
Когда Лелевель появился только на пороге аудитории, его встретил обычный взрыв приветствий, рукоплесканий, даже более живой в эту минуту именно потому, что слишком нетерпеливо ждали его и чуяли, как он смущен своим опозданием.
Действительно, сейчас у Лелевеля был совершенно иной вид, чем в комнате, где он вел уединенную беседу с Высоцким.
Там лицо его, правда, бледное, усталое, — казалось важным, голова была слегка откинута назад, словно он вглядывался в собеседника, улавливал его мысли прежде, чем прозвучат слова, готовя заранее в уме полудружеский, полуснисходительный ответ наставника, житейского мудреца.
Здесь же, перед большою, чутко-настороженной толпою это лицо словно сжалось, стало менее важно, побледнело еще более. Голова слегка склонилась к одному плечу, не то от дум, не то от сдержанной скорби. Какая-то заботливая, затаенная мысль проложила глубокую складку между бровей. Глаза казались усталыми, углы губ опустились наполовину с печальным, наполовину с насмешливо-скорбным выражением.
И не следствием холодно-обдуманного приема была эта перемена в лице и поступи, не ремесленно-грубой актерской игрой. Впечатлительный, податливый по натуре, Лелевель не только умел улавливать, выражать и приспособляться к чужим настроениям и мыслям. Собственные, даже мимолетные ощущения овладевали всем существом его, отражались немедленно и в лице, и в голосе даже тогда, когда Лелевель в глубине сознания понимал мимолетность своих ощущений и оставался, в сущности, холоден и спокоен. В нем сочеталась странным образом тонкая внешняя впечатлительность талантливого актера, искренне переживающего страдания и радости чуждых, даже выдуманных людей — с холодным, ясным умом ученого, склонного к вечному анализу. Только обычное мыслителям внешнее спокойствие отсутствовало, заменяемое слишком частой сменой выражений лица и глаз.
— Каждую минуту пан профессор другой и никогда не бывает самим собою! — отозвался как-то о Лелевеле товарищ-профессор, из числа завидующих более талантливому коллеге.
В этом отзыве крылось зерно истины, но, конечно, обвитое завистью и желчью. Лелевель и был самим собою именно тогда, когда казалось, что он только служит эхом чужих ощущений, только отражает внешние явления, чуждые ему самому.
Люди, близко знающие профессора, видели, что у него есть в жизни нечто немногое, но самое святое и глубокое, чего он не уступит ни за какие блага, ни под какой угрозой!
А все остальное?.. Слишком мудр и искушен жизнью в свои 45 лет был этот человек с извилистой, сложной натурой и душой. Слишком дорого ценил себя, свое широкое понимание мира и людей, чтобы подвергаться личным неприятностям из-за «пустяков», хотя бы эти пустяки и признаны, были толпою за самое важное, равноценное жизни и смерти. После способности человека к ясному, логическому мышлению Лелевель высшим благом признавал самую жизнь и не раз повторял в минуты дружеской, откровенной беседы: «Живая собака все-таки, лучше мертвого пана сотника!..»
Так и сейчас, пока лектор переходил из кабинета в аудиторию, — должное настроение овладело его душой и ярко отразилось на подвижном, худощавом лице.
Выждав, пока стихли приветствия, Лелевель заговорил своим глуховатым, как вообще у слабогрудых, но внятным, гибким голосом, тоном привычного оратора, все повышая и усиливая свою медленную, связно-четкую речь:
— Извиняюсь перед почтенной аудиторией за невольное опоздание. И вообще, должен просить на сегодня снисхождения, если не сумею выполнить, как обычно, обязанности лектора. Этому есть две причины. Я привык людей, пришедших послушать мое слово, считать близкими мне по духу, а не чужими. И скажу, как родным, о первой, которая явилась как моя личная печаль. Уходя из дому, я там оставил тяжко больного старика восьмидесяти двух лет, своего отца. Я, признаюсь, хотел было остаться. Но старец сказал: «Сын мой, твое присутствие не вернет мне здоровья и сил. А там — сойдутся десятки и сотни людей, которые, может быть, ждут от тебя совета и ободрения… Хотят отдохнуть душой, слушая твои мысли… Иди. А я не умру, не дождавшись тебя!» И — я послушал… я пришел…
Пауза, сделанная оратором, наполнилась каким-то невыразимо скорбным и порывистым, в то же время слабовнятным, но напряженным, трепетным шумом. Не то подавленный вздох одной могучей груди, не то невнятное восклицание сочувственной признательности пронеслось над толпой. И сразу смолкло.
И сейчас же продолжал оратор:
— Вторая причина… Право, я даже затрудняюсь, к какому порядку, к радостным или к печальным, надо ее отнести?.. Деловой разговор больше теоретического свойства… но важный, помешал… Выражусь даже не прямо, а описательно. Пусть уважаемые сограждане представят себе, что на пороге этой аудитории, вдруг, в наше скучное, тоскливое, бесцветное время, когда серые дни идут так медлительно, подчиняясь железным законам необходимости, когда мировая жизнь охвачена мощной цепью следствий и причин… Что, если бы, по примеру старых, милых сказок нашего детства, явился добрый волшебник и спросил: «Какая Польша, по твоему мнению, лучше: угнетенная или вольная?»
Случайная или умышленная передышка удивительно совпала с оживленным, хотя и беззвучным движением, какое вызвано было в зале вопросом докладчика. Все как-то выпрямились на местах, подались слегка вперед, как бы боясь пропустить малейший звук речи. И только «соглядатаи» разных типов, вразрез общему движению, насторожились, но совсем иначе, стали бегать направо и налево своими жадными, голодными глазами, запоминая лица соседей, стараясь уловить их невольный шепот, если уж нельзя читать в мыслях, как хотело бы начальство этих ищеек…
Лелевель, вообще наблюдательный душеведец, теперь испытывал особый подъем и все успей воспринять мгновенно, даже хищное выражение шпиков, к лицам которых пригляделся во время частых публичных выступлений. И сразу другим тоном заговорил:
— Конечно, мои слова — чистейшая фантазия, игра воображения… не имеющая ни малейшего отношения к нашей общественной и частной жизни, к ее неотложным, жгучим задачам и вопросам дня. Нам живется так спокойно и счастливо под сенью законов, свято охраняемых благодетельными властями… Черное неправосудие, гнет мысли, шпионство и предательство нам совершенно незнакомы…
При этих словах невольная сдержанная улыбка появилась и у лектора, и у большинства публики, до того явное выражение недоумения проступило на всем известных лицах тех 15–20 господ, которые пришли не только слушать, но и «смотреть»…
— А все-таки, — быстрее заговорил Лелевель, — на вопрос надо дать ответ, хотя бы и волшебнику. И я, и вы все… за малым исключением, дорогие сограждане, — ответили бы одинаково. И затем, конечно, в свою очередь, задали бы вопрос: «А можешь ли ты, волшебник, сделать чудо, о котором говоришь столь… неосторожно?» Он нам ответит, разумеется, что «он — все может»!.. Они, эти сказочные и политические волшебники, — весьма самоуверенный народ… И порою по вере их творились чудеса, надо правду сказать… Но мы… мы люди рассудительные. И, почесав затылок, оставили бы мечтателя… сошлись бы на сухую, ученую лекцию, в которой я буду иметь честь изложить перед почтенным собранием судьбы вольной… Римской Республики и Рима-Империи… того Рима, который под охраной преторианских когорт, во имя высшей власти, именуемой «силой оружия», проливал потоки крови дома и в чужих краях, делая рабами целые народы, когда завет Христа гласит, что даже отдельный человек не может быть рабом другого человека… Рим-Империя, сначала — угнетающий христиан, избивающий их во имя воли Цезаря… А потом принявший высокую мораль Христа и во имя ее проливающий снова моря человеческой крови, вынуждающий тех, кто слабее, проливать реки слез, изведать бездну мук и отчаяния…
— Я постараюсь показать моим уважаемым слушателям, что дали эти оба Рима народам земли во время своего существования, какое наследие оставили они оба миру, когда были стерты, исчезли с лица земли…
И все ярче, все сильнее льется образная речь талантливого докладчика, глубокого ученого, убежденного друга народоправия. Силу отдельных событий, влияние гениальных лиц и могучей, хотя безличной массы, игру случая и грозные законы климата, природы, хозяйственного избытка или нищеты народной, — все умеет затронуть, изобразить и оценить по достоинству Лелевель, оставаясь в строгих рамках исторической картины… И в то же время выходит так, что один и тот же Рим — двоится в сознании, в мозгу слушателей. Один Рим — Республика — и по обычаям, и по обстановке, по случайным событиям кажется таким родным, таким знакомым для польской души, как будто говорят не о далеком прошлом Италии, а о судьбе привислянского народа, о его былой Речи Посполитой, о минувшем величии… А чуть касается речь Рима-Империи, — и вырастает облик грозной, обширной соседки Империи, и родной, и враждебной в одно и то же время…
Знает и предмет, и свою публику ученый историк-профессор. А господа «официальные» слушатели, сначала переходившие от надежды к недоумению и досаде, под конец совсем растерялись, не понимают, что и как говорит лектор, отчего так волнуется вся толпа от простых, сухих, ученых рассуждений о каком-то далеком, несуществующем государстве, в котором, однако, были тоже и шпики, и предатели, как мимоходом в одном месте картинно обрисовал лектор…
Кончилась лекция… Гром приветствий, рукоплескания, громкие возгласы благодарности…
— Поняли!.. Благодарствуем!.. — надрывается молодежь. Рукоплещут пожилые, степенные люди, машут платками паненки и пани… Сошел с кафедры Лелевель, поклонился в последний раз и под гул, рокот и плеск скрылся за дверьми…
Разошлась постепенно толпа, взволнованная, перебрасываясь замечаниями, вслух сообщая свои впечатления, выводы друг другу… Чуткие ищейки собирают обильную жатву…
А Лелевель, отерев влажное лицо и шею, закутался в свою не слишком теплую шинель, вышел боковым подъездом на плохо освещенную улицу и крикнул дрожки, которые, как на счастье, вблизи задребезжали, затарахтели колесами на неровной булыжной мостовой.
Вот и Длугая улица, где в скромном старом доме снимает дешевую квартиру этот вождь молодежи, владыка ее дум…
Профессорское жалованье и небольшой сравнительно добавочный оклад, который получал раньше Лелевель в качестве «консерватора, хранителя Главной национальной библиотеки», пожалуй, при скромных вкусах и потребностях холостяка-профессора, могли бы обеспечить ему покойную, удобную жизнь. К этому, конечно, пришлось бы прибавить доход от статей в журналах и от сочинений, от целого ряда исторических брошюр и книг, имеющих недурной сбыт. И Лелевель не только пишет свои книги; как талантливый гравер, он сам готовит рисунки и доски, по которым печатаются иллюстрации к произведениям.
Но этих источников едва хватало ему на самое скромное существование. Люди близкие знали, в чем дело. Одной из святынь этого сложного человека была его гордая самостоятельность, неподкупное бескорыстие в малых и больших делах; ни от кого не принимал помощи Лелевель, особенно денежной. А между тем он не менее горячо и свято дорожил семейными привязанностями. С ним и на его средства жил болезненный старик отец. Младшего брата, военного, профессор воспитал, поставил на ноги и только недавно перестал ему помогать… Честолюбие высшей складки было третьей тайной его души. Этому человеку и теперь, в 45 лет, как пылкому, самолюбивому юноше, неодолимо хотелось оставить широкий, яркий след в науке, в истории родного края, быть одним из тех, кто улавливает назревающие, творческие стремления и порывы народные и лучше многих умеет осуществить на деле не вполне ясный самим массам общественный идеал.
Для этой цели он, оставаясь холостым, принес в жертву юные радости жизни, напрягал последние силы ума и воли!.. И своими силами, почти без всякой посторонней поддержки, бедный и безупречный в зрелые годы, как был и в юности, — достиг всеобщего признания, доверия и почета, вписал свое имя в те страницы польской истории, где будет отмечен ход развития научной мысли родного народа, а теперь хотел бы оставить след на других, более ярких, боевых страницах… Только врожденная рассудительность, граничащая с робостью, да любовь к старику отцу, заботы о нем охлаждали мечты профессора, сдерживали порывы, усиливали врожденную осторожность и робость мыслителя перед решительными, практическими шагами, какие неизбежны для человека, желающего в жизни осуществить предначертания Свободы, Справедливости и Высшего Добра…
Порой, вспоминая «Разбойников» Шиллера, который начинал входить в моду, Лелевель говорил:
— Очевидно, я не рожден быть мучеником!..
А между тем испытаний пришлось ему перенести немало, и больше по свободному выбору, чем по вине случая. Правда, сначала юноше Лелевелю оказывал большое содействие его дядя, известный целой Польше Каспар Цецишевский, бывший арцибискуп Киевский, Луцкий и Житомирский, а затем — примас, арцибискуп всего королевства Польского.
Но помощь владыки была не слишком тяжеловесной, выражалась довольно редко в виде наличных денежных знаков, так необходимых молодому ученому, и больше касалась влияния арцибискупа на правящие круги. Благодаря этому многие опасные моменты студенческой и преподавательской деятельности Лелевеля сошли для него сравнительно благополучно. И очень рано он получил возможность пристроиться на казенных хлебах. Прослушав в 1804 и 1805 годах курс у знаменитого историка Томаса Гусаревского, Лелевель с отличием кончил университет и до 1811 года преподавал в пресловутом Кременецком лицее, созданном графом Чацким. В следующем году он переселился в Варшаву, где, благодаря содействию дяди, был причислен к министерству внутренних дел и хорошо успел познакомиться с внутренним распорядком и бумажной стороной общественных и государственных дел.
Через два года он очутился снова в Вильне, уже не студентом, а адъюнктом, помощником профессора, и пробыл там года три без особых приключений… С 1817 по 1821 год Лелевель нашел за лучшее переехать в Варшаву, где читал в университете курс истории XVI века и значился директором Королевского книгохранилища.
В самый тревожный период, с 1821 по 1824 год, молодой профессор снова перешел в свой Виленский университет, по-прежнему умея вызвать к себе обожание молодежи, которой так широко и красиво рисовал картины старой республиканской Польши, былой Речи Посполитой…
Потом начались преследования, гонения… Томас Зан и Адам Мицкевич томились в ссылке, в степях оренбургских калмыков и киргизов… Новые партии невольных колонизаторов Сибири потянулись из Литвы… В солдатские батальоны угодили не только взрослые студенты, «заговорщики» и смутьяны, но даже гимназисты 15–16 лет, как графчик Михаил Платер и его сотоварищи…
Лелевель, оставленный в большом подозрении как «моральный» вдохновитель смуты, — снова очутился в Варшаве… И даже скоро занял место в Сейме как облеченный доверием народа, депутат от Зелехова в Подляхии…
Уцелел горячий патриот и влиятельный партийный деятель, конечно, благодаря лишь влиянию князя церкви, дяди… Но сам он не старался об этом, хотя от забот, от страха при мысли, что ждет старика отца, если сошлют его, Лелевеля, — волосы шевелились, седели прежде времени и морщины до срока ложились на высокий лоб, на молодое еще лицо профессора.
И невольно крепло, росло в душе чувство боязливой осторожности, желание не заплатить собственной жизнью и жизнью отца за слишком неуклонную, явную преданность идеям народовластия…
Оттого так осторожно нынче вел беседу профессор с восторженным, решительным Высоцким… Оттого и вообще осторожен он в поступках и решениях настолько же, насколько неуклонен и последователен в своих научных положениях и выводах, в своем теоретическом республиканстве, красиво и умело выражаемом в его лекциях и книгах.
Сейчас, по пути к дому, Лелевель переживал все события этого вечера: разговор с Высоцким, свою лекцию.
Уже у самых дверей у него сложилось определенное выражение в уме.
— Руки связаны!.. Дух в плену! — прошептал он, глядя с тревогой и тоской на окна своей квартиры, где светился огонь…
Вот он и вошел в прихожую. Старая служанка Барбара снимает, полусонная, шинель и что-то бормочет по привычке.
— Как отец?.. Не хуже ему?..
— Э, панночку, зачем хуже, не к ночи говорить… Адже ж и святое-причастие принимали старый пан… Теперь ему лучше будет, не хуже… как можно… Ксендз же давал тело и кровь Христову… исповедал… Должно легче стать!..
Долго еще бормотала старуха, даже уйдя к себе на лежанку. Но Лелевель давно не слушал ее.
Пройдя мимо столовой и комнаты, служившей ему спальней и кабинетом, где на столах вместе с новыми книгами, начатыми рукописями, картами, гравюрами лежали законченные и начатые только доски, по которым Лелевель гравировал рисунки и планы, он очутился в небольшой, продолговатой комнатке, беленькой, чистой, просто обставленной, где на кровати лежал его отец и, казалось, дремал.
Подняв свечу под абажуром, стоящую на столе у постели, Лелевель направил осторожно свет на лицо больного и вздрогнул невольно. Исхудалое, прозрачное, словно восковое, лицо, черты которого сейчас казались особенно заостренными, показалось сыну лицом трупа.
«Неужели умер?.. И не видя меня, один… Пресвятая Дева! Быть не может… Это было бы слишком…»
Оборвав собственную мысль, Лелевель решительно поднес свечу ближе к глазам и чуть не крикнул от радости, когда заметил, что истончалые веки слегка дрогнули, с усилием стали раскрываться и мутными, даже слабо отражающими сияние пламени глазами больной уставился в лицо сына, близко наклоненное над ним.
— Ты, Юша?
— Я, отец. Прости, я разбудил… но мне хотелось послушать твое дыхание… Показалось, ты беспокойно спишь… тяжело дышишь, — почему-то вырвалось у Лелевеля совершенно неверное объяснение его жеста со свечой. Да и наивна была эта невинная ложь, потому что «слушать» можно было и без свечи, не озаряя ею глаз, как это обычно делают, желая узнать, жив ли еще человек.
Гаснущим сознанием старик уловил опасения, тревогу сына, с которым прожил в тесном единении так много лет. Он сделал знак. Сын понял и легко, осторожно приподнял исхудалое тело, устроил голову повыше в подушках.
— Так… лучше… Легче будет сказать. Юша, сердце мое, напрасно ж ты так тоскуешь… Подумай, сынок, надо ли это? Вот я просил тебя… идти на лекцию. Столько людей сошлось там, у которых так много печали и тоски. А твое слово доставило им утешение, дало сил. Так неужели же я, простой, малоученый старик, должен научить и бодрости придать общему наставнику?.. А чувствую, что надо. Уж не сердись, Юшенька. Ты прав: я умираю. Мы должны расстаться. Так разве же хоть единый из живущих на земле может избежать того. И еще помысли, мой сынку… Вот тебе сорок пять лет. А ты уж не раз думал: «Как тяжело жить! Хорошо бы отдохнуть… Умереть хорошо бы!» А мне, Юша, вдвое больше, чем тебе… Правда, Бог послал мне счастье, какого еще нет у тебя… Бог послал мне… моего Юшу. Оттого я так и зажился, старый, никчемный человек… Да… Да…
— Отец, отец… Да как же ты?!
— Я понимаю… я понимаю еще, сынок… Я тобою радовался, я тобою жил… но и тебе я был нужен… вот такой старый, бесполезный… И потому я крепился… А то бы пора давно уйти… Не хотелось оставить тебя с этой… старой, глупой Барбарой… Ждал, что приведет мой Юша жену в дом… Не сбылось такое счастье… Это одно и печалит меня перед уходом… в последнюю минуточку. Да, Юша, трудно говорить… Я вынуждаю себя… потому уж час пришел… Слушай… пить…
Передохнув, отпив из стакана, старик помолчал, еще более прозрачный и бледный, чем минуту назад.
— Отец, тебе плохо… я позову…
— Доктора… ксендза?.. Не надо! Все были. Теперь — Бог и ты… Если он есть, как я верую… и там ждет меня награда, кара?.. все равно… Но там я буду помнить и любить тебя. А если ты прав и после смерти нет ничего… Если с человеком все кончается в его жизни… Если?.. Все равно. Пусть так! Но в тебе будет жить все лучшее, что было во мне… В памяти твоей я не умру… Потому мне так спокойно и легко теперь, Юшенько… Успокойся ж и ты…
— Ты прав. Ты совсем прав, старик. Видишь, я спокоен! — невольно и вполне поддаваясь настроению умирающего, твердо проговорил Лелевель. — Только не утомляйся. Передохни. Успеешь еще все сказать, что хочешь.
— Нет, Юша. Я крепился. Ждал тебя. Сам говорил себе: «Потерпи, старый. Не засыпай в последний раз, не благословя перед этой последней ночью единого своего… Юшеньку». Слушай… Часы, а может, и минуты остались. Догорела лампочка, масла нет. Тронь — тело холодеет. Не пугайся… я не страдаю… Засну… как часто молил у Бога. И Пан Иезус услышал… Постой, не то… Вот пока тебя не было, и я не хотел умереть, хотя… Он… темный и прекрасный, уже склонялся надо мною… глаза у меня были закрыты… Но я все слышал и видел… И тут, как возилась старая, глупая Барбара… и за стенами, на улицах, где мелькали люди, кони, сеял снег… И… там, в зале, где я часто, сидя в уголке… слушал моего Юшу и видел, как радовались и плакали люди по воле его… И вот… Постой… пить… — Еще сделал глоток старик и совсем слабо продолжал: — И вот я вижу… тебя… Еще ты не в зале… И кто-то яркий такой, словно облитый кровью, подошел к тебе… И тебя хотел забрызгать. Но ты уклонился… Хотя не совсем. Несколько капель, горячих, жгучих… брызги братней крови остались на тебе… Не на руках, так… кой-где… И смутилась душа твоя, которую я словно видел… Юша, береги ее. Не позволяй пятнать. И все испытания, которые предстоят тебе, пройдут… Мирно кончишь ты дни, как я их кончаю благодаря тебе… Бог… Иезус и Матерь Его Святая охранят… Помни…
Старик вдруг смолк, словно заснул, слабо, но ровно дыша…
А Лелевель и не шевельнулся. Слова умирающего, это непонятное для трезвого мыслителя и ученого состояние ясновидения?! В мучительное раздумье, почти в оцепенение погрузился профессор и очнулся долго спустя, лишь заметив, что старик слабо шевелит пальцами и ловит губами воздух, как будто его не хватало для остывающей груди…
К утру старика не стало.
Когда призванный еще часа три тому назад доктор, все время хлопотавший около старика, шепнул Лелевелю: «Кончено» — и осторожно вышел из узенькой комнатки, чтобы послать сюда Барбару, Лелевель, один стоя у трупа, ласково, осторожно смежил ему неподвижные веки и негромко, словно живому, засыпающему человеку, сказал:
— Спи крепко и мирно, мой старик. Ты прав: всему свое время. Но тебя не стало… И над останками твоими обещаю, что всю мою жизнь отныне до конца отдам моей отчизне!.
Не такой большой толпой и не аплодисментами встречен был Высоцкий, когда появился на пороге библиотеки. Но прозвучал общий возглас:
— Наконец-то… пан Петр!..
И этот возглас показал, как ждали подпоручика его друзья.
— Опоздал, знаю, знаю. Казните или милуйте… Оправдываться не смею, панове. Только скажу вам причину моей неаккуратности в такую важную минуту, — громко, просто проговорил Высоцкий, откладывая свою треуголку, отстегивая шпагу.
— Помилуй, пан Петр… Что ты, Пьётрусь! — раздалось со всех сторон. — Мы уверены. Вперед знаем. А сказать — скажи, конечно, пане… Говори, Пьётрусь!
Пока звучал общий говор, Высоцкий прошел к столу, занял председательское место, сперва почтительно указав на него поочередно генералу Уминьскому и полковнику Прондзиньскому, бывшим тут. Но оба решительным жестом предложили ему там сесть, что он и исполнил.
Затем огляделся и заговорил:
— Мы в полном сборе. Я вижу даже новые лица. Конечно — вестники с Литвы, от наших братии. Привет вам, в добрый час! И доброй вестью порадую всех. Кому из нас неизвестно имя профессора, пана Лелевеля, и те широкие круги лучших людей нашего края, которых он ведет за собой как духовный вождь? Тысячи из молодежи — его прямые ученики или на его статьях и книгах развивали свой ум, закаляли любовь к родине. Те, кто сейчас стоит во главе народа, без различия профессий и званий, связаны с этим истым поляком узами единомыслия, если не личной дружбой. Сказать, что Лелевель и его друзья стоят за любое дело, значит предсказать этому делу полный нравственный и практический успех… И я могу объявить вам, друзья: Лелевель не только за нас, как мы уже видели, когда от имени Патриотического Товарищества он явился с другими достойными лицами делегатом в нашем собрании… Он решил идти с нами, помогать нам до конца, вполне разделяя все наши надежды, стремления, готовый работать с нами заодно… И этот красноречивый, высокоталантливый патриот взялся убедить лиц, намеченных нами, чтобы они согласились войти в состав Народного правительства, когда приспеет час.
Движение, радостные возгласы послышались в ответ, особенно из среды молодежи, составляющей огромное большинство в настоящем собрании. Стулья сдвинулись еще теснее, ближе к столу… Стоявшие еще поодаль — приблизились, заняли места в рядах перед столом.
Ряды эти не были правильны, как обычно на заседаниях. Рассаживаясь, публика сдвигала чинно расставленные сначала стулья. Расселись как-то кучками; военные по роду оружия: артиллеристы, гренадеры, саперы, пехотинцы. Но вместе с тем обособлены они и от штатских.
Среди штатских особняком поместились студенты, затем — литовские депутаты и, наконец, несколько молодых шляхтичей и отставных военных…
По ту сторону стола вместе с Высоцким уселись ближайшие его товарищи, заправилы, основатели кружка или лица, особенно уважаемые и влиятельные.
Справа от Высоцкого сидели депутаты Сейма: пан Валериан Зверковский и граф Густав Малаховский, полный, веселый, добродушный от природы и искренний, горячий патриот, способный забыть себя и личные интересы ради великой цели. В частной жизни — обходительный аристократ, превосходный хозяин, сумевший оживить своими начинаниями целый округ, где лежало его богатое поместье, граф теперь все поставил на карту и почти открыто вошел в дело, которое могло ему стоить если не жизни, то всего состояния и грозило ссылкой в далекую Сибирь, где уже много польских патриотов успели собраться и даже образовали нечто вроде колоний в затерянных сибирских городах.
Рядом с графом видна молодцеватая фигура капитана Махницкого, героя наполеоновской армии; дальше поместился пан Ксаверий Бронниковский, один из самых деятельных главарей заговора. Тут же сидит батальонный командир Сводного учебного батальона, стоящего в 20 верстах от Варшавы, в Блоне, майор Шпотанский, усач, крикун, недалекий, только хитрый малый, но истый патриот-поляк. Капитан Казимир Пашкович тихо беседует в этом же ряду с грузным, мужиковатым на вид, но восторженным, полным благородных порывов полковником Михаилом Кушелем. Наконец, завершая ряд, скромно по своему обыкновению, почти на углу стола присел Юзеф Уминьский, генеральские эполеты которого как-то плохо вязались с его лицом, совсем еще моложавым, несмотря на преждевременно лысеющий лоб.
Вообще наружность, лицо генерала бросаются в глаза своим несоответствием в подробностях; так же полна противоречий и душа этого человека.
Подобно всем военным своей поры, еще полной отзвуками наполеоновской сказочной эпопеи, Уминьский не чужд рисовки, показной молодцеватости и щегольства, которое и без того сродно воинственным и женолюбивым полякам. Но у него эти черты смягчаются врожденной ловкостью, мужской грацией и тем избытком скромности, деликатности душевной, которая является преобладающей в характере генерала.
Слева, подле секретаря, стоит пустое, словно для кого-то оставленное, место. Следующее — занято полковником Прондзиньским, которого общий голос давно признал одной из самых светлых голов армии. Глубокий знаток военной истории, стратегии и тактики, прекрасный математик, выдающийся шахматист и светский человек, прекрасно воспитанный, необычайно осмотрительный и сдержанный, полковник, худощавый и нервный, со своей большой головой и широким открытым лбом мыслителя, с плавной речью и спокойным, ясным взглядом светлых глаз выдавался всегда даже в самом большом и смешанном обществе.
И здесь, хотя формально он не был в числе главарей, но ему отвели одно из почетнейших мест.
Полковник Генрих Дембинский, вдумчивый и молчаливый, как всегда, сидит рядом с Прондзиньским.
Дальше идут два саперных офицера, поручик Петр Урбанский и подпоручик Пшедпельский, в руках у которых главные пороховые склады. Третий сапер, подпоручик Феликс Новосельский поместился между артиллеристом-здоровяком паном Михаилом Нешокоцем и бледным, с огненными глазами и орлиным носом начинающим журналистом 26 лет Маврицием Мохнацким, брат которого сапер Казимир Мохнацкий с другим сотоварищем, подпоручиком Каролем Карсиньским, сидел по ту сторону стола в общих рядах.
Безусое, болезненно-бледное и слегка одутловатое лицо Мавриция Мохнацкого, окаймленное волнистыми бакенбардами, которые сходились на шее под подбородком на голландский лад, — было озарено маленькими, но вдумчивыми глазами и скрашивалось небольшим, тонко очерченным ртом. Но под густыми бровями глаза юноши горели таким лихорадочным блеском, на бледных щеках так часто и отчетливо проступал яркий, словно кистью выведенный, зловещий румянец, что и не слишком внимательный наблюдатель, даже не услыхав надрывистого кашля, потрясающего впалую грудь, мог решить, что чахотка крепко держит в лапах свою жертву и жить долго Мохнацкому не придется.
Сам он тоже знал об этом, но не берег остатков жизни, еще пылающих в груди, не щадил слабых сил и как будто хотел наверстать ярким горением скудость дней, отмежеванных ему судьбою.
Пехотный офицер Чарнецкий, гренадеры Кароль Паске-вич и Юзеф Добровольский, затем офицеры Зайончковский, Липовский и Людвик Жуковский завершали ряд цепью молодых, оживленных лиц, огибая левый край стола.
Среди остальных делегатов от полков, сидящих впереди, находились гренадеры Станислав Понинский, Юзеф Горовский, подпоручик К. Шлегель, Август Цитовский, Александр Ласский, Джевецкий, Гощинский и много других, всего человек 70.
Адольф Циховский, Набеляк и еще несколько главарей группы студентов сидели среди своих товарищей. Грустный, бледный, весь словно подавленный гнетом не по силам, сидел совсем особняком поручик артиллерии Юзеф Лукасиньский, брат майора Лукасиньского, Валериана, осужденного за участие в заговоре семь лет тому назад и запертого в тяжелых оковах в одиночную келью военной тюрьмы.
Среди невоенных выделяется крупная фигура Эдвина Гордашевского. С ним рядом архитектор пан Идзиковский, затем типограф-патриот пан Вроблевский, немало запрещенных картинок и листков выпустивший из своего заведения на улице Новое Коло. Тут же изящный, осанистый, известный адвокат Шретер, ускользнувший от кары за участие в заговоре Лукасиньского, но поседевший до срока.
В самом заднем ряду, под стеной у шкафа с книгами, как бы стараясь уйти в его тень, заняли места владельцы больших ремесленных и торговых заведений Старого Места, простые мазуры, мелкая шляхта, но влиятельные в своем кругу, зажиточные люди, любящие родину и удостоенные приглашения в этот избранный круг.
Здесь Алоиз Галензовский, владелец крупнейшей столярной мастерской, Томаш Рудзевский, первый слесарь и оружейник столицы, Вацек Заремба, скорняк и кожевенный фабрикант, Лупп Извольский, москательщик и колониальный торговец, и еще 2–3 других.
Одетые в лучшее платье, словно на воскресной службе в церкви, сидят они прямо, стараясь не пошевелиться, благоговейно ждут, что будут говорить сидящие впереди избранные люди, вожди народа. Какие жертвы надо принести, чтобы вернуть прежнюю волю отчизне, общее счастье народу?
И все внимательно вслушиваются в подробный рассказ Высоцкого о его свидании с Лелевелем.
Он кончил, общее дружное одобрение пробежало по рядам.
— А теперь перейдем к очередным делам. Первое слово — желанному гостю с Литвы, графу Фердинанду и его товарищам.
Красный от сдержанного волнения, поднялся Фердинанд Платер, и даже испарина каплями проступила на его лбу, где отчетливо обозначились жилы, вздутые прилившей к голове кровью.
— Постараюсь не отнять много времени у почтенного собрания. Все же придется подробно, хотя бы и сжато передать, что я сам видел и слышал, что поручено мне доложить Комитету.
— Просим, граф. Слушаем. Пан граф может говорить не стесняясь, не торопясь. Времени хватит на все.
— Не стану описывать, как тяжело живется сейчас на Литве, где нельзя говорить родною речью не только в школах и судах, даже и в семьях, детям с матерями; не буду перечислять нужд народа, которому приходится отдавать последние гроши для налогов, продавать скот, последнюю одежду зимой… Этого кто не знает? И радости не буду описывать, охватившей нас от первого магната до последнего бедняка, когда пришла весть о возможном избавлении… Нет, даже и на это мало надеется большинство… Но и они готовы на величайшие жертвы, только бы хоть вздохнуть вольнее на короткий час…
От рвущегося наружу, но сдавленного чувства смолк на мгновение Платер, и в мертвой тишине ждали кругом, пока он снова заговорил:
— Займемся деловой стороной вопроса. Кроме нас, здесь сидящих, по целому Литовскому краю нет уголка, где бы не работали люди значительные, богатые и бедные, но уважаемые своими сородичами, на пользу нашего дела. Перечислю главнейших и те силы, какими они надеются располагать в день, когда Господь Наш, Пан Иезус, Распятый за нас, повелит народу подняться на подвиг… Князь Огиньский, Гавриил, из Трок, поведет за собою весь округ, по крайней мере 10 000 вооруженных людей, конных и пеших. В три, если не в четыре раза больше сберет под святое знамя граф Кароль Залусский, маршалек Унитского повета, давший клятву последний червонец принести на жертву отчизне. Правда, он человек не военный, бывший камергер нашего круля Николая… Но есть немало известных бойцов, стоящих на нашей стороне. Капитан Биллевич, которому великий император французов сам приколол орден Легиона в награду за редкую храбрость… Вилькомирцы пойдут за ним к черту в зубы, не только в драку. В Ошмянах — почтенный полковник Пшездецкий сделает чисто свою работу, когда потребуется. Капитан Ян Гицевич, тоже наполеоновский вояка, и Константин Парчевский в Виленском округе — люди, на которых можно понадеяться. Наш поэт, наша слава, пан Антоний Горецкий известен столько же в военных кругах, как и на Парнасе. Его даже наметили ближайшим советником и руководителем князя Залусского, если тот по своему роду и положению займет пост главного вождя… В Браславской округе работают паны Борткевич и Прушан. Прозор Маврицкий — в Ковно. Лобановский, всеми любимый, влиятельный виленский шляхтич… Под Гродно — пан Краковский, пан Ронко, главный управитель в Беловежской пуще — сами придут и приведут немало людей за собою. Потом — маршалек тамошний, пан Билгорайский, паны Зелиньский и Гувальд Владимир, Юзеф и Герман, графы Потоцкие, пан Людвик, Замбжицкий, два брата Ясманы, братья Кублицкие-Пиотух, братья Ходзкевичи все, кроме одного… Паны Колышко, Городенский, Снядецкий и Конча, Ценковский, Урбанович и Лизецкий, Матушевич, Изеншмит и Брошевич… И десятки, сотни других… Вот здесь — полный список… А за собою поведут они каждый еще сотни, если, не тысячи других… Говорю вам, братья-поляки над Вислой, чтобы вы знали: на Литву можно положиться. Она готова.
— Да живет отчизна!.. Да живет Польша от моря до моря!.. Да воскреснет единая Речь Посполитая былых времен! — сдержанно пронеслось по рядам.
— Аминь!.. Народ горячий, отважный у. нас… Вон шляхтич Бошевский и селянин Гидрим на Жмуди уже теперь собирают банды… Оружие готовят, косы точат, заржавелые пистоли отчищают, карабины, сабли дедовские. Наша школа подхорунжих в Динабурге… О ней и говорить нечего… Виленские студенты пойдут до одного… Собираются устроить свой легион. Один там у них профессор есть лихой, пан Горностайский… Все ждут лишь знака… и — оружия… Вот насчет последнего — слабовато у нас, надо сознаться… Как была последняя переборка и чистка, тому лет восемь назад, после истории с кузеном моим, графом Михаилом, и с другими… Когда пан Новосильцев, «друг и приятель» польский, как он себя аттестует, похозяйничал… Даже ножи слишком длинные на поварнях и те отбирали… Охотничьи кинжалы и ножи… Оружие, как же! Хоть припрятали кое-что тогда люди. Да мало. А ввозить и прежде и теперь трудно. Взятку возьмет начальство таможенное, пропустит груз. А там — и являются, спустя немного, другие власти. Обыскивают, арестуют, отбирают… Словом, плохо дело обстоит. И просит Литва помощи в этом случае у своей сестры родной, Великой Польши… Денег у нас довольно, мы дадим… Последнее внесем. Но надо, чтобы в должное время отсюда закупили побольше ружей, патронов за границей и морем направили к нашей береговой полосе… Там охрана плохая. От Юрбурга до Иолангена всего 600–700 гусаров на пикетах разбросано… Есть пустынные места. Судно может подойти незамеченным… Хороший, отряд должен сторожить поблизости… Московские пикеты снимем, разгрузим «морского гостя», увезем оружие в глубину края… А там живо его по рукам раздадим… Пускай берут у нас из рук, кому жизнь не дорога!.. Вот что поручено мне сказать Комитету и почтенному собранию.
Порывисто дыша, как после тяжелой работы, сел граф Фердинанд.
— Благодарим пана графа за сообщение, за вести хорошие и за труды, понесенные ради нашей отчизны. Все, сказанное вами, принято к сведению, желания Литвы будут исполнены по возможности скоро и точно. Нынче нет в заседании почтенного пана Волловича, но он дал слово Комитету при первой надобности ехать на Литву и помочь нам в работе на местах. Сподвижник Зана, друг Мицкевича, он, конечно, сумел понять, что нужно братьям, и скажет Великой Польше, с чем надо поспешить для освобождения дорогой нам Литвы. Пан Леон Пшецлавский, добрый литвин и всем ведомый патриот, будет товарищем пану Михаилу. Но еще раньше, даже немедленно, сидящие среди нас паны Константий Залесский и Винцентий Непокойчицкий согласились ехать на Литву для объединения друзей нашего дела, для привлечения новых сил. Пусть Пан Иезус и Матерь Божия Остробрамская пошлют им удачу и здоровье.
Рдея от удовольствия, поднялись оба названные шляхтича и поклонились сперва членам Комитета, потом рядам союзников, непритворно смущенные гулом одобрения, который несся к ним со всех сторон. Уселись и не удержались, метнули взгляд на обоих кузенов Платеров, словно говоря:
— Что?.. И мы не из последних в десятке!..
Когда говор стих, по знаку Высоцкого поднялся юный «академик» (студент) и, молодцевато покручивая едва чернеющий ус, торопясь от волнения, звонко, внятно доложил:
— Мы в университете сорганизовались до последнего человека. Не только товарищи студенты, но и многие профессора. Пусть завтра отчизна позовет — и станем грудью на ее защиту… Отдадим кровь свою до последней капли… Пускай только… а мы уж тогда! Да живет отчизна! — выкликнул он, чувствуя, что начинает путаться и сбивается в речи.
Негромко, но дружно был подхвачен снова заветный клич.
— Вы слышали, друзья! — загораясь, молодея, словно вырастая, громко заговорил Высоцкий, подымаясь с места. — Да сбудется же то, чего мы все так сильно и свято желаем. Конечно, не завтра-послезавтра, как выразился пан — делегат студентов… Но день уже близок… И у нас все готово. Что касается военных сил… Вот мы видим: собрались здесь выборные от всех полков, батальонов и батарей, от конницы и пехоты, какая стоит в столице и по окрестным местам. Свет видел и слышал, как отважно шли польские легионы за орлами императора французов, за чужими знаменами и значками. Он увидит, на что способны наши воины, когда свой, Белый орел осенит их могучими крыльями, когда зареют бунчуки старых гетманов, водивших наших храбрецов и под Царь град, и под стены Офена, Пешта и Вены… Но войско — лишь мощная длань вольного народа. Ему нужна и голова. Тут тоже Господь шлет отчизне Святую Свою помощь, сулит удачу. Кроме тех высокочтимых, ведомых не только Польше, но и чужим народам высоких начальников, старинных бойцов, какие присутствуют на нашем собрании, — назову вам сейчас длинный ряд имен… И вы увидите, что лучшие наши военачальники, храбрейшие из храбрых, цвет польской знати, паны сенаторы, земские послы, члены Сейма, облеченные доверием народа… Все за нас, все готовы встать на защиту народных прав, за справедливость и закон, за права человека, за волю нашу. Откликнулись на наши призывы генералы граф Михаил Потоцкий, граф Людвик Пац, граф Круковецкий, Сементковский, Жимирский, Дверницкий, наш старый герой. Затем еще Кицкий, Колышко, сподвижники славного Костцюшки, Серавский, Венгерский, Шембек, славный Княжевич, все испытанные вожди. Немало есть и полковников, которые не уступят по заслугам генералам. Скшинецкий, Бжезанский, Бем, Колачковский, Солтык Роман, пан Франсуа д'Отэрив, пан Гротгус, который целый полк на свои средства желает снарядить в помощь отчизне… И еще много таких. Затем члены Сейма, сенаторы!.. Их не перечтешь… Мы увидим их за работой в первый день, когда загорится заря нашего счастья… Князь Чарторыский, граф Замойский, Ельский, Сапеги, Любенские, Мостовский. Как ни высоко поднял их Рок, но от народа не оторвались эти лучшие его сыны. Их слову верить можно. И они дали слово послужить родине. Значит, главный вопрос, который остается решить: когда?
— Теперь!.. Сейчас!.. Немедля!.. — раздались голоса, особенно среди молодежи. — Чего еще ждать?.. Силы не хватает дожидаться больше! Если все готово, за дело. И да поможет нам Пречистая Матерь Господня!
Пока звучали эти голоса, Высоцкий перекинулся несколькими словами с капитаном Махницким и позвонил слегка в свой колокольчик.
Быстро воцарилась тишина.
— Желает говорить досточтимый пан капитан Махницкий.
Медленно заговорил старый рубака, седой, со шрамом на лице, но крепкий, кряжистый, как дуб в польских заветных лесах:
— Братья мои… дети мои! Ко многим из вас могу я так обратиться. Мне уже много лет… и все их от самой юности я провел на полях сражений… вы знаете. Вот теперь придется идти, быть может, в последний бой… Но да будет он благословен, потому что зовет отчизна и за нее сладко отдать кровь и жизнь… Верьте, не меньше, чем самый юный из вас, горю я желанием кинуться в бой… Но… дети мои… братья мои! Слишком велика ответственность каждого из нас в этой последней борьбе. И потому надо сохранить полное хладнокровие, действовать с крайней осторожностью… Если уж затеять борьбу, то не для ухудшения дела… довольно ран в груди у отчизны. Мы ли напрасно станем наносить ей новые?.. Нет. Каждый шаг должен быть взвешен, обдуман… и потом — отважно станем наносить удары… неотразимые, смертельные… Вот почему и я сдержу свой пыл… и посоветую вам не начинать борьбы, пока главные силы российской армии не двинутся во Францию, в Бельгию, как уже решено… Ждать недолго… еще месяц, полтора… ведь вам же всем ясно, что может быть тогда?! И — что ждет теперь нас, если мы слишком поторопимся?.. Я верю, что победа нам будет послана свыше… отвага народа, ищущего своих прав, — неодолима… а польская отвага известна миру… Но чего будет стоить эта победа сейчас?! И как легко мы получим ее погодя немного… Ужели же мы не пожалеем крови братской только потому, что нам не терпится?.. Что юная, горячая кровь огнем льется по жилам, что сильные молодые руки тянутся к оружию без оглядки… Дайте ответ мне, братья… дети мои… как любите родину и Бога, так же честно, прямо давайте ответ.
Простые, искренние слова храбреца капитана сделали свое дело.
— Правда!.. Пан капитан прав! — раздались дружные голоса.
— Кто желает возражать? Никто. В таком случае, согласно предположениям Комитета, крайним сроком можем взять день 25 февраля. По сведениям, какие имеются, в это время русские полки уже выступят в поход. А ускорить дело — всегда возможно. Согласны ли так, панове?
— Согласны!.. Конечно, Комитет знает!.. Наше дело — исполнить свой долг. Все согласны!..
— В чем дело?.. Что голосуют?.. С чем согласны?.. Все невольно полуобернулись к дверям, откуда громко прозвучали эти вопросы, брошенные резким, сипловатым голосом носового оттенка.
В дверях стоял подпоручик 1-й роты 1-го гренадерского полка Юзеф Заливский, за спиной которого вырезались в просвете дверей еще фигуры двух юношей: Юзефа Болеслава Островского и Адама Туровского.
В конце июля этого года Урбанский ввел подпоручика в кружок Высоцкого, а в сентябре уже неугомонный, порывистый, неукротимый Заливский очутился в числе ближайших сотрудников, стал одним из главных, полезнейших заговорщиков.
Наружность у подпоручика была самая невзрачная. Щуплый, небольшого роста, он изо всех сил петушился и пыжился, что называется, стараясь казаться молодцом. Своей быстрой воробьиной походкой и общим видом он вызывал невольные улыбки, особенно у женщин, к которым подпоручик питал большую слабость.
Ради них тщательно помадил, приглаживал Заливский свои вихрастые волосы, фабрил рыжеватые усики, старался так повернуть в профиль свое некрасивое лицо, чтобы меньше бросался в глаза исковерканный, словно раздробленный ударом копыта, нос с приплюснутой переносицей и лошадиными ноздрями. Полные, чувственные, плохо очерченные губы сжимались плотно, говоря о страстном, причудливом, но упорном характере этого взбалмошного человека. Вечная тревога горела в небольших водянистых глазах, посаженных тоже неправильно под низким, буг-роватым лбом. Капризный излом темных густых бровей являлся самой привлекательной чертой в этом лице фанатика, полуманьяка, полупроныры, каким являлся Заливский для наблюдательных людей, знающих хорошо подпоручика.
Болезненное честолюбие портило самые лучшие шахматные ходы в его жизни не меньше, чем ненормальная подозрительность и завистливая нетерпимость, с какой он относился к чужим успехам.
Умея быстро схватывать суть всего, что происходит кругом, он хорошо намечал сначала свой план, все дальнейшие шаги. И не хватало только у этого честолюбца холодной выдержки для доведения дел своих до конца. Он мог долго ломать и гнуть себя ради известной цели. Но вдруг прорывались темные силы, наполняющие его внутренний мир; одним неосторожным шагом Заливский сам портил свою работу многих дней, плоды тяжелых дум и долгих, бессонных ночей…
При появлении Заливского, при первых звуках его голоса едва уловимая тень пробежала по ясному, сосредоточенному лицу Высоцкого. Он ценил в Заливском прекрасного конспиративного работника, не щадящего сил, рискующего собой, умеющего зажечь своим огнем самых неподатливых людей. Но в то же время нестройность, бесформенная стихийность и внутренняя и внешняя, присущая Заливскому, производили безотчетное и тем более сильное, неприятное впечатление на Высоцкого, уравновешенного по натуре, с душой, полной влечения к музыке, к творческой мысли, к вечной красоте.
И немало труда стоило Высоцкому подавлять свое нерасположение, чтобы не обидеть беспричинно товарища, не оттолкнуть яркого сотрудника от святого дела служения родине.
Заливский, кинув вопрос, быстро направился к месту за столом, оставленному для него, где Высоцкий очень любезно стал объяснять ему вкратце, о чем шла речь.
Пан Адам Гуровский, полненький, упитанный, розовый человечек с белесыми волосами и бесцветным лицом, с жадным огоньком в глазах и желчной улыбочкой на толстых губах, прошел и сел на свободное место в первом ряду перед столом. Рядом с ним, приставя себе стул, опустился долговязый, прыщеватый, длинноволосый юноша, начинающий литератор, шумливый, бестолковый, но ярый крикун, убежденный демократ Юзеф Болеслав Островский.
Выслушав Высоцкого, Заливский многозначительно поджал губы, оглядел собрание и по-прежнему резко, гнусаво выкрикнул:
— Ничего не поделаешь. Кто поздно ходит, сам себе шкодит. Почтенное собрание высказалось столь единодушно… Его воля — его право! Я, конечно, оставлю за собой право быть при особом мнении и выскажу таковое. Своевременно, не в сей момент. Ежели только высокопочитае-мый наш товарищ, пан председатель, позволение даст мне на это…
С преувеличенным почтением, близким к насмешке, склонился Заливский в сторону Высоцкого.
Совсем необычно звучал голос подпоручика, и странный был у него вид. Кто не знал безусловной трезвости этого человека, мог бы подумать, что он пьян, боится пошатнуться на стуле либо задеть в непроизвольном движении соседа. И потому особенно старается удержать свои беспорядочные жесты, но не владеет ни ими, ни голосом, который срывается на каждой фразе, то граничит с визгом, то гудит в басовом ключе…
Но не вино, нечто другое опьянило подпоручика. Что-то большое, пугающее, но и радующее наполняло его ум… Так держаться и говорить мог лишь человек, много времени бывший под тяжелым, невыносимым для него давлением и неожиданно почуявший, что победа на его стороне бесповоротно, что он может диктовать свои условия и в ожидании этого мгновения притворяется по-прежнему смиренным и бессильным, предвкушая сладость торжества.
Высоцкий, занятый своими думами, заботами о затеянном перевороте, поглощенный текущими делами, все-таки почуял нечто странное в Заливском, но ни охоты, ни времени не было у него разбираться в этом, и тени подозрения не явилось у прямого, наивного мечтателя, что именно его лично и касается перемена, наблюдаемая в подпоручике, который, казалось, так искренне всегда отдает пальму первенства и дань уважения главарю кружка.
— Пан Юзеф может высказаться, как только пожелает, — дружелюбно отозвался Высоцкий на слова Заливского и повел заседание своим чередом.
Военные и штатские делегаты сообщили о числе новых сторонников переворота, завербованных ими, о пожертвованиях деньгами и материалами, особенно — оружием, которое польется рекой, как только приспеет час… Говорили о провалах отдельных групп, об аресте сотоварищей. Все понимали, что в организации, насчитывающей десятки тысяч людей, невозможно избежать предательства. Усиленно обсуждались способы для обезвреженья шпионов. Особенно остановились над вопросом, как сделать, чтобы русские не узнали точно дня, назначенного для переворота.
— До сих пор неуклонно во дни, намеченные нами, хотя бы даже для проверки чуткости панов шпионов, — все караулы в городе поручались русским войскам, а не нашим… В казармах у них — все были начеку. Остается одно, — предложил опытный и в бою, и в заговорах Уминьский. — Надо всегда быть наготове, выработать точнейший план, распределить силы… и время от времени пускать в виде пробного шара слух, что взрыв последует тогда-то… Настоящий же момент пускай решает одно всеми избранное лицо… или еще два-три его ближайших сотрудника… Чтобы знать, по крайней мере, кто именно среда нас… излишне доверчив и сообщителен с москалями…
Это заключение вызвало легкий общий смех. Предложение было одобрено единодушно. Только Адам Гуровский поднялся было и заявил:
— Поручить одному?.. Значит, диктатура… Мы хотим избавиться от чужого управления, а тут… я принципиально против!
— И я. Долой диктатуру и всякие фигли-мигли аристократов! — поддержал Ю.Б. Островский.
— Браво, Островский! — крикнул голос из группы студентов. — Сейчас видно, что граф Владислав тебе не родич.
— Чем я и горжусь, как истый сын народа. Он просто граф, дармоед. А я — бывший типограф.
Улыбками, легким смехом была покрыта задорная выходка.
Предложение Уминьского приняли. Высоцкому, капитану Пашковичу, Заливскому и Урбанскому были даны широкие полномочия.
Общее заседание закончилось. Задвигались стулья, зазвучали палаши и сабли. Нестройный говор сменил прежнюю чинность и тишину.
От угла, где сидели представители рабочих и торговых сословий, поднял вдруг голос пан Рудзевский:
— Собственно говоря… конечно… Мы все должны нашей милой отчизне. Но все ж я прошу коханых панов Комитету не забыть, что… Ежели Пан Бог и святой Иезус пошлют… И начнется свалка… Я буду на месте. И мои сыны, все трое… И ребята, которые… тоже, конечно. Потому от хозяина им не отставать… Но все не то. То ж так ясно, само собой. А я думал сказать… Ежели надо кому из коханых панов чинить оружие теперь и потом, сколько будет у меня сил — я берусь, и без всяких интересов… Потому для отчизны. Пусть запишут паны Комитету.
— Благодарствуйте, пан Томаш. Мы запишем, — ласково отозвался Высоцкий, — пан секретарь не забудет. До свидания, пан Томаш.
Оружейник почтительно поклонился и в числе последних покинул библиотеку, которая, сразу опустев, как будто раздвинула свои стены, стала гораздо обширнее.
Теперь остался здесь Комитет, те 24 человека, которые сидели вокруг стола. Из публики только Гуровский и Островский — по знаку Заливского — подвинулись ближе к самому столу, заняли места напротив подпоручика. Да еще представитель студенческой группы, тихо сообщивший что-то Высоцкому, занял свободное место за столом по приглашению последнего.
— Теперь приступим к совещанию Комитета, — громко объявил Высоцкий, полагая, что приятели Заливского не знают порядка дня и просто остались поджидать товарища.
Но те и бровью не повели при таком намеке. Отозвался вместо них Заливский:
— Вот-вот! Его-то мы и ждем. Приступим, Панове. Дела такие, что нельзя и глазом лишний раз мигнуть, не то что чесаться да собираться, как в баню с мочалкою. Прошу извинить за домашнее сравнение. Я не то чтобы слишком из литераторов… Буду говорить просто и прямо. А там кто как себе хочет, так и понимай.
— Что случилось?! Что за новости?
— То случилось! Новости такие, что нам всем крышка!.. Если, конечно, мы сами не позаботимся о своем деле и о собственной шкуре-с. Да-с… Вот, пан Адам и пан Юзеф пускай вам скажут то, что я от них слышал. Конец нам и капут. И все. А мы тут — «теле-меле» да патоку разводим… Да выжидаем в ливень дождика… Вот-с.
— Ах, вот что?! — невольно заражаясь тревожным настроением Заливского вместе с другими, быстро проговорил Высоцкий. — Плохие вести… И панове хотят нам их сообщить. Просим. Комитет вас слушает. Пан Юзеф… пан Адам… Кому угодно? Заговорил Гуровский.
— Панам Комитету известна моя преданность отчизне, ненависть к врагам святой нашей веры и вольности. И сейчас я надеюсь доказать мою преданность новым сообщением первой важности. Известны ли Комитету последние события в городе и в Бельведерчике?
— Сдается, мне и моим товарищам известно многое, что случилось в течение минувшей недели и может касаться нас так либо иначе. Конечно, есть иные обстоятельства, ускользнувшие от нашего внимания…
Неожиданно прервал Заливский эту неспешную речь, неуверенный ответ Высоцкого:
— «Минувшая неделя… иные обстоятельства»… Хорошее дело. Тут дорог каждый миг. Петля уже висит над шеей каждого из нас, а нам все «сдается» да «кажется»!.. А что вчера случилось, знает ли Комитет и пан почтенный наш презус?.. Что сегодня произошло?.. Наконец, какое письмо пять дней тому назад из Пруссов получено в Бельведерчик?.. А почему в Варшаву пожаловал своячек цесаревича полковник Хлаповский?.. А о чем шла беседа у него со светлейшей княгиней Ловицкой, его бел-cКp?
Так прозвучало выражение «belle soeur» в устах у подпоручика, который очень плохо знал французский язык, произносил отвратительно, но любил пускать пыль в глаза кстати и некстати.
— Если пан узнал что-либо важное или панове, — еще раз прошу вас сообщить Комитету все, что находите нужным. Мы слушаем, — сдерживая прихлынувшее раздражение, тверже, суше прежнего повторил Высоцкий.
— Конечно, мы с тем и пришли… Изложи панам, что знаешь, пане Адаме.
Гуровский снова заговорил, делая плавные, округленные жесты жирными, короткими ручками.
Говорил он быстро, пришепетывая слегка, брызгая слюной, но с необыкновенно значительным выражением бабьего лица, нагибаясь вперед и таинственно понижая свой сдобный басок:
— Письмо… письмо получено прямо из Берлина, почтенные паны. Экстренная эстафета… Да… И пишут цесаревичу… Сами уж можете понять кто… Что в Познани раскрыт большой заговор… Кхм… кхм… имеющий отношение к Варшаве, к особе цесаревича и все иное прочее… Разные там неприятные подробности… Почему и был сбор начальникам частей назначен на сегодня… Кхм!
— Ах, вот о чем вы. Ну, это еще небольшая беда. Я только что собирался доложить Комитету, — заговорил молчавший до сих пор Прондзиньский. — Действительно, цесаревич созвал всех, кое-что говорил о письме, как бы ожидая от нас услышать дальнейшие откровенности… Но все в один голос отозвались, что ручаются за спокойствие… Познанский заговор, если он существует, конечно, направлен против Пруссии. А чтобы обезопасить себя и облегчить работу, может быть, «списковые» [3] там и пустили ракету, что метят против Бельведера.
— И что же великий князь?
— Задумался. Но все же, как он сказал, «на всякий случай», назначил русским и нашим войскам три сборных места в минуту тревоги.
— Конечно, Бельведер, Марсово поле перед дворцом и банк? — подал голос Махницкий.
— Нет. Третье место — Арсенал…
Все невольно переглянулись, но промолчали. Прондзиньский продолжал:
— Конечно, дать распоряжения — одно, а как они будут выполнены, — дело совсем иное и зависит от частей, которые попадут в караул в назначенный день.
— Вернее, назначение дня будет зависеть от того, какой караул в городе? — поправил Уминьский.
Прондзиньский поспешно утвердительно закивал головой.
— Это еще далеко не все, — снова загудел таинственно Гуровский. — Кхм, кхм… Там у меня в Бельведерчике есть такая девчоночка… Уж пусть не взыщут почтенные паны. Молодость — это первое дело. А второе, польза общая. Она тихенькая на вид, глупенькая, а такая шустрая, что мужчину за пояс заткнет… Все слышит, что надо… И она наверное знает, что какой-то… Уж извините. Один из панов подхорунжих — и католик, как жив Господь, — католик был сперва у грека Куруты. А потом потихоньку и у самого! И отпечатал ему про весь наш… Про все наши дела, про список и планы открыл, и даже так слышно, что берлинское письмо только для отвода глаз, чтобы получше скрыть от всех, кто настоящий предатель. Потому что он очень важное лицо в деле. Так мне говорила Юзя, девчонка эта.
Гуровский, выпаливший все залпом, огляделся, и его смутило суровое, мрачное выражение лиц у окружающих. Он смолк на мгновение и вдруг еще оживленнее прежнего загудел:
— Верить мне могут панове Комитет. Первое, нового начальника дают панам подхорунжим. Вот завтра услышите. Пана генерала Трембицкого. Знаете его. Было сказано: «Тот всяким шалопаям, гицлям потачки не даст, подтянет их сразу! Сына родного не пожалеет ради присяги и долга».
— Да, Трембицкий. Верно, он такой, — словно против воли вырвалось у нескольких из присутствующих. Снова минутное тяжелое молчание было прорезано баском Туровского.
— Мало того. Пану генералу Кривцову велено писать указ: вывести из Модлина, из крепости, польские батальоны и заменить москалями. И в целом царстве будут поставлены русские гарнизоны, как на Литве. Да. Я сам ви… слышал это! А она сама видела бумагу. Девчонка эта, Юзя. Смышленая и читает по-русски. Научилась. Как же. И войска все польские решено не оставить в крае, а пустить вперед в первую голову, в авангард, как у вас говорится, против Бельгии и Франции. Это князь Любецкий дал крулю Николаю такой совет. Погонят нас на бойню. Сами услышите через несколько дней, как затрубят выступление. У них уже все обдумано, как бы задушить заговор. Особенно когда и от панов студентов те же вести пошли.
— Почему? При чем тут студенты?
— А как же? И этого не знает Комитет? — заговорил Ю.Б. Островский, стороживший свой черед. — Москали давно обратили внимание на гимназические потешные роты, которые еще наш славный Зан затеял лет двенадцать тому назад. И сами москали догадались, и доносчики подшепнули, для чего учатся мальчики стрелять. Куда они целить станут, когда подрастут?! И студенческие кружки показались опасны. Аресты начались давно. А тут вот на днях проболтались многие из молодежи. Следственная комиссия такое узнала!.. Говорят, на днях и университет будет закрыт. И все списки главных вождей попали уже в Бельведер.
— А если не попали еще, если мы еще на свободе, то через день-два ниточка доведет до клубочка! — резко вставил Заливский свое слово.
— Да, вот и я собирался именно об этих арестах доложить Комитету, — проговорил делегат студентов.
— Вот они дела-то каковы, — снова среди общего подавленного молчания врезался голос Заливского. — А мы тут кружева плетем, классическими заговорами и парламентской дребеденью занимаемся. Полагаем, что можно располагать целыми месяцами, когда минуты сочтены. Когда все раскрыто… Измена и предательство гнездятся чуть ли не в самом тесном кругу. И впускают жало в тех, кто истинно любит отчизну. Кто не болтовню пришел разводить, а готов положить жизнь или добыть волю. Сами решайте, можно так действовать дальше, как мы делали до сих пор? Смеем ли выжидать? Нас ожидают арест и суд каждую минуту. Так лучше же рискнуть. Все равно конец один!.. Пусть нас берут в бою, а не голыми руками, как индюков или поросят берут резать на Святки.
Заливского нельзя было узнать. Действительно, он переживал близкую опасность со всем страхом и отчаянием души, любящей земные блага жизни и еще не пресыщенной ими. Этим настроением он безотчетно заражал и других. Но отчаяние вызвало в нем же какую-то слепую жажду борьбы, сопротивления, порыв безрассудной отваги. И бледные лица сидящих вокруг стола тоже постепенно порозовели, глаза загорелись, стали сжиматься руки. А все спокойные, рассудительные соображения, которые казались незыблемы, неоспоримы полчаса назад, — вдруг закружились, развеялись в вихре налетевшего страха, смешанного с отчаянием, с готовностью на все, только бы не отдаться без сопротивления врагу в руки.
Высоцкий, на которого, конечно, и были главным образом направлены сарказмы и удары Заливского, понял теперь подпоручика. Очевидно, последнему хотелось столкнуть главаря партии и занять самому первое место. Об этом не печалился Высоцкий, который охотно готов был уступить достойнейшему свой опасный пост. Но сейчас надо было забыть и о личном самолюбии, и о великодушных порывах.
Пока остальные обменивались между собою отрывистыми, взволнованными фразами по поводу сообщений, сделанных так неожиданно, Высоцкий быстро набросал несколько строк на бумаге и попросил внимания.
— Вот здесь я набросал в общих чертах план действий в тот день… самый ближайший, конечно, который мы изберем… Чтобы довести до конца работу многих лет, стоившую много крови и жертв.
— Слушаем, читай, читай!..
— Прошу делать поправки, вносить изменения, когда я кончу. Так будет удобнее обсудить. Пункт первый…
— Как захватить цесаревича и сделать его безопасным для Варшавы и для целой Польши! — совершенно неожиданно прозвучал молодой, нервный голос Мавриция Мох-нацкого.
Высоцкий устремил на него свои ясные, внимательные глаза, нисколько не обижаясь помехе, и, потирая лоб над переносицей, сказал:
— Тут у меня не так. Я полагал начать совсем с другого. Но если пан желает. Вопрос, действительно, важный. Все равно, начнем с этого. Ваше мнение, пан Мавриций?
— Мое мнение — мнение всех решительных людей, ясно понимающих положение, любящих родину, готовых на дело, не на болтовню. Я молчал до этих пор. Теоретические разговоры и предложения мне претят. Но решили взяться за дело, запахло стычкой. Хуже, чем есть, конечно, быть не может… Мы убедились! Так надо начинать с начала, как учит природа. Взял у пчел матку — распадется улей. Стоит на ученье покончить с нашим «старушком» — и его все войска будут так же безвредны для народа, как стадо овец. Такой план был уже раз намечен. Решим же, кто его выполнит? Кто нанесет удар?
— Никто из нас, из военных! — вставая, отрезал Высоцкий. — Чувство воинской чести, наша присяга, привычка долгих лет запрещает нам. Не говоря уже о бесполезной жестокости подобного акта.
— Да, вот как! Если мы, готовясь к перевороту, говорим о долге, если у главного из «друзей» нашей отчизны имеются такие ярые защитники…
— Пан Мавриций, я не защищаю никого. Повторяю только: мундир воина не будет запятнан убийством начальника армии. Разумнее, наконец, обезоружить неожиданно в казармах русских, чем затевать свалку. И его захватить, конечно, надо и обезвредить. Это могут сделать наши. Но не больше. Под надежной стражей он будет безвреден. А мы избегнем картин братоубийственной резни на глазах у всей Варшавы.
— А я так совсем иначе думаю, — вмешался Заливский, перешепнувшись с Островским и делегатом студентов. — Нам, военным, не надо мешаться в некоторые моменты того, что может произойти. Вот товарищи пан Островский, паны Гощиньский, Набеляк говорят, что есть кучка решительной молодежи, студентов и других. Они возьмутся устроить дела с Бельведером, если уж пан избегает схватки на площади, во время парада.
— Я не хочу, чтобы плохо говорили и думали о нас в чужих землях. Днем, на параде, начать свалку — значит вызвать панику в публике, будут даже невинные жертвы… И нас обвинят… А если все устроить с вечера и ночью…
— Да, да, — подхватили голоса более опытных военных. — Так, как мы уж толковали много раз. С вечера лучше… И напасть на местах. Будем знать хотя, где враги, где друзья…
— Так все согласны? Бельведер берут на себя паны, названные подпоручиком? Хорошо. Затем идет Арсенал.
Долго еще обсуждались подробности предстоящего переворота, день которого назначен был на воскресенье, 28 ноября, то есть ровно через неделю…
По одному, по двое, небольшими группами разошлись они затем по домам, утомленные, усталые от вечера, полного напряжения и волнений, как после трудного, долгого пути.
Только пан Адам Гуровский, выйдя раньше других, в одиночку, вскочил на дрожки и покатил к Банковой площади. Здесь он боковым ходом из ворот прошмыгнул к дверям роскошной квартиры Любецкого. Камердинер, очевидно, ждал, сам открыл позднему гостю и проводил его к князю.
Долго, подробно докладывал пан Адам о событиях сегодняшнего вечера, получил дальнейшие инструкции, был удостоен пожатия министерской руки и, довольный не меньше остальных, вернулся в свой чистенький угол на Тлумацкой улице.
Глава II ГРОЗОВАЯ НОЧЬ
Как это было, — поведаю вам.
Что это было? — не ведаю сам.
Дерзай. Вера спасла тебя.
Евангелие от Луки. VII,50;VIII,48.Юность — чудо жизни.
В воскресенье 28 ноября Варшава с самого утра казалась необычайно оживленной.
Не только храмы везде были переполнены народом, но густые толпы темнели у папертей, вблизи костелов, на углах улиц, на площадях. И мужчин тут было, против обыкновения, почти столько же, если даже не больше, чем женщин, которые у всех народов отличаются особой набожностью, любовью к посещению храмов, заменяющих им другие места общественных собраний.
И в стенах церковных обычное молитвенно-праздничное настроение людей смешивалось с каким-то иным. Словно ожидали чего-то, к чему-то готовились, более важному и грозному, чем беседа с Божеством. Это настроение особенно ярко проглядывало в уличной толпе, где мужчины держались особняком, а женщины, словно по уговору не сливаясь с ними, только поглядывали тревожно кругом, подымали глаза к нему с мольбой, а порой и со слезами, которые старались сейчас же быстро отереть.
Иногда целый город в предчувствии важных событий зашевелится, как рой пчелиный перед сильной грозой. Так случилось с обитателями польской столицы. Простой люд, ремесленники, купцы, мелкая шляхта и более значительные обыватели, кроме высшей знати, магнатов и вельмож, не то вести получили, не то чутьем узнали, что особенный день сегодня. Большие дела будут твориться в стенах древнего города над прекрасной Вислой-рекой, сейчас обледенелой, лежащей недвижно в снегом занесенных берегах.
Кучки людей, сознавая свою силу в своей многочисленности, громко толкуют на старую, но вечно новую тему о тяжести налогов, о несправедливости в судах, о засилье чужих пришельцев, хозяйничающих в краю вот уж шестнадцать лет подряд… Перемывают косточки и своим властям, и москальскому начальству… Клянут всячески Рожнецкого — «здрайцу», предателя братьев своих — поляков, и его пособников. Вспоминают разные обиды и унижения, нанесенные почти каждому из обывателей столицы и всего края агентами власти. Добираются и до самого «старушка» в Бельведер, поминая все его странности и грубые выходки даже с первыми лицами страны. И все это говорится смело, громко, как будто никто не видит десятки и сотни «личностей», которые осторожно шмыгают взад и вперед в толпе, прислушиваются, запоминают лица, речи, порой перешептываются друг с другом, оглядываясь своими волчьими колючими глазами по сторонам, как будто ожидая удара сзади, в спину.
Но сегодня и эти «личности» как-то осторожнее держат себя, больше обычного маскируются, кроются в тень, не врезаются так развязно и самоуверенно в самую гущу, как делают это всегда. Когда народ начинает чуять свою силу, шпионы теряют ее в соответственном количестве. Это — общественный закон, такой же незыблемый, как закон тяготения или сохранения энергии в мировом кругообороте.
Многие знают, что это за «личности». Другие — угадывают. И взгляды всех как будто говорят:
«Шнырьте, шнырьте, проклятые Иуды-предатели!.. Месите свой хлеб на слезах, на крови братьев своих… Скоро придет ваш день расплаты».
Но кроме этих «личностей» сегодня и другие какие-то загадочные люди, все больше безусая молодежь из простых классов, и хорошо одетые, — тоже переходят от одной кучки к другой, обходят улицы и площади, вмешиваются в толпу, порой обращаясь с речами к ней, порой шепча пару слов главарям, вожакам, неизбежно присущим каждой толпе, каждому людскому сборищу, все равно, созвано ли по чьей-либо воле скопище народное, или случайно скипелись темные, разноцветные, полные движения и говора ряды людей.
Обычным явлением стало за последние полтора-два месяца, что по воскресеньям и по праздникам, когда сильнее кипит уличная жизнь в столице и легче может вспыхнуть неожиданное волнение, — в такие опасные дни усиленные патрули российских войск тянутся и по лучшим, наиболее людным улицам, и там, на окраинах, где среди пустырей и низеньких домишек выбрасывает черные клубы дыма суконная фабрика Френкеля и другие фабрики и заводы, еще немногочисленные пока, но растущие в числе довольно быстро, благодаря стараниям умного министра финансов, изворотливого, загадочного для многих князя Ксаверия Любецкого.
Особенно много народу, особенно часто проезжают патрули и проворнее шныряют «личности» на Марсовом поле, перед Брюллевским дворцом, где ожидается обычное праздничное зрелище: развод войск в присутствии цесаревича. И еще в двух местах не то случайно, не то по уговору скипаются толпы: у Арсенала и перед красивым, обширным зданием на площади Красиньскихг в котором помещается Народный банк, департаменты министерства финансов и квартира самого Любецкого.
На этих трех пунктах также усиленно мелькают юноши, «добрые вестники», как их окрестил кто-то на лету; больше всего это студенты, «паны академики» по-варшавски. Они первые заметили, что у Арсенала, перед банком, у обоих дворцов, везде и всюду, где обычно стоят польские солдаты на карауле, теперь расхаживают часовые из российского войска, похлопывают рукавицами, притоптывают ногами, чтобы согреться среди мглистой, туманной изморози, которая сеется еще с самого рассвета, пронизывая до костей всех и каждого своим влажным холодом, словно дыханием смерти.
— Почуяли!.. Свои караулы вывели, наших убрали, — кидают здесь и там толпе «вестники добрые». — Ничего! И развода нынче не будет, говорят. Ничего! Если не сегодня, так завтра… Мы свое сделаем… Расходитесь, люди добрые, спокойно по домам. Ждите знака… Как сказано: пожары загорятся… Здесь, к Пононзкам ближе… И там, на Сольце… Тогда… Уж знаете сами… Все, как сказано… Лишь бы врасплох поймать друзей…
И чинно, молчаливо начинают расходиться толпы, кидая косые взгляды на встречные патрули, на шныряющих без угомону «личностей», шепча не то молитвы свои привычные, не то обеты возмездия.
К тому времени когда должен был начаться развод, с разных концов площади, среди толпы, медленно, по возможности незаметно человек сорок студентов стали пробираться к знакомому целой Варшаве месту, где постоянно красуется на коне Константин во время излюбленных военных смотров.
Юноши кутались старательно в просторные шинели, что и понятно, судя по погоде. А под шинелью у каждого прилажены пистолеты за поясом, сабля, по старой римской манере висящая на груди, а не сбоку. Многие держали под левой рукой заряженные короткие, сильного боя карабины, уткнув под мышку дуло, прихватив оружие пальцами под курок. Вот уж почти все юноши сошлись, приблизились к заветному месту. Их группа в шинелях, их неподвижные позы, лица суровые, бледные, несмотря на холод, — кидались в глаза ближайшим соседям, даже малонаблюдательной толпе простых людей, темнеющей здесь. Но люди словно не замечают ничего; оглядываются только исподтишка, нет ли близко «личности», которая тоже заметит кое-что и тогда помешает, конечно, чему-то…
Но «личности» заранее уже знали то, о чем «сорок» в шинелях узнали только в самую последнюю минуту от «добрых вестников»:
— Развода цесаревич делать не будет. Он нездоров. Так объявлено. А проще сказать: почуял беду. Успели ему донести, какую вы тут готовите приятную встречу. Вот он и бережется. Ничего! Мы свое возьмем. А пока можно и по домам. Сегодня вечером соберемся на балу, в Биржевом собрании… На Медовой! Там люди плясать будут. И мы повеселимся. Может, в последний раз. Туда от Комитета дадут знать, что надо делать и когда. Не огорчайтесь, товарищи. Что отложено — не потеряно!..
— До вечера… на балу, — не то огорченные, не то довольные, повторяют юноши в шинелях и так же расплываются во все стороны в толпе, как сошлись к назначенному месту…
Грозная тревога, порывистое беспокойство, охватившее целый город с населением в 150 тысяч человек, проникает и сквозь толстые стены, через резные дубовые двери палацев и особняков варшавской знати, обычно стоящей слишком далеко от серого, потливого простонародья и беспечально проживающей в тиши своих роскошно разубранных палат.
Люди положительные, почтенные, редко покидающие свой домашний уют, разве к вечеру, для партии бостона в клубе, либо у такого же вельможного приятеля, — сегодня они с полудня уселись в экипажи, колымаги, кареты, навещают дома, где, как у князей Адама Чарторыского, Любецкого, Замойского или графа Красиньского, можно было узнать городские и «бельведерские» новости раньше других.
О молодежи и говорить нечего. Вестовщики, добровольные глашатаи и любители всякого переворота, больше ради шуму, неразлучного с последним, вроде Стася Ржевусского, молодого Любенского, и другие, не зная устали, мелькали на своих взмыленных верховиках здесь и там, ловили слухи, вести на лету, раздували, украшали их по собственному вкусу и вдохновению: как мячи, перебрасывали дальше, ловили снова и так без конца.
Более серьезные, не чуждые общественной жилки, молодой граф Владислав Замойский, адъютант Константина, те не только узнавали новости, но и обсуждали их со своими приятелями, вступали в разговор и с пожилыми людьми, признанными вождями общества, вроде того же Лю-бецкого или князя Адама, желая разобраться в событиях, отсеять пустое от важного, правду ото лжи.
Любецкий отвечал всем охотно, каждому именно то, что могло понравиться собеседнику, и при этом последний ясно понимал, что князь не говорит ему ни одного искреннего слова, а морочит либо отделывается фразами. Чар-торыский отвечал менее охотно и не всем, но был определеннее и даже сам шел навстречу влиятельным, хотя бы и далеким прежде от него людям, как будто хотел образовать какую-то свою обширную партию для использования грядущих неизбежных событий.
Сумерки раннего вечера сбегались в стенах обширного кабинета, когда князю Адаму доложили о Владиславе Замойском [4].
Князь поднялся и, против обыкновения, встретил юношу чуть ли не на середине кабинета, повел к удобному дивану, стоящему у боковой стены, над которым тянулась темная резная полка со всевозможными курительными приборами и редкой красоты чубуками старого польского образца.
— Желаешь, пан граф, закурить?
— Если сиятельный князь позволит…
— Прошу… весьма прошу!..
Ливрейный пожилой слуга, бесшумно зажигавший канделябры на высоком, черного мрамора камине против дивана и свечи на письменном столе, ловко подал зажженный «фидибус» Замойскому, помог закурить стоящую наготове набитую трубку, поправил экран перед пылающим камином и вышел неслышно, как вошел.
После первых приветственных польских фраз гость задал вопрос по-французски:
— Итак?.. Что скажете, мой князь, насчет сегодняшних новостей? Конечно, вы осведомлены уже обо всем.
— Слышал многое, дорогой граф. Из города только, не из Бельведера. Правда, заезжал этот добряк, полковник Колачковский. Но он, как назло, сегодня там не был. Собирается завтра к княгине Лович. А вы знаете: я лично…
— Да, конечно, князь… Я понимаю. В вашем положении, при ваших чувствах горячего патриота… многое там должно быть не по сердцу! И, наконец, протягивать руку господам вроде Рожнецких, Жандров, Красиньских и tutti quanti… Я понимаю! Но, к сожалению, и мне не довелось сегодня… Не мое дежурство… Только от князя Ксавье пришлось услыхать кое-что…
— Ну, конечно, наш министр финансов, вернее сказать, «первый министр», капитан-баша, он лучше всякого другого знает, что происходит не только в здешних, но и в петербургских дворцах. И он?..
— Князь Ксавье получил подробные сведения… Цесаревич за обедом был очень весел, спокоен. Шутил с принцессой, поддразнивал своего Поля, трунил над Курутой и адъютантами, приглашенными к столу, и заявил, что очень доволен миновавшим днем. «Вот оно, ваше „кровавое“ воскресенье… Не только пришло, но и прошло благополучно, без революции, без нападений и резни… Без всяких ужасов, какие нам пророчили!» «Благодаря решительным мерам, принятым вашим высочеством», — заметил Колзаков. «Ну, что за особенные меры? Несколько лишних патрулей? Это бы не удержало никого, заварись каша всерьез! И напрасно я не был на разводе. Лишние сплетни теперь пойдут у кумушек в робронах и в мундирах, черт подери! Все этот проныра и трус Рожнецкий опять сбил меня. И вообще, от страха у него двоится, троится все в глазах. И плутует он при этом. Узнает что-нибудь на два злота, прибавит на пять червонцев, а в награду хотел бы получить дукатов пятьсот, если не больше… И куда он девает деньги? На девочек, в карты проигрывает». Тут скорбный взгляд княгини остановил излияния. Точно повторил вам, князь, все, что было передано князю Ксавье очевидцем.
— Боже мой, Боже мой! Какое гибельное заблуждение. Так всегда бывает, если добрый, но недалекий человек окружен негодяями, — скорбно кивая головой, проговорил взволнованный князь, но сейчас же сдержался и продолжал спокойно, мягко, как всегда: — Так в Бельведере полагают, что «все благополучно прошло», потому что взрыва не было сегодня, когда его ждали, когда о нем говорил целый город, не только донесения тайных агентов господ Рожнецких и Новосильцева… Какое заблуждение… А что событие может произойти совершенно неожиданно, еще нынче ночью, завтра, послезавтра, наконец. Что буря — неотвратима, что ее, действительно, не отклонить лишними патрулями и арестом нескольких безрассудных крикунов. Что опасна целая Варшава, замолкшая, затихшая, но тем более страшная. Что край охвачен огнем и спасут только решительные успокоительные меры, широкие уступки, полное изменение взаимных отношений между народом и властью. Особенно исходящей из стен Бельведера. Этого всего там, как видно, и не чуют? И знать не хотят? Вы затрудняетесь ответить, милый граф. Ну, понятно. Дело ясно и без слов. Что будет, что будет с нашей отчизной?!
— Храни Господь Польшу от всяких бед! Она и так изведала их немало. Я люблю родину, князь, должно быть, так же, как и вы. Хотя, конечно, слишком мало мог ей послужить в сравнении с вами. Но позволю себе спросить вас, князь. Так ли все неотвратимо, как вот мы сейчас полагаем? Есть, конечно, опасные течения, среди военной молодежи преимущественно. Но мы, все правящее сословие, крупные помещики, сановники и люди нашего круга… Неужели мы уж так бессильны, что не сможем остановить движения? Тем более что, по словам князя Ксавье, — оно грозит нам не меньше, если не больше, чем власть россиян. PI если самые влиятельные, лучшие из нашего круга, сильные общественным доверием соединятся с законной властью… Неужели и тогда опасность неотразима? Как вы полагаете, дорогой князь?
— Я вам скажу все, что думаю. Но просил бы раньше сообщить, что думает князь Любецкий о положении вещей? Он, конечно, высказывал вам?
— Как и всем. Мы не особенно близки. Но князь весьма подельчив. Я готов вам сообщить, князь. Помню постоянное ваше участие ко мне и даже содействие в личных, служебных моих делах… И наше родство. Словом, я желал бы выяснить мотивы моей откровенности, моего обращения к вам в данную минуту. И заверить, что мои мнения если и совпадают со взглядами князя Ксавье, то совершенно от них не зависят. А думает или, вернее, высказывает он вот почти то же самое, что и я сейчас сказал.
— Да, да! И что внушено им там, в Бельведере? Вот это-то печальнее всего. Таким путем можно лишь ускорить развязку. Можно, как заклятиями, вызвать таких «гениев Земли», которых уж и не сумеем отогнать без собственной гибели. Вот как я думаю, милый граф. И еще полагаю… Даже наверное скажу… У меня есть на то основания. Мне открыто многое, что, пожалуй, и вам известно… И о военном союзе, и обо всем другом… Что должен знать и князь Ксавье. Только мы различно оцениваем то, что узнали. События покажут, кто из нас прав. И это будет очень скоро. А надо бы нам потолковать с князем. Может, со мной он заговорил бы несколько иначе, чем с другими.
— Наверное даже, дорогой князь! Я и начал с того, что не слишком доверяю искренности нашего министра-дипломата. Но с вами?! И как кстати. Нынче, узнав, что я собираюсь быть у вас, князь Ксавье просил передать, что он сам собирался. Но нездоровье… Он, действительно, второй день не выезжает никуда.
— Его обычай: сидеть у себя и выжидать в решительные моменты. Все равно. Я охотно загляну к нему… Это даже необходимо по некоторым соображениям. Время не терпит! События у ворот.
— Вы так уверены, князь? — с искренней тревогой спросил Замойский.
— Почти! Но не будем волноваться раньше времени, мой юный друг. Я по моим годам, естественно, стал фаталистом. И вам советую заразиться немного этой философией. Удобнее жить, легче мириться с таким вершителем судеб целого народа, как обитатель Бельведера.
— Надо сознаться, удивительный человек, словно сотканный из противоречий, — живо подхватил Замойский, склонный, подобно всякому юноше, разбираться в поступках и в характере людей, стоящих на вершине власти. — Я вот уж третий год приглядываюсь. И невольно, по служебной близости, знаю многое, неизвестное другим. Непостижимый человек! Порой — олицетворение добродушия. Внимателен к последнему из окружающих. Трогательно деликатен. Нам, полякам, оказывает гораздо больше внимания, чем своим россиянам. Брату-царю говорит и пишет о нас все лучшее, превозносит Польшу до небес. Громко заявляет: «Лучше пускай они останутся у нас и с нами хорошими поляками, чем плохими русскими, ненавидящими своих угнетателей-братьев…» Тех же русских, особенно придворную и военную знать, часто называет «народом убийц»… Никак не может забыть смерти отца своего, несчастного Павла… А сам порой поступает по его примерам, даже хуже. Нестерпимые оскорбления, кидаемые заслуженным людям, часто перед фронтом, перед всей Варшавой. Мучительная муштровка, суровые взыскания, незаслуженные кары. Мы с вами знаем, князь, что цесаревич не раз хлопотал у брата. Настаивал на необходимости слить Литву, Подолию и Волынь с целой Польшей. А здесь — сажает в тюрьму людей, которые хотят того же. И эта ужасная полицейская система! Шпионство, сыск… Нарушение конституционных обещаний… Глядишь, и руки опускаются… И начинаешь если не сочувствовать, то понимать тех, о ком мы говорили сейчас. И взрыв, которого, в сущности, должно опасаться, не желать, кажется не только неизбежным механически, но и необходимым, благотворным, как… как… — Замойский остановился, подыскивая выражение.
— Как протест народной души, — договорил князь, приходя ему на помощь. — Как вот этот взрыв юной откровенности, которым я очень порадован, верьте мне, милый Владислав. Если бы вы знали этого… несчастного принца тридцати пяти лет, как я его знаю… Вам бы многое стало понятно. Но все-таки я сам готов, не выбрасывая ни йоты, повторить высказанное вами. Только мои холодные выводы будут много печальнее, безотраднее ваших юных надежд, ваших негодующих ожиданий. Не хочу и смущать вас ими.
— А я, дорогой князь и наставник, не стану более утруждать вас. Имею честь. Прошу передать мое уважение княгине.
— Вы разве не пройдете к ней? Она вас любит… Пожалуйста.
Проводив гостя до дверей, князь позвонил.
— Одеваться. И заложить карету! — приказал он вошедшему камердинеру, направляясь в соседнюю с кабинетом уборную свою.
В светлом, просторном кабинете, убранном с казенной, холодной роскошью, сидел князь Ксаверий Любецкий, кутаясь в теплый меховой халат, глубоко уйдя в вольтеровское кресло, придвинутое ближе к огню, весело пылающему в камине, и попыхивал дорогой «Регалией» Уппмана, провожая взором кольца дыма, медленно тающие в воздухе. Моложавый для своих пятидесяти лет, как будто не стареющий ни душой, ни телом, князь и теперь, несмотря на нездоровье, выглядел довольно бодро и свежо. А может быть, легкий жар, окрашивая румянцем щеки, отражаясь лихорадочным блеском в умных глазах князя, производил обманчивое впечатление живости и подъема сил.
Против него, по другую сторону камина, грузно темнеет в кресле большая, начинающая жиреть фигура сенатора, графа Людвига Платера.
Сильный, неугомонный, порывистый, как и в годы далекой юности, пан сенатор сжимает левой рукой длиннейший чубук позабытой им, давно погасшей трубки, а правой сильно и часто взмахивает в лад отрывистой, звучной, решительной речи своей:
— Не-е-е, князюшка, не-е-е, сердце мое любое, тут фигли-мигли, дипломатия всякая не поможет! Прямо карточки на стол. Раз, два! Левая, правая. Ва-банк! И — кому счастье? Отвильнуть нельзя. Да, да! Не нынче, так завтра те самые голодранцы, над которыми ты потешаешься сейчас, войдут и спросят: за кого ты? За москалей либо за Польшу? За Бельведерчик либо за нашу независимость и святую отчизну? А ну-ка, что тогда скажешь, сердце мое?
— Скажу прежде всего — не принимать голодранцев. А разговаривать с ними и подавно не стану.
— Войдут, братику. И без твоего приему войдут. И ответишь им, если спросят. А вот мне надо знать: как?
— Если это тебе, старый сумасброд, желательно знать, изволь, скажу. Хотя пора бы и без моих вещаний знать, может ли князь Ксаверий Любецкий быть против отчизны за москалей. «Все для отчизны!» — мой постоянный клич. И дружба с россиянами — тоже для нее. Да, мой граф, якобинец, карбонарий, «угольщик», белоручка ты этакий… Бунтующий «юноша старшего возраста». Опомнись! Ведь я моложе тебя, а рассудительнее намного.
— Это ты так думаешь. А вот на деле я прихожу, чтобы, может, спасти тебя. Чтобы иметь право крикнуть, кому надо: «Не смейте трогать разумного князя Ксаверия. Он иногда говорит неладно, но добрый поляк, истый патриот!» Вот, что скажешь?
— Скажу: тот слишком глуп или низок, кто смеет сомневаться во мне. Кто решится смешать меня с Грабовским, Красиньским, Любовицким, Рожнецким и прочей бригадой пана Новосильцева… Да, полагаю, таких не найдется и среди голодранцев этих, как они ни глупы, как ни жадны от голоду… Да ведь я и кормлю их в буквальном смысле слова, всех этих бездельников — крикунов, дармоедов-агитаторов. Кто собрал в подвалах этого самого здания миллионы, десятки миллионов звонких польских злотых? Кто оживил промышленность в крае, завел фабрики, заводы? Кто создал земельный и торговый кредит, спасая этим от разорения и мелкую шляхту, и хуторян, и крупных панов помещиков? Кто привлек заграничные капиталы в край, открыл вывоз нашим товарам, ввоз чужим в крулевство? Я! Это подтвердят и мри ненавистники; даже фальшивые друзья мои не смеют оспаривать того! И на лишние денежки, которые благодаря мне шевелятся в польских протертых карманах, на сбережения стариков отцов, работящих и честных, могут бездельники сыночки посиживать в погребках, тянуть пиво и орать: «Долой правительство! К черту Любецкого и всю акцизную систему его!» А пивовары, которым я мешаю наживать триста на сто по-старому, шинкари-корчемники и жиды-контрабандисты подуськивают безусых глупцов. Знаю я, все знаю. Пора бы и тебе знать, старый друг, снегирь красногрудый. Или тоже в якобинцы записался? Поздновато немного. Хе-хе-хе…
— Хорошо ты умеешь говорить, пан Ксаверий. Это я давно знаю. И сейчас вот послушать тебя: все виноваты. Ты один прав. Да, повторяю, не время словами отыгрываться. Шутить не пора. Пойми меня. Поверь мне. Час настал. «Мене… текел… ферес!..» Может быть, сегодня же ночью… Понимаешь?
— Ничего. Пусть попробуют. Будут перебиты, постреляны, как воробьи на току. Пушки тоже не игрушки, пане сенатор. А пушки у правительства в руках. Это чего-нибудь да стоит. И патронов тоже жалеть не станут. Заряды ведь недорого стоят. Или ты не знаешь нашего цесаревича?
— Ой, Ксаверий, что мне делать с тобой? Или ты забыл, что пушки могут и поворачиваться на своих осях?
— А если бы и так? — неожиданно принимая совершенно серьезный вид, нервно, почти озлобленно заговорил Любецкий. — Что же? Ты и вправду как будто явился от этих господ переворотчиков-молодчиков? Так слушай. Через твою голову говорю теперь к ним. И повторю им это в глаза, если придется. Меня ни купить, ни продать нельзя. Сам привык людьми торг вести в больших размерах. И какими людьми! Э, да что говорить. Но князь Любецкий — истый поляк с головы до ног. Не угроза пушек заставляет меня это сказать. Знаешь, я прошел школу Суворова. Добавлять к этому нечего. Но и военный мундир, против обыкновения, не сделал из меня круглого идиота. Целой жизнью своей я это доказал. Ты или эти господа скажете мне о нарушенной конституции. Верно! Будете толковать о независимости. И я желаю, но умею и добиться исполнения своих желаний без крови, без драки. А главное — без промаху! Мою программу я готов огласить на каждом перекрестке. Школы, образование народное… Просветить надо темные массы. Да и нашим крикунам-политиканам, особенно из молодежи, поучиться еще многому надобно. Потом чтобы у всех кусок хлеба был и ремесло в руках. Денег, побольше денег запасти надо. Впятеро, вдесятеро больше того, что я уже собрал. Набить подвалы чистым золотом. «Денег, денег и денег — вот что нужно для войны!» Помнишь, кто это сказал? Не нам с тобой чета. Потом — свои заводы: оружейные, пушечные и пороховые. Чтобы не везти издалека, не платить втрое за снаряды. Тогда еще можно будет если не потягаться с россиянами, так пугнуть их хорошо. А иначе? Нет. Времена Костюшки миновали. Пиками да косами москалей не напугаешь. Да еще теперь, когда они персов разнесли, османов разбили. Армию такую развели, что подумать страшно. И теперь думают эти… успеть что-нибудь со своей бандой полувооруженной сволочи?! Нашумят, навредят. Это верно. А толку не будет. Только хуже станет. Если не вмешаются люди поумнее.
— Как ты? Да?
— Как я, как ты, как еще иные. Не верю же я, граф, чтобы ты совсем ума решился.
— Не верь, твое дело. А я свой долг исполнил. Предупредил тебя по старой дружбе. Больше ничего сказать не могу. Разве еще одно… Пока ты свои разводы разводил, рисунки рисовал, что будет, когда нас уж не будет, лет этак через семьдесят пять, припомнилась мне одна старая, забавная сказочка. Едет лесом скупой шляхтич на заморенной кляче. Золота мешок на ярмарку везет да еще целый ворох всякой дряни навертел на муштака. Тот еле ноги переставляет и от грузу, и от голоду… А видит шляхтич: вдали двое бегут, ружьем грозят разбойники. И молит он клячу: «Беги поживей! Спаси меня, буду тебя каждый день овсом сеяным до отвала кормить!» А кляча вдруг и отвечает: «Кинь лишний груз с меня да сейчас дай несколько горстей овса… Увидишь, как я поскачу… И не догнать меня этим лайдакам!» А скупой все свое: «Выручи, побеги! Навек от работы освобожу». Да шпорит еще клячу заморенную. А она все свое: «Прежде покорми, скинь груз, и я пободрею!» А тому жалко хоботье кидать и овса жалко… И разбойников страшно… Шпорит коня. Тот взял и вовсе ноги протянул. Тут моего голубчика настигли грабители, последнее отняли и жизни лишили. Вот и моя сказочка. Не взыщи. От своего глупого разума, как умел, сказал. Думаю, ты не обидишься за нее. Ну, здоров будь, мудрый друг мой. Помни только, что иногда прозревают и малые люди, и нищие духом чуют дыхание Божье. Поправляйся. Может, окрепнешь — и передумаешь многое. Вон лихорадка у тебя порядочная. Руки, как огонь. И весь ты… Ну до свиданья.
Еще раз крепко потряс руку князю Платер и сделал движение к дверям, когда на пороге появился дежурный курьер и доложил:
— Его вельможное сиятельство князь Адам Чарторыский.
— Проси, проси, — поспешно приказал Любецкий. Платер поморщился.
— Вот к тебе и князь пожаловал. Он тоже скажет, что и я… Только, наверное, под другим соусом… Не хочу я сейчас встречаться. Задержит еще. А мне… Идет! Я здесь пройду…
И Платер быстро вышел в дверь, ведущую во внутренние покои, а через полминуты в кабинет вошел князь Адам.
— Милости просим. Милости просим, мой князь, — идя с протянутой рукой навстречу, заговорил крайне дружелюбно хозяин. — Вот неожиданное, но желанное, крайне приятное посещение… И тем более сегодня…
— Добрый вечер, милый князь. Как вы себя чувствуете? Мне граф Владислав сказал… И я поспешил… Простите, если потревожил…
— Я извиняюсь, что принимаю так… Но мое нездоровье служит оправданием. Очень рад, очень признателен. Не будь этой досадной хвори, конечно, я бы сам явился. В такие дни необходимо самое тесное сближение между всеми людьми, преданными родине, способными облегчить тяжелые минуты, переживаемые страной. Сюда, сюда прошу, у камелька… На тепленькое, насиженное местечко… Здесь удобнее будет. А вот здесь, на моем месте, совсем недавно сидел и вещал старый фантазер, граф Людвиг…
— Пац?
— Нет, Платер. Приходил звать меня… на баррикады, по парижскому рецепту. Да, да… Ха-ха-ха… Подумайте, князь!
— Забавно, мой князь… Что и говорить… И… что вы ему на это возразили, ваше сиятельство?
— То же, полагаю, что и вы бы сказали, ваше сиятельство. Что Польша, хвала Иезусу, еще не совсем походит на безумную Францию. Булыжники варшавской мостовой годны еще, чтобы ломать на них колеса экипажей, но не для баррикад, под прикрытием которых ломается государственный строй народов. Что «демократия» польская заседает еще пока в кофейнях и пивных, а не в зале Сейма или парламента… Что третье сословие Польши пока еще на десятом плане, а не на первом, как у поваров Июльского переворота и Брюссельской революции. Что наша печать пока больше служит для забавы, чем для выражения воли народа. Что… Да всего не перескажешь… Что же, князь, вы разве не того же мнения?
— Пожалуй, князь… Хотя с некоторыми оговорками. Все оно так… сегодня. Кто знает, что будет завтра? А мне, надеюсь, не надо напоминать вашему сиятельству: «Управлять — значит предвидеть все вперед!»
— Нет, нет, конечно, дорогой князь. И с вами-то уж я не стану скрывать своей настоящей игры… Понимаю, что бесполезно даже. Опыт, ум, проницательность ваша… Наше многолетнее знакомство… Может ли князь Адам не узнать, что думает Ксаверий Любецкий?..
— О, князь, вы слишком переоцениваете и мои способности, и меня самого. Я просто сужу всегда по себе. Говорю откровенно. Действую прямо. И оснований нет у меня поступать иначе. Лет мне немало. Независим. Бога только боюсь да своей совести. Так вот и уверен, что другие, равные мне, поступают так же. И каждое ваше слово приму во всей его силе, без малейших сомнений.
— Благодарю, благодарю, князь. Отрадно слышать речь истого поляка и умного, широкого политика. Меня многие считают… слишком дипломатом. Но и в дипломатии лучшая ложь — это правда. Надо только знать, как ее выразить, кому и как поднести. В этом соль ремесла. Поэтому скажу открыто: опасения ваши, князь, насчет завтрашнего дня кажутся мне немного преувеличенными. Конечно, не умышленно, a bona fide [5]. Самая сильная и опасная группа, готовящая… переворот, — это военная молодежь, компания Пьера Высоцкого. Видите, как я откровенен. Но известно мне не только это. Присяга, которую дают при вступлении в их тайный комплот, гласит: «Клянусь и обещаюсь Именем Бога и Телом Святым Господним отдать все силы и самую жизнь до последней капли крови на служение Отчизны, на охрану народных и человеческих прав, подтвержденных основными законами нашими, на защиту и охрану конституции польской, ныне нарушенной и поруганной». Так дословно, если не обманывает меня память.
— Совершенно верно. Память у вас превосходная, князь, — подтвердил Чарторыский, беззвучно, одними губами повторявший за Любецким клятву заговорщиков, выученную им также наизусть. — Конечно, помните и дальше: «Те же святые права, такую же конституцию обязуюсь упрочить и в Литве, на Жмуди, в Подолии и на Волыни для братьев-поляков, оторванных от королевства, равно как и для всего родного нам по крови российского народа, населяющего империю, чтобы вольной среди вольных, равной среди равных вошла отчизна в братский круг великой славянской семьи…»
— Красивая мечта, не правда ли, князь? — живо произнес Любецкий.
— Да, святая, но и опасная мечта, ваше сиятельство.
— Почему? Наоборот. Главные силы, с которыми пока придется считаться, и не думают о полном государственном или социальном перевороте, о переделе земли или освобождении хлопов. Словом, о том, что было бы особенно гибельным для нас и для отчизны. Стремления военных заговорщиков почти совпадают с нашими. Только они, как юные, менее оглядчивые, чувствуют и выражаются ярче. Действуют быстрее, решительнее. Есть, конечно, кучка демагогов, доморощенных, варшавской стряпни монтаньяров. Там разные писаки, обиженные отставкой военные и чиновники, обойденные судьбой или по службе господа… Но их очень мало. Влияние печати у нас еще ничтожно. Общество, если только существует оно в Польше, понимая широко, — слишком пока аристократично для поддержки крайних затей. Так чего же бояться будущего? Чем грозит это «завтра», о котором помянули вы, князь? Примем меры. Если даже взрыв неизбежен, — войско останется в руках своих начальников. А те не отойдут от нас. Они — наши по крови, по духу, по сословным убеждениям. И вот как я вижу это «завтра». Скажу лишь вам, князь. Цесаревич, полагающий почему-то, что протестующая против общих нарушений закона и против его личных выходок масса — есть величина ничтожная, — он получит неожиданный, суровый урок! вряд ли захочет остаться в королевстве… Если его еще раньше не уберут из Петербурга, где убедятся… что худой мир — лучше доброй ссоры… Что поляки умеют и когти показать, когда уж им станет невмоготу! Конечно, последуют соглашения, уступки… обоюдные. Кто знает, может быть, и отобранные провинции снова вернутся под сень нашего древнего штандарта, под крылья Белого орла?! И выиграем при этом больше всех мы, хозяева земли, миротворцы желанные и удачливые… потому что… Ну, хотя бы потому, что столкновение двух сил: российской и польской, чересчур «беспокойных», опасных народных сил, наполовину подготовлено нашими же руками, осуществится по нашему мысленному приказу. Видите, я вполне откровенен, до конца! И чужие победители, и свои опасные друзья — будут ослаблены одним ударом, взаимным натиском. А третьему — львиная доля выгод по старинной латинской поговорке. Помните? Duobus litigantibus…
— Tertius gaudet! [6] Святая истина, князь, но вопрос, кто будет этим «третьим счастливцем»?
— Как, князь… Или я не ясно еще сказал?
— О, вполне ясно и убедительно, как всегда вы говорите, дорогой князь. И все-таки позволю себе спорить с вами. Вернее, высказать иную точку зрения.
— Прошу вас, князь. Я не претендую на непогрешимость. Лишь от удара стали о кремень получается искра, я знаю.
— Пусть я и буду этим неподатливым, угловатым кремнем. Но повторю свое: мне наше «завтра» кажется совсем иным! Постараюсь только слегка набросать мои основания. Выводы сделаете сами, ваше сиятельство. Спорить нельзя, что кроме законов истории и психологии народов, отдельные люди играют большую роль в столкновениях между целыми народами. Припомню вам только одну фразу покойного круля и императора Александра Павловича: «Надо изловчиться, извлечь Польшу из русских рук!» В этой фразе вылился весь этот человек, либерал по духу, гибкий дипломат по уму, самодержавный государь по воле Рока. В этой фразе — вся судьба нашей отчизны. Что Россия захватила насилием, хитростью ли, — того легко не отдает, медленно поглощает, сливает со своей общей громадой, полуазиатской, полукультурной! Европеец Александр искренно жалел нас. Но и он не решался открыто сказать своему суровому народу: «Маленькая Польша достойна лучшей участи, потому что ее народ развитее нашего собственного! Ей можно дать полную свободу, и она не злоупотребит ею, как вы, не будет душить и низвергать своих королей, не станет заводить дворцовых бунтов или казацких погромов». Александр хотел постепенно, незаметно из Польши, покоренной силой меча, сделать победительницу силой ее ума и просвещения. Его не стало слишком рано для нас. А его брат, припомните, что этот сказал, вступая на трон: «Александр был монарх европейский, а я желаю быть царем российским по преимуществу». И твердо держит свое слово молодой самодержец. А здесь, когда ваше сиятельство ему предложили «позолотить» языки крикливой, но малодушной оппозиции последнего Сейма… Что он ответил?
— Я начинаю понимать вас, — в тяжелом раздумье заговорил Любецкий, совсем не так самоуверенно, как прежде. — Николай сказал мне: «Вот почему я и не люблю конституционных государств с их парламентами, сеймами, палатами. Золотом можно все в них купить, всего добиться. Нет, я признаю только две формы правления: Республика для зрелых народов и — самодержавие для всех остальных»!
— Да, да. Он на этот раз говорил вполне откровенно. И Польшу он не считает, конечно, народом зрелым. Иначе не дал бы вам Константина. Вернее: поспешил бы убрать его. А затем дальнейшее ясно. Придет день, и столкновение неизбежно. И начнет Россия первая. Начнет тогда, когда будет особенно сильна, обеспечена от всех случайностей за гранями империи и внутри. Когда ее огромному войску, всему народу, всем пятидесяти миллионам ничего не будет стоить в несколько дней поглотить последние остатки нашей вольности, сделать из Великой Польши такую же губернию или две, три, наконец, как Киевская и Виленская, как Подолия. Сюда явятся русские власти, войска. И тогда вместе с именем Польского королевства будет стерта с лица земли наша народность, язык, вера, быт. А когда это случится, бывший «круль польский», конституционный монарх на Висле и самодержец на Неве скажет: «Наконец-то я спокоен за свою власть, за свою монархию, за участь моей короны и моего рода. Опаснейший враг всего этого вольная Польша не существует больше!» И он по-своему будет прав. Не так ли, князь?
— Верно, верно… Иначе быть не может. Польша, даже с такими осколками свобод общественных и государственных, какие ей остались… Она вечный укор, вечная «страна обетованная» для России… Источник волнений, ящик Пандоры для… Я начинаю вас понимать… Но, с другой стороны, и ваши слова — только продолжение моих мыслей. Если теперь мы сумеем воспользоваться обстоятельствами… Под шум уличных схваток выторгуем побольше… Ведь, собственно, и российская власть, и наша имеет в запасе слишком много избытков… И если Петербург уступит Варшаве даже половину… А мы из своей половины дадим столько же «работникам нашим»… Поверьте, князь, после всего этого и Петербургу, и нам останется еще слишком достаточно, чтобы мы мо…
— Петербург не уступит ничего!.. То есть в конечном счете, я хочу сказать. Теперь мы избавимся, скажем, от Константина и его прихвостней. Даже при удаче под натиском круль Николай может сделать сначала много важных уступок… до слияния с Польшей отвоеванных провинций включительно. Но не надолго… Вы смотрите на меня с удивлением, с сомнением качаете головой… Конечно, вы знаете круля Николая… Но и я успел его разглядеть. Будущее укажет, кто прав из нас с вами, князь…
— Да, конечно. Жаль только будет, если мы узнаем правду после ряда непоправимых ошибок… А теперь, прослушав вас, я начинаю опасаться подобного исхода… Но вино уже разлито в бокалы — так надо осушить их до дна! Если не ошибаюсь, эта мысль и привела вас, князь, нынче ко мне?
— Да, и это! Мое печальное «завтра» еще не настало. Так подумаем, как бы получше использовать «сегодня»? Какие меры надо наметить, кого вокруг себя сплотить? Словом…
— Распределить поудачнее роли… Создать подходящую: обстановку… Исполнить обязанность режиссеров в большой* драме, поставленной самим Роком. Это очень важно. Подумаем, ваше сиятельство… Как бы то ни было, падать заранее духом, я знаю, мы оба не мастера… И если даже мы ошибаемся?.. Если все окончится благополучно, не мешает составить военный план, диспозицию, так сказать… Заняться стратегией… Ради общего блага. Vis pacem, para bellum [7]. Ax, да, кстати, о Паце, ваше сиятельство… Если его, согласно желанию господ демократов, привлечь в высшее гражданское управление или даже поручить высший пост?.. Вы бы ничего не имели против, князь?..
— Нисколько. Если вы вспоминаете нашу небольшую фамильную рознь… Или эту дуэль между мною и графом Жозефом двенадцать лет тому назад… из-за…
— Очаровательной княжны Сапежанки, а теперь — вашей уважаемой супруги, князь… Нет! Это, конечно, старые счеты. А я имею в виду личность и характер графа Людвига… Мне кажется, с ним можно вести дело. Это не упрямый и вздорный Круковецкий, которого вы по достоинству не терпите, ваше сиятельство… И не Княжевич, этот хитрый, умный интриган, которого опасно и пускать, чтобы он не вытеснил всех нас… Знаете его: стоит протянуть мизинец, а он отхватит полтуловища… Его надо будет тоже подальше куда-нибудь… Как полагаете, дорогой князь…
— Княжевич? — переспросил Чарторыский. — Что же, особенно ни за, ни против я быть не могу. Партии сильной у него нет… Человек он умный, даровитый генерал. Если нужен, легко будет привлечь его к делу. А нет — нетрудно будет и удалить… Вам он лучше известен…
— Да, да… Кого угодно уступлю, но этого… завистника, который вечно мне вредит, порицает мои лучшие начинания… Впрочем, вы правы… О нем речь впереди. А кого — главою войск?.. О Махницком, я слышал, толкуют… Но это…
— Да, это несерьезно. Слишком он скромный, не самоуверенный человек. Его тянут «друзья» по заговору… и против его воли! А общий голос — за Хлопицкого.
— Самый подходящий… Мы с ним беседовали немало… Даже сегодня вечером я просил его заглянуть… Как будто чуяло сердце… Он во многом разделяет мои… наши с вами взгляды… И если его подготовить хорошенько… Обработать, так сказать. Словом, он годится. Так и отметим… Кого еще бы надо? Из этих, «крикунов»?.. Их тоже придется погладить по шерстке сначала…
— Да, конечно. Самый умный среди них — профессор Лелевель…
— Хам, — презрительно уронил Любецкий. — Честолюбец, нищий племянник жирного, влиятельного жреца. Если сам не иезуит, то усвоил себе их тактику вполне. Ненавидит аристократов, потеряв надежду попасть в наш круг. Боится демократов, потому что трус от природы. Жаден, завистлив в душе и благороден на словах… О, я их всех знаю! Пользоваться ими как оружием иногда полезно, даже необходимо. Но держать надо по возможности в черном теле…
Так, перебирая одно имя за другим, долго еще беседовали эти «режиссеры» исторической трагикомедии, какими считали они себя сами.
Когда князю Адаму, непритворно довольному исходом настоящего визита, швейцар дома широко распахнул дверь, ведущую на крыльцо, а собственный гайдук Чарторыского стал у подножки кареты, готовясь подсадить в нее князя, — на площадку крыльца в этот самый момент вступил Лелевель, очевидно также считавший необходимым повидать Любецкого перед решительным днем.
— Пан профессор, добрый день! — весьма любезно ответил поклоном Чарторыский на поклон Лелевеля. — К князю пожаловали. Я только что от него. Что-то расклеился он у нас, премьер наш… Но голова светлая, как всегда. Отчего ко мне не заглянет как-нибудь пан профессор?.. Вот хотя бы нынче вечером. Минута такая… историческая… Что-то назревает, как полагаете?.. И всем честным людям, истым полякам надо бы столковаться, без различия партий там или разницы во взглядах… Не так ли?
— Святую истину говорит сиятельный князь. Я польщен. Нынче же воспользуюсь… Вот даже отсюда поспешу… Действительно, момент исторический… Может быть, даже больше, чем мы все предполагаем… Я сочту долгом… Нынче!..
— Жду, жду пана профессора… До свидания! Дверца захлопнулась, карета покатилась… Лелевель вошел в ярко освещенную переднюю. Пока о нем докладывали, он отдал шинель, подошел к зеркалу и стал приводить в порядок свои редковатые, но вьющиеся волосы на голове и бороде, никак не лежавшие покорно. Любецкий, весь сияющий, пока провожал Чарторыского, по уходу его сразу изменился. Лицо потемнело, словно осунулось. Речи гостя произвели на хозяина гораздо более сильное впечатление, чем показал умный министр финансов. У него, такого твердого, уверенного в правоте каждого своего поступка, в разумности каждого замысла, явилось мучительное сомнение, не сделал ли он громадной ошибки всем своим поведением, всеми стараниями последних лет.
Конечно, хорошо сбыть с рук Константина, Новосильцева и других господ, тяготящих страну, мешающих и Любецкому занять то высшее положение признанного главы правительства, на какое он имеет полное право и по личным дарованиям, и по общественному доверию, ярко выражаемому со всех сторон…
Уж ради одной этой цели стоило рискнуть на маленькую политическую авантюру. Тем более что разыгранная князем Любецким прелюдия безукоризненна. Константина он убаюкал сознанием, что «серьезного» быть ничего не может… Крулю Николаю в Петербург писал в то же время секретнейшие сообщения о «брожении опасном и широком», которого цесаревич ни оценить, ни— сдержать не может, а только подливает масла в огонь рядом неосторожных поступков!..
С патриотами он и подавно сумел устроиться, а потом обойти их окончательно тоже нетрудное дело…
Словом, что бы ни вышло — он, князь, внакладе не будет…
И вдруг эти ясные, сдержанные, но тем более зловещие речи князя Адама?!
«Э, пустое!.. Умен старик, но широкого взгляда нет у него! — начал было убеждать себя Любецкий, чтобы усмирить тревогу… И тут же оборвал начатую мысль, перебил сам себя в уме: — Нет, нет, он прав… тысячу раз прав!.. Ошибался я… И, кажется, поправить дела невозможно… Тем более срочно, быстро, как того требуют обстоятельства… Цесаревич?.. С его помощью нельзя уж ничему помешать… Остается… написать крулю Николаю… По крайней мере, сниму с себя возможные нарекания с этой стороны… Приготовлю на всякий случай золотой мостик, если?.. Да, надо написать!..»
Быстро заскользило перо по бумаге, напряглась мысль, побледнело умное лицо…
Вдруг, постучав, вошел камердинер.
— Профессор, пан Иоахим Лелевель желает видеть его мосць.
— Кто?.. Что?.. Лелевель… Скажи, что нельзя… Стой, скажи: я нездоров. Не принимаю никого… И кроме Хлопицкого, отказывать всем. А генерала проводить сюда без доклада…
И снова зашуршало, поскрипывает гусиное перо по листку плотной матовой бумаги…
Кислую гримасу изобразил Лелевель, услыхав от слуги ответ князя, и торопливо, нервно стал запахиваться в шинель, поданную ему рослым гайдуком, когда в прихожей появился генерал Хлопицкий.
— Дома его мосць?.. Можно видеть? — спросил он слугу, обменявшись сначала приветствием с Лелевелем.
— Пожалуйте, вас ждут.
Еще раз поклонившись профессору, Хлопицкий скрылся за дверью, ведущей во внутренние покои, а Лелевель быстро вышел на крыльцо, бормоча сквозь зубы:
— Ага, вот как!.. И принимать меня не желает вельможный князь… Ну, мы еще сочтемся… Еще увидим!..
Ночь с 28 на 29 ноября прошла спокойно. Только шумно веселились варшавяне, как обычно по воскресным дням, до полуночи тянули пиво и дымили трубками по кабачкам и кофейням, до рассвета плясали на балах и баликах по разным концам города. Особенно тесно было в «Гоноратке» и «Дырке» («Дзюрка»), в двух кофейнях, излюбленных учащейся молодежью и пишущей братией победнее. И какое-то необычное, шалое веселье царило в эту ночь на балу, устроенном для публики в Купеческом Биржевом собрании, на Медовой улице, в доме Цейдлера.
Здесь и пожилые, степенные паны, и молодые паничи, дамы в дорогих уборах и бедненькие швейки, либо приказчицы в люстриновых платьицах слились в один бурный, клокочущий водоворот пляски, веселья и говора. В одном углу запевалась жгучая патриотическая песня, в другом, поуютней, потемнее — нежные парочки шептались и целовались сладко-сладко, торопливо и часто, как будто бы это было в последний раз… Хлопали пробки в буфете, из курительной вырывались каждый раз такие клубы дыму, как отворялась дверь, что хоть созывай пожарную команду…
Хорошо было, просто, весело всем.
Но больше всех веселились, смеялись громче, танцевали бешеней других человек тридцать студентов, те самые, что нынче утром, закутанные плащами, с оружием, собирались на площади перед дворцом, ожидая развода и не дождавшись его.
Пить ничего почти не пила эта компания, обратившая на себя общее внимание своим оживлением. Но без вина пьянило их веселье, молодость… да еще ожидание завтрашнего важного, рокового дня.
Последними вышли все тридцать из собрания, когда уж звезды стали блекнуть и сереть принялось предрассветное, мрачное небо.
Из целой компании только человек пять, заведомые «философы», безбожники закоренелые, прямо домой спать пошли, распевая студенческие и патриотические песни во все горло, вызывая неодобрительное покачивание головой со стороны ночных сторожей и будочников, дремлющих по углам, окрики и брань со стороны конных патрулей, разъезжающих по уснувшей, усталой столице…
На углу Уяздовской аллеи двое из студентов имели необычайную встречу. Знакомая Варшаве коляска цесаревича пронеслась по пустынному простору, и в ней темнела тяжелая фигура самого Константина в его обычной шинели с тройным воротником. Это он ночью, без всяких спутников объезжал посты и проверял, исправно ли ездят патрули, согласно его приказу…
— До свидания, до завтра! — крикнул громко один студент вслед экипажу. Но ветер отнес слова… Да и сидящий в экипаже был слишком утомлен объездом, дремал и не расслышал странного привета юноши…
Дробно рокотали копыта коней по снежной мостовой, быстро и плавно катился экипаж по направлению Бельведерского дворца.
А остальные студенты, человек двадцать пять, побродив по пустынным улицам для освежения головы, первыми вошли под своды храма отцов кармелитов, что на Краковском предместье.
Здесь после ранней службы они исповедались, причастились, как это делается Великим постом либо перед смертью, перед сражением, перед опасным подвигом…
Бледной, больной улыбкой засияло хмурое, морозное утро… Сыпал редкий снежок…
Настал понедельник 17/29 ноября 1830 года.
Если бы действительно человеку от природы было отпущено что-либо вроде души или хотя бы такой чуткий орган, который мог улавливать все тончайшие токи, дрожащие кругом, порожденные мыслями и чувствами других людей, если бы он мог воспринимать напряжение чужих дум, направленных к нему, если бы весь жар и сила желаний, наполняющих в данный момент десятки тысяч людских грудей, способны были передаваться на расстоянии и доходить к тому, кого это касается, — генерал Юзеф Хлопицкий плохо чувствовал бы себя и накануне, и весь день 29 ноября.
Его имя было на губах у населения целой столицы… Его образ носился и в старых, мутных глазах былых соратников Костюшки, Домбровского, Великого Корсиканца, и в пылающих взорах воинственно настроенной за последние дни молодежи, и в томных, мечтательно-восторженных, красивых глазах паненок, замужних пани и даже подростков-детей.
Но генерал, вернувшись от Любецкого, просидел с шумной компанией польских и русских офицеров за картами ночь до утра. Встал почти перед самым обедом, поел нехотя, снова заснул и проснулся только перед вечером, да и то с неохотой, потому что обещал ехать в «Розмаитосци» на спектакль со своей давнишней приятельницей, красивой вдовущкой пани Вонсович.
Пока огромный верзила, костлявый, седоусый Янек, отставной легионер, живущий при Хлопицком больше двадцати лет, помогал ему бриться, фабрить усы и баки, чиститься, одеваться в новый мундир, — тут же, в обширной спальне генерала, служащей и кабинетом, развалясь в кресле, сидел тощий, очень подвижный господин в темно-синем сюртуке, рябоватый, с колючими чертами лица и слегка перекошенными глазами, пан Александр Крысиньский, «адвокат-юрист», как он себя называл, а проще: ходатай по делам, лет семь тому назад сумевший втереться в доверие к Хлопицкому и торчащий в доме почти безвыходно не то на правах доверенного, не то приживальщика.
Страстный картежник, не менее генерала, Крысиньский давно проиграл крохи, оставленные ему отцом, спускал в карты последний заработанный злотый, подарки и подачки патрона, словом, все. И эта больная страсть, особенно понятная и близкая крупному игроку — Хлопицкому, мирила последнего с Крысиньским, хотя стали ходить упорные слухи, что пан ради поправления обстоятельств не брезгует вести тесную дружбу со Шлеем, Юргашко, Любовицким, Рожнецким и даже с более мелкими представителями различных шпионских организаций.
— Кого теперь не считают «шпиком»?! — ворчливо замечал порою Хлопицкий, выслушав предостережения приятелей относительно «адвоката-провокатора», как звали Крысиньского. — Вон и меня крикуны из «Дзюрки» и других якобинских «кавярень» [8] называют «здрайцей», изменником, потому что я не с ними, не собираюсь Варшавскую республику учреждать и с голыми руками бежать на драку с российскими полками. Плевать мне на то, что говорят!
Крысиньский знал, какую защиту имеет в Хлопицком, и если его иссушенное жизнью и картами сердце было способно еще испытывать хотя бы тень привязанности, он питал ее к одному Хлопицкому.
Сейчас, сидя в кресле, ковыряя измызганным гусиным перышком в своих выщербленных, покрытых зеленью зубах, Крысиньский докладывал генералу об исходе поручения, полученного накануне:
— Вот, стало, мой пане енерале, прихожу я, стало, до енерала Куруты, едва удалось дотереться до той толстой свиньи. «Отдыхать изволит, — говорят лакузы, — его превосходительство, и будить себя не приказали. Чуть не всю ночь поджидали его высочество, пока тот ездил по городу патрули проверять…» Что тут поделаешь? Твоего имени, пане Юзефе, знаю, поминать нельзя перед хамами. Потому дело особливо секретное и тонкое. Туда, сюда. Просил, грозил, клял их. Наконец последние десять злотых пришлось вынуть. Ты не забудь, пане енерале. Взяли, доложить пошли. Вошел я. Заспанная толстая свинья лежит, даже рубахи не поправит. Грек поганый, москальская чумичка. «Что вам? Какое такое дело? Почему именно меня? Или опять заговоры? Так будет!! Не проведете больше! Нам с цесаревичем уж надоело пустые сплетни слушать. Тихо все пока, и слава Богу. А вы мутите!» Хрюкает, а мне даже руки не протянул, сесть не просит. Я уж сам занял стул и говорю: «Я вот и вот от кого!» Как назвал имя пана енерала, моя свинья поднялась, села на перине, уж иначе спрашивает: «От Хлопицкого? С поручением к его высочеству? А мне не можете? Нет? Ну, пойду доложу». Скоренько напялил что-то, побежал, только ляжки жирные — трух, трух. Совсем кабан. И пахнет от него так… брр… Не то сыром порченым, не то… Вернулся скоро, на бумажке два слова мне показывает: «Курута выслушает». Хоть и не знаю я руки, да понял, кто писал. Все ему, греку вонючему, и передал. Что волнение большое не улеглось и не уляжется легко. Замышляют большое свинство мальчишки в городе. И поддержку имеют. И что ты, пане Юзефе, берешься спокой и порядок навести. Чтобы тебе только полномочия дали и Арсенал поручили прежде всего охранить. А грек вдруг и заговорил: «Арсена-а-ал? А на что генералу запертый Арсенал?.. Почему он именно до Арсенала добирается?» Хотелось мне обругать старую свинью. Только что словами не выговорил, шельма: «Мол, не думает ли Хлопицкий своим полякам Арсенал передать?» Вот крест святой! Как мать мою люблю и почитаю! На харе напи…
— Ну будет. Дело говори, — оборвал его Хлопицкий.
— Я ж дело и говорю, — привычный к манере патрона, спокойно продолжал Крысиньский. — Дослушала меня жирная свинья, ушла. Опять вернулась и говорит: «Его высочество очень благодарен генералу за дружеское предостережение и готовность оказать помощь. Но, как наверное известно цесаревичу, опасности нет покуда никакой. И он не забудет добрых чувств генерала, когда придет пора». Вижу я, что один — дурак, этот старый грек. А тот верит болвану. Уж и толковать не стал больше. К тебе с докладом вернулся, пане.
— Хорошо. Благодарствуй. Иди там, делай что хочешь. Я вечер не дома. Может, и ночевать не буду… — отрывисто проговорил Хлопицкий, глубоко задетый неудачей попытки, подсказанной ему желанием предупредить напрасное пролитие крови, дикие сцены, неизбежные при всякой народной смуте. Насмотрелся на них Хлопицкий, когда под знаменами Наполеона подавлял, беспощадно гасил в крови вспышки народного бунта в Испании, в Италии. Хотелось предупредить, смягчить удар. А тут вышло, что его приняли не то за продажного помощника россиян, не то за подосланного предателя. До крови закусил губы Хлопицкий. Вспоминает, что и прежде, бывало, его лучшие намерения как-то так, не совсем умело проявлялись, что доставляли ему же урон и досаду!.. Срывая на Крысиньском раздражение, он вдруг совсем грубо прикрикнул: — Глух ты, что ли, кеп безрогий! Пошел, говорю. Не мешай одеваться!
— Иду… Ушел… ушел уже, уже, — залепетал Крысиньский, проворно исчезая в дверях, где чуть не столкнулся с Янеком. Стоя уже за дверьми, он еще крикнул генералу: — Десять злотых моих не забудь!.. Да еще расход за дрожки…
Затем — исчез.
— Два енерала пришли там… Пытают, чи можно бачить пана енерала, — тонким, почти детским голосом, какого нельзя было ожидать от этой громады, доложил Янек.
— Кого еще там не в пору черт принес? Спросил ты, как их зовут… или не догадался, дубина!
— Эге ж, не спросив… Та одного ж я и так знаю: пан енерал Уминьский. А другого пиду спитаю… Ось зараз…
— Стой, животное!.. Не надо. Платок дай… Флакон вон тот. Ну, и вон! Где они, в гостиной?
— А де ж им бути? Не в сенях же двух енералов держать…
— Ты и на это способен… Прибирай Здесь… Старая шкура барабанная…
И, ворча проклятия под нос, с недовольным лицом вышел Хлопицкий к своим нежданным гостям.
— Вечер добрый, тезка! — первый обратился к хозяину Уминьский, едва тот показался в гостиной. — Не вовремя мы, знаю, да уж не взыщи. Дела слишком важные и не терпят проволочки.
— Здоров, Юзя… Пане енерале, очень рад, — приветствовал Хлопицкий второго гостя, генерала Хлендовского. — Ты угадал, Юзик. Еще пять минут — и от меня бы след простыл. Ждут, понимаешь. Дамам обещал проводить в театр. Какую-то там новую чепуху дают… Но я вам рад. Сядем, панове. Я готов служить, чем могу… Понимаю, что недаром два таких занятых человека навестили меня, прозябателя, коптящего небо без пользы…
— Иначе все должно теперь пойти, старина… Затем мы и пришли. Сказать наши вести — и пяти минут твоих довольно. Но… может, сам не отпустишь нас так скоро… Поэтому прямо к делу…
— Лучше всего. Валяй, Юзик.
— Известно ли тебе, — сразу серьезно заговорил Уминьский, — что сегодня начнется восстание?
— Сегодня? — явно меняясь в лице, воскликнул Хлопицкий и даже рванулся со стула, словно хотел бежать чему-то помещать, остановить кого-то, но мгновенно сдержался, принял обычный спокойно-хмурый вид и негромко продолжал: — Знаешь, Юзеф, я не из трусов, не из слабонервных паничей… Но чтобы помешать… Остановить вот это, о чем ты сказал… готов бы отдать… вот свою правую руку! Верно говорю тебе… Да стой! Не может того и быть! Ты введен в заблуждение. Вчера же были посланы люди во все концы: в Блоню, в Гуры, в Скерневицы с тем, что восстание, назначенное на вчера, отменено…
— Ах, это тебе известно. Тем более странно, что ты не знаешь дальнейшего… Что вместо воскресенья назначен понедельник… Да что с тобой, старина? Если будет кому плохо, так не нам, поверь мне…
— Да, ты думаешь?.. Ну, продолжай, говори… При чем же я тут? И… постой. Вечер уж настал. А кругом тихо… Я все-таки не хочу верить…
— Вечер только начинается. А он велик. И ты скоро поверишь… Если не побоишься выйти туда, где завариться должна самая каша…
— Я побоюсь?! Ну, хорошо, хорошо! Продолжай. Что же вам от меня надо?
— Послушай, Юзефе! Мы давно хорошо знаем друг друга… Да и кто не слышал, как генерал Хлопицкий, краса и надежда польского народа, осуждал, чуть не осмеивал мечты своих собратьев о свободе, о защите законных прав… Но народ глубже понимает своих сынов, чем они свой народ!.. Народ любит… верит Хлопицкому, явившему чудеса храбрости под чуждыми орлами и знаменами… Й зовет его под свою священную хоругвь… Откинь недоверие к жребию Польши, стань во главе родного войска. Оно восстало и зовет тебя.
— Ты сумасброд, Умйньский… Ушам не верю, что слышу от тебя. Старый наполеоновский служака, боевик… И ты тоже вздор городишь… Или на самом деле думаешь, что четыре миллиона поляков, выставив даже армию в двести тысяч штыков, смогут одолеть сорок миллионов россиян с их полумиллионным, грозным целому миру войском, с их артиллерией, которая может в три ряда окружить несчастную Варшаву и двумя залпами снести город с лица земли! Это в лучшем случае, если дойдет дело до войны… Если первый натиск батальонов, высланных Константином, не развеет, как мякину, банду твоих повстанцев-неучей, сапожников, маляров, взявших в руки старые дробовики, если не кремневые мушкетоны и негодные пистоли!
— Юзеф, ради Господа Бога! Не слышишь ты или слышать не желаешь? Войско подымет борьбу… Все польские батальоны восстали…
— Против кого? За что? Решились нарушить присягу… Сломать дисциплину… Выйти из повиновения начальству?! Кто их уполномочил вмешиваться в споры Сейма с россиянами, в гражданские дела? Долг войска — сражаться с неприятелями внешними, защищать край от вооруженного нападения вооруженной рукой. А вмешавшись не в свое дело, взявшись за перестройку гражданских и политических отношений, те же войска только бучу мерзкую устроят, а не революцию… Потеряют свою силу, расшатают дисциплину и не помогут ничему! Поступай каждый, как знает. А я принимал присягу королю Николаю — и останусь ей верен до конца. От мятежного войска не приму и короны, не то что булавы гетманской. Я сказал.
И, словно вспомнив своего идола, Бонапарта, Хлопицкий, скрестив руки на груди, выпрямясь во весь рост, застыл в вызывающей, гордой постати.
— Юзеф, Юзеф, опомнись!.. Заклинаю тебя именем всего святого! При чем тут твоя присяга? Не ты вызвал переворот. Не ты создал ту муку, которая вынудила схватиться за оружие… Дело сделано. Возврата нет твоему народу… Неужели ж в эти грозные минуты ты кинешь своих собратий, не придешь им на помощь?.. Не услышишь отчаянного призыва несчастной твоей отчизны?
— Моя отчизна — походный мой шатер!.. Ваша отчизна не дала бы мне пары сапог, если бы я в них нуждался…
— Генерал, вам дают гораздо больше, — вмешался Хлендовский. — Поручают судьбу края… Зовут быть вождем!..
— Над бунтарями-солдатами?.. Нет. От заговорщиков власти не приму, повторяю вам… Есть в крае законная власть… Да и то… Если бы весь народ пришел, сказал: «Веди нас, Хлопицкий!» — отвечу честно и прямо: на убой, на гибель никого не поведу. А борьба с Россией… борьба пигмея с великаном, ребенка с солдатом, вооруженным до бровей?! Да это же безумие, безумие, повторяю, кричу я вам!
Голос Хлопицкого действительно возвысился до крика, в котором жгучее негодование, возмущение звенело, переплетаясь с клекотом, с задержанными рыданиями великой боли…
Мгновенное, но потрясающее молчание, наступившее после этого полувопля, полустона, нарушил Уминьский. Он медленно, значительно заговорил:
— Юзеф, ты вне себя!.. И я понимаю почему… В последний раз пробую обратиться к твоему сердцу… к твоему разуму, наконец… Если бы ты верил!.. Ах, если бы ты верил!.. Отчизна была бы спасена… Ты бы помнил, как полуодетый пастух Давид поразил насмерть Голиафа, гиганта воина, до бровей закованного в железо… Но… веры у тебя нет… Так подумай над другим. Полмиллиона отборных воинов с гением полководцем во главе вошли в незащищенную Россию… Московские рати разбиты одна за другой… Древняя Москва взята без боя. Второй столице грозила та же участь… Но восстал народ… И не стало армии, величайшей, славнейшей от сотворения мира… Нет вождя, равного которому еще не было и не будет!.. Он потерял и власть, и корону, и свободу, и жизнь!.. Ты помнишь… ты видел это сам… твои глаза плакали кровавыми слезами, как и очи многих, многих и многих из нас!..
— Ну… ну?.. — весь дрожа, как в лихорадке, хрипло произнес Хлопицкий, торопя медленную, значительную, как удары топора, речь Уминьского.
— А разве мы… разве Польша не сможет также встретить грудью нашествие чужой армии, как встретили ее россияне?.. Наш народ не слеп, не темен, как российский… Не задавлен, не забит… Наши леса и поля охранят нашу волю не хуже дубров и степей московских… Чего же ты уж так боишься… так опасаешься за судьбу своего народа, Иозеф Хлопицкий? Скажи. Да что с тобой?..
— Ха-ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха-ха! — не то деланным, не то истерическим хохотом наполнил комнату Хлопицкий. — Безмерные, безлюдные пустыни Московии, сломившие гений нашего великого вождя, он сравнил с зелеными рощами, с золотыми нивами, с гранями милой, маленькой Польши, которую из края в край на коне можно пробежать в десять дней… Наш народ, горсть в четыре-пять миллионов людей, привыкших к порядочным условиям жизни, чуждых всякой дикости, сравнил с многомиллионными ордами грубых, суровых, привычных к холоду и голоду российских хлопов, для которых своя и чужая жизнь стоит меньше, чем для меня — вот это!.. Ха-ха-ха!
Схватив розетку с подсвечника, роняя горящую свечу, он раздробил об пол хрупкую безделушку, покрывая жалобный звон ломаемого стекла последним коротким, хриплым смехом.
Взоры хозяина и гостей скрестились еще раз в упор — и разминулись тяжело.
— Прощай, Йозеф!..
— До свидания, генерал!..
— Прощайте, панове…
Гости ушли. Хлопицкий бросился в спальню, обдал лицо и голову водой, осушился, шепнул что-то, уходя, Янеку и, спокойный, веселый на вид, через полчаса был у пани Вонсович… Ничего не заметила она, хотя и казалось ей странным, к чему это так по пути в театр прислушивался ее молчаливый спутник, чего ищет взглядами за стеклом каретного окна в глубине сумрачных улиц и площадей? Отчего он такой серьезный, словно окаменелый, сидит за ее полным атласным плечом в полутемной ложе и даже не улыбнется забавным шуткам, веселым, скользким, подмывающим куплетам, которые так бойко распевает толстушка артистка, любимица Варшавы пани Курьпинская?
Но посреди первого же акта недоумение пани Вонсович получило неожиданную развязку.
Внизу, у входа в партер послышались голоса, топот, шум. Дверь распахнулась, словно от толчка, в широком проходе показались два молодых офицера, подпоручики Зайончковский и Добровольский, в шинелях и киверах, в полной походной форме, с палашами наголо.
Театр вздрогнул сверху донизу, актеры смолкли, бледнея под слоем белил и румян. Даже совершенно непосвященная публика сразу поняла, что предстоит нечто большое, важное.
А оба офицера уже стояли посреди зрительного зала, среди наставшей тишины зазвучал так возбужденно, так остро и звонко один молодой голос. Добровольский кинул в толпу, как удар бича:
— Хорошо вы здесь тешитесь, панове, в тот самый миг, когда враги вырезают беззащитных собратий ваших дотла!..
Таков был условный клич для начала восстания. Сообщение о резне, производимой москалями, было вымышленное, но оно повлияло, как электрический разряд.
Театр сразу наполнился воплями убегающих женщин, криками мужчин: «За оружие!.. В бой за отчизну!..»
Артисты, музыканты кинулись за кулисы, вон из театра… Публика хлынула потоком в коридоры, на улицу, где уже от Старого города доносился рокот народного возмущения, отрывистые удары одиночных выстрелов, словно щелканье огромного бича… А тут вблизи было так тихо… Лавки заперты, улицы безлюдны, никто не ожидал переворота…
— Иезус-Мария!.. Да что же это такое? — лепетала в полуобмороке пани Вонсович, прислонясь к груди Хлопицкого, который быстро укутал ее и повел к выходу, закрывая себе лицо воротником шинели.
— Ничего, ничего… Молчать надо… молчать!.. Идем скорее… Я довезу домой без всякой опасности… Скорее идем!..
И он протискивался сквозь толпу… А в тот же миг в зале послышались громкие голоса:
— Где Хлопицкий?.. Он тут был только что… Наш вождь… Наш Хлопицкий… Виват ему!.. Пусть нас ведет… Да живет отчизна!.. Где Хлопицкий?..
Ни генерал, ни его спутница не слыхали последних криков. Карета, по счастью, стояла недалеко от подъезда, оба сели, и кони разом тронулись с места. Часы где-то вблизи на башне пробили восемь. Полная луна сияла в небе, изредка покрываясь дымкой разорванных, быстро бегущих на север облаков.
План общих действий в минуту восстания во всех подробностях был разработан у Высоцкого и его друзей.
С последним ударом шести часов должны вспыхнуть пожары в нескольких частях города, служа сигналом и отвлекая внимание русских караулов от того, что произойдет на улицах, оправдывая движение народа и польских отрядов, которые по данному знаку должны спешить к тем же сборным пунктам, какие назначены российскому войску в минуту тревоги, на Саксонскую площадь, к Бельведеру и к Арсеналу.
Во всех этих пунктах восставшие части должны предупредить москалей, предоставить им более трудную задачу нападать, а себе более выгодную — защищаться за баррикадами, возведенными сейчас же по прибытии на места… Народные отряды должны в тылу тревожить врага и этим помогать польским солдатам.
Но капризный божок-случай сильно спутал все планы и расчеты юных стратегов и тактиков, хотя в сложной работе им помогали такие опытные люди, как Про-ндзиньский, Уминьский, Махницкий и капитан Пашковский.
Быстро стал погасать последний отблеск осеннего дня на вершинах парка в Лазенках. Морозный, бодрый с утра, он словно грустью подернулся к вечеру. Воздух потеплел, влага, наносимая ветром, сеется вниз мелкой, колючей изморосью… Сплошной полог туч, облегающий южную сторону неба, ожил, зашевелился, от края его оторвались передовые причудливо зазубренные облака и быстро понеслись на север, маня за собой и остальную широкую пелену туч, медленно пустившихся в путь…
Сумерки быстро упали на землю и особенно сгустились здесь, под навесом старых дерев, в длинных аллеях парка…
Неясные тени скользят в этих аллеях, направляясь к небольшому мосту, на котором высится конная статуя Яна Собеского, то одетая тенями ночи, то озаряемая лучами полной луны, когда лик ее проглянет в небе в раме разорванных облаков.
Всего двадцать человек собралось у статуи героя-короля из участников так называемого «Бельведерского отряда» из тех тридцати двух, которые вчера безумно веселились в Бирже, а утром очищали душу исповедью, готовясь на смерть…
— Стыдно тем, кто не явился! — говорит коновод Тшасковский. — А нам пора в путь… Я веду человек двенадцать товарищей к главному входу… А пан Набеляк и пан Гощинский с остальными сторожите, чтобы кто не улизнул через заднее крыльцо…
— Подождем немного… Еще не пробило шесть… Раньше времени начнем — другим помешаем… Пожар должен вспыхнуть тут близко, на Сольце…
Ждут…
Еще не било шести, как на Сольце вспыхнул пожар… Громадные вороха соломы кто-то навалил к старой, покинутой броварне… Сверкнул огонек… побежал по соломе… Взвились языки пламени…
От соседней казармы Уланского полка послышалась тревога, зазвучали трубы… Но не к месту пожара, а к Бельведеру скачут патрули…
Таков был приказ…
Застыло сердце в груди кучки студентов, притаившихся за стволами деревьев близ памятника герою-королю…
«Что это значит?.. Неужели они преданы, все открыто?..»
Промчался патруль к Бельведеру, убедился, что все тихо, пусто — и назад проскакал мимо затаившихся юношей, которые облегченно вздохнули всею грудью.
Оно и лучше, что тревога оказалась фальшивой, — весело громко объявляет Тшасковский. — Мы теперь можем действовать на свободе… Но отчего не видно зарева?.. Да все равно… Идем…
И быстро, но бесшумно двинулись они к Бельведерскому небольшому палацу, где сейчас царили тишина и покой… [9]
А старое трухлявое здание броварни на Сольцах так и не разгорелось порядком. Когда отпылали вороха соломы, сбежались люди, погасили огонь… И зарево пожара не дало сигнала повстанцам в этой части города, как был уговор…
Зато на другом конце длинной ленты домов, какою растянулась Варшава по берегу Вислы, — там, на Новолипье, гудел набат, не смолкая военные трубы резали ночной воздух звонкими призывами.
Здесь Заливский в назначенный час успел поджечь небольшой деревянный барак недалеко от Арсенала и от казармы российской пехоты… Польские казармы тут же, почти рядом… Видно, как там зароились солдаты… Как подхорунжие перебегают из корпуса в корпус, как высыпают люди и строятся в ряды, сливаются в роты…
Затревожились и россияне, хотя без начальства не знают, что начать… Только пикеты по приказу спешат к месту пожара узнать, отчего загорелось и где горит…
Не заметя ничего особенного по пути, вернулись люди в казармы.
Но иначе поняли пожар солдаты польского 4-го полка, «чвартаки», молодая гвардия, как называл их Константин, особенно расположенный к полку за выправку и лихость на ученьях.
Полк, из которого вышел Лукасиньский, давно был готов к перевороту. И теперь сразу во всех ротах закипела жизнь. Стали разбирать ружья, боевые патроны, заготовленные младшими офицерами…
Полковник Богуславский кинулся было к воротам, ведущим на улицу:
— Через труп мой, не иначе, перейдете, бунтовщики!..
— И перейдем! — крикнул было один из крайних в первой шеренге.
Отвел назад наклоненное ружье с примкнутым штыком, метя в грудь старику.
— Стой! — удерживая руку рядового, крикнул подпоручик Ласский. — К чему бесполезное пролитие крови?.. Еще много ее впереди… Полковник сам видит, что нас не удержать. Он исполнил свой долг службы. Высшего долга перед отчизной, зова справедливости он не хочет признавать в эту минуту… Подождем. Простите, полковник!..
Мягко, но решительно отстранив от ворот Богуславского, обессиленного собственным порывом, подпоручик скомандовал:
— Вперед, скорым шагом марш!..
Через несколько мгновений темные, звенящие на бегу штыками «чвартаки» высыпали на улицу, заняв ее во всю ширину своими рядами, и скрылись в ночной полумгле, поспешая к Арсеналу.
Здесь «чвартаков» встретили поручики Чарноцкий и Липовский, успевшие занять позицию с двумя гренадерскими ротами чуть ли не с половины шестого… Только что «чвартаки» были поставлены на место, как подбежали две роты саперов с Феликсом Новосельским и Каролем Карсиньским во главе. Еще через четверть часа от Ратуши поспела рота гвардейских гренадер, вдали зарокотали колеса орудийных станков и зарядных ящиков… Это поручик Гауке, сын военного министра, явился с двумя пушками…
— Да живет отчизна! — грянул общий клик навстречу подходящей артиллерии, сразу упрочившей положение отряда в этом важном пункте. — Виват, товарищи артиллеристы!
— Арсенал наш — и Варшава наша, — крикнул Заливский, в этот же момент подъезжая к отряду на своем тощем, но резвом коньке.
И немедленно, как бы получивший главное командование по безмолвному соглашению остальных сотоварищей, начал распоряжаться размещением отряда, саперам поручил возводить баррикады по обеим сторонам площади, откуда можно было ждать нападения…
— Подпоручик, — обратился он к Новосельскому, — а пушек-то у нас мало… И я не вижу товарищей из артиллерийской школы… Что с ними случилось? Возьми людей человек десять… По дороге, наверное, еще вам попадутся наши… Узнаешь, что мешает товарищам быть на месте в такую решительную минуту… Я надеюсь на тебя…
— Слушаю, пане подпоручик, — ответил Новосельский и со взводом своих саперов отделился от отряда.
— Пушек, пане Феликс, притащи побольше с собой!..
— Постараюсь, пане подпоручик, — крикнул уже издали Новосельский…
В эту минуту странный поезд показался в глубине улицы: несколько ротных повозок вперемежку с наемными городскими дрожками, быстро вынырнув из-за угла, двигались прямо к Арсеналу.
Небольшой конный отряд охранял этот поезд, и когда люди Новосельского с ним поравнялись, громкое «Да живет отчизна!» раздалось с той и с другой стороны.
— Кровью Пречистой клянусь, — это же Урбанский и Пшедпельский катят с патронами и зарядами, как было условлено… Виват! — громко крикнул Заливский, сначала встревоженный непонятным явлением.
Все подхватили клич… Поезд, достигший рядов отряда, был окружен, и все запаслись патронами.
— Теперь — дальше едем, — весело объявил Урбанский. — На Краковское предместье и к Александровской площади… Антониновцам у Ратуши дана на ужин порция хорошая… Надо егерей накормить. Они ждут у костела Александровского… Да еще вам добрую весточку могу подать: Кикерницкий со своей батареей овладел Прагой, стоит на мосту и зорко стрежет все пути… Теперь с той стороны нам опасаться нечего… Да поможет Господь отчизне и правому делу!..
— Аминь… Да живет отчизна! — снова прозвучало над рядами.
Словно в ответ, издалека, от Старого города, послышались редкие выстрелы, неясный, но волнующий шум, выклики, голоса, то слабеющие, то крепнущие, смотря по тому, как ветер своими порывами доносил сюда далекие звуки…
— Ого… И город заговорил!.. В добрый час… в добрый час!.. А пикеты от вас разосланы?.. Да?.. Ну, все хорошо. Дальше едем, пане подпоручик, — обратился Урбанский к Пшедпельскому, и поезд так же быстро удалился, как подкатил сюда.
Поднять обывателей и ремесленников столицы, а в особенности в Старом городе, где большинство ремесленных, торговых заведений и мастерских, — эту задачу взяли на себя Бронниковский и Мавриций Мохнацкий, которому захотел помогать и брат его Казимир, саперный подпоручик.
Все трое в ожидании сигнала сидели в «Гоноратке», в излюбленной молодежью кофейне на Медовой улице… К ним подсели еще несколько единомышленников: Юзеф Островский, Дембинский, Жуковский и другие, избравшие этот веселый уголок сборным пунктом.
Как только грянули первые выстрелы у казарм на Новолипье и отблески пожара окрасили пурпуром ночное небо с бегущей цепью облаков, как только из театров повалили толпы, напуганные криками: «Наших бьют!.. За оружие!.. Бороните отчизну!..» — в тот же миг Бронниковский со всеми остальными товарищами кинулся к Старому городу, где все было тихо, только сторожа дремали на углах безлюдных, узких, извилистых улиц и переулочков и слабо светились окна верхних этажей старинных, высоких и узеньких домов с острыми черепичными крышами…
Дом Томаша Рудзевского, где помещалась его оружейная и слесарная мастерская, стоял на углу, недалеко от рыночной площади. Сюда постучали заговорщики прежде всего.
— Пане Томаш, вставай, выходи скорее… веди своих молодцов… Наших режут!.. За оружие, поляки!.. Спасайте себя и отчизну!..
Оружейник, хотя и подготовлен был ко всему, но перепугался в первую минуту.
— Кто там, во имя Христа Распятого?.. Что за люди?.. Кто кого режет?.. Не поймешь, не видно в темноте! — послышался его голос из раскрытого во втором этаже окна, забранного узорной железной решеткой.
— Мы это… Пан Мориц и пан Ксаверий… И Жуковский… И все… Или не узнаете?.. Скорее!.. Минута дорога.
— Ах, панове, прошу не взыскать… Такое время… Не сразу и поверишь… Наших бьют?.. Сейчас мы… Сейчас!.. Вацек, Конрад!.. Будет вам спать, — загремел в доме голос оружейника. — Наших бьют… На помощь надо…
Крики на улице всполошили весь квартал… Стукнули рамы, показались и скрылись испуганные лица…
Когда через минуту заговорщики постучали у дома скорняка Зарембы, никто не отозвался, хотя там все уже проснулись от чердака до подвала.
— Жена, слышишь? — дрожа под теплым одеялом, шепнул скорняк. — Зовут… Наших бьют… Надо пойти…
— Ну, так я тебя и пущу… Если бы это была та компания, которая тебя подговаривала на москалей, они бы раньше, днем дали знать. — Просто это шпики бучу подымают… Хотят выманить побольше честных людей на улицу. А там перехватают, кого знают побогаче… И откупайся от них, если не хочешь в тюрьме гнить за то, что бунт затевал…
— Что ж, может, старая, и твоя правда?.. Подождем… Слышишь, и стучать переста…
Он недоговорил.
Стук раздался у соседнего дома. Но его покрыл ряд выстрелов, гул залпа, долетевший от Арсенала.
— Ой, слышишь, палят… Это ж не шпики. Это настоящее восстание!.. Пусти, погляжу-ка в окно…
И скорняк, как и многие другие, кинулся к окну.
В это время к братьям Мохнацким и Бронниковскому подошла вторая компания военных, присланных от Арсенала.
— Что же вы?.. Подымайте скорее народ!.. Арсенал открыт… ворота настежь! А никто не является за оружием, кроме студентов… Да и те кинулись к Кармелитской тюрьме, на Лешную, где их товарищи заперты… Зовите народ!..
И снова громкие призывы пронеслись по закоулкам Старого города:
— К оружию, поляки!.. Спасайте родину!..
Понемногу, медленно сначала росли кучки народу, высыпающие на улицу из своих домов… Но как только убедились, что ловушки тут нет, что зовут «свои», быстрее лавины стали скипаться и шириться народные толпы… И со всех концов потянулись люди к Арсеналу.
Чем ближе к Арсеналу, тем сильнее и грознее стали звучать оттуда залпы… Вот грохнуло орудие… Опять!.. И дробно зарокотали, словно в ответ, новые залпы.
Передние ряды людей, подходящих отовсюду, стали замедлять шаги, наконец остановились, прислушиваясь, не зная, что делать. Идти ли вперед или свернуть? И куда свернуть?
Задние все наплывали, останавливались невольно, многие жались опасливо к стенам, чтобы шальная пуля не угодила в них…
— Куда же идти?.. Мы без оружия… Там стреляют… — послышались голоса.
— Сюда, сюда!.. С этой стороны безопасно… Российский полк оттуда напирает… Вот здесь можно, этой дорогой, — вдруг появляясь на коне, стал кричать Заливский, который не вытерпел и отправился встретить народ, о приближении которого ему сообщили.
На голос подпоручика, на его призыв, подхваченный Мохнацким, Бронниковским и другими, кучки людей торопливо направились по указанному переулку и очутились позади Арсенала, укрытые его стенами от выстрелов, гремящих по той стороне мрачного, длинного здания.
Задние ворота были открыты, волны народа хлынули туда… Затрещали запертые двери, загремели железные решетки, выворачиваемые в окнах ломами, вышибаемые бревнами…
Как кидаются волны моря во все люки тонущего корабля, так хлынул народ во все раскрытые теперь окна и двери… Одни выбрасывали оружие, пистолеты, ружья, сабли… Другие из куч выбирали, что хотели, передавали другим, кто за толпой не мог пробиться к грудам оружия, растущим у стен темного здания, которое сейчас с выбитыми зияющими окнами казалось таким печальным, таким пугающим…
Через полчаса сотни, тысячи людей, наскоро откусывая патроны, заряжая ружья и пистолеты, махая палашами, саблями, отхлынули от Арсенала, уступая место новым толпам… А сами — кинулись дальше, по мирным и спящим еще улицам, с военными начальниками во главе, и теми же призывами наполнили город:
— За оружие… за оружие… Наших бьют…
Другие стали пробираться в тыл российского отряда, атакующего защитников Арсенала, и этим заставили волынцев ослабить нападение. Часть полка россиян пришлось отрядить против нового неприятеля, против этих темных рядов народа, который осторожно, но твердо подходил, собираясь вступить в борьбу с линейными войсками, имея в руках старые карабины и полузазубренные сабли…
Пока события быстро разворачивались одно за другим, большая часть Варшавы, особенно удаленная от очага возмущения, и не чуяла, что творится в городе.
Большая веселая компания военных, русских и поляков, собралась у генерала Сементковского, все любители перекинуться в карты, поужинать и выпить хорошенько.
С начала вечера раскрыли столы для виста и других мирных игр, с тем чтобы после ужина перейти на азартный банчок и штос.
Но не успели сыграть двух партий, как на улице, за окнами послышался говор… Вдали что-то хлопнуло… Все насторожились. Слух людей военных уловил звуки далеких выстрелов.
Хозяин, сидевший за одним столом с Скшинецким, с русским чиновником Левицким и генералом Энгельманом, вскочил:
— Что такое!.. Неужели… Уже?..
Не кончил и пристально поглядел на Скшинецкого. Скшинецкий тоже поднялся, бледный, настороженный весь.
— Тысячу дьяволов!.. Должно быть, бунт… Не сумели-таки удержать безумцев! — проговорил он, нервно потирая пальцы.
Всполошились все. Русские простились первые, торопясь домой либо к своим частям. Польские офицеры еще задержались, ожидая денщика, посланного на улицу для разведок.
Тот скоро возвратился.
— Так что бунт, ваше превосходительство! — доложил он генералу-хозяину.
Стали прощаться и последние гости.
— А ты, генерал, остаешься дома? — обратился, вдруг Скшинецкий к хозяину, провожающему последних гостей.
— Я полагал… А что, ты разве думаешь, полковник…
— Мне казалось, в твоих интересах теперь, в такую опасную минуту, быть там, при его высочестве… Ты, как начальник штаба… И наконец, если завтра, по усмирении всей этой ерунды, он вспомнит… И спросит генерала: «Отчего вы не явились?» Ведь нечего будет и сказать, генерал… Так я думаю.
Говорит и глядит в глаза Сементковскому, а тот в нерешимости пронизывает приятеля испытующим взором.
— Так ты, полковник, уверен, что завтра все будет успокоено?
— А как же иначе, генерал? Тебе ли не знать сил, на которые может рассчитывать цесаревич?.. Право, поезжай… И, — по-французски заговорил Скшинецкий, — скажи цесаревичу, что я и душою, и телом с ним. Жду его распоряжений.
— Скажу… Передам… непременно передам, — задумчиво проговорил Сементковский, глядя, как за Скшинецким в последний раз закрылась дверь.
— Коня оседлать мне, скорее! И давай мундир, — приказал он денщику.
Через четверть часа Сементковский, вскочив на коня, дал ему шпоры и повернул направо от своего крыльца, на дорогу к Бельведеру, как неожиданно из-за угла показалась рота мятежных гренадер и саперов. С громкими криками:
— За оружие, поляки… Да живет отчизна!.. — быстро двигались они навстречу генералу.
— Стойте, негодяи… Куда вы?.. — грозно окликнул их Сементковский.
— К Арсеналу… И мы не негодяи… Мы решили отстоять свободу родины, как честные поляки. Генерал, отважный, добрый патриот… Сжалься над отчизной… Идем с нами, веди нас к победе!..
— На каторгу вы идете, а не к победам, мятежная шайка! Или вы не знаете, что цесаревич уже собрал войска, свои и наши, которые не изменили долгу, как вы, лайдаки?.. Еще час-два, и картечь вас образумит, если вы раньше сами не придете в себя…
Слова старика повлияли. Ряды заколебались, послышались голоса:
— А что, может, и в самом деле?.. Подождем до завтра. Посмотрим…
— Ну, черт с вами! Хоть до завтра подождите! — крикнул обрадованный генерал и скомандовал: — Налево — кругом!..
— Стойте, товарищи поляки! — вдруг крикнул подхорунжий Балинский. Приближаясь со стороны Арсенала с патрулем, высланным от Заливского, он услыхал громкую речь и приказания Сементковского.
— Стойте, повторяю вам! — еще сильнее поднял голос Балинский, заметив нерешительность в рядах гренадер и саперов. — Не слушайте предателя отчизны, готового продать свою душу и отчизну за московские червонцы… Туда идите, куда зовет вас отчизна и воля!..
— Мерзавец, как ты смеешь?! — вне себя закричал Сементковский, надвигаясь с конем прямо на Балинского.
Но тот уклонился в сторону, прицелился почти в упор, грянул выстрел — и Сементковский мешком сполз с коня, который от неожиданного выстрела сделал лансаду, оставил всадника на земле и кинулся без оглядки вперед…
Дрогнули ряды саперов, гренадер. Но Балинский твердо скомандовал:
— К Арсеналу… марш вперед!
И привычные к подчинению, словно против воли, роты быстро зашагали туда, куда шли раньше.
А за ними на снегу темнели неясные очертания убитого в его шинели, с бледным лицом, обращенным к небу… Откуда-то из раны, дымясь на холодном воздухе, набегала лужица крови, быстро просачиваясь в тонкий слой снега, лежащего кругом, окрашивая его темно-пурпурным цветом…
Скшинецкий в это самое время, лежа уже в постели, думал:
— Если восстание не выгорит, я обеспечил себе внимание Константина. А если ему придется уйти?.. Что же, меня с ним не было сегодня, не будет и завтра… Да, это хорошо, что я послал в Бельведер генерала. Ему ни терять, ни выигрывать нечего. Ход мой сделан умно.
С довольной улыбкой дипломат-полковник потянулся в кровати, отложил в сторону последнюю книжку «Journal des DИbats», зевнул и стал засыпать…
Среди огромной, разнородной толпы, разбирающей оружие из Арсенала, особенно выделялась группа студентов, человек около двухсот, которые сразу стали как бы вожаками отдельных групп.
И первый их призыв был брошен в толпу, когда уж больше пяти тысяч человек запаслись оружием.
— К кармелитам идем, поляки!.. Развеем в прах эту варшавскую Бастилию… Вызволим из оков наших страдальцев за народ, за свободу…
— К тюрьме… к кармелитам! — могучим эхом отдалось в толпе, и масса в несколько тысяч человек штатских и военных почти бегом кинулась к Лешной улице, где высился старинный монастырь кармелитов, обращенный в тюрьму, когда переполнились кельи подвалов в Брюллевском дворце, во всех остальных тюрьмах Варшавы…
Кроме немногочисленной тюремной стражи, другой охраны здесь не было. Прогремело несколько выстрелов с обеих сторон, шальные пули стражника сразили двух-трех из толпы… Несколько тюремных часовых было подстрелено толпою… Задрожали ворота под ударами бревен… Появились лестницы… И через час уже все узники кармелитские были на свободе. Их обнимали, целовали, радостные клики неслись к небу… Особенно волновалась группа студентов, подбившая толпу идти сюда.
— Видите, сколько наших из университета томилось здесь напрасно! За вас!.. Великое дело мы совершили, освободив невинных страдальцев…
— Братья, поляки, еще одно доброе дело сделать прошу я вас, — неожиданно заговорил поручик Юзеф Лукасиньский, который с затаенной надеждой двинулся вместе с толпой к Кармелитской тюрьме.
Вид и слова молодого артиллериста всколыхнули толпу.
— Что такое?.. Кто он?.. В чем дело?.. Что он говорит? — послышалось с разных сторон.
— Я Юзеф Лукасиньский… Брат того самого Валериана Лукасиньского, заслуги которого и мучения известны каждому из вас… Вы освободили сотни узников. Дайте же и ему волю, верните его к жизни, отдайте мне брата… Здесь, близко, на Смочьей улице, где инвалидные казармы москалей, в темной келье, без света и воздуха сидит мой брат в тяжелых пудовых оковах… Страдает за вас, за отчизну… Ужели не пойдете к нему, не вырвете его из рук врага?!
— Идем!.. Конечно, идем! — первые отозвались узники-студенты, освобожденные только что из тесных келий. — Мы все знаем Лукасиньского, мученика-героя… Идем!..
Толпа подхватила клик и с Юзефом Лукасиньским во главе уже направилась было к Смочьей улице.
Но от Арсенала прискакали два офицера, Шлегель и Мохнацкий.
— Скорее, все к Арсеналу!.. Большой отряд подходит с тыла… Все пропало, если мы не удержимся там… Надо не допустить егерей…
— К Арсеналу, — прокатилось по рядам, которые вдруг повернулись спиной к Смочьей… Мгновение, другое… Ряды колыхнулись, и вся лавина покатилась на властный призыв долга, забыв решение, принятое минуту назад под влиянием чувства сострадания и жалости…
Молча, до крови закусив губы, поглядел Юзеф Лукасиньский на убегающую толпу и медленно сам тронулся за нею вслед…
Петр Высоцкий, давший главный толчок делу, взял на себя одну из самых опасных задач этого безумного вечера.
Как только настанет час и вспыхнет сигнал, он должен взять всех подхорунжих пехотной школы и еще шесть рот пехоты, напасть на казармы российской кавалерии в Лазейках, обезоружить улан и кирасир, чтобы лишить надежной опоры Константина.
С пяти часов дня сидел уже Высоцкий на коне и вертелся в районе Нового Света, Уяздовской аллеи, ожидая, когда вспыхнет зарево пожара на Сольце, явятся роты из города и все вместе они пойдут обезоруживать кавалерию…
Но, как уж было сказано, пожар не разгорелся… Пехотных егерей, стоящих наготове у костела св. Александра, увел за собою Курнатовский, когда со своими конными егерями двинулся к Бельведеру после тревоги, наполнившей центральные улицы столицы…
Потеряв совсем надежду на успех, с отчаянием в душе Высоцкий кинулся в школу подхорунжих, где в большом зале собрались все двести человек подхорунжих-пехотинцев.
Когда Высоцкий, измученный, с посеревшим лицом, явился на пороге, говор, наполняющий зал, сам собою затих. Всех поразил вид любимого руководителя и наставника.
— Что с вами, подпоручик?.. Вы ранены?.. Больны?..
— Нет, друзья мои!.. Я только взволнован… Пока вы здесь мечтаете о свободе отчизны, о борьбе с неправдой и злом, там, в городе, начался кровавый бой… Войска, народ подняли старое польское знамя, воскресили забытую доблесть наших дедов и отцов… Там девушки, женщины взялись за оружие, решили жизнь отдать или вернуть себе волю и счастье… Друзья мои, час возмездия пробил для нас… Грозен, могуч наш враг, мы знаем! Но сила духа на нашей стороне, потому что мы бьемся против насилия и угнетения, за наши очаги, за наш народ!.. Полчища персов несметных не устрашили горсти греков, бессмертных «трехсот» с Леонидом во главе!.. Пусть же наши тесные, живые ряды будут польскими Фермопилами… Наши груди заменят скалы, о которые разбиться должна вражеская мощь… Победим или погибнем!
— Да живет отчизна!.. Веди нас… В бой за волю!..
Этот ответный клич не успел смолкнуть, как уж все кинулись разбирать оружие, боевые патроны…
Человек тридцать — тридцать пять, русские уроженцы, остались в школе, а остальные сто шестьдесят пять человек направились почти бегом к соседним кавалерийским казармам. Часть маленького отряда залегла выше на Верхней Агрикольской, часть подобралась в темноте почти к самым конюшням, а остальные быстро обошли длинные ряды казарменных бараков и первым залпом дали сигнал к начатию атаки.
Выстрелы загремели со всех сторон, пронизывая дощатые двери помещений, ударяясь о стены… Пули пробили оконные стекла и ранили нескольких человек внутри казарм…
Паника охватила людей.
Одни из бараков выбегали на темные дворы, думая там укрыться от пуль, неожиданно посыпавшихся отовсюду. Другие кидались со двора в казармы, прятались, где могли.
Около четверти часа длился хаос… Дежурные офицеры первые пришли в себя, послали людей и сами пошли за ними к конюшням, где бились испуганные кони, куда из темноты летели со свистом пули незримого, неведомого врага.
Кое-как лошади были выведены, оседланы… Люди стали собираться поэскадронно и садиться в седло.
— Сдавайтесь лучше, кладите оружие! — послышался в эту минуту громкий голос из темного парка, примыкающего к казармам. — Мы вас не выпустим живыми!..
Молчат офицеры… Безмолвны солдаты. Быстро строят ряды. Все равно умирать… Так хоть настичь бы этого незримого врага, взглянуть ему в лицо хоть перед смертью…
Такая мысль овладела уланами, пришедшими в себя после первого момента ужаса и растерянности…
Свистят пули… Вот один пошатнулся, падает… Товарищи поддерживают, ссаживают его, уносят. Но остальные дают шпоры коням и из темных тесных дворов вылетают на широкую аллею.
Темно и здесь, но хоть просторно… Где же враг?..
Из-за деревьев опять сверкнули огоньки, грянули выстрелы.
На эти огоньки дают ответный залп уланы и несутся вперед, туда, к маленькому Бельведерскому дворцу, на помощь Константину, который, конечно, теперь тоже осажден…
Видя, что уланы ушли, Высоцкий собрал своих, убедился, что не убит и не ранен никто, и повел их к памятнику Яна Собеского, где от подошедших студентов узнали подхорунжие, что нападение на Бельведер также не удалось.
— Убежал Константин. Весь дом обыскали, его не нашли!
— Так в город, к Арсеналу спешим, пока цесаревич не собрал войска, не отрезал нам всех путей… Вон еще эскадроны скачут к Бельведеру… Кирасиры… Ну-ка, залп на прощанье и марш вперед!..
Грянул залп… Но кирасиры, спеша на помощь цесаревичу, даже не успели возвратить салюта…
Курнатовский с конными егерями и пехотой встретился в конце Уяздовской аллеи.
— Стой, кто идет? — окликнул Курнатовский. — Всех перестреляю как собак!
Но маленький отряд, молча сомкнув штыки, бегом ринулся на живую стену кавалерии. Лошади, раненные штыками, взвились на дыбы, давая дорогу храбрым… Пешие егеря как-то слишком медленно спешили на помощь кавалерии. Батарея Нешокоця, которую напрасно ждали там, в городе, шедшая теперь поневоле за Курнатовским, накатила сзади на кавалерию, словно против воли еще больше этим увеличивая смятение…
И подхорунжие без всякой потери успели скрыться в темноте.
Когда Высоцкий со своим отрядом достиг Арсенала, грязь и кровь покрывали их одежду, руки, лица…
Высоцкий подошел к группе офицеров.
— Ну, как идут дела, товарищи?
— Первое нападение отбили… А вот сейчас патрули доносят, что волынцы получили подкрепления и снова готовят удар. Пушек, жаль, мало… А то бы…
В это время подхорунжие, смешавшись с рядами солдат, войдя в отдельные группы офицеров, громко передавали, какие минуты пришлось пережить в Бельведерском дворце, у казарм и по всему пути сюда…
— Прямо не везет, товарищи! — слышно в одном углу маленького лагеря, каким выглядит сейчас улица перед Арсеналом, прорезанная баррикадами, уставленная лошадьми, ружейными козлами, какими-то фурами и двумя пушками, у которых темнеют фигуры артиллеристов с фитилями наготове.
— Знаете, мы штук шесть генералов встретили по пути. И ни один не захотел взять команды над польскими всеми отрядами, которые восстали в эту ночь… Потоцкий Станислав прочь от нас ускакал и говорить не захотел… Трембицкий… до того озлился и нас озлил, что прикончить пришлось упрямого человека… То шел с нами-, ничего… Как будто и колебаться уж стал, не перейти ли на сторону народа… А как вышла эта история с Мецишевским! И спятил старик! Понимаете: у Марсова поля нам Мецишевский попался… и сам Гауке, пан военный министр… И так грозно напустились оба!.. На виселицу нас, да и только! А пан Мецишевский даже из пистоли пальнул… Кивер пробил Валевскому… Ну, тут и наши дали залп… Мецишевский упал… и Гауке рядом…
— Отец… убит! — глухо вырвалось у молодого Гауке, который, стоя вблизи, у пушки, вслушивался в рассказ.
Говорящий растерянно обернулся, потом с укором шепнул окружающим:
— Как же вы мне не сказали?!
— Да разве кто знал, о чем ты станешь говорить? — прозвучал шепотом ответ.
Гауке, не ожидая ответа, отвернулся к оружию, припал лицом к его холодной, гладкой поверхности, и только судорожное подергивание тела юноши показывало, что с ним происходит.
Осторожно подошел Высоцкий.
— Слушай, Гауке, тебе, верно, нездоровится. Ты бы мог пойти домой… Поручик Ласский тебя заменит. Мы же понимаем…
— Что вы говорите? — подняв глаза, сразу окружившиеся черным кольцом, спросил Гауке, словно не слышал речи Высоцкого. — Уйти?.. Нет! Зачем уйти? Я же здоров… Отчизне нет дела, что я потерял отца… Она больше страдает… Ей тяжелее моего… Я же все понимаю. Никто не виноват… Ни они, кто убил… Ни тот, кого убили… Старик знал, на что идет… Он часто мне повторял: «Если ты пойдешь за этими, я не переживу!.. И вообще не вынесу позора, если войско, мне вверенное, за которое я ручался цесаревичу, если оно изменит своему долгу!» Он так понимал, мой старик… Мы часто ссорились из-за этого… И сегодня вот… за обедом… Я видел, что он уж чует… И мы опять поспорили… Он кинул мне обиду. Я встал, ушел, не поцеловав ему даже руки, как делал всегда… И вот теперь, понимаешь, товарищ?.. Это мне больней всего!.. И мы расстались в ссоре… Я не поцеловал… в последний раз!.. И уж больше никог…
Юноша недоговорил, побледнел смертельно, закусил губы, сжал кулаки, но слезы все-таки медленно-медленно потекли по его лицу, черты которого сразу заострились, как после тяжелой болезни.
Тяжелое молчание водворилось кругом. Только фыркали кони у коновязи, трещали сучья и поленья в пылающем ярко костре, у которого грелись люди…
Из глубины улицы, ведущей к предместью, подскакал патруль.
— Россияне идут в больших силах… И орудие с ними…
— Мы их не допустим, — торопливо отозвался Высоцкий, довольный, что тяжелая минута нарушена хотя бы боем, и повернулся к Гауке: — Поручик, готово у тебя?
— Все готово, — твердо, по-военному ответил Гауке и повернулся к своей команде: — Первое, наводи… Целься… Огонь!..
Грохнул и раскатился выстрел, дым заклубился над хоботом орудия… Картечь с жалобным визгом понеслась навстречу наплывающим вдали темным рядам россиян.
В числе пяти военных училищ Варшавы и Аппликацийная школа подхорунжих-артиллеристов была с утра уведомлена о том, что должно совершиться вечером. Сборный пункт назначен у Арсенала.
В лихорадочном ожидании томились юноши, не зная, чем убить время, так медленно ползущее, чем наполнить его до желанного сигнала.
Томился и тосковал вместе с ними директор училища полковник Юзеф Совиньский, красивый, седовласый, с лицом римского сенатора и темными, живыми, совсем юными глазами.
Очень высокого роста, мощный, прямой, он твердо ступал, постукивая одной деревяшкой вместо ноги, потерянной в сражении под Можайском, после чего получил из рук Наполеона Почетный крест и вышел в отставку капитаном Великой армии.
Службу свою Совиньский начал еще в прусской армии, где тоже был отличен и быстрым повышением, и орденами.
В офицере этом ценили острый ум, хладнокровие, душевное равновесие и в бою, и в мирное время, способность к минутам вдохновенной сообразительности перед лицом опасности.
Александр I тоже знал Совиньского и четырнадцать лет тому назад, основывая Аппликацийную школу, пригласил его заведовать ею, дав чин полковника польской армии.
Любили солдаты своего строгого, но справедливого, отечески заботливого командира. А молодежь — просто боготворить стала этого сурового на вид, но чуткого, женственно-нежного в душе директора. И он сроднился со школой и юношами, наполняющими ее.
Ни усталость, ни болезнь не ослабляли хотя бы на день той любовной взыскательности, той неустанной заботы и внимания, которое уделял школе ее начальник.
Он поспевал повсюду, от дортуаров до подвала, распекал, шумел, грозил, поучал… Утешал и ободрял, где надо… Вел товарищескую беседу в кружках отдыхающей молодежи, подучивал отсталых, бранил ленивых, тут же кончая за них спешные работы и чертежи, поправлял сочинения и задачи.
Братом, отцом, другом — всем был для своих питомцев ворчливый, насупленный обыкновенно, по-детски веселый, хохочущий порою Полковник, как звали его для краткости в школе.
И в такую грозную минуту, как настоящая, конечно, от этого человека не укрылись все переживания его «семьи», его дорогих «мальчиков», как иногда он называл подхорунжих, между которыми самому младшему было больше двадцати двух лет.
Озабоченный и хмурый более обыкновенного, медленно, как больной, бродил весь день Совиньский по коридорам и классам, так же часто и тревожно поглядывая на стрелки часов, как делали это юноши.
Очевидно, условленное время настанет и совершится неизбежное! Совиньский это понимает, как настоящий поляк, бескорыстный, глубокий патриот. Но он же знает и жизнь… И боится смертельно!.. Не за себя, за своих «мальчиков»… И бродит, постукивая деревяшкой, и ждет…
Наконец дождался.
Около семи часов, когда, как нарочно, почти все подхорунжие собрались в большом гимнастическом покое, зазвучал тревожный набат с ближней колокольни… Улица наполнилась движением, шумом, как бывает при пожарах, но более грозным и широким…
Вслед за этим — выстрел, другой, третий, с промежутками, издали, но явственно прорезали ночную темноту и общий уличный гам…
К окнам кинулись сперва подхорунжие, потом сгрудились посреди зала, вокруг Джевецкого, который, поднявшись на тяжелый высокий табурет, громко заговорил:
— Вот она, счастливая минута, товарищи… Отчизна зовет! Слава или смерть нас ожидает… Оружие в руки!.. И туда, туда поспешим, товарищи, где гибнут наши братья в надежде на лучшую участь для родной земли, в ожидании нашей помощи. Не обманем же надежды гибнущих, не предадим отчизны… За оружие и в бой!..
— Да живет отчизна!.. За оружие… в бой, — как из одной груди вырвался громкий ответ толпы, кинулись к дверям, но там стоял, выпрямясь во весь могучий рост, сам Полковник.
Невольно толпа остановилась, скипелась в клубок, словно собираясь с силами для трудного шага… Лица, возбужденные, восторженные перед тем, потемнели, побледнели, стиснулись зубы, сжались кулаки у многих, как будто они вели внутреннюю борьбу с самими собой…
Ждали все окрика, грозы, помехи, нестерпимой по своей властности и правам… И готовились, даже против собственного желания, дать резкий отпор любимому наставнику.
Вдруг произошло нечто неожиданное.
— Дети мои… на минутку… Остановитесь!.. Выслушайте меня, дети мои, — прозвучал, задрожал по залу мягкий, ласковый, полный тоски и слез, знакомый голос из широкой, сильной груди, которая сейчас ходуном ходит, как руки, как все тело, как деревяшка старика, выбивающая легкую, прерывистую дробь на вытертой доске некрашеного пола…
Ушам не верят люди. Он не грозит, не бранит, не пугает… Он — молит… Растерялись все буквально, стоят недвижно, молчат, словно хотят освободиться от тяжелого, внезапно налетевшего сна.
А этот умный старик не дает им очнуться, себе дал волю, сердце своему, затаенным глубоко, лучшим, нежнейшим чувствам… И снова говорит, показывая им на свое залитое слезами лицо:
— Смотрите!.. Вы знаете меня давно… Я не плакал, когда смерть царила кругом, когда меня поразило ядро и резали мое тело… Я не плакал, когда другим приносил смерть и мучения… А как я люблю людей, как жалею их… как ценю жизнь, — вы знаете тоже!.. И… вот я плачу при одной мысли, что вы можете не послушать меня… уйти сейчас… Наконец, подумайте только, что вы хотите делать?! Знаете ли, что вас там ожидает?..
— При удаче — это назовут революцией, — решительно заговорил Джевецкий. — Мы получим… если не портфель военного министра, так следующих два чина не в зачет… А при неудаче…
— Вот-вот!.. При неудаче, дети мои… Подумайте…
— Нашу попытку, разумеется, назовут мятежом… нас расстреляют. Вот и все…
— Так, значит, вы понимаете, лучше будет…
— Если мы добьемся удачи, наш старый, добрый друг… Идемте.
— Постойте… молю вас… Послушайте меня… Ничего хорошего не будет!.. Придется гибнуть даром!.. Да, даром! И я вместе с вами хочу, чтобы все хорошо кончилось для дорогой отчизны… Я не лгу… Но Бог ведает, как оно кончится… Ваши руки не повернут колеса судьбы… Ваша кровь не будет последней каплей на весах Небесного Правосудия… И может пролиться напрасно… И я осиротею… Нет, не то!.. Осиротеют ваши бедные матери, отцы… Опустеют гнезда, где вас растили, берегли… А я, которому поручили вас?.. Я не сумел, скажут, сберечь молодые жизни… Пустил вас на гибель… Потому еще раз прошу, погодите!.. На коленях прошу вас…
Стукнула глухо деревяшка, выпал из руки костылек, на который постоянно опирается генерал. На колени неловко, сразу, в первый раз за всю жизнь опустилось это сильное тело, поникла прекрасная гордая голова.
Десятки рук мелькнули, со всех сторон кинулись подымать Совиньского. А он, поднявшись, вдруг заговорил твердо, властно:
— Слушайте, дети мои… Вижу, вы все-таки готовы уйти… Ну хорошо. Вот вам мое слово: если подождете до утра… И узнаем, что дело не погибло на первом же шагу… Что не задушено в зародыше восстание… Завтра утром я сам с вами выхожу туда, на борьбу… на победу или гибель, как Бог пошлет!.. С вами как жил, так и умру… Только завтра… Чтобы не было бесплодной глупой жертвы на радость тому же врагу!.. Слышите: до ут…
Ему не дали досказать.
Вмиг очутился над головами людей Совиньский, его качали, обнимали, влажные от слез юные рдеющие лица до боли, тесно прижимались к его лицу, к рукам.
— Да живет отчизна!.. Виват наш Полковник! Идет!.. Пождем до утра… Недолго… Зато и Полковник с нами!..
Долго не смолкали клики, пока не взмолился Совиньский:
— Да хоть передохнуть же дайте… А то и до утра не доживу. И угомонитесь!.. За работу возьмемся пока, чтобы время незаметней прошло… Работа — все может покрыть…
Покорно, как дети, исполняя распоряжение, подхорунжие стали расходиться по вечерним классам.
Вдруг сильный шум у входа в школу, стуки заставили всех заволноваться, сбежаться в зал.
Туда же скоро ворвался Феликс Новосельский с несколькими подхорунжими и штатскими лицами, вооруженными с ног до головы.
— Что вы тут спите, друзья мои? — прозвенел, как призыв военной трубы, голос Новосельского. — Там резня, ваших товарищей в пень рубят, мы изнемогаем, нас расстреливают сотнями!.. А вы здесь смирненько сидите, как у маменьки под фартухом… Скорее идемте!.. Не дайте погибнуть делу… Каждый человек дорог… Что же вы?..
Молча глядят подхорунжие на Совиньского, который застыл в углу покоя, оттиснутый туда ворвавшейся толпой.
Искажено печалью и горем его лицо, взором он молит своих «мальчиков»: «Оставайтесь!..»
Но ни единого звука не слетает с плотно стиснутых губ.
К чему? Он все сказал. Да сейчас и бесплодны слова. Эти чужие, возбужденные, полубезумные люди — разве поймут, разве они знают его так, как свои, «мальчики»?.. И если послушают теперь подхорунжие не его, а пришедших людей?.. Какие слова тут помогут?!
Молча двинулись из покоя артиллерийские подхорунжие… Толпа высыпала шумно за ними…
Неподвижно стоит в углу Совиньский. Потом подошел к окну. Вооруженные толпы темнеют у школы… Вот и его «мальчики» показались в полном снаряжении. Две пушки выкатили… Подвели лошадей…
Через полчаса криками приветствий встретил отряд у Арсенала подходящих артиллеристов-подхорунжих и Феликса Новосельского с двумя пушками, которые так нужны в эту минуту!..
Пока польский отряд у Арсенала старался отбить нападение волынцев, новая толпа народа, смешанного с военными, влилась сюда под предводительством Мавриция Мохнацкого и Юзефа Островского.
Увидя Высоцкого с подхорунжими и группу студентов, Мохнацкий кинулся к ним, расцеловал поручика, стал обнимать, жать руки другим:
— Привет и поздравление, сыны свободы, поборники отчизны!.. Слыхал уже о ваших подвигах. Горсть храбрых не устрашилась атаковать целый Кавалерийский полк. И про вас, товарищи-«академики», всюду говор. Как громко прозвучал под сводами Бельведерских палат грозный клич: «Смерть или свобода!» Совсем по-эллински, по древним римским образцам. А он спрятался… ушел!.. Оттуда уж в Варшаву прибежали слуги, говорят: в какой-то башенке наверху его скрыл камердинер, Кохановский!.. Это не беда. Главное сделано! А суть не в том, взят ли в плен наш «старушек» или еще на свободе. Если он не захочет принять выборной власти, которую готова предложить ему Польша, целый народ окружит и не выпустит его… оставит заложником вместе с той горстью солдат, какая останется еще при нем до завтрашнего утра. Увидите!.. Помните, как великолепно сказано у Шиллера в «Марии Стюарт»: «Не Паулет с оружием, с людьми, — вся Англия стоит на страже у ворот моей темницы. И выхода отсюда нет!..» Так и он попал в западню. И все, кто с ним. Кто терзал родную землю, издевался над нашими муками!..
— Твоими устами бы, пан Мавриций, да мед пить… — задумчиво качая головой, отозвался Высоцкий. — Конечно, дело начато и уж цели своей так либо иначе достичь надо! Но чтобы это нам легко досталось?.. Сомневаюсь!.. Даже еще не все польское войско с нами… И совсем не горсточка людей там, в Бельведере. По моим расчетам-, тысяч десять он соберет к утру. А то и все пятнадцать. Егеря конные с ним, изменник Курнатовский поспешил привести. И пеших захватил. Гродненские гусары еще ни к нам, ни к ним окончательно не пристали. Артиллерия русская, да и нашей часть… Ну, а потом литовские полки. На тех у нас совсем надежда плохая.
— Вздор, пан Петр. Тебя ли я слышу?.. Великое дело создал, дождался до такого славного часа. И вдруг — панихида!.. Нос вешаешь. Право…
— Нет, пане Мавриций, ясно понимать события не значит вешать нос. Даже будь у бельведерских втрое больше штыков, чем сейчас, будь нас вдвое меньше, чем собралось так неожиданно и быстро, я бы не тревожился, не испытывал бы того, что переживаю сейчас. Хотя и знаю, что наших военных тоже тысяч десять-двенадцать уже объединилось в общем подвиге… Этого, конечно, мало. Но силы будут прибывать.
— Прибывать?! Ну и ненасытный же ты, пане Петр. Да одного народа нынче вооружилось тысяч тридцать, если не все сорок. Тут в Арсенале сколько роздано оружия, сколько людей явилось со своим! А утром половина Варшавы, кто может носить оружие, придут и встанут рядом с нами. Увидишь. Я уж знаю дух людей. Да история тоже учит кой-чему. Стоило в Париже собраться первой толпе народа — и через два часа сотни тысяч кипели на улицах. И Бурбонам такой нос натянули, какого ни один их предок с самым длинным носом и во сне не видал. Чего тут еще раздумывать и опасаться?.. Неужели ты слеп, пан Петр, не видишь того, что и слепой услышать может? Варшава… нет, целая Польша с нами!..
— Пусть так. Но у нас нет главного, нет вождя.
— А-а, вот ты о чем? — протянул Мохнацкий. — М-да, это вопрос. А разве Хлопицкий еще не явился?.. Разве он не с нами? Я даже хотел сейчас спросить у тебя, где найти мне генерала… Надо бы получить дальнейшие указания. Народу гибель, а что нам делать прежде всего? Никто не знает. Все-таки нужна военная рука, что говорить. Особенно в первые дни, когда еще идет свалка грудь с грудью. Это верно, вождь необходим. Мы были у генерала, да его нет. И никто не может либо не желает сказать, где его найти… Неужели и вы тут, военные, ничего не знаете?
— То же знаем, что и ты. Справлялись. И нет Хлопицкого. Я боюсь, это умышленно он скрывается. Генерал отказывался руководить революцией. Но были мы убеждены: пускай совершится дело, и он придет к нам!.. А теперь?.. Посмотрим… подождем до утра. Да и не в одном Хлопицком дело. Даже старик Махницкий отказался наотрез стать хотя бы на время во главе наших батальонов.
— Как?! Мой славный почти однофамилец отказался?! Что за черт?.. Или тоже выжидает, хочет видеть, стоит ли рискнуть своей шкурой и жирной пенсией. Ах, старый хорь!..
— Нет, не то. Зря обижаешь старика, пан Мавриций. Он искренне не доверяет своим силам, своему уменью в таком святом деле, как он говорит. И это верно, он не ломается. Чистый, как ребенок, он не лукавит. Давно отстал старик от военного дела. А нам, правда, не только имя для виду требуется, а опытный генерал. И Лелевель тоже не выполнил обещаний.
— Как?.. Пан Иоахим?! Каких, в чем?..
— Кроме военных, нужны гражданские начальники, нужно составить хотя бы временное правительство, которому может доверять Варшава и целый край. Мы все — молодежь. Нужны люди опыта. И тут никого!.. Обещали содействие все почти, пока не пришло до дела: и Чарторыский, и Островский, Владислав… Баржиковский, Немоевский. Мало ли кто. А сейчас, в такую трудную минуту… когда все старое рушится… когда прежние правители должны почти все уйти, когда власть лежит так вот, брошенная на мостовую, ни одна сильная, честная рука не протянется, чтобы ее поднять! И снова какой-нибудь ловкий интриган, вроде князя Любецкого…
— Ха-ха-ха, — язвительно рассмеялся Мохнацкий. — Кстати помянут. Можешь быть уверен, лапы этого хамелеона-предателя не коснутся народного стяга, не будет этот христопродавец, крулевский лакей портить народного дела. Мы вот как раз с Юзефом и с нашей компанией собираемся прямо отсюда к нему в гости, в роскошный палац пана министра финансов. И веревку захватили с собою. Презренный палач и шпион Рожнецкий in effigie только, к сожалению, висит на фонаре на Лешной, против самой тюрьмы. А белоручку-князя мы как-нибудь повесим уж его собственной персоной. Эй, товарищи, готовы? Собирайтесь, пора за дело. — Мохнацкий, словно ужаленный, выпрямился и погрозил по направлению к воображаемому врагу. — Пришла пора рассчитаться с двуличным дипломатом. На виселицу его!
— Нет, ты этого не должен делать, пан Мавриций. Особенно сейчас. Я не допущу! Я сам пойду со своими, стану на его защиту. И вообще, довольно сегодня пролито братской крови. Немало еще и теперь льется. Подумай, как тяжело!.. Убит Станислав Потоцкий, Новицкий — добрый патриот, убит шальною пулей. Другие… ну, потом разберемся, как это было. Кровавый туман в первые минуты окутывал глаза… Сейчас как будто стало проясняться. Наше дело одержало верх. Так не надо бесполезных жестокостей. Особенно с вашей стороны… от штатских. Крики начнутся: «Анархия, разбой!..» И многие отшатнутся от нас. А кто нам недруг, те будут рады, подхватят, создадут целую бурю. Да и пользы никакой, если убьете Любецкого. Он нам может быть полезен если не по чистой совести, так ради страха перед нашей силой. Пан Мавриций, обещай, что ты не тронешь его. Не хочешь же ты вредить делу?..
— Я… вредить? Да пусть отсохнет рука моя! Пусть недуг, который у меня в груди, сожжет меня не в течение нескольких лет, как это неизбежно, а в один миг!.. Отчизна… воля!.. Для чего же я живу?.. Для чего, глядя в лицо смерти, хлопочу о земных делах?.. Хочу видеть счастливым и вольным мой родной люд. Хочу, чтобы моя короткая молодая жизнь, отравленная недугом, не сгорела бесплодно, бесцельно, не истаяла, как свеча погребальная, на ветру. И ты сомневаешься, послушаю ли я тебя, патриота, вождя нашего, когда ты так говоришь?.. Хотя бы ты и ошибался, как я думаю. Змею лучше раздавить, пока она от холода лежит окоченелой!.. Обогреется, расправит звенья — и первого укусит того, кто спас ей жизнь. Запомни и ты мои слова теперь, пан Высоцкий!.. А за милейшего князя Ксаверия можешь быть спокоен: я не трону эту гадину… Ну, пока прости. Еще дела много. Товарищи, идем!..
— Однако ж и пришлось мне дожидаться вацпана графа, — с дружеским укором в тот же вечер встретил Адам Чарторыский Владислава Замойского, входящего к нему в знакомый нам кабинет. — Побойся, граф, Бога!.. Такое там творится, каждый миг стоит не то золота, — человеческой жизни!.. Уже семь минут двенадцатого. А пан хотел вернуться к десяти. Что случилось? Так бледен дорогой мой юный друг. Усталость или опасность пережитая тому причиной?.. Прошу сказать скорее. Садись сюда, сердце мое. Рассказывай скорее.
— Фуу, устал, правду надо сказать, яснейший князь. Коня своего загонял совсем, не только сам уморился. Раньше никак нельзя было попасть. Зато же и вестей! Хотя больше дурных, чем хороших. До утра не рассказать, если приняться хорошенько, — упав в уголок дивана, откинув голову к спинке, отдуваясь, проговорил Замойский. — Скажу самое важное. Хоть, может, князю уж и другие сообщали. Цесаревич жив!.. Успел укрыться у княгини в спальне. Туда ворвались было мятежники, но увидали, что она в полуобмороке, молится перед Распятием, не стали шарить, чтобы пощадить ее. Тем и спасся Константин!.. Мне так в Бельведере говорили. А другие рассказывают, что он побоялся к жене кинуться, чтобы не испугать ее и не навести туда убийц. И где-то в другом месте укрылся. Но, главное, он жив и собрал вокруг себя российскую кавалерию. Из польских войск тоже пришли к нему на помощь: Жимирский, Курнатовский, граф Красиньский со своими полками. Патрули конных егерей теснят восставших, отымают по улицам оружие у народа, который разбил весь Арсенал. Словом, революция еще не может похвастать полным успехом. Большие опасности грозят не только восставшим, но и самой Варшаве. Особенно если они захотят напасть на россиян.
— Как? Только в этом случае?.. А сам цесаревич?.. Разве он будет спокойно смотреть на то, что делается сейчас?.. Граф беседовал с ним. Что он? Какие у него планы? Удалось что-нибудь узнать?
— Як этому и веду. Когда мною было описано все, что творится в городе… Как с каждой минутой прибывают к повстанцам новые отряды, как поднялся варшавский люд, как раскрыли кельи тюрьмы, взяли Арсенал и десятки тысяч вооруженных с громовыми кликами: «Да живет отчизна!.. Смерть или свобода!» — братаются с войсками польскими, идут под выстрелы отрядов, еще верных России… Как только он выслушал это, сейчас же обернулся к своему штабу и сказал: «Слышите, господа? А вы толковали о какой-то мятежной вспышке… О том, что стоит вам пройтись по улицам Варшавы, и все стихнет. Нет, это не мятеж. Это у них междоусобная война началась. И нам, русским, мешаться в польскую „клутню“ отнюдь нельзя. Ни одного выстрела мы не должны дать с этой минуты. Пусть польские власти усмиряют свой, польский бунт, или революцию, как они там знают».
— Он? Цесаревич так сказал? Да может ли быть? Ушам не верю! Этот человек, такой порывистый, не владеющий собою… Такой… И вдруг. Что это? Трусость или благоразумие?.. Или, наконец, — тонкий расчет? Думает, что в междоусобной борьбе только ослабеет польская сила, на радость ее врагам? Понять не могу.
— И я не совсем понял, князь. Передаю, что слышал. И, несмотря на просьбы, на мольбы своих, он остался при сказанном. Если на него наши не нападут, он первый не бросится на город.
— Я выбит из колеи совершенно. Не знаю, радоваться или опасаться такого оборота дел. Если вожди повстанья узнают, они осмелеют окончательно. Решат, что россияне испугались, что их мало, кинутся на них. И резня пойдет страшная. Боже Святой, как быть?..
— Зачем знать обо всем этом кому не надо?.. Наоборот. Я по пути всюду кричал, что у Константина большие силы. Что его надо опасаться. Я же вижу, сейчас умиротворить надо всех. Утихомирить бурю, а не поджигать сильнее пожар.
Молча поглядел Чарторыский на графа, проявившего такую находчивость и сердечность в грозную минуту общей опасности, и пожал ему крепко руку.
— Дальше, дальше, граф?..
— А в Лазенках, наоборот, я постарался не жалеть красок. Описал всю ярость восставших войск и толпы… Сколько убито своих, лучших из народа… и россиян!.. Сколько взято в плен! Передал слух о том, что российские полки, идущие от Праги и Повонзков кругом города к Бельведеру, настигнуты и окружены… Что им грозит плен… А к утру и к Лазенкам может двинуться вся масса войск и народ… Что нужно как-нибудь столковаться поскорее для избежания бесцельной резни. «С кем столковаться? — был вопрос. — Разве есть у мятежных своя высшая власть?.. Или Административный Совет еще не уничтожен?..» Я на это отвечал уклончиво… Сказал, что власть, конечно, существует… И что я попытаюсь передать, кому следует, все, что пожелает поручить мне его высочество… «Что же, можете ехать, передайте вашему правительству, что слышали от меня», — сказал цесаревич… Закутался в свою шинель и умолк, нахмурив брови, стал слушать Колзакова, который горячо начал убеждать его в чем-то… Потом махнул рукой, Колзаков отъехал… А я поскакал сюда. Так и вижу Константина в темном парке, на поляне, укутанного в шинель, на коне… А вокруг него свита, генералы… Как для боя, развернулись эскадроны… Роты темнеют под ружьем… Тяжелое зрелище… Решай, князь, как дальше поступить?
— Да сам же граф уже сказал… Бог тебя надоумил!.. Надо собрать министров, правительство… Конечно, придется позвать и от войска, и от горожан наиболее влиятельных людей… не очень крайних, если возможно… Но придется мириться с тем, кого выставят сами они. Доверши свою большую службу до конца, граф… Повести князя Ксаверия и старика Соболевского… Он, как презус, должен явиться, а я уж пошлю и к остальным…
— Любецкий знает, дорогой князь… По пути я заглянул к нему на минутку, застал там графа Малаховского… Как сам знаешь, князь, он большую роль играет у вождей молодежи и войска. Да, еще граф Пац… Они оба явятся по первому извещению. И князь Ксаверий тоже согласился…
— Да благословит тебя Бог, мой юный друг. А отчизна не забудет такой услуги… Ну, с Богом, к Соболевскому! А я бегу прямо в Совет…
Затихает кровавая борьба, смолкают залпы ружейные, удары орудий, колокольный набат и громкие, воинственные клики, которыми полна была вся эта страшная ночь…
Светлеть начинает небо на востоке… Город в руках восставшего народа и войск. Бельведерские отряды только в Лазенках чувствуют себя сравнительно спокойно, вытесненные изо всех улиц. Пикеты, патрули, частая сторожевая цепь, протянутая на линии парка, почти от Мокотовской заставы до Александровского костела, стоя против такой же сторожевой цепи польских войск, обезопасила Константина и его полки от неожиданного нападения.
Горят бивуачные огни и здесь, в темном парке, на полянах, и на улицах Варшавы, где восставшие отряды стоят наготове, как бы ожидая каждую минуту наступления неприятеля.
Взаимная неизвестность и боязнь — вот что наполняет душу зябнущих, усталых людей и здесь, и там…
Вооруженные толпы горожан понемногу разошлись по домам… Только подонки столицы, успевшие под шумок разбить несколько винных погребов и лавок откупщика Неваховича, нелюбимого за жадность, пируют, справляя безобразную оргию… Иные тут же валятся на землю, опившись жгучим ядом… Мороз крепчает к рассвету… И коченеют быстро эти жалкие люди, от мертвецкого опьянения переходя в объятия настоящей смерти…
Где стоят бивуаки войска, зябнущие, голодные, смертельно усталые, вынужденные ложиться для отдыха прямо на мерзлую землю, там еще видны отдельные фигуры и кучки горожан, больше женщин.
Поесть, попить, что нашлось в дому, принесли добрые души своим солдатам, героям, решившим все вытерпеть Для блага народа, для родной земли… Ласково звучат голоса добровольцев — маркитантов и маркитанток:
— Вот, что нашлось, примите, подкрепите силы, панове жолнеры!..
Благодарят усталые солдаты, берут, делят куски по-братски… И на мостовой, где еще не остыла пролитая человеческая кровь, сидят кучки людей, беседуют так мирно, курят и даже улыбаются.
Подкрепили немного силы, отошло безумие боя, и в людях засветились искры человечности, потухшие было в начале этой грозной ночи.
Это здесь, в Варшаве…
А там, в аллеях Уяздовского парка, в Лазенках, вблизи Бельведера, где около пяти тысяч людей, зябнущих, голодных, проводят долгую зимнюю ночь без сна, там даже нет куска хлеба, глотка вина, чтобы утолить острое чувство голода, оживить, согреть стынущую в теле кровь…
Печальное морозное утро 18/30 ноября занялось над столицей.
Бледнеет пламя костров, которые всю ночь здесь и там вырезались во тьме, разливая кроваво-красные отблески далеко кругом.
Вот и совсем рассвело.
Обычно движения и жизни полны улицы Варшавы в эти часы. Особенно площади и рынки темнеют своим и пригородным людом, телегами, санями, лошадьми… Открываются лавки, костелы…
Четкий, бодрый трезвон колоколов зовет молящихся в стены храмов.
А сейчас — пустынны улицы и площади, даже в еврейском квартале, обитатели которого плотнее всех других закрыли окна и двери своих узких старинных жилищ…
Вместо колокольного звона — прорезают воздух сигналы военных рожков, гулко выстукивают частую дробь подковами по мостовой кони кавалерийских патрулей. Исполняя обещание, полковник Совиньский ковыляет на деревяшке, ведет дозором своих «артиллеристов». Двое юношей поддерживают калеку-героя… А он бодрится, рвется вперед. Живою угрозой кому-то движутся отряды пехоты, проезжают пушки по безлюдным улицам омертвелой столицы, в которой повседневная обычная жизнь словно навек замерла…
И восставшие войска с их вождями, и горожане опасаются, что вот-вот со стороны Лазенок прозвучат выстрелы… Покажутся ряды кирасир, улан… Затемнеют российские пехотные отряды… И последняя резня начнется на улицах!
Неизвестность и взаимная боязнь наполняют сердца десятков тысяч людей здесь, в Варшаве, и там, вблизи маленького Бельведерского дворца…
Неизвестность для людей тяжелей всего. Чтобы разрешить ее, узнать, чего можно ожидать со стороны Бельведера, — еще в ночном заседании своем Административный Совет, пополненный такими почетными людьми, как графы Пац, Владислав Островский, Густав Малаховский, князь Михаил Радзивилл, кастелян Коханович, Немцевич и генерал Серовский, — все они уполномочили Чарторыского и Любецкого побывать у Константина, выяснить положение.
Владислав Замойский, ночью же сделавший доклад о своей беседе с цесаревичем, теперь снова послан был передовым в Лазенки предупредить о прибытии членов Совета и попутно вызнать дальнейшие планы россиян.
Константин был измучен всеми волнениями, пережитыми во время появления заговорщиков в Бельведере, бессонной ночью, опасением и тревогой за жену, княгиню Лович, которая и без того была не совсем здорова… Однако при появлении Замойского он подбодрился, очень ласково, дружелюбно принял его не только как своего адъютанта, но как друга, сумевшего в такие тяжелые минуты выказать находчивость и преданность.
Прежде всего Замойский сообщил о скором прибытии Чарторыского с Любецким по поручению Административного Совета.
— Ага, значит, законное правительство еще не смещено?.. Это добрый знак, Курута, — обратился цесаревич к любимцу генералу, стоящему за его плечом. — Что ж, потолкуем. Интересно послушать, что скажут мне эти господа-делегаты… А вы, граф, — также по-французски обратился он к Замойскому, — ничего новенького не имеете?.. Не порадуете ничем… Образумились, эти?.. Ну понимаете… Утро, говорят, вечера мудренее… Может быть, охладели безумцы… Или нет?..
— Увы, нет, ваше высочество! Наоборот, получив подкрепления, стали совсем неустрашимы… И требовательны не в меру… Даже в законное правительство нашего короля, по их настоянию, пришлось ввести несколько «выборных» лиц… Положим^ все первые имена: Островский, Малаховский, Пац, Радзивилл… Но все-таки подобное самовольство…
— Нет, что же… Такие люди не помешают… С ними можно иметь дело… Если «революция», как называют мне эту всю бучу… если она ограничится подобными назначениями… Если безумцев, вызвавших ужасы прошлой ночи, законное правительство его величества, брата моего и короля, сумеет образумить… Что же… Бывают несчастья и в лучших семьях… Все можно поправить, все забыть… Ну, говорите дальше… Так, движение, по-вашему?..
— Увы, растет, ваше величество… Студенты, около тысячи человек, с профессором Ширмой вышли сегодня со знаменем, с боевыми кликами и братаются с войском… Для поддержания порядка ночью еще решено создать охранную стражу… Граф Пац подал мысль… И еще один тут писатель, Мохнацкий… Он все желает делать по французскому образцу… И должен сказать вашему высочеству: до полудня больше десяти тысяч человек в милицию записалось… А настроение'у них не очень… как бы это сказать?.. миролюбивое. Кричат о восстановлении конституции, дарованной покойным императором — крулем Александром, во всей ее полноте… А много голосов и за Полное отторжение от России… Некоторые… безрассудные люди даже надеются, что ваше высочество найдет возможным принять верховную власть в Польше в качестве независимого государя, только соединенного вечным союзом с Россией… Простите, что слышал, то и…
— Нет, ничего, ничего… Значит, и меня думают впутать в свою дикую клутню… Ну, этому не бывать… Я — не оранский принц, чтобы идти против моей родины, против родного брата… Что еще?.. Знают ли в Варшаве, что волынцы и Литовский полк со мною?
— Знают… Но вожди поспешили послать по окрестным городам призыв, и все польские войска, обещавшие им свою помощь, явятся не нынче, так завтра поутру…
— Ага, вот как!.. Игра ведется по всем правилам… Шахматные ходы следуют один за другим… Какая нелепость!.. Что за свинство!.. Они даже не понимают, что временный успех погубит их потом… Ну, пусть будет, как решит судьба… А я умываю руки окончательно… Проливать напрасно родную и польскую кровь не намерен и не стану…
С удивлением посмотрел Замойский на Константина, услыхав такое решительное заявление.
Почти те же слова повторил цесаревич Чарторыскому и Любецкому, когда делегаты правительства доложили ему о желании Административного Совета получить указания со стороны цесаревича, как надлежит ему поступать. И намерен ли Константин вооруженной силой прийти на помощь Совету, усмирить своеволие мятежных войск, водворить порядок в столице?
— Что такое?.. Вы черт знает до чего довели и город, и войско, — неожиданно напустился на делегатов Константин. — Вы распустили вожжи, спутали все и всех!.. А я должен вмешиваться в ваши грязные дела. Слуга покорный… Это ваше, польское дело, сами и усмиряйте разруху, которой не умели предупредить… И мне только мешали в этом… Так сами и нянчитесь теперь… А меня оставьте в покое… Слышите! Оставьте в покое — и больше ничего! У вас есть верные долгу войска, есть заряды и пушки. Приберите к рукам мятежников, тогда я буду знать, что могу толковать с польским правительством. Вот и все.
Выдержав паузу, Любецкий спокойно, как всегда, но твердо заговорил:
— В верности моей долгу присяги, в преданности нашему королю и вашему высочеству сомневаться я повода до сих пор не давал… И не подам никогда… Но, ваше высочество… Я не один составляю правительство края… А грозные события имеют неотразимую силу… И если ваше высочество так решили… Если, имея в руках и войско, и всю полноту законной власти, вы оставляете Административный Совет беспомощным, беззащитным в такую минуту… Конечно, не остается ничего иного, как… вступить в переговоры с теми, кто угрожает и спокойствию края, и власти, до сих пор единственно признанной в королевстве. Вот что я должен сказать вашему высочеству от имени Совета…
— Прекрасно… Больше ничего? Очень жаль! Я тоже не имею прибавить к тому, что сказал… Буду ждать не речей, а поступков от правительства, поставленного его королевским величеством… Прощайте!..
Когда скрылись делегаты, Курута, убедясь, что их не слушает никто, укоризненно обратился к Константину на своем ломаном греко-французском языке:
— Хорошо!.. Какой это был разговор?.. И поляки просят сделать усмирение… И наши генералы… А ваше высочество…
— И ты, старый глупец, не понимаешь ничего! — с гневом перебил его цесаревич… — Кажется, скоро под носом не будешь ничего видеть, жирный мешок… Что я могу сделать даже сейчас? Пушек у меня нет… Пехоты мало… Кавалерия наполовину польская. И верю я им… так, как можно верить лисе, почуявшей курятину, что она не схватит за горло добычу… Эти паны, может, нарочно хотели бы меня заманить на драку в город… А там — и перебьют из окон весь отряд… Или захватят со мною вместе в плен… Особенно ночью этого надо было опасаться. Другое дело, будь повыше города у нас хорошая крепость… Пошли бы мы туда, навели пушки… Поплясали бы они у нас… А теперь — лучше всего подождем… Ты слышал, у них не все спелись… Разлад идет какой-то. Боятся и они друг друга… Может, сами и перегрызутся порядком, тогда я посмотрю!.. А затем… ты еще забыл!.. С Петербургом теперь у меня не старая пора… Миновали прежние золотые дни… Там по-своему делают, помимо даже меня… А за все про все мне отвечать придется… Если я вмешаюсь теперь, нас сомнут, уничтожат… Брату Николаю придется неизбежно начинать войну с Польшей, когда одна уже есть у него на плечах… И виноват во всем неуспехе окажусь я… Нет, лучше выждать. Пусть все само делается… Тогда и мне не придется нести ответа… Понял, старый лимбургский сыр?..
— Понял, понял!.. — вздохнул Курута. — Правда, другая настала пора… Подождем…
— Спасибо за позволение… А теперь — позови Кривцова. Надо нам двинуться отсюда, как советуют генералы… Тут среди деревьев и развернуться нам конницею нельзя, если нападут… Между тем рядом, на Мокотовском поле, отличный устроим лагерь… Зови Кривцова!..
Вечер быстро прошел, наступила ночь… При свете факелов по обледенелой дороге тянется поезд из нескольких экипажей и карет. В одной из них сидит бледная, в полуобмороке, княгиня Лович.
Отряды войск охраняют карету… Константин верхом едет среди своих приближенных и штаба… Кони скользят, стужа леденит людей…
Медленно, словно погребальное шествие, движутся конные и пешие отряды к Вержбне, где у Мокотовской заставы вторую ночь придется сегодня людям и коням провести на морозе, под открытым небом…
В жалком домишке сыровара в имении Вержбна нашел приют Константин с женой. А свита и беглецы — россияне из Варшавы, женщины с детьми — разместились в более просторном доме самого владельца, француза Митона.
Часть вторая ПЕРВАЯ ОСАДА
Глава I ДИКТАТОР ХЛОПИЦКИЙ
— Паны в споре, а хлопам горе.
Народная поговорка— Истинно говорю вам: не нарушить, но исполнить закон пришел Я в мир.
Утро 1 декабря нового стиля светлей и оживленней загорелось над Варшавой, чем печальный рассвет миновавшего дня.
Не только вожди восстания и Административный Совет, целый город каким-то чудом узнал важнейшие вести, какие шли из Бельведера и от Мокотовской заставы, куда еще вчера с тревогой устремлялись глаза варшавян.
— Нападения москалей опасаться нельзя… По крайней мере немедленно, пока не подошли подкрепления к россиянам. А до тех пор Ржонд народный успеет прийти к соглашению с цесаревичем, либо обезопасить столицу от нападения. Теперь же, пока есть время, надо подумать об этой обороне: о военной и о народной самозащите.
Так, на разные лады, но согласно в главном, толковал люд, высыпавший с зарею на городские площади и улицы.
Радостные, оживленные лица у людей, белые кокарды У каждого на шапке или у женщин на груди; дети — и те не выходят, не украсив себя знаком былой польской вольности, цветом крулевского Белого орла…
Без оружия не появляется ни один поляк, начиная от четырнадцати-пятнадцати лет. Город выглядит огромным вооруженным лагерем. Офицеры, сняв российский плюмаж, обычное оперение со своих треуголок, мелькают повсюду, братаются с народом, ведут толки, дают советы, как пользоваться оружием, захваченным в Арсенале еще позавчера, в понедельник вечером.
Иногда на пустыре устраивается импровизированное стрельбище. На заборе, на старой каменной стене рисуется ряд мишеней — и гулко бухают старинные пистоли, отрывисто, словно вальками у реки, ударяют выстрелы ружейные… Пули бороздят кирпич старых, полуобвалившихся стен, нижут доски забора, обегающего уходящий вдаль огород, и каждый удачный выстрел, каждая пуля, попавшая в мишень, сопровождается радостными, веселыми кликами:
— Нэх жие ойчизна!..
Похвалами осыпают зрители, все больше молодежь, меткого стрелка, какого-нибудь приказчика, подмастерья, портного или часовщика, который, надев польский старинный наряд и конфедератку, носить которую никто не смел еще позавчера, сейчас чувствует себя если не самим Кос-тюшкой, то по крайней мере — одним из отважных героев славной польской старины.
Вчера только объявлено было, что варшавяне от восемнадцати до сорока пяти лет обязаны записаться в национальную гвардию, которая будет усиливать ряды регулярных войск, и в стражу общественной безопасности, которая должна заботиться о порядке в столице, о безопасности людей и целости имущества обывательского… А сегодня уже около восьми тысяч человек насчитывается национальных гвардейцев и до двенадцати тысяч охранной стражи.
Адвокаты, купцы, чиновники, доктора рядом с ремесленным людом собираются на указанных местах, вытягиваются длинными, красочными рядами, одетые кто в чем попало, но обязательно с конфедераткой на голове, с каким-нибудь пистолетом за поясом и саблей сбоку.
На шапках и шляпах белеют полосы бумаги с надписью: «Народная гвардия».
Сенаторы Платер, Плихта, кастелян Домбровский, многие другие известные в столице люди с почетными именами, держа обнаженную шпагу в руке, переходят торопливо от одного сборного места к другому, подсчитывают, сколько и от какой части столицы сошлось людей. Дают указания, назначают начальников или предлагают выбирать их из своей же среды, если есть между толпой милиционеров какой-нибудь отставной военный или вообще более опытный и расторопный человек.
Отряды войск часто мелькают по улицам.
Стычек уже нет. Последние российские войска и польские роты, а также эскадроны конных егерей, вступавшие сначала в борьбу с восставшим войском и народом, отчасти отброшены натиском варшавян к Лазенкам, отчасти созваны самим Константином туда, к Вержбне, где теперь главная его квартира.
Но Варшава далеко не уверена в своей безопасности. И потому движутся там и здесь отряды войск, не совсем отдохнувшие от ночной свалки, проходят и свежие отряды, подоспевшие из пригородных ближайших мест…
Лавки открылись после вынужденного бездействия, базары полны оживления и шума… Крестьяне, проведав, что бойня кончилась, поспешили в столицу столько же в надежде поторговать хорошо, сколько и с желанием разузнать хорошенько, что здесь творилось, к чему дело привело? Чего доброго или злого можно им, хлеборобам, ждать от грозной свары, которую неожиданно затеяло между собою войско, шляхта и паны, свои и пришлые, россияне?
Костельные колокола, как будто надорвав свои груди от тревожного, зловещего набата, которым оглашалась вся ночь с понедельника на вторник, молчали вчера весь день. Заперты были двери храмов, чтобы Кроткий Христос, изображенный на распятии в алтарях, не увидал братоубийственной резни, не кинул людям жгучего укора:
— Так вы храните Мои заветы братской любви, принятые вами добровольно? Зачем снова распинаете Сына Человеческого, проливаете Божественную кровь, убивая друг друга, дети Мои, Сыны Божий?..
Сегодня не льется больше кровь, хотя еще темнеют лужи ее там, где схватки были всего горячее… Но стынет эта драгоценная пурпурная влага под влиянием холодного дыхания ветра, засыхает под лучами бледного зимнего солнца…
И раскрылись храмы, звучит бодрое, переливчатое «дин-дон-дон» колоколов, призывая на молитву, на покаяние тех, кто убивал, суля мир, и прощение тем, кто убит…
Переполнены, как на Пасху, храмы. Рыдания женщин и мужчин слышны в толпе молящихся… Скорбь сливается с мучением смятенной души, которая запятнана страшным грехом убийства и не знает, грех ли это был свершен или подвиг во благо родины?..
Тоскует душа… И трепещут груди людей, таких суровых на вид, мокры их лица от слез, скорбны их взоры, устремленные на Кроткого Избавителя Мира.
Рыдает, кается толпа, в слабоосвещенных узкими окнами храмах молит Кого-то, Неведомого, о лучших днях…
А на улицах и площадях, озаренных бледным зимним солнцем, темнеют, движутся и шумят другие толпы, катятся живые волны взбудораженного людского моря, покупают, продают, обманывают и болтают, смеются, как будто ничего особенного не случилось день тому назад в многозвучном, многолюдном городе.
Недалеко от городской Ратуши, всего через улицу от нее, в новом, так весело глядящем доме живет пани Евлалия Вонсович.
Летом богатая, привлекательная вдовушка живет в своей усадьбе за Мокотовской заставой, уютно и хорошо обставленной еще при жизни покойного пана Вонсовича. Зимой переселяется на городскую, не очень обширную, но светлую, кокетливо убранную квартиру. Зимой и летом живется весело пани Вонсович. Обширное знакомство, особенно из военных кругов, помогает убивать время в длинные зимние вечера…
Но дурного никто не может сказать о ней как о женщине. Знают, что уж много лет она и генерал Хлопицкий близки друг к другу, хотя и живут врозь, как бы охраняя свою независимость. И несмотря на такое отдаление, а может быть, именно благодаря ему пани Евлалия остается неизменно верна своему другу. Верен и генерал своей подруге, конечно, если не считать легких ухаживаний за знакомыми кокетливыми дамочками, особенно льнущими к красивому еще, обвеянному былой славой боевому генералу наполеоновской яркой поры…
Сегодня, несмотря на ранний час утра, пани Евлалия уже на ногах. Накинув теплый кашемировый халатик, хлопочет по хозяйству, переходит из столовой в светлый кабинетик, собираясь напоить кофеем своего друга, загостившегося у нее дольше обыкновенного.
Проводив в понедельник из театра домой пани Евлалию, Хлопицкий остался у нее и даже не подходит с тех пор близко к окнам, чтобы случайно не заметили его с улицы знакомые или чужие, все равно. Кто в Варшаве не знает этой львиной головы, этих огненных глаз под густыми, прямыми бровями, этой слегка театральной, но безусловно величественной и гордой осанки, которая выделяет генерала в самой густой и смешанной человеческой толпе?
Но самому Хлопицкому хочется каждую минуту знать, что делается там, за стенами дома, где гремели частые залпы, шла кровавая свалка всю ночь, где вчера улицы были так мертвы и пусты… Теперь же, когда ожил город, когда такой необычайный вид приняло все кругом, неодолимо тянет генерала к окну. Притаясь сбоку, из-за спущенных гардин глядит он на мелькающие по улице толпы, на фронтон Ратуши, где темнеет на импровизированном щите знакомый стих Мицкевича:
Вольному утру шлю мой привет, — Следом за ним и Свобода, и свет!А над щитом раскинул после многих лет вольные крылья польский Белый орел.
Вот прошел отряд Народной гвардии, такой неуклюже забавный, досадливо разношерстный для зоркого военного глаза. При всем старании идти в ногу сбиваются люди, «солому рубят», что называется, а не маршируют… И вооружение ужасное, хоть сейчас в кунсткамеру. Но какие лица у всех, у молодых и старых, рослых и низеньких, частоколом неровным шагающих бодро вперед!..
«Хорошие морды у болванов. Если теперь выйти, крикнуть им, к черту на рога полезут и сломят их!» — невольно думает генерал.
Но благоразумие запрещает выйти. Хмурится, внимательно продолжает смотреть и слушать генерал…
Песня солдатская послышалась издалека, в глубине улицы. Ближе… Напев знакомый: «Мазурка Домбровского». Под эти звуки не раз водил Хлопицкий в бой людей… и слава почти всегда улыбалась своему баловню… Исключая этого несчастного московского похода…
В такт далекой песне начинает отбивать ногой Хлопицкий, грустно улыбается своим воспоминаниям, налетающим толпою… И даже губами стал подыгрывать широкому, залихватскому напеву мазурки:
Марш, наш Домбровский, Бейся со врагами!На полуноте оборвал напев генерал… Явственно донеслись до него совсем другие слова, которые громко поет отряд, сразу показавшийся из-за ближних домов:
В бой, наш Хлопицкий!.. Бог нам даст победу, Счастье и свободу Польскому народу!И дальше льется песнь, не к народному герою Домбровскому обращенная, как много лет назад, а к нему, к Хлопицкому, который стоит вот здесь, укрывшись за гардиной, и прячется от ищущих его, не идет на помощь к зовущим его!..
Сдавил генерал чубук трубки, дымящейся у него в руке, так что треснула, переломилась гибкая черешневая трость… Стиснул зубы, старается могучим усилием воли помешать глупому наплыву чувствительности, зажать углы глаз, откуда готова хлынуть противная соленая влага.
Но бессилен над собой сейчас этот кремень-человек, и одна за другой светлые капли скатываются по бледному, строгому лицу.
— Слышишь, сердце генерале, что они там поют, эти бедные люди?.. Ах, Матерь Божия, Дева Пресвятая… Как подумаю, как они тебя все любят!.. Обрадуются-то как, чуть ты к ним придешь!.. Даже сердце замирает в груди… Вот руки трясутся, видишь… Едва и кофей донесла, боялась, разолью… — раздался за плечом генерала приятный, звонкий голосок пани Евлалии, ее частая, четкая речь варшавянки, певучая и мягкая в одно и то же время.
Еще сильнее нахмурились брови Хлопицкого, от волевого усилия больше побледнело лицо. Не оборачиваясь, он отрывисто спросил:
— Газеты есть? Вышли наконец?..
— Есть, есть, коханый, все принесла, и кофе, и газетку… Смешная она сегодня, куцая какая-то, на одном листочке… И второй, «Курьерчик», такой же… Говорят, наборщики тоже дрались с москалями, оттого вчера и газет не было… А наш Олесь, кучер, подумай, сердце мое, тоже потихоньку убегал к Арсеналу и…
Не слушает Хлопицкий, что ему сыплет так часто и бойко пани Евлалия. Жадно пробегает, столбец за столбцом, тощие листочки, какими явились сегодняшние номера газет.
Но как много важного на этих нескольких столбцах… Бурное настоящее отражается на них, тревожное будущее. Гаданье о неизвестном конце…
Впереди воззвание Административного Совета к населению столицы. От имени круля-цесаря Николая, — как будто и не случилось никакого переворота, — обращается Ржонд к обывателям и войскам, призывая сохранять порядок, уважать собственность и закон, мешать проявлениям безначалия и грабежа, которые, к великому сожалению, кое-где имели место в минувшую грозную ночь…
— Да, да, представь себе, — прерывает Вонсович Хлопицкого, который вслух от волнения читает «Универсал». — Солдаты-то, солдаты российские, прозябшие, голодные, мою бедную усадьбу на Мокотове чуть не по щепочкам разнесли!.. Пожгли, что было годно на дрова… Кладовые обобрали, дом даже разнесли… Я столько лет убивалась, хлопотала… И покойничек мой. И вдруг?! Ну, да то потом… Читай громко… Страсть как любопытно!.. Что было в городе эти дни?.. Что за границей?.. Что с Польшей будет? Прогоним москалей или нет?.. Читай, читай же, сердце!.. Молчу, молчу и слушаю, — зажав себе пухлые губки полной ручкой своей, оборвала пани Евлалия.
Вестями одна чудеснее другой наполнены оба газетных листка.
Вот «текст секретной эстафеты», полученной будто бы этой ночью в Бельведере из Петербурга. Там вспыхнуло новое волнение, грознее варшавского, страшнее бунта декабристов… Будто Константин провозглашен гвардией и народом, должен скакать в Россию, чтобы успокоить родную страну… Заграничный корреспондент сообщал, что французская республика кинула вызов ненавистной всем Пруссии и сто тысяч войска уже перешло Рейн, идет прямо на Берлин. Тут же, одно за другим, идут известия, что согласно уговору Волынь, Подолия, Литва и Украина, даже Познанское княжество подняли знамя вольности и гонят из городов своих отряды пруссаков и россиян… Литовский корпус поголовно приколол белую кокарду и восстал против Москвы… Часть его батальонов уже выступила в Краковское воеводство, чтобы защитить Польшу от австрийских штыков, если бы эта держава не захотела остаться спокойной зрительницей возрождения Великой Польши со всеми другими областями польскими. В Англии формируются полки добровольцев, собираются миллионы денег в помощь полякам… Много еще таких сказочных вестей собрано на небольшом газетном листке.
— Боже мой… Боже мой!.. Да если десятая доля справедлива, что там пишут эти паны газетчики?.. Боже мой, Дева Мария!.. — всплескивая руками, восклицает Вонсович. — Да я тогда сама надену конфедератку, пойду на воину… Детей нет… Чего мне… Генерал, миленький, скорее тебе надо пойти, показаться. Два дня ведь ищут… Целый город. У меня сколько народу перебывало, и с крыльца и с черного ходу: «Не тут ли наш Хлопицкий?» Брала грех на душу, говорила «нет»… И люди мои тоже… Как ты приказал… А почему — и не пойму!.. Может, уж пора, Юзенька, голубчику?.. А? Может, велеть принести твой мундир? Я сама его чистенько так почистила… И все ордена, и звезду… Подать, а?..
— Что ж так поспешно? Газетчики-вруны наплели черта в ступе, а ты, моя умница, поверила. А я, старый солдат, должен тоже уши развесить и пойти ловить жареных бекасов на улице, пить мед, который течет из дождевого желоба по всей Варшаве… Ах ты, глупенькая моя.
— Не глупенькая, нисколько, пане генерале. Не глупее пана Юзефа. Ну, пусть там про заграницу, про москалей и наврано. Нету того, что пишут. Но Литва и Жмудь, Волынь — все к нам придут, с нами будут! Что тогда россияне поделают? И даже теперь… Вон цесаревич не может своих солдат унять. Они мою усадьбу разбили. Как же он целую. Варшаву уймет?.. Когда сам читал: войско польское, пятьдесят тысяч, на него собирается, да обывателей сорок тысяч в гвардию нарочную вошло… Да…
— Великолепно, браво, пани Евлалия… Вот что мы лучше сделаем: надевай, как амазонка, мой мундир, ордена и ступай, становись перед войсками. А мне давай твой капотик, ключи… Покажи, где у тебя пудра там и все прочее… Я приберусь и по хозяйству хлопотать нач…
— Пожалуйста, пожалуйста, без насмешек… Коли на то пойдет, я иначе умею сказать… Пусть ничего нет… Пусть разобьют нас, пусть… Что хочешь!.. Да я же ж полька кровная… честная шляхтянка!.. Хочет гибнуть мой народ, да хоть на часок вольной грудью подышать перед погибелью… Пускай! И я с ним гибнуть хочу… и минутку на воле побыть, а не под чужим кнутом да уздою… Вот как я думаю, пане генерале, если уж на то пошло… А как думает, что делает прославленный пан генерал Хлопицкий?.. Я тоже вижу… Нечего, нечего брови хмурить, губы кусать… Не боюсь… Вот не боюсь!.. Может, ударить меня хочешь? Ударь, голубчик… Не боюсь! Жаль мне Польши и народа своего… А тебе не жаль…
— Молчи, женщина! — хрипло, грозно вырвалось у Хлопицкого. — Молчи… не то… я…
Едва сдержался, умолк этот сильный, порывистый, необузданный человек. Только от судорожного толчка чашка с кофеем далеко полетела, сброшенная со стола… Темные пятна жидкости окрасили светлый ковер, мебель, обои по стене, о которую со звоном в мелкие куски раздробился тонкий фарфор.
— Бей, все бей… меня убей!.. Не боюсь… Я есть истая полька… А ты как был хитрый хлоп, галичанин, так им и останешься!
Конвульсивное движение пробежало по лицу Хлопицкого, которое из бледного стало багровым.
Он выпрямился во весь рост, сделал движение к Вон-сович, но та, вдруг обессиленная порывом, упала на стул и забилась в рыданиях.
Опустив голову, тяжело дыша, собирался с мыслями Хлопицкий, отрезвленный в своем гневе видом рыдающей женщины.
Потом медленно, словно задыхаясь, хрипло заговорил:
— Ну, слушай, Евлальцю, успокойся… Ну, будет! Уж я тебе скажу. Никому не люблю души открывать, а уж бабам и подавно… Да очень ты убиваешься… И так… обидела меня!.. Слушай… И я люблю отчизну… Галицию нашу… и Польшу, все равно… Всю землю, где поляки живут, где наша кровь проливалась, где деды мои и прадеды землю пахали для твоих дедов-панов и прадедов… Верно, хлоп я галицийский… И как все у нас, черта не побоюся. Только осторожненько к нему стану подходить, подгляжу раньше, куда он кончики рогов своих прячет… Недаром люди самые отважные боятся меня… Загорится в душе — все кругом уничтожу! Только раньше три сабли стальных можно в тонкие иглы источить, пока я из себя выйду, пока раскачаюсь… А уж тогда!.. Вот и теперь оно так… Польское сердце, кровь моя мне одно говорит… А голова — другое. И жду я, пока кто-нибудь одолеет из двух. Шагу не могу ступить до той поры. Вижу я, что на гибель отчизна идет. Почему? Тебе не понять. А тут же верить не хочется тому, что ясно вижу, вот как тебя… Как день этот светлый… Как это Распятие на стене!.. И чтобы, не рассудив, я кинулся в общую кашу? За кого ты считаешь Хлопицкого?.. Нет! Если уж я войду в игру, так выиграть хочу не для себя, для отчизны, для народа моего… И карты выпущу из рук только с последним дыханием из груди…
— Юзенько, миленький… Да разве ж я не знала… Потому ж я и…
— Молчи и слушай!.. Но прежде всего не желаю быть пижоном, и я должен знать, с кем в компании играю. Нет ли фальшивой колоды и шулеров в игре? Поняла?.. Нет?.. Так слушай!.. Ну эти там, фендрики желторотые… Подхорунжие, студиозы… Они по совести драку завязали… Удача им повезла. Но дело не останется в их детских руках. Вот и вопрос: кто дальше все поведет и как?.. И забудут ли наши паны, и магнаты, и генералы-белоручки свою свару вечную?.. Свои… стыдно сказать, интриги, подкопы взаимные… и… казнокрадство!.. Да, да! И этого, у нас довольно наберется… Ты не знаешь… Они такими милыми приходят к тебе… И Любецкие, и Чарторыские, и Скшинецкие, и Круковецкие, и Колачковские, и Дверницкие, черти и дьяволы… «Пане, пане генерале да пане полковнику!» А каждый готов другого с печенкой съесть, в рюмке воды утопить… И против меня сейчас уже многие… А что будет, когда я власть получу?! Зашипят, землю рыть станут, чтобы меня похоронить… Не посмотрят, что родину хоронят со мною… И кто ни будет у власти, каждого это ожидает… Так надо прежде узнать, будет ли за меня сильная порука среди наших панов?.. Как народ мне верит?.. Смогу ли я, если до того придет, всех смести с дороги, своею рукой к спасению направить Польшу? Чтобы мне дурака не разыграть… Вот почему и не бегу я на первый, хотя бы и горячий зов… Почему и ты посмела кинуть мне в ли… Ну, забудем бабью глупость!.. Я тут стоял, слушал… «Чвартаки» шли, мои голубчики… И песня их, старая, солдатская… Она звала меня громче всех вас. Труба архангела на Страшном суде так может только призывать! «В бой, наш Хлопицкий!» И я удержался… не выбежал, не стал во главе батальона вот так, неодетый, как здесь, перед тобою стою… Ничего. Попа и в рогоже узнали бы… А ты, женщина, думала укором поджечь меня… Или… умаслить, уговорить… слезами там… Глупая! Ступай, дай чашку кофе другую… И… постой, подойди… Дай губки. Мир, и не дуйся…
Крепко прижалась женщина к груди милого, осыпала его суровое, опять побледнелое лицо горячими поцелуями и быстро выскользнула из комнаты.
Около полудня явился сюда пан Александр Крысиньский, в чамарке, конфедератке, с двумя пистолями за поясом и большой саблей на перевязи. С непривычки храбрый пан немилосердно бряцал своим тяжелым палашом, который путался у него между ногами, мешая ходить так же прытко, вприскачку, как всегда.
— Чудные вести, пане Юзефе!.. Пани Вонсовичева, падаю к ножкам очаровательной пани и целую ее божественные ручки. Собираетесь, кажется, к столу? Я еще тоже не успел позавтракать и голоден, как медиоланский пес… И если еще пани прикажет подать той старой мадерки, которую мы вкушали последний раз… Будет? Полное блаженство… А теперь слушайте… Был я всюду. Видел и Чарторыского, и Любецкого… Особенно последний теперь целый Ржонд в свои руки забрал. Но и он ждет не дождется, когда же появится пан генерал и возьмет бразды правления над войском… А потом… Был я… и на Мокотове, — понижая сразу голос, таинственно зашептал Крысиньский. — Тоже толковал с кем надо. Там будут рады, если пан генерал станет во главе Ржонда и остановит разруху… В кофейнях был, в «Гоноратке», «Дзюрке», во всех чертовых щелках, даже у его бабушки… И в патриотическое, якобинское гнездо завернул. Большой базар там сегодня… Все заодно: «Хлопицкого нам подавайте, и никаких!» Один только чертов профессор, иезуит Лелевель да его подголосок молокосос Мохнацкий против тебя говорят…
— Лелевель?.. Ну, ну, дальше…
— Да их не слушает никто… «Хлопицкого!» — вот какой общий клич, как мать люблю родную!.. Подавиться мне этой чарочкой запеканки… Здоровье пани Вонсовичевой, самой очаровательной из полек! И твое, пан Юзеф, генералиссимус польской армии, гетман большой булавы, будущий круль польский на многие лета-а-а-а!
— Брось глупости болтать. Говори дело. Что паны сенаторы говорят? Депутаты собирались или нет? Как они толкуют?..
— Так же, как и мы с тобою… Им тоже Хлопицкого подавай. Все утро толковали депутаты Сейма, кто не выехал из Варшавы… Человек пятьдесят. Маленький Сеймик, словом… И недавно передали Ржонду свое постановление. Убраться должны из Совета граф Грабовский, Коссецкий и немчура Раутенштраух… Даже Любецким недовольны. Мол, с Петербургом он очень дружит. А на их место надо графа Малаховского, Леона Дембовского, Островского, Владислава, и… Лелевеля желают видеть!.. Пришлось согласиться… Войско тоже стоит за депутатов… Только Любецкого паны министры отстояли грудью… И умная же голова этот плут!.. С ним не пропадешь, да… А затем…
Без конца сыплет новостями пан Крысиньский… Слушает его, нахмурясь, Хлопицкий, еле касаясь вкусных блюд, приготовленных пани Евлалией. Зато полное внимание отдает им пан Александр, ухитряясь не умолкать даже с полным, набитым ртом.
Кончился завтрак, истощился и запас новостей у наперсника бравого генерала. Выпив кофе со старым коньяком, вытянув ноги, слегка осовел адвокат и комиссионер на все руки. Задремать бы теперь. Но Хлопицкий сухо заговорил:
— Сыт? Отдохнул?.. За дело, голубчик… Мне до вечера еще многое надо знать… Опять облетай город… К обеду будем ждать… И… слушай…
Что-то шепнул ему на ухо генерал, очевидно, пришедший к какому-то важному решению во время болтовни Крысиньского…
— Понимаю, понимаю, — быстро замотал тот головой. — Иду. Лечу. Потружусь сегодня для отчизны и для друга моего Юзефа, для очаровательной пани Вонсовичевой… Знаю, уж знаю, чем можно порадовать милую хозяюшку… Иду… лечу!..
Приближалась обеденная пора, когда перед Хлопицким бледный, усталый от бессонницы, но сияющий появился подпоручик Заливский. Заняв указанное место, он, сверкая глазами, ударяя в грудь кулаком, горячо, убежденно заговорил, рисуя общее положение дел.
— Близко спасение отчизны! Сам Бог сжалился над нами!.. Еще два, три денька, последнее усилие — и мы свободны навеки… Вся Польша узнает новое счастье… Недаром я и товарищи душу положили, нашу юную, светлую жизнь поставили на карту…
Так закончил Заливский свои речи.
— Ну, что же, вам повезло, как и надо было ожидать, — не то одобрительно, не то глумливо замечает генерал. Лицо его непроницаемо, спокойно, и только злой, какой-то затаенный огонек поблескивает в глазах.
Насторожился Заливский. С самого начала свидания он не может установить, как ему держать себя с этим прославленным стариком, грубоватым, даже немного простоватым на вид. Опьянение успехом придало самоуверенности подпоручику, свободнее стали его позы и движения, довольно развязные и прежде. Но внушенная годами робость перед каждым генералом, да еще таким прославленным, как Хлопицкий, военное чинопочитание порою берет свое: тон понижается, вытянутые ноги поджимаются скромнее к ножкам стула, вольные манеры, дружественно широкие движения рук вдруг словно кто свяжет незримой петлей, и даже голос, резкий, гнусавый, но внятный, гаснет, тускнеет, делается еще гнусавей, и оттого плохо понятною становится торопливая речь.
— Д-да, нам повезло!.. То есть общему делу, пан генерал. Но конечно, многое предстоит впереди… — задержав прежний поток речей, медленнее, вдумчивей отвечает на замечание Заливский. — Переворот еще в самом начале. Он всего должен коснуться: армии, финансов, религии и сословных предрассудков, хлопов и земельного проклятого вопроса… Понемногу мы все это уладим.
— Вы уладите?.. Вот хорошо!.. И религиозные вопросы? Никак не подозревал, что среди офицеров молодых в армии есть и богословы. Ты тоже, пан… пан?..
— Юзеф. Тезки мы с паном генералом… Игра судьбы!.. Ха-ха. Я, собственно, не богослов, хотя и получил воспитание в коллегии у отцов иезуитов… Подумал я и решил, что мне не быть ксендзом. Военное звание больше по мне… Вот так и вышло… Но люди найдутся!..
— Конечно, конечно. Какой же из пана ксендз или иезуит? Но чем я могу быть полезен, пане… Юзефе?
— Многим, многим, пан генерал. Тебе так верят, так все надеются, что в случае войны с россиянами только пан генерал может стоять во главе всех польских сил. Необходимо прислушиваться к голосу большинства. И наша партия решилась. Конечно, если бы сразу пану генералу показалось тяжело, юные силы готовы прийти на помощь… Но пан генерал должен понять, если родина зовет… Если для успеха, для довершения дела, так хорошо начатого нами, необходимо даже принести жертвы, потревожить свой заслуженный покой… Так сказать, выйти из уютной скорлупы, чтобы предотвратить многие беды, грозящие Польше от ее внешних и внутренних врагов, от этих магнатов-олигархов, от предателей войсковых и цивильных… От всякой шушеры, которая грязными руками берется за святое дело спасения земли, а дурацким своим разумением может только потопить народ!.. Если пан генерал все это видит, он должен послушать меня, всех нас и принять булаву… Повторяю — помогать все готовы, начиная с меня. Служу пану генералу, хоть трубачом, если прикажешь… Если на что лучшее не пригожусь отчизне, спасенной нами… Понимаешь, пан генерал?..
— Понимаю, вижу… все понимаю, — с неподдельной скорбью произнес Хлопицкий и вдруг, сразу меняя тон, с неопределенной улыбкой, похожей на оскал злобы, продолжал: — Благодарю за предложения помощи. Конечно, без настоящих людей, одному всего не сделать… если я соглашусь, если приму… Думаю, что соглашусь, — предупреждая движение и новый поток гнусавой речи гостя, заторопился Хлопицкий. — Я, конечно, хотя и не так юн как пан… Юзеф, но все-таки успел заметить, что все правда, сказанное паном… Юзефом… Опасность большая грозит Польше… со всех сторон. И если не взять дела в надежные руки, не повести его, куда надо… Хорошо, могу прямо сказать, если так уж все хотят, принимаю гетманство, беру булаву. Что еще?
Последний вопрос был сразу брошен так властно, отрывисто, что Заливского невольно словно пружиной подняло с места.
— Больше ничего, яснейший пане генерале, — совсем по-военному отчеканил он.
Еще несколько прощальных фраз, и Заливский ушел.
«Тебя первого надо взять в ежовые рукавицы, пан „помощник“, не спаситель — погубитель отчизны!.. если воля тебе будет дана с подобными же верхолетами, наглецами, якобинцами без Бога и круля в душе! Да не-е-т! Со мной немного потолкуете…» — так, глядя вслед ушедшему подпоручику, подумал генерал, поднялся и крикнул громко:
— Евлальцю, а что, обед готов?.. Давайте. И зови мне Крысиньского, если он там пришел…
А Заливский, вскочив на своего коня, уже носился по улицам Варшавы, от толпы к толпе, громко возглашая:
— Я только что от Хлопицкого. Он согласился стать вождем наших войск… Революция, которая так счастливо завершилась, дело моих рук. Я — Юзеф Заливский!..
И мчался дальше, оставляя за собой удивленные лица, насмешливые улыбки людей.
Вечерние огни давно засверкали в холодном сумраке затихающих улиц столицы, когда полковник Дезидерий Хлаповский, добрый друг и сослуживец Хлопицкого, женатый на родной сестре княгини Лович, Антонине, владеющий богатым поместьем в прусской Познани, вышел из коляски у подъезда Хлопицкого.
Между старшей, Жанетой Грудзинской, ставшей после брака княгинею Лович, и младшей, Антониной Хлаповской, была еще средняя, прехорошенькая Жозефина, или Жузя, как ее звали близкие, обвенчанная с капитаном польской службы Гутаковским, которого августейший beau frХre Константин взял к себе адъютантом.
Неглупый человек, усердный служака и честный патриот, Гутаковский умел до взрыва удачно пользоваться свойством с «хозяином» края, российским великим князем, сохраняя самые лучшие отношения с родными польскими военными и шляхетными кругами.
Теперь пришлось сделать выбор. Гутаковские остались со своим народом. Но обе сестры, княгиня Жанета и капитанша Жозефина Гутаковская, сохранили прежнюю близость и взаимную привязанность.
У Гутаковских остановился Хлаповский, только неделю тому назад приехавший из Познани с какими-то секретными делами, по которым сам виделся с цесаревичем и посылал пани Гутаковскую в тихий обычно Бельведер.
— Вот и я, сердце Юзефе. Вечер добрый, — пожимая руку хозяину, проговорил гость, входя в кабинет генерала, который встретил друга в полной парадной форме, с орденами во всю грудь и лентой через плечо.
— Что, не опоздал, не заставил тебя ждать, старина? Нет? Превосходно! Ну, обернись спиной. Хочу посмотреть, может, туда ты навешал кресты и ордена, которым места не хватает на груди. Хорошая «колодка» собралась у тебя за сорок лет службы. Ты говорил, что с восемнадцати лет тянешь солдатскую лямку. А еще молодец!.. И бабеночки… Ну, не злись. Скажу и о деле. Жузя только что от княгини Жанеты с Мокотова приехала. Там такое творится!.. Э-эх!.. Надо что-нибудь одно — или на старое место вернуться, покончить с этими… «господами от народа». Нельзя, ты полагаешь?..
— Если и можно, то не так скоро. Постепенно.
— Вот-вот… и я так полагаю. Так, по многим словам, и Жузенька говорила Жанете и самому beau frery ясновельможному. Тогда явился новый вопрос: как выбраться им с честью, без особого урона из этой ловушки, из петли?.. Дьявол его знает! Как хочешь назови!.. Дело теперь за тобой, старина. Пока еще князь Любецкий управляет правительством, а ты можешь войско в руки забрать — до тех пор и есть надежда у бедных мокотовских изгнанников добраться до российских границ в целости и сохранности. Как полагаешь на этот счет, пане Юзефе?
— Как тут можно полагать! Конечно, разум мой говорит за такой благополучный исход. Да надо сообразоваться и с обстоятельствами. Вот поедем, посмотрим, что скажет правительство… Уж время. Там давно собрались, мой Крысиньский прибегал. И Уминьский был. Только вели поднять верх твоей коляски. На улицах много черни. Узнают, орать станут, восторг свой выражать. Терпеть этого не могу. Особенно от городской бестолковой швали!.. Едем!
Административный Совет, пополненный выборными представителями, в полном составе заседал в помещении министерства финансов, в здании банка. На этом настоял Любецкий. Узнав, что на него готовилось покушение, он решил не появляться на улицах, ставших небезопасными с роковой ночи 29 ноября. Между тем ничего не было легче и удобнее, как внутренними переходами из своего кабинета иметь возможность являться когда угодно в заседания правительства, которое все эти дни почти не выходило из заседаний, разве для принятия пищи и для ночного отдыха.
С шумными выражениями неподдельной радости встречен был Хлопицкий всеми членами Ржонда, исключая Лелевеля, умышленно отошедшего поодаль и в тень.
— Тронут глубоко вниманием и лаской, какую сверх слабых моих заслуг оказывают вельможные паны сенаторы, члены Совета и народные избранники. Готов бы и сам по мере слабых сил быть полезным польскому краю и народу моему. Не знаю только как. Вельможное панство желало видеть меня. Служу вам. Скажите только чем.
— Вождем!.. Коронным гетманом великой Польши и иных земель. Генералиссимусом всей ратной силы крулевства. Булава ж готова, давно ждет и просится попасть в сильную руку славного генерала Хлопицкого, — первым заговорил граф Пац. — Я временно, пока мы ждали тебя, пан генерал, принял главное начальство над армией. Но ты пришел — и слагаю ее в твои руки, готов исполнять приказания славного начальника наравне с каждым солдатом польским. Обрадуй же нас скорее, генерал, объяви свое согласие. Вот готовый приказ по войскам, говорящий о твоем назначении. Подпиши. И завтра же в ответ радостное «виват» грянет по всей Варшаве… по всей земле в честь героя-вождя. Ты молчишь, пан генерал. Или не для радостной вести явился к нам наконец?.. Ты все молчишь?..
Тревожно переглянулись все двенадцать — четырнадцать человек, первые сановники и вельможи польские, сидящие за столом, все, кроме Любецкого и Лелевеля.
Профессор удивлен, но не испуган неожиданным поведением Хлопицкого. Лелевель слишком умен, чтобы не разгадать, куда поведет за собой людей генерал, если получит сильную власть. Конечно, не по республиканской стезе, не по строго парламентским путям, которых ищет сам профессор. И хорошо будет для последнего, если Хлопицкий не уступит, доведет упорство до конца.
А тонкий, проницательный князь Ксаверий?.. Если бы он даже предварительно при помощи Крысиньского не успел вызнать кое-что, если бы не был уверен, что Хлопицкий «его» человек, и тогда осторожная медлительность галичанина не ввела бы в заблуждение Любецкого. Он ясно видит, чем кончится дело сегодня. Сидит, уйдя в глубокое, мягкое кресло, поигрывая брелоками, незаметно зорко наблюдает за всеми и ждет…
— Нелегко и ответ дать мне сразу высокому Совету, — нарушая молчание, медленно заговорил Хлопицкий, и значительно так звучит его сильный, ясный, как у молодого, голос. — Вопрос, конечно, не во мне. Слишком велика ответственность, которую хотят возложить на меня ваши мосци, Совет и правительство. За целую землю, за судьбу народа не берусь отвечать, да еще в такую тяжелую минуту. Воевать, идти на врага я могу. Гибнуть?.. Могу, когда угодно, но не вести на гибель весь народ. А придется. Не для парадов же, как в недавние дни, зовут генерала Хлопицкого взять булаву.
— Нет, нет, — зазвучали оживленные голоса. — Конечно, нет. И по крулевству много будет дела. А главное — война с Россией. Она почти неизбежна. Разве Бог отведет каким-либо чудом. И вот тогда…
— Вот тогда-то я и не берусь ни за что! И вы все не хуже меня знаете, что будет. Позавчера цесаревич покинул Бельведер. Еще пара дней, и он должен будет оставить пределы крулевства, выйти в Россию. Мы наделаем тут еще немало кутерьмы уже как свободные люди, не как подвластные Константину или другому кому. А через месяц войска круля Николая зальют землю. Мы покажем еще раз целому миру, что не сгибла польская доблесть и отвага. Но Польша сгибнет!.. И хуже нам еще станет, чем было до этой грозной позавчерашней ночи, до этих смутных теперешних дней.
Умолк Хлопицкий. Молчат все. Тяжелое впечатление произвели прозвучавшие слова на высокое собрание, хотя, конечно, для них генерал не сказал ничего нового.
Но самый вид и голос Хлопицкого нагоняет холод даже на самых отважных из собрания. Словно то, чего все ждали, чего страшились, но с чем надеялись бороться равными силами, вдруг пришло, стало перед очами куда грознее, неотразимее, чем раньше казалось это каждому…
Первым заговорил Лелевель, желая смягчить угнетенное настроение собрания и сгладить то невыгодное для замыслов профессора впечатление, какое произвел своей речью Хлопицкий.
— Прощения прошу, пане генерале, что я, штатский человек, хочу сказать два слова в ответ на веские утверждения такого авторитета, как генерал Хлопицкий… Но уж минута такая, что надо говорить. Право, мне припомнилась невольно древняя очень история… Когда царевна Кассандра бегала по осажденной Трое и восклицала: «Сгибнет Троя, и Приам, и народ его!..» Конечно, отважного, прославленного генерала я не посмею называть Кассандрой. Но и Польша же еще не наводнена российскими ордами… Варшава еще не охвачена железным кольцом осады… И не так уж популярны немцы-вельможи Петербурга во всей огромной стране, чтобы министр-немец Нессельроде, все другие министры-немцы или греки, генералы-немцы, итальянцы, французы… Словом, чтобы вся эта заграничная компания убедила русский народ и нашего круля-цесаря, что надо из-за всякого разногласия проливать собственную кровь и кровь собратий-поляков… Все же мы родичи, россияне и ляхи… Не чужие, не немцы либо австрияки, которые только и ждут, чтобы Россия раздавила нас, а тогда им не так страшно будет кинуться на Россию. Помнят немецкие собаки, как польские мечи поражали их на полях Грюнвальда, как под самой Веной белели палатки польских легионов… Но стравить Польшу с Россией в последний смертный бой… Полагаю, этого немцам не удастся теперь… Поспорим и сговоримся… И минет нас та смертельная опасность, которою пугал Совет отважный генерал. Вот как полагаю я, человек приватный, не воин по призванию… Может, еще кто поддержит меня?
Что-то хотел сказать Любецкий, но воздержался. Молчат все остальные. Хлопицкий поспешнее и горячее прежнего заговорил, задетый тоном и тонкой иронией этого «ядовитого школяра», как в уме называл он Лелевеля.
— Все может быть, пан профессор. Я плохой историк и дипломат. Но еще только одно должен прибавить. В стране существует законная власть, поставленная крулем Николаем. Против нее и против самого круля — поднялось возмущение… Я вижу, что даже состав высшего правительства страны изменен под натиском мятежных сил. Принимая теперь власть над войском, я должен действовать как бы против круля, которому принимал присягу. А присяги своей генерал Хлопицкий не сломит, как не ломал никогда. Вот мой последний ответ, панове вельможные. И другого я не дам. Теперь могу я уйти?
Задвигались, даже поднялись с мест большинство сидящих.
— Остановись, постой еще минутку, пан генерал, — крикнул граф Островский. — Так нельзя… Невозможно! Ты не уйдешь, не выслушав нас… Да ужели и сам не понимаешь, что делаешь с отчизной и с нами… В какую минуту отказываешь в помощи народу своему?
— Пан Юзефе, — взволнованно, против обыкновения, заговорил князь Чарторыский. — Побойся Бога… Именем Его Святым, польской былой доблестью и славой заклинаю тебя: исполни нашу просьбу, склонись на мольбы и желания народа польского!.. Прими власть, которая только в твоих руках может и должна находиться теперь…
— Жалею, князь, но изменить сказанного мною не могу, — прозвучал холодный ответ Хлопицкого.
— Пан Юзеф, — подойдя с места к генералу, тихим, дрожащим голосом начал Немцевич. — Позволь мне, старику, обратиться к тебе. Я ценю и понимаю всю прямоту воина, с какою ты высказал свое решение и его мотивы… Я пережил немало… Помню славного Костюшку, безупречного героя, которого даже такой автократ, как Павел Российский, ценил и почитал… Он же не боялся повести народ в бой, хотя и видел то же, даже худшее, чем все, что ты рисовал нам сейчас… Есть минуты, когда разум должен молчать, когда надо слушать голоса сердца… И мой слабый голос я хочу слить с тем, который сейчас звучит в сердце отважного Хлопицкого, говорит ему: «Дерзай — и поможет Господь!»
— «Сперва все взвесь, потом дерзай» — так говорит мне мой разум…
— Пусть так… пусть так!.. Но может ли слабый человеческий ум взвесить все дела мира?.. Нет. Ошибка возможна всегда… Еще раз со слезами, видишь, протягиваю к тебе мои старые руки и говорю: верь сердцу, послушай голоса народа своего. Бери меч и веди нас!.. Пан Юзеф, не отворачивайся… смотри… Ты видишь слезы на старых щеках моих… А я словно вижу, как плачет твоя душа… Не сжимай ее. Дай волю Духу Святому руководить тобою…
— Не думает плакать моя душа. Неловко глядеть мне, что плачет такой почтенный человек, как пан Урсын Немцевич… вот я и… А в делах человеческого мира и войны, в них Дух Святой не причастен. Не от Него пошла борьба… Зачем же и поминать святое, когда собираемся творить дела, совсем от религии далекие?..
Смолк, грустный отошел Немцевич. Но медлит Хлопицкий, словно еще ожидает чего-то…
И заговорил князь Любецкий. Не по-польски, как другие перед ним, а по-французски, своим чистейшим парижским говором:
— Что же, все, что мы здесь слышали, это очень прекрасно… И совершенно прав наш уважаемый, храбрый генерал Хлопицкий, отказываясь вступить в революционное правительство, занять пост вождя, чтобы готовить народ к заведомо губительной борьбе с гигантом-соседом и родичем, с законным своим крулем, наконец… Что ни говори, и мы все присягали же Николаю. И ни церковь, ни какая-либо власть пока нас еще не освободила от присяги.
Насторожился Лелевель. Не так тревожны стали лица у остальных сидящих. Хлопицкий обернулся к Любецкому, внимательно слушает, как будто хочет угадать и недосказанное по лицу говорящего.
А Любецкий, словно не замечая ничего, спокойно продолжает, поигрывая своими брелоками:
— Но правы и мы. Не на дурное зовем почтенного генерала. Не скопище перед ним самозваных вождей и демагогов черни. Тот же Совет, поставленный нашим крулем. Все указы даются нами от его же высокого имени… Революция, вспыхнувшая так неожиданно и бурно… Она, конечно, не улеглась… Но даже и она, и ее случайные, юные неопытные вожди доверили нам верховное управление, как прежде сделал это круль Николай. Они не вырвали власти из наших рук, сами нам изъявили готовность подчиниться… Только пополнился состав Совета избранниками народа… И достойными, смею сказать…
— О, я не думал возражать, — вставил было Хлопицкий.
— Прошу генерала иметь терпение и слушать, как мы все слушали его. Вот теперь вопрос, почему же генерал Хлопицкий не желает принять булавы, предлагаемой ему законным правительством края? Разве ему поручается крикнуть: «Долой круля Николая!»? Собрать войска, ударить на Константина, взять его в плен, объявить войну россиянам и т. д. и т. д.? Вовсе нет. Напротив. Стране нужна сильная, разумная военная власть… Чтобы охранить жизнь, имущество мирных людей от могущих нахлынуть зловредных элементов!.. Он охранит и законность в течении гражданских дел… И не позволит нападений ни на цесаревича, ни на кого другого… Он, как вождь армии, снова сумеет связать, спаять расшатанные устои железной военной дисциплины, без которой, действительно, гибель грозит и самому войску, и всей земле… Вот чего мы хотим, для чего призвали сюда генерала Хлопицкого. Ведь я верно говорю, господа высокий Совет?.. Господин профессор, ваша речь впереди! — предупредил он порывистого Лелевеля и продолжал: — Так отчего же генерал Хлопицкий не согласен с нами? Почему он толкует о нарушении присяги и долга и гибели Польши? Вот мы тут решили, наоборот, как можно скорее вступить в переговоры с Петербургом. Я и граф Езерский поедем туда послами от польского народа… Но чтобы наш голос был скорее услышан, чтобы имели вес жалобы целого края на угнетения, испытанные им, на те нарушения, какие потерпела конституция, дарованная Польше, скрепленная клятвой польского народа и двух монархов, ее королей — Александра и Николая, чтобы именно достичь почетного мира, надо иметь за спиной такого вождя, как генерал Хлопицкий, который сумеет и побеждать, если несчастливый Рок Польши нашлет нам войну… А генерал говорит: «Нет». Может быть, подумав, достойный генерал изменит свое твердое, но едва ли справедливое решение. И тогда мы все громко скажем: «Храбрый генерал Хлопицкий имел величайшее мужество в мире: сознаться в своей ошибке, когда это нужно было для спасения родины».
— Сознаюсь, — неожиданно громко вырвалось у Хлопицкого. — Князь Ксаверий убедил меня… Я был не прав. Все, что сказано князем, приемлемо для меня, конечно. Вышло просто недоразумение… Я преклоняюсь перед желанием Совета и волей народной, принимаю главное начальство…
Не успел он досказать, как был окружен, его обнимали, Целовали, поздравляли.
Лелевель, пользуясь суматохой, незаметно вышел из заседания и покинул величественное здание Банка вместе с Мохнацким, который ожидал внизу вестей.
А Хлопицкий, когда стихли порывы радости, заявил:
— Только прошу не присваивать мне титула генералиссимуса, вождя армии. Таковым числится цесаревич, который еще не покинул Польши, не смещен крулем-цесарем. Просто как польский генерал принимаю временно команду с исключительной целью — помешать разлитию безначалия, анархии в крае… А она уж грозит, я убедился сам… Где приказы?
Зачеркнув нежелательные ему титулы, Хлопицкий широко вывел подпись: «Генерал польской армии Юзеф Хлопицкий» под первым приказом, оглашающим его назначение.
— А это что? — пробегая глазами вторую бумагу, спросил он. — Приказ всем пригородным и провинциальным отделам спешить в Варшаву. Разве так уж нужно спешить? Все полагают? Хорошо, подпи… Позвольте, Панове, а генерала Круковецкого из Мщанова тоже нужна теперь же призвать? — невольно нахмурясь, обратился он к Совету.
— Почему бы нет? — отозвался Пац. — Ближайший отряд… Старый вояка, хороший патриот. Он здесь не помешает…
— Боюсь, начнет мутить пан генерал Круковецкий… Ведь он… Ну, да если Ржондом так решено…
Неохотно вывел Хлопицкий подпись под приказом… Он был уверен, что самый опасный недруг его явится в Варшаву в лице Круковецкого. Но показать боязни не хочется. Придумать отговорку некогда…
Потом можно будет сбыть его… Так решил Хлопицкий, и уже быстрее, свободнее заскользила рука, подписывая целый ряд бумаг, заранее приготовленных и только ожидающих надлежащей подписи вождя, не гетмана, не генералиссимуса, а просто — «генерала польской армии Юзефа Хлопицкого».
Когда, покончив все дела, около полуночи вышел генерал из заседания, в ближайшем покое его уж ожидала целая толпа военных всех родов оружия, почти весь Генеральный польский штаб, преимущественно молодежь.
Громкое «виват» встретило нового, любимого начальника, и, шумной толпой высыпав из здания банка, направились все на квартиру к генералу, где ночь прошла весело и шумно, как редко бывало даже в лучшую пору жизни Хлопицкого…
Когда на другое утро весть о вступлении Хлопицкого на пост главнокомандующего разнеслась по Варшаве, не только войска, но все до последнего обывателя с восторгом приняли новость, о ней говорили везде и всюду. Толпы нарочно собирались перед окнами Хлопицкого, выжидая, не появится ли он, чтобы выразить ему признательность и восторг. Иногда громкие виваты вырывались так просто, по направлению окон пустой квартиры, за которыми только мелькала длинная тень денщика Янека. Сам генерал умышленно не явился домой ни днем, ни даже ночью…
Не меньше других порадовались варшавские евреи, узнав, что власть над войском вручена «такому настоящему генералу, строгому начальнику», как Хлопицкий.
Как раз на утро 2 декабря в большой новой синагоге назначена была сходка старейшин еврейских, «израели-тов», как называют себя здесь еврей, или «старозаконных», по выражению поляков.
Признак анархии и неразлучного с нею еврейского погрома стоял перед бедными и богатыми обитателями На-левок и других углов, где обособленными островками, в старинных, высоких и узких домах ютятся и теснятся дети Израиля.
Когда же они, всезнающие и всюду проникающие, услыхали о Хлопицком, вздох облегчения вырвался у многих евреев и евреек из груди.
— Этот генерал не позволит грабувать ни своих, ни наших!..
Так на разные лады повторяли в синагоге, где было тесно и душно от толпы, а говор и гам стоит такой, какого не бывает в самые большие праздники, в шумливейшие дни.
Особый вид имеет сегодняшнее собрание в синагоге. Кроме пожилых и юных, степенных, набожных евреев, постоянно посещающих дом молитвы, видны здесь и там большие оживленные кучки молодежи, одетой по-европейски, по-христиански, либо даже в национальных польских чамарах и конфедератках взамен обычных длинных халатов и камзолов. Есть даже многие с бритой бородой, что строго воспрещается обычаями и нравами народными.
Годами не являлись здесь эти «апикорсим», эпикурейцы, отступники, как их зовут набожные сородичи. И вдруг пришли сегодня. И никто не спрашивает их: зачем? Не корит за неподобающую одежду, за бритое лицо. Все знают, что за важным делом сошлись мужи Израиля, и не время корить в чем-либо, пререкаться теперь между собою.
Когда реб Янкев бен Элиезер, выборный духовный глава общины, с несколькими старейшинами прошел и уселся на амвоне, постепенно смолк говор и гам, настала сравнительная тишина.
— Ну, дети Израиля, мы знаем, что делается кругом. Нам тоже приходится так или иначе впутаться в эти… в христианские клутни и неурядицы… Что поделаешь? Когда пришел в чужой дом на свадьбу, приходится плясать под хозяйскую музыку… хоть бы и не хотел. Выслушаем же, что нам желают объявить и предложить наши сородичи. И обсудим дело. Реб Френкель, вас прошу говорить.
Богач, владелец первой в Варшаве фабрики сукна, откашлялся, вытер платком свое вспотевшее красное, круглое лицо с рыжей, торчащей во все стороны бородой и степенно заговорил:
— Жертвовать все равно придется нам и на революцию, как мы жертвовали и для Бельдевера, и для Рожнецкого, и для всякого настоящего начальника. А теперь вопрос: как жертвовать и сколько жертвовать? Потому что полиция у повстанцев может еще меньше стесняться с нами, с евреями, чем стеснялся полицейский круля Николая. Этот народ, полицейские… разве они меняются?.. И всякое другое начальство? Им надо денег. Дадим. Сколько и как?.. Понемножку всем или прямо хорошую кучу червонцев на ихние расходы внесем в Ржонд… Потом опять: они же будут сразу недовольны. Так сколько приготовить на прибавку? Вот как я понимаю… Кто лучше знает, пусть говорит.
Эта короткая, деловая речь заслужила общее одобрение. Только кучка «отступников» из молодежи, «апикорсим», протестовала.
— Прошу меня выслушать, — громко, властно прозвучал голос Арона Айгнера, даровитого журналиста, поэта, близкого к революционным кружкам польской молодежи.
— Пусть, пусть говорит… Теперь надо всех слушать, — раздались многочисленные голоса.
— Говорите, реб Айгнер, — кивая снисходительно головой, разрешил раввин. — А вы там ша, дети!.. А то я вас, — погрозил он кучке мальчуганов, которые за взрослыми тоже пробрались на важное собрание.
— Ничего, я сумею сказать, чтобы было слышно, — действительно громко, внятно, с явным ораторским приемом начал Айгнер. — Да и немного говорить. Конечно, полиция и теперь будет, давать ей придется. И жертвовать надо на общее дело деньги или вещи, кто что может. Но еще есть вопрос. Раже каждый год бывает такое восстание, как было два дня тому назад?.. Ночь 29 Листопада запишется на скрижалях истории, как приказания Иеговы записаны были на скрижалях Закона Его…
— Что… что он говорит? — послышались возмущенные голоса стариков.
— Не мешайте, дайте кончить! — заголосило большинство.
Айгнер продолжал, все усиливая речь.
— Пока между собою немного подрались поляки, а скоро придут и москали. Мы будем заперты в городе с поляками вместе… Будем с ними жить и умирать…
— Ай, что такое?! — испуганным вопросом всколыхнуло толпу. И смолкли снова.
— Умирать!.. Неприятная, но неизбежная штука. Так вот, чтобы легче было жить с «хозяевами» края, чтобы умирать не от кулака, не от камня или ножа, а на поле битвы, как вольные люди, мы теперь же должны делать все, что делают поляки. Готовиться к осаде, собрать деньги, зачислиться в ряды Народной гвардии… Словом, все. Вот что я и мои товарищи пришли вам предложить, собратья по вере и крови. Решайте и дайте свой ответ. Но скорее. Время не терпит.
— Собратья… Какие вы нам собратья?.. Отступники, апикойрисы!.. Вы пришли глумиться над нами. Ну, чтобы таки евреи стали воевать?.. Да еще с россиянами, которые даже Бонапарту не поддались?.. Уходите… Вон!..
Крики росли. Пожилые законники уже стали наступать на молодых, окружающих Айгнера. Те, сгрудясь, готовились дать надлежащий отпор. В эту минуту раввин сильно постучал толстым фолиантом по столу, покрывая этим общий крик и шум.
— Раббосим!.. Еврейские люди, что вы только делаете? — прозвучал его голос, поднятый до крика. — В такие дни и мы разбираем, кто апикойрис, кто набожный еврей? Они же не со злом пришли. Пусть они себе молодые, глупые… Но их привела еврейская кровь. Кровь не вода. И не совсем же они глупы. У них же тот самый мозг, что и У других евреев. Надо обдумать, что они сказали… Вот теперь почтенный ребе Иосель Радомысельский, внук великого цадика реб Акселя, старейший и почтеннейший из нашей общины еврей, желает сказать свое слово. Молчите и слушайте, раббосим.
Небольшого роста, кругленький, с розовыми щечками, седой совершенно, беззубый старик, ребе Иосель, поблескивая живыми, еще ясными глазками, довольно внятно, без особого шамканья заговорил:
— Дети, о чем вы хотите спорить? Стоит ли спорить вообще, а сейчас особенно? Что сказали эти молодые люди, чего бы каждый из нас не понял и не знал? Или чего хотят те, постарше, о чем уж были речи сотни и тысячи раз в течение долгих, долгих лет и веков? Не спорить надо, а выслушать меня… Ведь главное — что? Чтобы Израиль был и остался навеки, по слову Творца — Иеговы. А для этого надо иногда делать, как говорят эти, молодые… А в другое время — так, как говорят эти, постарше… Вот надо сейчас подумать, как лучше сделать для блага Израиля… Положим, ему все было во благо… Вы читали святое писание, Тору, и я читал… Вы помните, что был Вавилон, и угнетали там евреев… Был Египет, там было то же самое… И Ашур пришел… И Персия с Экбатаной… Потом Македонское, Греческое царства… И Рим посылал своих солдат и офицеров в Палестину. И там угнетали нас, и везде угнетали нас… Дома и в чужих краях. И что же теперь? Нет их никого. А Израиль есть. В наших книгах я прочел, что даже в Индии, где самые древние царства, и в старом Китае живут наши евреи, и там угнетают их. Но, поверьте, не станет Китая, пройдут все индийские царства… А Израиль не пройдет. Теперь слушайте дальше. Не было еще поляков и Москвы; теперь только они считают себе тысячу лет, что они явились как народ… А наша святая книга!.. В ней записаны первые дни творения. Чего же нам уж так опасаться друзей или врагов?.. Положим, тяжело бывает Израилю… Вот я помню Эстерку, жену польского круля, вторую Эсфирь… И она мало помогла народу своему… Знаете ли вы, что однажды еврей, портной из Межигорья, шел полем? А польский Сейм не мог выбрать круля и решил, кто первый покажется на дороге, пусть будет круль… Распятие свое целовали они все. И пришлось еврея назвать крулем. На три дня всего. Ему сказали: «Если не сложишь власть, мы тебя разрежем на кусочки». И он сложил власть… Вот какие дела бывали. А евреям это не помогало. Я видел, как до прихода россиян на Прагу поляки били евреев. А после Праги россияне сказали: «Вы нам плохо помогали!..» И стали россияне нас бить и отнимать все… и вешать. А за что? А думаете, сам Наполеон?.. О, он очень хорошо знал цену еврейскому золоту… Во Франции, где свобода и братство, там очень много богатых евреев. И Наполеон за хорошую цену дорого продавал им разные уступки и льготы для народа израильского. Так бывает везде. Теперь пусть скажут, за что нас не любят народы?.. Есть между нами и добрые, и злые люди… Как в каждом человеческом племени. И злые — имеют свойство всех злых людей: злом платить за обиду. Но вину каждого отдельного еврея ставят в укор целому нашему племени. Забывают, что во время ихней резни и войны — на одного шпиона-еврея бывает пятьдесят поляков и русских. Что на одного мелкого ростовщика-еврея есть сотня богатых христиан, шляхтичей, владельцев больших маентков, которые жмут сок и кровь из своих же хлопов, из христиан, которые молятся Творцу в одном костеле с панами-угнетателями. Но своим все прощается. Чужому — ничего. Помните же, дети: чужие мы всюду. За вину одного несет кару весь народ. Одна наша сила — в единении… Печать нашего племени — единство духа и мысли. Странником стал народ Израиля. Конечно, сидящий у порога дома видит всех, идущих мимо. Но идущий мимо видит всех, сидящих по местам, и все прекрасные места мира… и весь мир!.. И больше он дает, чем берет у мира. Такая участь Израиля. Идти с места на место, менять обувь и наряд, узнавать чужие языки и всегда оставаться неизменным в самом себе. Слишком много мы имеем и дали миру, чтобы отказаться от себя. Нашу святую книгу чтит ряд христианских народов… А нас — презирает… Пускай! Одного из сыновей народа нашего признают они своим избавителем. А нас гонят. Потерпим! Разве не бывает, что дикий конь гневается на разумного всадника, господина своего? На землю свергает он его и раны ему наносит ударами копыт. Но всадник все же подымается, набирает новых сил и господином остается, как был, над конем… Такова участь Израиля… Придет время — изменится все… Спешить лишь не надо… И если теперь вина одного падает на весь народ, то настанет час искупления, час торжества… И каждая заслуга каждого еврея даст славу и радости принесет всему Израилю. И каждая добрая мысль даст тысячекратную жатву, даст плод без горечи. Так сейте же добрые мысли и добрые дела в мире… только помните: на все есть пора и срок!.. Вот что я хотел сказать вам, дети Израиля!
Умолк старик. Загудела толпа, замахала руками, заспорила.
Каждый по-своему понял длинную речь старца. Но общее мирное настроение овладело собранием. Спорили без озлобления, обсуждали, строили планы.
Бледный, тщедушный еврей-портной деловито расспрашивал одного из юношей, Озию Люблинера:
— Ну, вы говорите Народовая гвардия?.. Городское войско… А какой кунтуш для евреев?..
— Не кунтуш, полукафтан гранатовый, кармазиновый, воротник и белые выпушки. Шапка гранатовая, с черным барашком и кармазиновым верхом. Сабля, пистоли за поясом.
— Пистоли, они же могут выстрелить нечаянно и наделать беды. А без них с одной саблей нельзя, нет?.. Жаль… Хотя можно такие взять пистоли, чтобы они не стреляли. И то правда… Для формы только. Я и не догадался сразу… Вот еще нехорошо, что бороду надо брить… Не велит закон… Но если другие добрые евреи решаются… Почему же и я?..
Долго еще толковали евреи.
Затем принесли листы. Стали на одном записывать взносы денежные. А на других — появился ряд имен: записывались желающие вступить в ряды городской гвардии в особые отряды, исключительно составленные из евреев, как решил уже раньше Ржонд.
Вечером того же дня накурено, людно и шумно было, в «Дзюрке», ставшей давно местом сборища самых беспокойных кружков варшавской молодежи и более зрелых сторойников разных крайних партий. В этот вечер буквально пройти нельзя во всех помещениях кофейни. Хорошенькие служанки уж и не пытались доставлять по назначению стаканы и кружки. Они появлялись у буфета и объявляли:
— В заднюю комнатку или в большой зал пану, который за угловым столом, кофе и пончики…
Поднос брали ближайшие посетители, и он из рук в руки передавался до места назначения.
Недалеко от «Дзюрки», в обширных, пустых помещениях «Редутов» вечером, попозднее назначена сходка членов Патриотического Союза и вообще всех, кто желает принимать участие в общей работе на спасение отчизны.
Вот почему в ожидании назначенного часа такое количество людей сбилось в небольшой кофейне, подкрепляясь в ожидании долговременного заседания, обмениваясь предварительными соображениями, намечая план предстоящих выступлений.
В первой комнате, недалеко от входа, сидит плохо одетый, тощий, бледный господин лет сорока, «молодой», начинающий неудачник-поэт и журналист Ян Чинский в компании нескольких других представителей варшавского литературного мирка, весьма близкого по типу к богеме, обитающей в Париже, любимом городе польских литераторов и близких к народной политике людей.
Сидит здесь Айгнер, охрипший уже утром на еврейском собрании в синагоге, но весело поблескивающий своими восточными темными, яркими глазами; рядом — талантливый Людвик Жуковский, за ним БродзиньСкий, Яновский, Кициньский; молоденький чиновничек Юлий Словацкий, над которым уже веет дыхание высокой поэзии. С ними и Францишек Моравский, такой непостоянный, то полный тоски, то порывистый и бурный, как строфы его яркой поэмки «Висла», которую он в эту минуту — и довольно скверно — читает своим друзьям.
Те слушают, напрягая внимание, что довольно нелегко посреди общего гама. Словацкий особенно чутко ловит красивые созвучья, яркие образы, смелые сравнения и мысли. Один лишь Ян Чинский с небрежным видом потягивает свою кружку пива, не меняя кисло-презрительного выражения, свойственного ему почти всегда.
Кончил Моравский, рукоплещут ему товарищи, жмет руку Словацкий. Только Чинский, не меняя ни позы, ни выражения лица, слегка одобрительно покивал головой и уронил:
— Что ж… Ничего себе! А где тиснешь, Францю, свои стишки?
— Отнес в «Меркурий»… Обещали напечатать… Что это значит? Отчего ты необычайную рожу такую скорчил?.. И мычишь? В чем дело?
— Да компания там, дьявол их знает, какая. Ненастоящие демократы. Торгаши больше да обыватели «буржуи»… А почем за строчку? Не спросил? Дурак! А еще поэтом хочешь быть… Эти мерзавцы наживаются за наш счет. А мы с ними миндальничаем. Бросить пора такую политику. Лагерь свой мы знаем, нас немало. Публика читает нас, а не их объявления о секретных резиновых принадлежностях. Надо и держать себя с достоинством, надо…
— Молчи, Чинский! Расседлай своего конька… И ослу дай отдохнуть! — послышались окрики.
— Какому ослу?.. Кто там смеет?.. А! Кто осел?..
— Тот, кто не конь, разумеется… А ты ж не конь, хоть и не осел… Дай слушать. Вот Кициньский будет читать свои новые «10 заповедей Отчизны», данные ею 29 ноября сего года с крыши опустелого Бельведерчика. Слушай, черт тебя подери! Или хоть нам не мешай.
Насупился, смолк Чинский.
А молодой студентик Кициньский, стоя уже на столе, привлек к себе всеобщее внимание. Гомон стал гораздо тише, и звонкий голос чтеца, внятно разносясь по этой зальце, был слышен и в соседних комнатах кофейни.
«Аз есмь Отчизна твоя, а не чуждый край, не дом позорной неволи. И вот 10 заповедей моих даю тебе: 1) Да не будет у тебя иной Отчизны, кроме меня. 2) Если можешь служить Отчизне, не вступай на службу к чужим народам. 3) Помни, что жизнь твоя посвящена должна быть Отчизне. 4) Чти отца твоего, матерь твою, то есть — твой край родимый и свободу святую, если хочешь, чтобы имя твое жило долго в памяти сынов родной земли. 5) Не убивай равнодушием милой Отчизны и народной вольности, но храни их. 6) Не ищи почестей в чужих краях земли. 7) Не укради грошей народных, кровавых. 8) Не послушествуй свидетельства ложна против близких, то есть: шпиком и доносителем не будь. 9) Не желай земли чужой, соседской. 10) А ни домов, ни богатств, ничего, что ихнее есть. Будешь любить Отчизну и вольность всем сердцем, будешь служить им всеми силами, как для самого себя, будешь стараться, чтобы и другие народы узнали радости вольной жизни, и будешь сам счастлив и благоденствен на земле».
— Виват, Отчизна!.. Браво, пан поэт!.. Твое здоровье!.. — раздался общий громкий говор, едва смолк Кициньский и соскочил со стола.
— Круговую пьем… Круговую, братья-поляки!.. За отчизну!.. За волю!.. Возлюбим друг друга! — поднимая стакан, крикнул Словацкий.
— Возлюбим друг друга! — подхватили все старинный польский тост.
— Кохаймы — сен!
Зазвенели, зачокались кружки и стаканы, снова загалдело все кругом.
— Ослы, — сквозь зубы процедил Чинский. — Им был бы только предлог промочить свои сухие глотки… А такую, извини за правду, Кициньский, патриотическую рубленую солому, как твои заповеди, они слушают чуть ли не с большим удовольствием, чем, скажем, строфы Францишека, не говоря о более избранных произведениях поэтического творчества.
— Ну, не говори, — обиженно отозвался Кициньский. — Прочти-ка им что-нибудь из настоящих поэтов… Мицкевича, например… Увидишь, что будет.
Юноша недаром назвал это имя, ненавистное завистливому Чинскому. Тот вышел из напускного спокойствия, весь задергался, быстро заговорил:
— Мицкевич?! К черту провались со своим Мицкевичем. Он, не спорю, добрый поляк, несчастный человек… И на этом создал себе славу. Да. А поэт из него такой же, какая выйдет яичница из моих старых сапог… Да!.. Что он пишет? Трафарет. О чем говорит? О старых, забытых, никому не нужных вещах высоким, классическим штилем наших прабабушек… Пани и паненки проливают над ним слезы и вздувают эту плаксивую, водянистую знаменитость. А ослы ревут, следом идя за дамскими панталончиками и юбочками: «Ах, какой поэт!» Ну, что в нем есть?! Скажи толком, чем он так тебе дорог и мил? Когда есть Щекспир, Байрон… Шенье у французов… Когда у нас есть люди. Чем он так вам мил? Потрудитесь изложить.
— А хоть бы тем, — спокойно, желая еще больше подзадорить Чинского, отозвался Моравский, — что Мицкевича романы неприятны многим российским панам вельможам… Забыл?
— Ага, так вот у вас какое понятие о поэзии. Она не сама для себя… Не высшее творчество, а только служит для пробуждения гражданских порывов. Прекрасно, нечего сказать. Тогда я согласен: ваш Мицкевич — пророк, а вы его ученики и поклонники. Но он пророк былых дней, устарелых идеалов. И вы старые тряпицы, а не грядущая сила народа, не «Новая Польша», как дерзко величаете себя…
— Держу пари, что у Чинского в жилетном кармане лежит наготове очередной «манифест» истинной поэзии, написанный ломаными строфами и чертовским языком, — со смехом обратился к остальным Словацкий.
— Угадал, осел, на этот раз. И в награду можешь выслушать этот «манифест», — не смущаясь, сказал Чинский, добывая из жилетного кармана скомканный клочок бумаги, на котором были нацарапаны кривые строчки. Расправил листочек и мелодично, с умением и жаром стал читать:
СУДЬБА ИДЕЙ — СУДЬБА ЛЮДЕЙ
(Из сказок жизни)
Где-то В тиши кабинета Новая мысль зародилась И зароилась, Незаметна для целого света. Понеслася! Случайно засела В голове беспокойной поэта. Принялся он за дело: На глубокую, яркую тему Написал вдохновенно поэму… Люди звучные строфы читают, О несбыточном долго мечтают. Но приходят дельцы И, распутав узлы и концы, Дань сбирают с наивных людей. В жизнь проводят мечту Вдохновенную ту, Залетевшую к нам из прекрасного мира идей. Что же тот, кто в тиши кабинета Создал мысль?.. Он — неведом для света!Кончил, обвел гордым взглядом товарищей, на которых произвели впечатление и самые стихи, и декламация автора. Но он так всем досадил, что хвалить его не стали.
— Недурно, — проговорил один Словацкий. — Хотя до Мицкевича все-таки далеко…
— Не дальше, чем тебе до умного человека, — буркнул Чинский, осушил остатки в кружке и, не прощаясь, пошел к выходу.
— Куда же ты?.. Обиделся… Постой, Чинский, — крикнули ему вслед друзья.
— Обиделся?.. На вас?.. Ошибаетесь. На собрание в «Редуты» пора. Или забыли?
— Правда… И то правда, — зашумели кругом…
Разом десятки людей двинулись к выходу. «Дзюрка» быстро опустела.
Толпы народу, солдат и обывателей, женщин и мужчин заливали не только сад и плац Красиньских, но даже обширный двор и улицу, идущую влево и вправо от здания «Редуты».
Во всех полутемных помещениях теснятся люди, толкуют, спорят. А в главной, самой обширной зале буквально двинуться нельзя, такой сплошной стеной скипелась толпа.
Каганцы, сальные свечи, даже фонари, принесенные из ближайших казарм, слабо и причудливо озаряют стены и потолок невысокой и длинной залы, темную, живую массу людских тел, возбужденные лица, на которые падает желтыми и красноватыми бликами неверный, колеблющийся свет зажженных огней. Искрами загораются порою серебряные и золотые галуны военных, их вооружение. Лязг палашей и карабинов, людской говор — все слилось в один гул. Люди стоят в амбразурах, на подоконниках. Иные держат в руках горящие свечи, каганцы, изображая собой оживленные канделябры, подставки для светильников. Грубый, некрашеный стол среди покоя заменяет трибуну ораторам. Около него выделяется небольшая группа коноводов, главарей Патриотического Союза, которые и здесь, в народном большом собрании, остались такими же главарями.
Здесь все сейчас, кроме президента Союза Лелевеля, его товарищ и заместитель К. Бронниковский, секретарь Францишек Гжимала, Плихта, Кушель, Дембинский, Зверковский, граф Г. Малаховский и Уминьский, вся молодежь: Жуковский, Майзнер, Набеляк, адвокат Козловский, типограф Тилль, Анастасий Дунин и еще много других с Маврицием Мохнацким во главе.
Если Лелевеля по справедливости считают «мозгом» Союза, незаметно, но верно направляющим его шаги, то Мохнацкий, несомненно, «сердце» организации, ее нервный узел, ее главный волевой центр, ораторская сила первой величины.
Правда, толпа явилась сюда, уже подогретая речами «патриотов-союзников» и по кофейням, и в домах, и на углах людных улиц и площадей. Но настроение и разговоры — это одно, а принятие окончательных решений, переход к действиям — совсем другое.
И не так-то легко подтолкнуть на последнее огромную толпу, состоящую из самых разнообразных лиц. Даже самые неукротимые, революционно настроенные словно истощили запас решимости и сил в бурную ночь с понедельника на вторник и сейчас, по общему для всех живых существ закону, требуют передышки, находятся в состоянии изнеможения, граничащего с равнодушием ко всему на свете, кроме отдыха и покоя.
Кроме того, касаясь почти вплотную группы протестантов, «союзников»-главарей, стоят здесь видные представители совершенно иного склада мыслей, начиная с президента Варшавы Венгржецкого и кончая лояльнейшим графом Генриком Любенским, умеренным графом Эльским, дипломатом Скшинецким и целой группой офицеров, большею частью ординарцев Хлопицкого, утром только призванных к делу и полных желания отличиться, ввести «порядок» в это взбаламученное море, каким является не только толпа в «Редутовых залах», но и обывательская Варшава в полном ее составе. Военная молодежь только масла на огонь подливает громкими заявлениями, что силой оружия готова поддержать права «державного народа Речи Посполитой»…
Среди такого водоворота мнений и настроений звучат один за другим горячие призывы ораторов «союзного» толка, указывая на нежелательные стороны настоящего положения вещей, на промахи полуконсервативного, полуреволюционного правительства, каким является в данную минуту Административный Совет крулевства, пополненный, правда, представителями народа и Союза, но не в достаточном числе и не довольно решительными.
Так по крайней мере утверждают ораторы от Союза.
Один за другим подымаются они на стол, и речи их, все более и более жгучие, резкие, волнуют, зажигают тысячеголовую толпу.
Содержание речей из залы переносится сотнями уст на площадь, на смежные улицы… И там, как в залах, чаще и чаще повторяется общий, оглушительный клик:
— Згода… Згода… (Согласны…)
Попробовал было Венгржецкий указать на незаконность сходки, особенно если она не останется в границах умеренной критики, а примет вид мятежного скопища. Его освистали и почти вытолкнули из зала… Призывы к благоразумию со стороны Любенского и его друзей, их попытки защитить Административный Совет, объяснить его действия лучше, чем это делают бичующие критики из молодежи, эти бесплодные попытки встречены были смехом, покрыты свистом, глумлением, криками:
— Прочь со стола, вельможные «наемные плакальщики»!.. Под стол, под крылышко Совета!.. Под кунтуши к своим женам! Там вам место, а не среди вольного народа, обсуждающего свою судьбу.
Умолкнула группа «умеренных». Стоят и слушают, что дальше будет.
Наконец на столе показалась всем знакомая постать Мохнацкого, и говор пробежал до дальних углов зала и туда, за пороги раскрытых дверей, где в соседних покоях чернеют еще слушательницы и слушатели.
— Тихо… Тихо ж. Слушайте… Мохнацкий… Мохнац-кий будет говорить!
— Вот мы и поговорили, — просто, без всякого пафоса, но звонко и отчетливо начал Мохнацкий. — Слава Богу, все сказано, не так ли? Мы припомнили все промахи и ошибки Ржонда, все его сознательные действия, идущие во вред народу, и оценили их по достоинству. Конечно, ошибок немало, но зато же они… и достаточно важны и велики, — неожиданно заключил оратор, вызвав таким оборотом речи легкий смех у слушателей. — А, вам смешно?.. В добрый час! Хороший знак. Знаете пословицу: «Кто смеется, тому не минется»?.. Получите и вы. Потому что я помню еще один старый припев: «Вот глас народа: горе тебе, смеющемуся!..» А уж если народ смеется… И когда? — сразу сильно, строго заговорил Мохнацкий. — В ту самую минуту, когда ему говорят: у ворот столицы стоит семь тысяч враждебного войска… Правда, оно иззябло, изголодалось… Но это семь тысяч карабинов и двадцать пушек… И если не пойти на них, если как-нибудь не заставить их удалиться… эти враждебные войска поймут, что мы слабы… что мы трусим… И ударят на нас!.. Вам это сказали, поляки, а вы смеетесь. Честь вам. Но мало этого. Вы сейчас слышали, как действует правительство, признанное вами. От его имени сегодня ездили в Вержбну первые вельможи края и привезли нам бумагу, гласящую: первое — что цесаревич не намерен атаковать Варшаву войсками, находящимися под его начальством. Поляки, неужели только благодаря этому милостивому обещанию мы можем спать спокойно?.. А где же наши батальоны и пушки?.. Или нет оружия в руках двадцати тысяч горожан, которые сейчас охраняют и свои очаги, и свободу отчизны, и покой Варшавы?.. Дальше разберем. Второй пункт гласит: нас не только щадят, о нас будут ходатайствовать, будут просить о милосердном прощении, о забвении случившегося в ночь на вторник… о возобновлении гарантий, данных конституции и «Конгрессувке» польской еще покойным крулем-цесарем Александром, похлопочут о слиянии с Польшей старых ее областей. Конечно, за добрые слова надо сказать спасибо. Но кто поручал Совету просить о нашем помиловании?.. Да проще скажу: неужели есть такой наивный человек, который верит, будто целый народ может сделать то, что сделали мы?.. А потом круль все это забудет, а мы придем просить прощения и гарантий?.. Удержитесь от смеха, люди. Не дети, не глупцы приняли всерьез эти слова. Наш Ржонд объявляет, что «счастливо достигнуто соглашение…», что мы «можем спать спокойно…». А до каких пор?.. До первого выстрела из российских орудий под Прагой… И этого недолго ждать, люди… Я, не убеленный годами сановник и правитель, я, простой обыватель, говорю вам… И вы понимаете, что это так!.. Но дальше еще есть пункт третий! Оказывается, «Литовскому корпусу не дано приказания вступать в царство Польское»… Сегодня четверг. Позавчера лишь россияне отошли к Вержбне… До Литвы далеко. Корпус там не стоит под ружьем, у нашей границы… Если бы даже к Розену поскакали гонцы, пока-то он соберет отряды, пока-то двинется… И мы успеем дать десять сражений, и нас успеют разбить пять раз, особенно если воевать мы станем так же умно, как ведем дипломатические переговоры… Так скажите, люди, что значит этот третий пункт в важной, роковой бумаге?.. В той бумаге, по которой мы отпускаем семь тысяч вооруженных людей в помощь десяткам и сотням тысяч, которые неизбежно и. скоро явятся к нам… Вы молчите, не смеетесь… Так я вам прочту последний, тоже занимательный пункт. «Пленные взаимно должны быть освобождены…» Не помню, у нас как будто не было еще сражений с россиянами. Мы дрались больше между собою, недолго — хвала Господу… И если взяли под арест десятка два людей, то они заслуживают суда и кары, а не освобождения… А россияне, вернувши нам тех трех-четырех поляков, которые у них во власти, могут в лучшем случае получить столько же незначительных россиян. Вот мое мнение…
— Верно… Згода!..
— Позвольте, это еще не все… Вы знаете, что там, на Мокотовом поле, под угрозой ли, под влиянием ли собственных неверных представлений о воинском долге, вместе с россиянами стоят и польские батальоны, конные, пешие егеря, артиллерия, уже спешившая на помощь народу в великую ночь Листопада. С нами здесь должны они быть, а не там… Конечно, если завяжется бой, не подымутся ружья польских воинов против своих братьев. Они убивать нас не станут… Но они и остановиться там не должны!..
— Згода… Згода…
— А подумал ли об этом Ржонд? Нет. Он занят другим. Он не так уж наивен, чтобы полагаться на бумагу, здесь читанную нам, и… посылает в Петербург князя Любецкого, графа Езерского… Для чего, вы думаете?.. Для того чтобы выпросить прощение за шалость, совершенную народом… Чтобы наказали нас не так больно и простили поскорее… Этого ли вы желали, поляки, когда два дня тому назад отдавали жизнь свою и проливали кровь, восклицая: «Отчизна и воля»?
— Нет, нет… Да живет Отчизна!.. Воля или смерть!..
— Ого, какие неподобающие крики!.. Что, если бы услышал князь Любецкий?.. Положим, черт с ним, пусть едет! Надо думать, что он уже там и останется… Там ему больше место, чем на родине, которую он предает на каждом шагу… Но посмотрим, что делает новый, прославленный вождь нашей армии генерал Хлопицкий…
Офицеры заволновались. Послышались предостерегающие возгласы из группы адъютантов:
— Потише, оратор… О Хлопицком поосторожней!..
Но тут же их покрыли крики солдат, многих военных и горожан:
— Пусть!.. Пусть говорит Мохнацкий!.. Все говори… Прямо… Пусть говорит… Не мешайте вы, штабные!.. Адъютантики!..
— О, не беспокойтесь. Я буду смирен и осторожен… почти так же, как сам наш генерал Хлопицкий… Вчера он принял власть… И подписал первые приказы не полным званием генералиссимуса, гетмана всех польских сил… Нет, чтобы не обидеть Константина, расчеркнулся: «Польский генерал Хлопицкий!» Примерная скромность. И когда Ржонд решил выпустить из тисков семь тысяч россиян, наш вождь скромно соглашается с этим. Мало того, громко заявляет: он-де остается верноподданным своего круля и власть принимает, лишь чтобы подавить анархию. Это вашу пролитую кровь, стремление народа улучшить свой жребий, жертвы, которые уже принесены и еще будут приноситься без конца народом польским, польский вождь называет анархией… Скромно, не правда ли.! Что же вы не посмеетесь, люди?.. Вы словно заплакать готовы, а я чувствую, что расплавленное олово приливает к моим глазам… И если я выпущу его… оно прожжет пол этого покоя, как прожигает мою негодующую, истерзанную душу…
Рокот негодования пронесся по толпе, но сейчас же смолк.
Ждут, что дальше скажет этот бледный, трепещущий, худощавый юноша с яркими пятнами чахоточного румянца на одутловатом, бледном лице.
— Я скромен, как видите… Я не брошу сейчас имени «изменника» в лицо тому, кто, по-моему, заслуживает такого имени. Но спрошу вас, простые люди, честные поляки: неужели и вы согласны, что все идет прекрасно в этом «лучшем из миров»? И не надо немедленно принять самые решительные меры против… «наивности» нашего Ржонда, против… «скромности» нашего главного вождя?..
— Надо, надо… Верно!.. Говори, что?.. Как сделать, говори!..
Выждав, пока смолкли крики, сразу наполнившие воздух, Мохнацкий веско, решительно, но спокойно заговорил:
— Сперва еще два слова… Подведем счет, как водится у хороших людей. Что было, что есть, что быть должно? Это сделать недолго. Были десятки лет мучений и несправедливостей. Потом — одна ночь безумного, героического порыва и мгновенное освобождение. Народ сбросил старое ярмо… Но над ним стоят прежние погонщики, не понимающие, не чующие, что народ возродился… Что без последней борьбы не отдаст себя в прежнюю неволю… Победит или умрет…
— Победим или умрем!..
— Эти старые погонщики, оставленные народом, этот двуликий, как Янус, Совет и Ржонд… Он и народу улыбается, требующему воли, и в сторону Невы делает глазки, откуда грозят тяжкие громы тем, кто на Висле… Содержанка какая-то, уличная фея, а не Ржонд теперь у нас… Люди с историческими именами, заведомые, казалось, патриоты и либералы, вошли в открытые сделки с врагами.
— Згода!.. Згода!..
— А каков ксендз, таков и ключарь… Вождь, прославленный герой, не думает остановить неприятельских колонн, а заботится, чтобы никто не помешал их выступлению… Этому надо положить конец. И вот я что предлагаю. Немедленно надо выбрать депутатов, явиться к нашим правителям, пока они еще держат в руках власть, и потребовать: первое, чтобы Административный Совет немедленно подал в отставку…
— Да, да… немедленно!..
— Второе, — быстро набрасывая карандашом свои предложения, продолжал Мохнацкий. — Вместо него учреждается теперь же Временное правительство из лиц, которым доверяет народ… Члены этого правительства должны явиться как бы постоянными представителями народа польского, какую форму потом ни примет его главная власть…
— Так, так… Згода!..
— Третье, Хлопицкому должен быть дан приказ: немедленно ударить всеми силами на российскую гвардию и рассеять ее или взять в плен.
— Да, да!.. Немедля!.. — потрясая зал, загремели голоса.
Мохнацкий, взглянув на Бронниковского, который ему одобрительно кивал головой, выждал молчание и совсем весело проговорил:
— Вот теперь все. Мои три пункта, сдается, стоят четырех параграфов, привезенных Ржонду из Вержбны… Вот они все здесь записаны на бумаге. Выберите десять — двенадцать человек… Ржонд заседает сейчас в банке. Пусть почитает это и даст свой ответ… А теперь покойной ночи, мосци панове.
И он легко соскочил со стола.
— Нет… нет… Мохнацкий!.. Мохнацкого первым делегатом к Ржонду… И членом Временного правительства… Мохнацкий!.. — сразу загудела толпа. Потом стали вырезываться еще имена: — Бронниковский… Махницкий… Плихта… Этих в правительство. — Доброгойский делегатом… Набеляк… Козловский, он же адвокат. Говорить умеет…
Имена, выкликиваемые толпой, отмечались на лету. Составили список, огласили его. Собрание одобрило единогласно, и двенадцать делегатов сейчас же направились отсюда в банк, где происходило как раз совещание Административного Совета, затянувшееся до полуночи, как и сходка в «Редутах»…
Сначала Лелевель, Чарторыский и Любецкий подробно доложили Совету о своей поездке в Вержбну, к цесаревичу, передали все переговоры, постарались не забыть и осветить каждую фразу и, наконец, огласили бумагу, подписанную и переданную Константином для Совета. Цесаревич дал согласие уйти из пределов Польши, но ему должны были поручиться, что не будет произведено нападение на россиян во время всего пути до литовской границы.
— Конечно, хорошо сделали, что обещали, — решительно вмешался Хлопицкий. — Мы избавляемся от напрасной, бесполезной резни и пролития польской крови… Я даже сейчас пойду сделаю все надлежащие распоряжения… И если россияне уходят, нам, конечно, нет надобности собирать в Варшаву отряды из провинции… Например, Круковецкого и других…
— Нет, генерал, подождем уж лучше… Не забывайте: польские егеря и пушки с цесаревичем. Он их не отпускает… Сами они не торопятся тоже примкнуть к нам… Кто знает, что еще может быть?.. Надо все-таки собрать побольше войск, на которые можем положиться. Вон стрелки Шембека стоят еще в Блоне… Сам генерал поскакал в Вержбну… Никто не знает зачем… Не отменяйте приказов, мой совет, генерал… — осторожно, но внушительно заметил Чарторыский.
Пац и другие поддержали его.
— Хорошо, — согласился Хлопицкий. — Значит, только пошлю приказы очистить путь для отступления россиян… — Подвинул к себе бумагу и стал писать, а заседание продолжалось.
Пробило полночь, но члены Совета и не расслышали ударов, занятые подробным обсуждением посещения Вержбны, бумаги, данной Константином, и тех мер, какие необходимо скорее предпринять, чтобы успокоить волнение, замечаемое в народных кругах Варшавы. О вечернем собрании в «Редутах» тоже уж было донесено Совету, но только о первых моментах, о недовольстве людей…
Вдруг громкие, решительные шаги, какие-то голоса раздались за дверьми. Все вздрогнули, переглянулись. Охраны никакой не было ни вблизи залы Совета, ни перед зданием банка, где еще вчера стоял военный караул и городские гвардейцы.
Почти все встали из-за стола. Лелевель был спокойнее остальных, но тоже казался бледнее обычного. Хлопицкий, багровый от сдержанного гнева, сделал было движение к дверям, но кастелян Кохановский остановил его:
— Лучше я, пане генерале… Вы можете слишком… выйти из себя… Я сейчас узнаю… Лучше я…
Группа делегатов уже подходила к дверям, когда показался Кохановский, заперев за собою дверь в зал Совета.
— Что случилось?.. По какому делу?.. Сюда входить нельзя. Идет заседание Совета…
— Вот именно мы и посланы народом объявить Совету его волю, — спокойно объявил Мохнацкий.
— Я не знаю… я думаю, что так нельзя… Совет занят слишком важными делами… Может быть, вы поручите мне?..
— Нет! Мы должны говорить Совету…
— Но Совет не может вас принять… Потом… завтра.
— Сегодня… сейчас… Каждый час, каждый миг дорог. Мы войдем, хотя бы…
Мохнацкий недосказал, но голос его, звучавший серьезной угрозой, проникая сквозь закрытую дверь и зал заседания, заставил невольно вздрогнуть многих из1 присутствующих.
Владислав Островский с немым вопросом обвел взглядом всех и, получив безмолвный ответ, подошел, раскрыл дверь:
— Пусть пан кастелян даст позволение делегации войти. Ржонд принимает.
Немцевич, возмущенный неожиданным натиском, подошел к Лелевелю, стоявшему поодаль. Мостовский вместе с Чарторыским и Островским, сохраняя внешнее спокойствие, ожидали подходящих.
Хлопицкий порывисто поднялся и быстро вышел из покоя, кинув сверкающий взгляд на Мохнацкого, стоящего впереди всех. Смелым, вызывающим взглядом ответил юный галичанин, безызвестный журналист, своему прославленному земляку.
Потом отдал поклон членам Совета вместе с остальными делегатами.
Первым заговорил мягкий от природы, сладкоречивый пан Доброгойский. Он изложил суть дела, ради которого послал их народ, особенно подчеркивая, что, согласно общему желанию, правительство должно действовать решительнее и не оглядываться на Петербург, как это делается теперь.
— Пожди, пан Стась, — прервал его Мохнацкий. — Ты тоже, кажется, стал половинчатым, чуть вошел под эти своды… Вот, вельможные панове, чего желает народ, я вам прочту… — Огласив свои три пункта, он продолжал: — Народ решил не отступать и с оружием в руках добьется своего. Никаких уговоров с россиянами быть не должно…
— Да, да, мы это слышали, — проявляя полное спокойствие, любезно заговорил Чарторыский. — Но, к сожалению, именно этот пункт петиции вряд ли может быть исполнен… уж потому, что переговоры с Константином не только начаты, но и закончены… С него взяты и ему от правительства даны известные обещания. А слово, даже данное врагам, надо дер…
— Шутки шутить, мосце ксенже!.. Мы восстали не для того, чтобы ожидать милостей от цесаревича Константина, а ради освобождения родины… Пусть уж лучше Ржонд не играет комедии, которая может кончиться бедою… или для восставшего народа… или для его врагов и слишком сомнительных друзей.
Неслыханная смелость, дерзость самих слов, тон, которым они были сказаны, ошеломили всех. Одновременно князь Радзивилл и Малаховский нервно набросали прошения об отставке и подписали их.
Немцевич кинулся вперед и, трагически разрывая камзол на груди, крикнул:
— Вот ударьте в сердце, которое билось всегда для отчизны… Убейте, убейте нас всех!.. Недаром же вы ворвались с оружием в руках… Если вы нас зовете изменниками… не верите моим волосам, поседелым на службе родине. Лучше убейте!
Наступило короткое, тяжелое молчание. Делегаты стояли смущенные, чувствуя, что струна была слишком перетянута.
И снова нашелся Чарторыский. Спокойно, хотя дрожащим голосом он произнес:
— Вы все сказали, панове делегаты? Так положите вашу петицию и удалитесь. Заседание Совета продолжается.
Молча отдав поклон, делегаты вышли из залы…
Заговорили, заволновались все разом члены Совета. Довольным огоньком светились глаза Лелевеля. Один Любецкий продолжал сидеть молчаливый, угрюмо задумчивый…
Плохую ночь провел Хлопицкий, хотя и не видел того, что произошло в Совете. Только под утро он забылся тревожным сном, дыша так хрипло и тяжело, как будто его душило что-то.
Недавно пробило шесть, когда он вскочил, сел на кровати понуро, дико озираясь. Какой-то шум и крики неслись с улицы за окном.
Машинально спустив левую ногу, он стал шарить ею, нащупал туфлю, сунул ногу и, вдруг опять подобрав ногу в туфле на кровать, пробормотал глухо:
— Проклятие!.. Опять с левой ноги!.. Ну, вот и правая туфля на нее попала. Будет нынче денек!.. Пятница к тому же. Конечно, пятница. А, тысячу дьяволов… Еще этот сон…
Суеверный, как большинство галичан, Хлопицкий сделал джетатуру, по примеру того, как делал этот жест его великий вождь Наполеон. Потом снял туфлю, переодел ее, как следует, нашел вторую и подошел к окну.
Несмотря на ранний час, люди с громким говором, весело торопились куда-то по направлению к Иерусалимской аллее, а может быть, и дальше.
— Янек, — крикнул Хлопицкий, — умываться… И узнай, куда бегут люди…
В ожидании он сел снова на кровать, стараясь припомнить, что заставило его вскочить… Конечно, шум за окном, который слился с теми криками, какие снились Хлопицкому… Вот снова выплывает этот кошмар. Бальная зала, много красивых женщин, девушек. Особым кружком стоят знакомые ему хорошо монархи: Наполеон, Александр Российский, Фридрих Прусский… И круль Николай тут же. Они подозвали генерала, хотят заговорить… И вдруг грянул хохот… Смеются государи, дамы, девушки… Смеется Кру-ковецкий, неожиданно вставший тут перед ним, и указывает на него своим костлявым, скрюченным пальцем. Хлопицкий оглядывается на себя: грудь залита орденами, звездами… но она — голая… И весь он голый… А хохот все громче, все наглее пристает Круковецкий, хватает, поворачивает и кричит:
— Виват, генералиссимус Хлопицкий, круль польский!..
Провел по лицу, по волосам Хлопицкий, словно желая отогнать самое воспоминание о кошмаре.
— Скверный сон… Перед болезнью либо перед ударом каким я себя так только и вижу… И этот иезуит еще приснился, интриган старый… Надо успеть написать ему отмену приказа… Чтоб не являлся… Плохой сон…
Вернулся Янек со свежей водой для умыванья.
— Це, панночку, там мувют, перший полк пеших стрельцов до Варшавы будет входить… От и бегут навстречу…
— Стрелки Шембека… Так, значит, он с повстанцами! — чуть не вслух подумал Хлопицкий. — Везет революции…
Умывшись, надев мундир, он спросил:
— Есть кто-нибудь?
— А як же… Пан Крысиньский и адъютант там с бумагами… Дожидаются.
Крысиньский рассказал генералу, как кончилось вчера заседание Совета, а адъютант передал бумагу, в которой Совет извещал о вступлении Шембека и просил встретить войска.
— Ну, конечно… Будто я сам не знаю… Коня мне!..
Полгорода сбежалось к заставе встречать Шембека и его стрелков.
Шембек, ополяченный немец, изворотливый, умный карьерист, решил пуститься в большую игру… И сейчас, подъезжая к столице верхом, впереди полка, он вдруг задержал лошадь, нагнулся к группе зевак, которые, тут, за заставой, сбежались навстречу солдатам. На одном из парней алела конфедератка. Шембек снял ее, кинул оторопелому парню несколько серебряных монет, отстегнул свой кивер, лихо, набекрень надел конфедератку и первый затянул:
— Еще Польска не згинела!..
Солдаты подхватили, и с песней, в конфедератке появился в Варшаве Шембек перед сорокатысячной толпой народа.
— Да живет польское войско! — загремели восторженные крики. Дамы и паненки с балконов, из окон махали платками, шарфами… Бросали цветы, принесенные из оранжерей и теплиц… Шембек кланялся, прижимал руку к груди, победителем вступая в столицу, где к вечеру был сделан губернатором…
Теперь же, отпустив войско в казармы, Шембек вместе с Хлопицким, Островским и Баржиковским, вышедшими ему навстречу, проехал прямо в заседание Совета. По дороге он громко сообщал спутникам, что с ним было вчера.
— Понимаете, получил я приказ генерала Хлопицкого… Выступили мы немедленно из Сохачева… Приходим в Блоню… А туда примчался вестовой от цесаревича вести полк к нему, в Вержбну!.. Что тут делать, понимаете?.. Я подумал и говорю офицерам… и солдатикам: «Друзья мои, будьте наготове… Если сегодня до семи вечера меня здесь не будет, маршируйте в свои варшавские казармы…» Понимаете? Вот, хорошо. Прискакал я к его высочеству. Вижу, и сам он, и княгиня, и весь отряд в неважном положении. Одна у них надежда: если мы, провинциальные генералы, не примкнем к восстанию, они спасены… А придем на помощь народу — им крышка… Уж как меня там просили, заклинали, умасливали… Что мне делать?.. Понимаете… Пришлось грех взять на душу: поклялся Константину, что солдат приведу к нему, а не в Варшаву… Расцеловались мы, обнялись на прощанье… И вот… я тут… Что делать?.. Отчизна — прежде всего. Хоть вы, поляки, не любите немцев, но я решил доказать, что честный немец может быть истым поляком… Дважды нарушил свои обещания Константину!.. И к вам привел солдат, и сам пришел… Понимаете?.. Теперь все пойдет хорошо!..
Почти такой же краткий доклад сделал Шембек Совету, выслушал похвалы, благодарности, принял назначение на пост военного губернатора столицы и… поехал прямо в собрание Патриотического Союза.
Почти все то море голов, которое встречало стрелков Шембека у заставы, разливалось и шумело на утренней сходке, устроенной Союзом. Шембека встретили восторженно, пронесли на руках по всем залам и вынесли на площадь, залитую людьми.
Телега с сеном тут послужила кафедрой.
Взобравшись на нее, Шембек громко объявил:
— Кланяюсь вольному народу польскому, клянусь служить ему и отчизне до последней капли крови!
Окна ближних домов задрожали от ответных криков толпы.
Мохнацкий сумел прибавить масла в огонь, заявил, что генерал Шембек тоже дает совет немедленно ударить на россиян, обеспечить себя этим от неожиданностей и довершить значение переворота избранием Временного правительства.
— Согласны!.. За оружие беритесь все!.. Сами пойдем на россиян, пусть ведет нас Шембек! — как гром прокатилось над толпами, которые продолжали расти…
Кушель, неуклюжий, коренастый, увалистый, тоже взобрался на воз:
— Ничего не пожалею для отчизны. Целый батальон стрелков берусь выставить за свой счет!
Евстахий Гротгус, Малаховский, братья Замойские то же самое объявили народу.
Ликует, волнуется, грозит толпа… Еще миг — и покатятся ее волны, все давя перед собой, все уничтожая…
Но Совет, куда дали знать обо всем, что здесь происходит, поспешил создать громоотвод для набегающей бури. Явился Владислав Островский и заявил:
— Согласно воле народа, Ржонд приглашает панов Мавриция Мохнацкого, Ксаверия Бронниковского и капитана Махницкого вступить в число членов правительства. Их ждут в заседание, которое сейчас происходит…
Капитан Махницкий отказался от чести. Его заменил пан Плихта.
Все трое с торжеством были отведены к банку. Толпа осталась без главных руководителей, на что и рассчитывал Административный Совет. Но его ожидали непредвиденные удары.
Люди не расходились, ожидая возвращения своих избранников. Все коридоры и покои перед залой заседаний переполнились людьми. Многие протиснулись даже в самое заседание…
Мохнацкий, едва заняв место, взял слово и решительно заявил:
— Административный Совет должен быть распущен. Народ возмущен поведением министров, князя Любецкого и Мостовского. Вершить дела именем круля народ не желает. Ему нужен свой, вольный Ржонд.
Под бурные крики одобрения Мохнацкому написали оба министра свои прошения об отставке и вручили их Чарторыскому.
Под гул восклицаний толпы Любецкий успел подозвать Владислава Замойского и сказал:
— Скорее, граф, скачи к цесаревичу. Ему остается одно из двух: или сдаться… или уходить скорее… Народом больше управлять нет никакой возможности. — Затем, обращаясь к бывшим сотоварищам-министрам, громко проговорил: — Если уже все совершилось помимо нас, надо теперь отдать и силы, и самую жизнь, только бы сохранить польское имя!
Временное правительство, каким с этой минуты стал Ржонд, внимая настояниям народа, пригласило в заседание Хлопицкого и дало приказ: двинуться на цесаревича, если он немедленно не отпустит польские войска и не уйдет от Варшавы, как условлено, по направлению к Литве…
Мрачный, поклонился Хлопицкий и пошел к выходу. Здесь, увидав Замойского, который поджидал генерала, он сказал:
— Выйдем вместе, граф…
На улице Хлопицкий черкнул несколько строк и передал Замойскому.
— Поспешите, граф, туда, вы знаете? — даже по-французски не решаясь называть Вержбны, сказал Хлопицкий. — Передайте это. Я объясняю, в чем дело… Медлить там нельзя… А я сам?.. Что мне делать?.. Иду принять команду над войсками, чтобы вести их против россиян… Да еще глядите, сколько добровольцев у меня появилось…
Он с презрительной улыбкой указал на толпы вооруженных людей, которые под руководством подхорунжих и других молодых офицеров строились в ряды, восклицая:
— На россиян… На москалей… Умереть или победить!..
— Слышите?! Передайте его высочеству: если до полудня он не отпустит польских солдат, мне придется ударить на него… Спешите!
— Скачу, — отвечал Замойский.
Двух часов не прошло, как на Новом Свете вытянулись войска, идущие к Мокотовской заставе. Огромные толпы вооруженных горожан составляли хвостовую часть отряда.
Но у костела св. Александра им навстречу промчался граф Замойский, держа в руках какую-то бумагу.
— Генерал, вот бумага от цесаревича, он отпускает все польские войска и покидает Вержбну. Позвольте, я громко прочту ее… Можно остановить наступление…
— Читайте… Конечно, теперь мы не двинемся ни шагу вперед… Читайте громко!..
Замойский взобрался на высокое костельное крыльцо и оттуда стал читать:
— «Позволяю польским войскам, до сего времени остававшимся верными мне, присоединиться к своим. Я выступаю с императорскими войсками и удаляюсь от столицы. Вверяю покровительству нации охранение зданий, собственность разных лиц и жизнь особ».
Громкое «Виват!», «Да живет отчизна!» покрыло чтение Замойского.
И сейчас же, словно волшебное, громовое эхо от Уяздовских аллей донеслось сюда ответное, мощное:
— Hex жие ойчизна!..
Это польские войска, отпущенные Константином, спешили на соединение с братскими полками.
— Да живет польское воинство! — летели отовсюду клики народной толпы.
Мохнацкий с карабином в руках, стоя в первых рядах вооруженного народа, обратился к Гощинскому, стоящему рядом:
— Интересно наблюдать… Погляди, какой контраст между ликующими лицами солдат, народа, женщин и детей, посылающих нам с балконов, из окон приветы, и той суровой, почти зловещей маской, какую представляет физиономия нашего «вождя», героя Хлопицкого… Можно подумать, что не от него уходят россияне восвояси, а он разбит, раздавлен, уничтожен в последнем, решительном бою…
— Да, что-то есть, — вглядываясь, ответил Гощинский. — Но я думаю, просто он нездоров. Посмотри, как он меняется часто в лице: багровеет, бледнеет… И порою трет глаза, словно видит плохо. Вот коснулся лба… Просто он нездоров.
— Если и так, то его болезнь носит особое название, — усмехнулся Мохнацкий. — Униженной гордостью, больным самолюбием называется она… Идем!.. Тут больше нам делать нечего. Я многое успел увидеть… Видел, например, как генерал Хлопицкий отдал вон тому перепелу, графу Замойскому, записочку, когда граф поскакал по дороге в Бельведер и дальше, на Мокотово… Я слышал, что по-французски говорил он посланному… И знаю, что бумага, прочитанная здесь войскам, написана только по настоянию… Хлопицкого… Вот как вождь польской армии умеет без боя побеждать своих… врагов и обманывать… друзей… Идем. Надо подготовить сегодняшнее собрание. Пан или пропал… Но я опрокину всю эту гнилую груду лжи и вельможных хитросплетений.
И, погрозив кому-то, юноша пошел за толпой.
Ликующая, восторженная толпа, довольная, как насыщенный, пригретый солнцем удачи хищник, на площади Банка, перед зданием Ржонда, чуть было не показала свои смертоносные когти.
Едва прошли стрелки Шембека и вступили на площадь конные егеря с бледными, настороженными генералами Курнатовским и Винцентием Красиньским во главе, из рядов народа, заливающего эту площадь и ближние улицы, послышались сначала единичные возгласы:
— Здрайцы!.. Предатели… Продажные генералы!..
Крики учащались, росли… Брань становилась все более и более жгучей…
Вот уж замелькали палки, «войдувки» [10], в руках у тех, кто очутился вблизи ненавистных генералов… Напуганные кони вздыбились… Красиньский свалился. Курнатовский еле имел силы удержаться в седле.
Еще миг — и оба были бы растоптаны, убиты толпой.
— Прочь, назад! — неожиданно прогремел голос Хлопицкого, который успел с конем врезаться в самую гущу толпы…
Шембек подоспел за ним. Один грозил, другой заклинал, уговаривал, и генералы были спасены… Но после этой сцены, действительно, разбитый, усталый, совсем больной вернулся к себе Хлопицкий, не стал обедать, только, вопреки обыкновению, выпил подряд два-три бокала венгерского, которое сразу кинулось ему в голову.
Какие-то черные точки и пятна, словно мухи, весь день мелькавшие у него в глазах, сейчас еще быстрее и чаще заметались в поле зрения.
— Кой черт, не слепнуть ли на старости начинаю? — пробормотал Хлопицкий, подошел к столу, выпил еще стакан и, неожиданно с силой швырнув его об пол, раздробил на мелкие части и еще злобно растоптал осколки своей тяжелой, большой ногой.
— Вот так, вот бы вас всех, проклятых! — с пеной у рта бормотал выведенный из себя упрямец, которому пришлось подчиниться воле каких-то молокососов, крикунов, голосу грязной городской черни.
Мухи в налитых кровью глазах замелькали часто-часто. Он стал оглядываться, словно выискивая, на чем бы еще излить свой гнев.
Вдруг появился Янек.
— Там генерал Круковецкий приехали до вас. Я пустыв у залу… Кажу, шо вы обидаете… А воны казалы: я пидожду… Та казалы вам сдоложить…
— А!.. Граф Круковецкий!.. Хорошо! Я выйду!.. Ступай… Нет, постой… Подай мундир. Теперь убирайся…
Граф Ян Круковецкий сам уж собирался съездить в Варшаву, разузнать лично, а не по рассказам, какие чудеса творятся в бунтующей столице. Лучше многих знал старый завистливый интриган, что в мутной воде только и ловится хорошая рыба. А если можно поправить свою не совсем удачливую карьеру, служа родному делу, а не чужим россиянам? Это казалось еще приятнее старику, в черствой душе которого все-таки дрожали, оборванные жизнью; струнки национальной гордости, реяли полуистертые письмена мечтаний о независимости, о прежней мощи Польши; вспыхивали отблески патриотических чувств. А попутно говорил трезвый разум, вставали неотразимо ясные выводы холодного расчета.
— Буду торчать я здесь, там революция победит и самые жирные куски достанутся тем, кто налицо. «Кто поздно ходит, сам себе шкодит», старая поговорка… Я старейший из генералов и гетманская булава, например, мне пристанет не хуже, чем отпрыску хлопского кодла, тупорогому барану Хлопицкому.
В силу таких соображений Круковецкий уж совсем было собрался ехать в столицу, как пришел приказ Хлопицкого идти туда со всем отрядом.
— Успел-таки хитрый галичанин захватить силу, — злобно пробормотал Круковецкий, прочитав на приказе подпись ненавистного ему соперника. И только утешился тем, что не стоит перед этой подписью заветного титула: «Гетман всей польской силы збройной».
А если Хлопицкий еще не получил булавы, так можно будет и поспорить…
Чтобы выяснить все поскорей, и явился Круковецкий к генералу, как только вступили в город его батальоны.
Сидя в ожидании хозяина, гость пытливо озирался, желая по обстановке определить, не произошло ли какой-нибудь решительной перемены и в жизни Хлопицкого, как в жизни Варшавы.
Бегают кругом маленькие, сверлящие глаза графа, который наружностью, гладким, бритым лицом и носом со следами нюхательного табаку напоминает скорей отставного консисторского чинушу, а не боевого, храброго в былые дни генерала.
Нет, все здесь, как раньше, когда и Круковецкий принимал участие в картежных ночах своего теперешнего начальника…
В высшей степени неприятно графу сознавать, что он подчинен теперь по службе своему младшему товарищу. Но ничего не поделаешь…
— Дураков и печка везет, — утешает себя граф. И ждет, скоро ли появится начальник, или поломаться желает и заставить себя подождать.
Этого не захотел Хлопицкий. Но едва он вошел, вся кровь бросилась в лицо гордому графу, до того надменный вид и строго начальственное лицо было у генерала.
— Bon jour, mon generale, — начал было на правах старого товарища Круковецкий, ожидая, что хозяин с протянутой рукой поспешит к нему и усадит для беседы.
Но Хлопицкий, официально отдав поклон, не приглашая сесть, заговорил по-польски совсем казенным тоном:
— День добрый! Чему это приписать, что имею честь видеть генерала у себя, а не на своем посту? Чем объяснить, что вопреки моему прямому распоряжению граф не только явился сам, но привел из Сохачева весь отряд, которому необходимо оставаться было на местах по соображениям высшего порядка, связанным с государственной обороной?
Забегали, засветились глазки Круковецкого, обычно тусклые и словно подернутые влагой от лет и излишеств, каким не чужд был граф. Помолчав немного, чтобы лучше собрать мысли, он тоже официальным тоном, но на подкладке утонченной язвительности заговорил:
— Начну с самого важного, с вопроса государственной обороны. До сих пор я, как старейший из офицеров, постоянно был призываем на военные совещания, касающиеся обороны страны. Тебя, шановный генерал, не имел чести там видеть… потому, должно быть, что отставных не приглашали… Если же сегодня или вчера в самый день возвращения на службу генерала уже был созван совет… Я на нем не был, высших соображений знать не мог и просто привел свои полки по приказу, подписанному самим же генералом. Если за государственными заботами генерал забывает нынче приказы, посланные вчера, вот прошу взглянуть. На всякий случай я захватил бумажку с собою…
Достав приказ, он показал его и поспешил внятно прочесть подпись:
— «Генерал польский Хлопицкий». Я немного был удивлен. Обычно такие бумаги подписываются полным званием, ну, там, гетман, генералиссимус, генерал-инспектор… Но, очевидно, теперь у нас все по-новому… Я старый служака, рассуждать не привык. Приказано — явился.
— Все это вздор, — окончательно теряя самообладание от тонких и метких уколов старика, крикнул Хлопицкий. — Я послал вторичный приказ в отмену… И должно было оставаться там, а не являться сюда незваным, непрошеным… Приказ отправлен еще с утра…
— Никакого второго приказа я не получал, — отчеканил граф, начиная тоже горячиться, отчего все лицо у него приняло сероватый оттенок.
— Этого быть не может… Неправда!.. Все штуки… Я знаю графа давно! — совсем забывшись, поднял голос Хлопицкий.
— А не пожелает ли генерал объяснить, что он хотел сказать своими словами?! Какие еще «штуки»?.. И кто говорит неправду?! Не я ли, граф Круковецкий, перед… генералом Хлопицким, которого действительно знаю давно и… хорошо.
Откровенное презрение, с каким были сказаны последние слова, еще пришпорило Хлопицкого:
— Значит, граф сознается, что явился вопреки моему приказу… подкопы вести под меня, подо всех… Мутить народ… А мне смеет лгать, что…
— Я… я лгу… тебе?! Я, граф Круковецкий, выходцу из хлопской хаты, который достиг успехов столько же своей пьяной отвагой, сколько и лакейством у всех, кто силу имеет в руках…
Хлопицкий даже пошатнулся, так сильно сразу кровь ударила ему в голову.
— Мне… мне, Хлопицкому!.. Ты мог… Да я тебя!.. Весь багровый, с сжатыми кулаками он сделал движение к графу.
— Посмей лишь… хлоп! — прошипел с ледяной угрозой Круковецкий. Рука его судорожно ухватилась за рукоять палаша, клинок мгновенно полуобнажился, блеснув прямо в глаза Хлопицкому.
В этот миг старик с нагорбленной спиной, как у огромной рыси, готовой кинуться на добычу, с глазами, сверкающими зеленоватым огоньком, с седыми волосами на коротко остриженной голове показался страшен даже безрассудному Хлопицкому.
«Я с голыми руками… перед этой опасной змеей! Оружие… где мое оружие?» — такая последняя смутная мысль мелькнула в его мозгу, начинающем терять сознание.
Он тупо огляделся глазами, налитыми кровью, сделал движение руками, словно хотел нашарить что-нибудь, кинулся по направлению к спальне, где у него лежало оружие.
Но, едва переступив за дверь, споткнулся на гладком полу и с посинелым, перекошенным лицом грохнул во весь рост на ковер.
Крысиньский давно уже слушал здесь под дверьми, что творится рядом. Едва успев отскочить, когда дверь распахнулась, он опрометью кинулся к упавшему, поднял, кой-как опустил на диван и кинулся в людскую, крича:
— Доктора, Янек!.. Спасай генерала… Скорее доктора!
Вбежали Янек и дежурный адъютант… Поднялась суматоха.
Но Круковецкий, не дожидаясь дальнейших событий, быстро покинул квартиру Хлопицкого.
На вечернем заседании Временного Ржонда, конечно, события миновавшего, такого бурного и значительного дня обсуждались со всех сторон.
Республиканец по складу ума, но по гибкому, податливому благоразумию своему истый обыватель, Лелевель осторожно попытался навести своих товарищей на путь настоящего понимания разыгравшихся событий.
— Что же, мосци панове, выходит — дело кончено. Alea jacta est. Цесаревич со своей гвардией не стоит больше у ворот столицы, как Аннибал, угрожая ежеминутно… Народ ясно выразил свою готовность на всякие жертвы, лишь бы отвоевать свободу. Нам временно вручена власть, конечно, для поддержания порядка. Чтобы легче было этого достигнуть и успокоить умы, разумеется, надо скорее созвать Сейм. На нем и решатся дальнейшие судьбы нашей бедной страдалицы-родины. А пока, сдается, мы можем с чистой совестью воскликнуть: «Да здравствует польский народ и польская Речь Посполитая!»
Тревожно переглянулись большинство из собравшихся.
Конечно, Мохнацкий, Бронниковский, Плихта, как представители народа, понимали и сочувствовали Лелевелю. Но остальные шесть, старинные магнаты, крупнейшие землевладельцы, без ужаса подумать не могли о том, что предлагал Лелевель.
Власть народа?! Значит, все старое будет сметено до конца. Пример Франции и Великой революции стоял грозным уроком перед глазами… Воля хлопам, переделы земли… Резня и бунты… А потом?.. Там стояло нечто страшное, темное…
Нет, лучше снова тесная перчатка круля-цезаря, чем красный фантом демократии, разруха полного переворота хозяйственного и общественного, грозящего гибелью стране.
Так, конечно, на разные лады, но заодно думали магнаты. Дух отсутствующего Любецкого как будто носился надо всеми. И даже слова, какими заговорил Чарторыский, звучали отголоском речей осторожного, умного князя Ксаверия:
— Знаете, профессор, конечно, вы еще молоды, пылки… Исполнены новых освободительных идей… Но спрошу вас: много ли у нас есть таких Лелевелей? Если бы все так думали и чувствовали, стоило бы даже принести в жертву четвертую часть народа. Но поверьте моей седой голове: кроме варшавской молодежи да нескольких безрассудных мечтателей никто не пойдет за вами. Сберется Сейм, тогда услышите сами… Слишком опасная игра. Все можно потерять, а выиграть ничего…
— Такой игры я не знаю, пан граф, — по-польски отвечал Лелевель. — Есть одна шахматная партия… Называется: Qui perdgagne! И там действительно, чтобы выиграть, надо все потерять, даже короля. Вот, сдается мне, мосци панове, какую партию решил вести народ. Что будет, увидим… А все же хотелось бы знать, как мы должны покуда направить свой курс. Что делать?
— Выжидать, пане профессор. Сбираться с силами, вступить в переговоры с Петербургом. Что оттуда скажут? Может, все кончится благополучно… Понять же надо, пан профессор, если отнять эту надежду у одних, показать темным массам, что россияне нас не пугают… Тогда же лопнут последние цепи… Наступит анархия…
— Понимаю, мосце ксенже… Но все-таки… если уступок не будет?.. Тогда, значит, придется склонить голову… И молча…
— О нет, нет, пане. К войне готовиться надо. Даже, может быть, придется повоевать… И, конечно, мы при заключении мира сумеем выторговать как можно больше льгот и прав… И старые провинции, и все другое. Вот наша точка зрения…
Чуткий Лелевель, уловляющий общее настроение, понял, что дальше спорить бесполезно. Люди или слепы, или хотят ввести в заблуждение окружающих. Склонив голову, он сказал:
— Теперь понимаю. Значит, дело ясно… Пусть Николай, абсолютный российский царь, воюет с Николаем, конституционным крулем польским. А выгоды получим мы…
— Вот-вот! — подхватили голоса.
Почти никто не понял жестокой иронии, кровавой насмешки, какая прозвучала в историческом каламбуре профессора. Только время обнаружило ее.
В этот же вечер, но позднее состоялось заседание второго, не признанного официально, но сильного правительства столицы: очередная многотысячная сходка народа, военных и членов Патриотического Союза.
Но наряду с последними другие люди, высланные из партии Любецкого, Чарторыского и Хлопицкого, работали в толпе, «создавали настроение». Особенно пугала всех весть о тяжкой болезни «вождя».
Настоящей причины ее не оглашали, даже постарались ее скрыть, чтобы избежать лишнего соблазна в военных кругах. Наоборот, сеяли слух, что нападки крайних партий, выходки демагогов вроде Мохнацкого, поведение толпы у банка — вот что вызвало беду, довело впечатлительного генерала до тяжкого удара апоплексии.
Общая вера в Хлопицкого, в его военный гений еще владела населением, доходила почти до преклонения. Варшава встревожилась, и общее настроение стало совершенно иным, чем утром.
Это больно испытал на себе Мохнацкий.
После ряда ораторов, чувствуя, что с людьми творится нечто неладное, но еще не уяснив себе что, заговорил и он.
В сильной, как всегда, образной речи он обрисовал положение вещей.
— С болью в сердце должен вам объявить: законные желания ваши, требования целого народа — остались без всяких последствий… Временное правительство, правда, создано, но дышит тем же, чем и старый, отвергнутый Административный Совет, и ничего лучшего не обещает. Таково мое мнение. Время идет, каждый миг стоит дороже жизни, а ничего не сделано для блага общего, наоборот. Спокойно дают уйти отряду в семь тысяч штыков, которые скоро будут нам рвать груди. Переговоры с Петербургом решено продолжать. Можем ли верить тем людям со славными именами, которые стоят во главе народа? Нет! И Хлопицкий не исполняет своего долга… Он…
Шум прервал говорящего, крики негодования, особенно из группы адъютантов генерала:
— Молчать!.. Не сметь!.. Довели до смерти человека… да еще теперь…
Но Мохнацкий сдался не легко.
Покрывая шум, упорный галичанин загремел:
— Повторяю, Хлопицкий изменил долгу. Народ дал приказ ударить на россиян, а не очистить им свободный путь… И другие тоже не лучше. Мосци панове, я пришел вам объявить, что слагаю с себя полномочия, данные народом, выхожу из состава Временного правительства, где голос мой и других истинных патриотов тонет среди хора трусливых, предательских голосов!.. Нам остается одно: за оружие. Народ!.. Долой магнатов, друзей россиян, предателей родины!.. Учредим настоящее народное правление… Докончим начатое нами в минувшую грозную ночь… И — да здравствует Речь Посполитая!..
Не много голосов подхватили этот клич.
— Чарторыский — предатель?.. Немцевич? Владислав Островский? — громко подхватил новый оратор Альберт Гржимала. — Может быть, даже Лелевель или граф Пац, вносящий сто тысяч злотых на дело народа? Кто может это сказать? Надо быть одержимым безумием либо метить в Робеспьеры!.. Но в Польше у нас еще им не пора, хвала Господу…
Когда кончил Гржимала, под громкие одобрения толпы, в том же тоне продолжали адвокат Волловский, Хлаповский, генерал Серовский и даже Ксаверий Бронниковский, который, как участник Ржонда, избранный от народа, заявил:
— Честью ручаюсь, все, что решал Ржонд, каждая мера, намеченная им, делается во благо народа и в согласии с требованиями его.
Снова показался над толпой Мохнацкий.
— Мосци панове, да что же это?! Или вы слепы, — начал он. — Или…
Ему не дали говорить:
— Вон клубистов!.. Долой польского Робеспьера!.. Террорист… Подстрекатель… Долой!..
Особенно неистово вели себя студенты, возмущенные вестями, что именно Мохнацкий главная причина болезни любимого их героя-вождя… Они потушили скудные огни… В испуге публика кинулась к выходам… Адъютанты Хлопицкого, расхрабрившись в темноте, палашами, плашмя, стали выпроваживать самых упорных из протестующей молодежи…
Подавленные виденным и слышанным, напуганные, возмущенные, быстро стали расходиться люди…
Наутро слух о болезни генерала проник во все уголки столицы. Мимо дома, где лежал больной, тянулись лентой толпы людей, желающих если не узнать что-нибудь о больном, то хотя поглядеть на окна, на дом, в стенах которого находится человек, привлекающий к себе самое широкое сочувствие, хранящий лучшие надежды встревоженной, напуганной Варшавы.
Негодование против Мохнацкого дошло до того, что группа студентов заявила:
— Идем искать негодяя, возмутителя!.. Этот кинжал вонзим в его грудь, и тогда настанет спокойствие.
Мохнацкому пришлось укрываться в квартире Любец-кого, куда он сам дня три назад тоже собирался ворваться, чтобы убить хозяина, дающего ему приют сейчас.
Так шутит порою судьба с самыми сильными людьми…
Целый день не расходились толпы перед домом Хлопицкого.
Уж поздно вечером появился на крыльце пан Вольф, врачующий постоянно генерала, и объявил:
— Всякая опасность миновала… Ему лучше, панове. Генерал просил передать его привет и благодарность Варшаве за внимание и любовь, проявленные сегодня…
Клики радости, даже женские рыдания послышались в ответ. Толпа постепенно разошлась.
А Хлопицкий, еще накануне, в субботу, как только пришел в себя, известил Ржонд, что слагает обязанности вождя и просит назначить кого угодно на его место.
— Вот она, «пятница» треклятая! — бормотал он, лежа в постели.
В воскресенье 5 декабря, рано утром, Чарторыский, граф Островский от имени правительства явились с просьбой отменить решение. Резко, почти грубо отклонил генерал их настояния.
Только часа через три, когда со всех сторон сошлись Крысиньский, Хлаповский, Вылежиньский и другие близкие люди, уверили генерала, что его только имя на устах народа, когда и князь Любецкий, приехавший почему-то в наемных дрожках, закутанный в скромную шубу, пробыл около часу с Хлопицким, последний неожиданно приказал пригласить к себе Немцевича.
— Я передумал, пане Урсын, — сказал ему Хлопицкий. — Вижу, надо спасать дело. Власти сильной нет, народ нынче одно, завтра другое… Известно — стадо, только двуногое! А войско, на которое одна надежда для сохранения порядка, оно тоже в опасности… И туда забрасывают враги земли семена раздора, внушают ему Дух анархии… Я остаюсь во главе и все беру в свои Руки.
— Хвала Господу!.. Поздравляю, пан гетман и вождь всей силы збройной! — весь сияющий, Немцевич протянул обе руки генералу.
— Пан Урсын ошибается немного… Не гетман, а диктатор! Я решил объявить свою диктатуру и просил бы пана помочь мне… Несколько хороших теплых строк для «Универсала»… Я лучше умею драться, чем изводить перья и бумагу… А пан Урсын — поэт, старый литератор. Так вот, пан…
Глаза мечтателя-идеалиста, несмотря на преклонные годы сохранившие детскую чистоту души, широко раскрылись на мгновенье.
Удивление, испуг и наконец радость ясно выразились в них прежде, чем зазвучали его слова:
— Ди-кта-ту-ра?! Боже великий! Да ведь это он сам внушил генералу такую чудесную мысль… Правда, отчизна на краю гибели… С народом справиться нельзя… Грозит нашествие такого грозного врага, как россияне… Нужно собрать людей, запасы, войска… Готовиться к последней свалке… А тут наши господа правители… большие и маленькие… Я знаю их… Нудная мысль! Все в одних руках, и каких надежных… Спасена отчизна… спасена!.. Сейчас сажусь писать… Я уж понимаю, что на… — Он вдруг остановился. Новая мысль прервала нить мыслей и слов. — А… как же насчет Сейма? Что о нем сказать?.. Когда он соберется и… ну, все прочее? Пан генерал знает: общее желание — собрать сеймовых и Сенат немедленно… Уже сделаны первые распоряжения.
Задумался и Хлопицкий. Конечно, Сейм и диктатура — вещи несовместимые. Но прямо сказать, что Сейма не надо?.. Что диктатор не желает его и не созовет?.. Этого не стерпит даже общая любовь к Хлопицкому. Он хорошо понимал.
— Да-а, — протянул он. — Сейм… Сейм помянуть надо… Но Сейма опасаться нечего, — заговорил он быстрее, охваченный новой неожиданной мыслью. — Сейм был благоразумен даже при хозяине из Бельведера. Сейм — это не Банковский плац с его дикой чернью… С ним мы поймем друг друга… Напишешь, пан, конечно, что я беру полную власть лишь до открытия Сейма… А там увидим, когда настанет пора его мне созвать.
— Пан генерал, все-таки лучше будет сказать в «Универсале», что созыв этот состоится как можно скорее. Как полагаешь, дорогой генерал? — осторожно проговорил Не-мцевич. Лицо его теперь уж не сияло.
Хлопицкий заметил, понял такую перемену. Мягкий, осторожный протест нашел дорогу к уму и сердцу упрямца.
— Ну, хорошо! — с досадой, надуваясь, как ребенок, проговорил он. — Пусть пан поэт и демократ до гроба пишет, как найдет лучше…
От Хлопицкого Немцевич поспешил в заседание Временного Ржонда, который не расходился почти с утра до вечера, как и прежнее правительство. Кроме очередной работы, назначений начальников, рассылки важных бумаг по краю, пришлось решить в это же утро, кто может хотя бы отчасти заменить Хлопицкого.
— Он остается, не надо искать никого, Панове! — радостно объявил всем Немцевич, входя как раз на этот вопрос, заданный кем-то Чарторыскому.
Тут же Немцевич объявил о предстоящей диктатуре Хлопицкого.
Члены Ржонда, как и Немцевич, удивились, встревожились, но были рады в конце концов. Не только груз власти, особенно тяжкий в данное время, но и громадная ответственность спадала у них с души.
А влиять на упрямого, но недалекого генерала?.. Конечно, это будет даже легче, чем приходилось раньше изворачиваться, в пору константиновских дней…
Сейчас же был написан декрет о назначении Хлопицкого генералиссимусом и вождем всех сил с первоприсутствием в Ржонде.
— Что-о-о такое?! — загремел Хлопицкий, когда, лежа еще в постели по совету врача, получил через полчаса указ и прочел его. — Они мне вручают власть?.. Ослы!..
Бумага полетела далеко. Вскочив, генерал быстро оделся в полную парадную форму, приказал адъютанту распорядиться, чтобы к трем часам все войска столицы явились на Саксонский плац и бодро, как будто и не был болен, вскочив на поданного коня, отправился в заседание Ржонда в сопровождении всего своего штаба, который со вчерашнего дня почти переселился в квартиру генерала.
Бурей войдя в покой, он швырнул на стол декрет, пробормотал:
— День добрый, мосци Панове. Получайте себе это обратно.
— Что? Что такое? — сразу вырвалось у всех. — Что случилось?
— А то, что я не нуждаюсь ни в чьем назначении. Сам беру для себя полную, неограниченную власть. Буду пользоваться ею, пока не соберется законно избранный народом Сейм. И горе тому, кто смел бы нарушить, не подчиниться этой власти!..
Давно уже ушел Хлопицкий, а члены Ржонда сидели молча, подавленные…
Вслед за войсками обыватели Варшавы тоже хлынули на Саксонский плац.
День был ясный, и цветистые ряды пехоты, кавалерия на выхоленных конях, бронза пушек — все это горело и сверкало под лучами на снежном полотне площади, в рамке темных, высоких домов.
Окруженный блестящим штабом, встреченный кликами радости, появился перед войском Хлопицкий. Его могучий, звучный голос разнесся по всей площади, над головами людей:
— Кланяюсь всему народу и вам, паны подхорунжие, благодарю за мужество, проявленное в минувшие дни, за помощь в деле освобождения родины…
Выждав, пока смолкли восторженные клики, вызванные таким вступлением, генерал продолжал:
— Поляки! Грозную пору переживаем мы сейчас. Опасное положение края требует высшего напряжения сил, крайней поспешности в решениях и делах. Все, способное тормозить общественную и правительственную работу, может стать гибельным. И не для личного возвеличения, не из властолюбия, которое слишком мне чуждо, исключительно в силу грозных обстоятельств, по примеру римлян, которые в годину опасности, грозящей республике, единому диктатору вручали высшую власть, — так и я нынче вам, поляки, вам, храброе рыцарство и войско, объявляю: на короткое время, до собрания Сейма, беру на себя звание и власть диктатора. Откроется Сейм — и эту власть, полученную от народа, я передам избранникам народа. Верьте мне, братья-поляки: вся сила данной мне власти послужит только вам к добру. Объявляю себя диктатором! Спрашиваю теперь народ и войско: согласны ли все на это?
— Да живет диктатор!.. — далеко прокатился общий громовый ответ.
— Да живет Отчизна! — обнажая голову, крикнул Хлопицкий. И новые раскаты народной ликующей бури подхватили желанный клич.
Диктатор тут же всех подхорунжих поздравил с чином подпоручиков, с назначением в третий и четвертый, вновь формируемые батальоны, рассеяв таким образом по широкому пространству тесную, опасную организацию пылкой молодежи. Высоцкого и Заливского произвел в капитаны. Последнего, как самого беспокойного, отправил на Литву организовать партизанскую войну. Когда кончились назначения, грянула музыка… Окруженный блестящим кольцом всего генералитета, офицерством, едва продвигался в толпе Хлопицкий, оглушаемый восторженными кликами, осыпаемый цветами из окон, с балконов, где варшавянки теснились, колыхались, махали платками своему любимцу, посылали ему приветы и поцелуи без конца…
Так закончился этот день, принесший гибель, как оказалось потом, всему делу возрождения польского народа.
Глава II С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
— И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами!»
Книга СудейТоржественные заявления диктатора, сделанные красиво, среди блестящей обстановки, наполнили доверием и новой отвагой души обывателей Варшавы, отсюда заражая тем же и целый край.
С этого вечера, как от прикосновения волшебной палочки, зажила столица еще шумнее и веселее, чем это было раньше.
Особенно театры, где давались пьесы и оперы патриотического содержания, стали местом проявления общего ликования и восторга. Кончался спектакль, запевался зажигательный народный гимн, гремела заветная мазурка, и зрители задолго до Святок устраивали импровизированные балы в зрительных залах и на сцене…
И в других областях жизни, особенно в журналистике; началось усиленное движение. Число новых журналов, газет, особенно крайнего толка, росло с каждым днем, книги, брошюры политические и научные, загромождали прилавки книжных магазинов и брались публикою нарасхват. Можно было видеть «дорожкажей» (извозчиков) на козлах, прислугу, идущую с рынка, носильщика, отдыхающего под навесом амбаров, с газетным листком либо с патриотической брошюркой перед глазами… Даже либеральная еврейская молодежь обзавелась своим органом, под заглавием «Jsraelita Polski».
Лекции на общественные и исторические темы привлекали слушателей без числа и встречали восторженный прием.
Особенно развили в этом направлении свою деятельность Лелевель и приезжий профессор Юзеф Голуховский, бывший сподвижник великого патриота Зана, друга Мицкевича, Лукасиньского и других духовных отцов свершившегося переворота.
Голуховского, собственно, пригласила партия олигархов и Хлопицкий, как бы в противовес Лелевелю, слишком будоражившему, поджигавшему молодежь речами в клубе Патриотического Союза, где он оставался председателем, несмотря на то что Хлопицкий ему поручил портфель министра народного образования.
И начал Голуховский в желательном тоне, указывая, что новые юные силы, желающие стать во главе своего народа и управлять его судьбой, прежде всего должны остерегаться демагогии, развиваемой в некоторых сборищах и клубах. Только чистота жизни, нравов и мыслей дает право на всеобщее уважение, а не крикливый задор, не готовность запятнать укорами, забросать грязью лучшие имена страны. Без умеренности во всем, без самоотвержения святого — даже самые даровитые люди доведут себя до положения изгоев и ввергнут в гибель доверчивую толпу, идущую за крикливыми вожаками…
Намек был понят и принят холодно молодежью. Но когда затем профессор, говоря о своих мытарствах, увлекся и сказал:
— Во всех несчастьях, испытанных мною, я не падал духом и научился только сильнее ненавидеть рабство, приобщился к святому, великому Духу народному, не выносящему уз и цепей… И понял, что умереть за отчизну — это еще не высший подвиг. Надо сделать так, чтобы она жила и цвела… И тут, конечно, не может задержать человека никто и ничто. Жена, дети пойдут за мною… Друзья будут биться рядом… И только если содрогается в смертельной муке сердце отчизны, слабеет сила моя… Народы не умирают, если они поняли, что без самоопределения, без внутренней свободы нет для них жизни… И вы идите, боритесь и помните эти мои слова!
Казалось, стены аудитории рухнут от восторгов толпы, когда умолк профессор, сам не ожидавший, что, начав с заветов умеренности и аккуратности, он скажет совсем иное в конце…
Хмурился диктатор, слыша все это.
Особенно донимали его нападки в левой, независимой прессе.
Доставалось и всем, «исправляющим должности министров», как назвал Диктатор избранных им сановников, не желая нарушать прав круля Николая, единственно имеющего право ставить министров Польши. Не щадили и войсковых порядков, даже осторожно, под прикрытием аллегории или невинной шутки, задевали и самого Диктатора. Он пока крепился, молчал, как большой пес, крепко стискивающий челюсти и выжидающий мгновенье, когда можно будет схватить всею пастью надоедливую муху, звенящую над головой, жалящую здесь и там досадливо, хотя и небольно…
Не распустил Хлопицкий и Временного Ржонда, хотя деятельность последнего свелась почти к простой канцелярской работе. Да и та тормозилась именно благодаря диктатуре, сулившей «скорое и напряженное ведение дел»…
Пан Александр Крысиньский, личность более чем сомнительная, был не только собственным секретарем Диктатора, но на деле занял пост статс-секретаря, потому что все бумаги и от и.д. министров, и от Ржонда попадали к Диктатору лишь через руки пана Александра, ставшего известным теперь целой Варшаве.
Военные тоже, особенно высшее начальство, стоящее У власти, тяготилось полным бездействием, тревожилось тем, что Диктатор и не думает запасать оружие, порох, амуницию, не развертывает кадров армии так быстро и широко, как бы это было необходимо по общему признанию.
Было, правда, устроено несколько вещевых складов, но слишком близко к границе крулевства, так что при первом натиске неприятеля они осуждены были сделаться военной добычей последнего или самим полякам придется уничтожить собранное добро…
Много иных еще странностей кидалось в глаза знающим дело людям. Но Сейм был не за горами, и благоразумие подсказывало ждать его открытия, не подымать заранее бури, не делать разоблачений, столько же вредных и опасных для края, сколько колеблющих положение Диктатора.
Неспособность его править даже военными делами, не только гражданскими, выказалась во всей полноте. Но народные массы еще верили Диктатору. Он чуял эту силу и подавлял не только малейший протест, но даже не терпел самого скромного выражения желания: помочь ему чем-либо в делах правления, в облегчении бедствий, какие принесет с собою грядущая неизбежная война.
С этой неизбежностью не мог примириться Диктатор, хотя не слишком явно обнаруживал свою точку зрения.
Когда, с одной стороны, Прондзиньский приступил к нему со своими блестяще составленными планами оборонительной войны, а полковник Хшановский, не менее даровитый и глубокий знаток стратегии, наоборот, много лет служивший в русском войске на Кавказе, развивал планы войны наступательной, толкал немедленно двинуться вперед, перекинуть целые корпуса в Литву, на Волынь, слиться с тамошними, наполовину польскими, дружественными силами и таким образом отвести от маленькой, такой уютной Польши тяжкий удар, нашествие российских полков, Хлопицкий на все это отвечал:
— Погодите!.. Вот граф Ксаверий теперь уже в Петербурге. Скоро мы получим и добрые вести от него… Сами знаете, уезжая, он прямо сказал: «Не волнуйтесь. Может, к Новому году я привезу из Петербурга подарок Польше: ее вольность и старые области». Он — хитрый, но умный человек… Столько лет умел поддерживать дружбу с самим крулем Николаем… Собрал миллионы в казне, сдерживал натиски Новосильцева и даже самого Константина… Он сумеет добиться и мирного конца для всей нашей неурядицы… А уж если нет?.. Тогда посмотрим. А на Литовский корпус напрасны наши надежды, господа. Розен офицеров-поляков заменил немцами, россиянами. Они нам не друзья.
Оба стратега не были так оптимистично настроены, продолжали настаивать на своем, предлагая выбрать тот либо иной план…
И через несколько дней неожиданно получили приказ: отправляться Хшановскому комендантом в Замосцье, Про-ндзиньскому — в Модлин на ревизию, «ввиду важности помянутых крепостей», как гласила бумага. Но и сами стратеги, и все окружающие поняли, что это почетная ссылка… Диктатор хотел избавить себя от непрошеных советчиков и дать острастку остальным.
— Потерпим… Скоро Сейм!..
Таков стал общий лозунг уже спустя неделю после возглашения диктатуры Хлопицкого.
Но если Диктатор смутно понимал, какая ненадежная среда окружает его? С другой стороны, слишком уж понадеялся он на привязанность и постоянство народных масс.
Ровно через неделю, в воскресенье вечером, со стороны Праги зазвучал, заметался тревожный набат, перекинулся через Вислу, ширясь направо, налево, разлился кругом, и трепетал, и носился над городом, лихорадкой страха, ожиданием новых бед наполняя людей.
Громадное, словно пожарное, зарево поднялось над Прагой и по путям набата перекинулось к столице, разлилось над нею. Но это был не пожар, как сначала подумали все.
Огромный метеор, низко летя над землей, рассыпая мириады огненных искр, пламенеющих слез в темном небе, показался с севера и скрылся за холмами и лесами на западе от города.
— Тяжкие беды грозят нам и всей земле польской, — вслух и шепотом стал твердить народ.
Толчок был дан, и по рынкам, и по дворам, и домами, по дорогам и перепутьям пошли зловещие толки, рассказы о чудесах.
Видели кровь, вытекающую из ран Распятого на кресте, изображение которого часто возвышается на перекрестках польских дорог, толковали о слезах, источаемых изображениями Богоматери, пронзенной мечами… Встревоженные люди стали слышать, как стонет по ночам земля, особенно вблизи кладбищ и по деревням, где темнота родит всякие толки и ужасы, искренне веруя в свои же собственные помыслы… Кровавые закаты и зори тоже предвещали большое кровопролитие и печаль…
Варшавяне, как более просвещенные и скептичные, сначала говорили:
— Не беда… Ну, будет война. Конечно, не свекловичный сок или юшка, а кровь польется людская… Зато вольность узнаем навеки потом. Диктатор же у нас есть, Хлопицкий. За ним можно спать спокойно!
Но ксендзы, зная свободомыслие Диктатора в религиозных вопросах, не особенно старались усилить авторитет его. И постепенно страх начал овладевать столицей…
Только около 15 декабря, когда стали съезжаться из поветов и воеводств депутаты на предстоящий Сейм, новая надежда влила новую бодрость в сердца варшавян.
— Вот Сейм близко. Собираются даже прежде термину послы земские. Они все поправят, чего недоглядит или не сумеет сделать пан Диктатор.
Конечно, для значения парламента такая вера была очень важна.
Но Диктатор терял постепенно столько же в глазах толпы, сколько новых симпатий приобретали съезжающиеся депутаты.
Он замечал это, ничего не мог сделать, только хмурился и надеялся на лояльность народных представителей.
— Пока я не назначу дня, они самовольно не начнут своей работы… Не успеют ничего напортить!..
А Диктатор еще прежде решил, что до возвращения Любецкого из Петербурга Сейма открывать нельзя, чтобы не наделать непоправимых ошибок…
Но ожидания Хлопицкого не сбылись.
Побуждаемые собственным нетерпением, настроением общества целой Варшавы, влиянием Лелевеля и его сторонников, депутаты ждали только, когда их соберется побольше, чтобы получился не Сеймик, а настоящее заседание парламента.
Эта минута скоро наступила, еще до 18 декабря, когда предположено было открытие Сейма.
Уже 15 числа собралось до ста депутатов, а 17-го их насчитывалось около ста тридцати, почти полный состав Сейма. Тогда были избраны делегаты, которые пригласили Хлопицкого на совместное совещание, необходимое ввиду близкого открытия парламента.
С суровым, почти надменным видом явился на зов Диктатор.
— Что угодно от меня панам делегатам Сената и Сейма? — задал он лаконический вопрос.
Заговорил Чарторыский.
— Сейм польский перед началом своей работы хотел бы знать: как смотрит пан Диктатор на положение вещей? И самое главное: как ему представляется та власть, которую должен теперь установить в королевстве народный парламент, чтобы прийти к известному соглашению здесь, в своем деловом кругу, а не начинать споры там, в открытом заседании, где тысячи зрителей будут слушать, ловить каждое слово, каждый взгляд… Куда придут и друзья, и недруги Польши… И последние, конечно, передадут только дурное, только самое вредное для края на Запад и на Восток, в Россию, где ждут вестей о взаимных раздорах, какими, к сожалению, слишком богата история нашего народа. Вот для чего пришли мы. И затем еще… Война, по общему мнению, неизбежна. Варшава, вся Польша верит одному Хлопицкому, его желает видеть вождем армии. Так пусть теперь же скажет нам пан Диктатор: примет ли он назначение Сейма, который ждет великой помощи от прославленного воина, от пана генерала?
Упрямо покачал Хлопицкий своею львиной головой.
— Я высказывался не раз и снова повторю: власть могу принять лишь не ограниченную ничем, какою владею в данный миг. Положение слишком грозно, ответственность слишком велика и падет на одного меня… А я буду бессилен, если не один стою у власти… Это первое. Теперь открыто выскажу, как я смотрю на дело, чего жду, к чему буду стремиться, чего надеюсь постичь.
Насторожились делегаты, особенно приезжие. Потемнели лица у Чарторыского, Лелевеля и других, кто уже знал Хлопицкого.
А тот, холодный, хмурый, продолжал:
— Нет у меня иных целей, намерений и надежд, как удержать в целости «Конгрессовое крулевство», но во всей его независимости, какая обеспечена трактатами и дарованной ему конституцией. Постараюсь, чтобы отныне не совершалось малейших нарушений этой конституции, как то было до последнего переворота в стране. Российское войско, по моему мнению, вступать к нам не должно, что и послужит лучшей гарантией ненарушимости народных прав и независимости польской. Надеюсь добиться всего сказанного. Помимо князя Любецкого, мой адъютант Вылежиньский поедет на днях в Петербург с надлежащими полномочиями и должен возвратиться обратно, к 7 января. Тогда можно будет окончательно все вырешить и постановить… А до тех пор ничего больше не скажу ни Сейму, ни самому Богу… Добиться всего, о чем сейчас сказал, обещаю, и дам убить себя скорее, чем отступлю. Большего не обещаю, не обязуюсь ни к чему. Да, по-моему, и нельзя требовать ничего больше.
— Как! А старые провинции наши?.. Те, которые сулил Польше даже Константин! — горячо возразил Зверковский. — Их пан Диктатор оставляет нашим друзьям, россиянам? Литву, Волынь, желанную нами?
— Я ничего не оставляю никому, панове делегаты. Стою перед вами во имя конституционного круля польского Николая I. Пришел сюда не спорить с кем-либо, а изложить вам то, что думаю, в чем твердо уверен, как решил поступать! Что же касается дня. открытия Сейма, считаю 21 декабря, вторник, — самым удобным днем.
Сделав общий поклон, не ожидая дальнейших возражений, вышел из покоя Диктатор.
Доклад делегатов, сделанный в частном заседании, произвел тяжкое впечатление. Самые горячие заговорили об измене, более благоразумные указывали на общий склад ума и характера Хлопицкого:
— Старый вояка, упрямый, узкий, малоразвитой… Чего же и ждать можно от него, как не смелой отваги, годной в бою и тягостной в общественных отношениях…
— Ничего, все обойдется, — говорили третьи. — Начнется война, и он забудет свою «лояльность»… Кровь не вода, Польше будет служить ее герой, ее сын, а не чужим людям… Увидите…
На том и примирились. Но открытие Сейма назначили не на 21, а на 18 число, в субботу.
— Нельзя же, в самом деле, нам, представителям четырех миллионов народа, ходить по указке пана Диктатора, — объявил граф Островский, уже заранее намеченный в маршалки, президенты Сейма, первого Вольного Сейма польского после ряда долгих лет…
Если таким «самовольным» поступком депутаты хотели испытать, насколько будет последователен Хлопицкий, они добились цели. Как только 18 декабря в сеймовом зале крулевского замка при небывалом стечении публики Баржиковский доложил, что Диктатор желает назначить открытие на 21 число, — едва калишские депутаты, «конституционалисты» чистой воды, братья Немоевские опротестовали заявление Диктатора как покушение на верховенство народа и Сейм, согласно с их предложением, объявил себя сорганизованным и открытым, — не успели еще стихнуть громкие аплодисменты дам, наполняющих галереи, как почти немедленно Диктатор прислал свой отказ от всякого участия в делах правления страны.
— Такой последовательности я не ожидал даже… от Хлопицкого, — вырвалось у Чарторыского, который видел общее смущение, овладевшее членами Сейма.
Остаться теперь без вождя немыслимо. Да и общественное мнение еще не позволяло такого шага.
Наскоро кончили заседание, следующее было назначено на понедельник. Депутаты разошлись, а Чарторыский и президент граф Островский. кинулись снова к Хлопицкому.
— Оставьте, панове, ваши заклинания и мольбы. Слышал их довольно, — с обычной резкостью ответил тот. — Я сказал, что снимаю власть в день открытия Сейма, повестил о том «Универсалом» целый народ. Так и сделал. Мы с вами не дети. Чего же вы хотите еще? Сейм устроил контрреволюцию, пускай теперь и пожинает ее плоды. Теперь время дел, а не слов. Сказано: власти никакой я больше не приму…
— Кроме диктаторской? — спросил Островский. Помолчал, подумал упорный человек и медленно отрезал:
— Кроме диктаторской!.. Причем Сейм должен сейчас же быть распущен… пока я его не созову, сообразуясь с наличными обстоятельствами или с опасностью, грозящей стране…
Целая буря поднялась, когда депутаты услышали последнее слово Хлопицкого. Но пришлось уступить. Еще и еще раз явились к генералу Чарторыский, Островский и Немцевич, но достигли одной лишь уступки: Сейм мог избрать особый Верховный Совет, который в случае смерти Диктатора мог назначить другого вождя и должен был созвать очередной Сейм. Те же полномочия давались ему и в других «чрезвычайных» случаях…
Все понимали, что дело идет о переговорах, начатых с Петербургом.
Их завершать по своей воле Диктатор не должен был и не мог. Заседание 20 декабря наполнилось утверждением закона о диктатуре[11], об учреждении помянутого Верховного; Совета и только заявлением, что восстание 29 ноября признается делом целого народа, и составлением «Обращения к европейским державам» — скрасил «вольный» Сейм 1830 года свое скомканное второе и последнее заседание.
Зато Хлопицкий торжествовал. Он еще не знал, что сейчас в Петербурге готовится манифест, каждая строка которого разбивала все надежды лояльного рыцаря-Диктатора.
Польше предписывалась безусловная покорность, войско должно выйти в Плоцкое воеводство и там ждать дальнейших распоряжений, Народное правительство немедленно должно уйти и, подобно тому как это было сорок лет назад, — весь народ обязан стыдом и страхом искупить свою вину перед крулем-цесарем.
Не знал этого пока Диктатор и с гордо поднятой головой проезжал по улицам столицы, отвечая поклонами на приветствия толпы.
Что бы там ни ждало впереди Варшаву, как и весь край, хорошее либо дурное, но теперь жизнь закипела ключом после пятнадцати лет скучного прозябания.
Правда, отвыкшая под указкой Константина от самостоятельной, творческой работы, польская правительственная машина скрипела, колеса шатались, ломались, особенно под рукой такого мужиковатого и упрямого самоучки-правителя, у такого «солдатского дипломата», каким был Диктатор Польши.
Но все-таки яркими красками расцветилась обывательская жизнь даже в провинции, не говоря о Варшаве.
Здесь готовились к великим событиям. Рядом с новыми полками солдат, с эскадронами кавалерии формировался добровольный «полк Сарматских амазонок», наполовину — сестер милосердия, наполовину — воинствующих ратниц… И в рядах общих войск насчитывалось немало женщин, пошедших за мужьями в ряды, девушек, хитростью и мольбами достигших зачисления в войско для защиты родины от натиска россиян, ожидаемого скоро-скоро.
У народа есть свое, простое чутье, которое редко обманывает массы, как не обманывает инстинкт птиц и стада оленей, идущих на новые пастбища, догоняющих летнее тепло и свет в своем неудержимом стремлении с севера на юг…
Новый год, несмотря на все печальные обстоятельства, на тяжелые ожидания, а может быть, благодаря именно им, справлялся Варшавой так шумно, с таким бешеным весельем, как никогда…
«Может быть, это последний наш карнавал», — думала молодежь, годная в строй. И горячей прижимала к груди подруг в безумном вихре танца. Громче звучали песни, торопливей отдавались поцелуи, полученные под шумок веселья и карнавальной тайны…
— С Новым годом!.. С новым счастьем!..
И всем так хотелось верить в чары Нового года, узнать новое счастье.
Мрачнее других был только один человек, тот, на кого так надеялась Варшава и Польша: Диктатор Хлопицкий.
Давно уже уехал в Петербург подполковник Тадеуш Вылежиньский с письмом Хлопицкого к крулю Николаю, и нет никаких вестей оттуда, с холодного, угрожающего, темного севера…
Но наконец 7 января вместе со снежной метелью примчался и Вылежиньский, обледенелый, занесенный снегом, прямо к подъезду жилища Диктатора.
С трудом говорит подполковник, горло перехвачено от простуды, тело едва отходит от стужи. Жадно ловит каждое слово Диктатор. Большой пакет за российскими государственными печатями лежит между ними на столе.
— Езерский и князь Ксаверий уж дважды были на аудиенции у круля-цесаря, когда я приехал. Принят был немедленно и очень обласкан. Два часа длилась беседа… Я сейчас ее подробно изложу мосци Диктатору…
— Да, да… Но одним словом — какое общее впечатление?.. Есть надежда? Или нет никакой?.. — теряя привычное самообладание и суровую важность, видимо волнуясь, спрашивает Диктатор.
Развел руками, плечами пожал подполковник.
— Видит Бог, ничего не умею сказать… Выслушать прошу… и уж сам пан Диктатор решит… Прежде всего, как будто желал высокий собеседник снять с себя всякие возможные нарекания… «Как круль польский, — сказал он, — не могу себя упрекнуть ни в чем. Конституцию, существующую у вас, подтвердил, не изменяя ее ни в чем. Торжественно короновался в Варшаве, чего не сделал и покойный государь. Милостей и добра для края не жалел, сколько было возможно. Присяги своей не нарушил. Это сделал ваш народ. А я был и остаюсь польским крулем милостию Божией… Хотя после того, что случилось, мог бы считать себя свободным от всяких обязательств к Польше, кроме моих державных прав, но я не делаю этого пока… Посмотрю немного, что будет дальше». Я напомнил, что крайности восстания были вызваны многими причинами и поступками лиц, облеченных высшею властью в стране. «Понимаю, — был мне ответ. — Вы хотите указать на некоторые нарушения законных прав народа и его конституции, допущенных… Ну, имена не главное. Согласен, было и это. Но я о них не знал. Надо было прямо обратиться ко мне, а не устраивать перевороты. Такие люди, как Рожнецкий… Я знаю, он ненавидим у вас… Давно мне известный господин… И ценю я его по заслугам, как совершенного негодяя. Но ведь не я его и держал в Варшаве в такой силе… Вы же сами знаете». Его величество недосказал, только пожал плечами… «Но прежде всего, — продолжал наш круль, — следовало иметь полное доверие ко мне. И сейчас жду того же. Только тогда будет счастлива Польша и ваш народ. Это — слово монарха, хранящего честно свои зароки. И оно должно иметь свою силу и вес!»
— Дальше, дальше…
— Зашла речь о том, как поступить теперь Польше и пану Диктатору. Круль заявил то же, что сказано в его манифесте 17 декабря. Выступление войск к Плоцку, полная покорность и роспуск Народного Ржонда. И выразил надежду, что пан Диктатор пойдет на эти условия…
— Как!.. Я?!
— Успокойтесь, яснейший пан Диктатор. Я позволил себе заявить, что на это пан Диктатор не пойдет…
— А круль?
— Поднялся и проговорил уж более строго: «Тогда мне остается один способ, прибегнуть к которому я буду вынужден и как император всероссийский, и как круль польский. Но еще одно: если раздастся хотя единый выстрел с вашей стороны… я ни за что не отвечаю… Так скажите в Варшаве». На этом аудиенция кончилась, и перед отъездом я получил вот это!..
Вылежиньский указал на свои адъютантские аксельбанты с шифром Николая I.
— Да, я уже заметил, — машинально говорит Диктатор, а сам думает, думает совсем о другом… И наконец так же с недоумением пожал плечами, как сделал это в начале разговора подполковник на его вопрос: «Чего ждать: добра или худа?..»
Загадка осталась загадкой для этого тяжелого на соображение человека.
Вечером, когда Диктатор собрал Народный Ржонд и вскрыл пакет, привезенный Вылежиньским, загадка разъяснена была ему другими.
В большом пакете лежали четыре письма. Первое от графа Стефана Грабовского, статс-секретаря Польского крулевства лично Хлопицкому. От имени Николая высказывалось одобрение всему, что до сих пор было сделано Диктатором, и выражалась надежда, что он до конца выполнит долг, соберет войско, выступит к Плоцку и там будет ждать дальнейших приказаний. Второе от Любецкого, который убеждал Хлопицкого исполнить волю круля-цесаря, ибо от этого зависит все спасение Польши. Третье письмо от того же Любецкого к Чарторыскому, почти одинаковое с предыдущим.
Князь Адам должен повлиять на успокоение умов, и только тогда можно будет достичь соглашений, выгодных для края. Иначе — гибель грозит неизбежно. Четвертое письмо — был сухой выговор по начальству, адресованный к председателю Административного Совета, графу Соболевскому, хотя было хорошо известно, что ни его, ни Совета больше не существует в правительстве Польши.
— Что теперь скажете, мосци панове? Возможны ли, по-вашему, дальнейшие переговоры о полюбовном соглашении с Петербургом?.. И на каких условиях? Какими гарантиями надо заручиться при этом? Прошу высказаться всех.
— Я полагаю, — первый заговорил кастелян Дембовский, — выбора нет. Борьба слишком неравна… Жребий войны тяжел и для победителя… А о побежденных нечего и говорить. Побеждены будем мы… Значит…
— Значит, склонить молча голову под удар, пойти в ярмо без протеста, как идут быки?! Что говорит пан Дембовский? — перебил князь Радзивилл. — Да лучше гибель и смерть!
— Лучше, лучше, — вторят ему Островский и Баржиковский.
— Конечно, конечно, лучше, — заговорил Чарторыский, печально покачивая головой. — Но все же не надо спешить умирать… Переговоров прекращать не следует… Надеясь на их добрый исход, конечно, наш пан Диктатор еще очень мало совершил военных подготовлений… У нас же есть и золото… Больше семидесяти миллионов хранится в подвалах банка… Руки есть, явятся еще, стоит кликнуть клич… Недавно силою отправлены на границу, как дезертиры, одна тысяча двести солдат-поляков из корпуса цесаревича. А они бы нам пригодились теперь. Конечно, пан Диктатор, отсылая их, не ждал, что война неизбежна и грянет так скоро… Из Познани, из Краковского герцогства идут к нам люди. Пан Диктатор не принимал их до сих пор… Но если они узнают, что теперь их не станут гнать, они снова придут!.. Наконец, можно заручиться и сочувствием европейских государей… Это поможет в нашей борьбе… Словом, следует протянуть подольше время, прежде чем начать войну…
— Как, все за войну? Какую, с кем? Подумайте!.. Надо ли мне вам повторять: война немыслима! Границы заперты кругом, нет пушек, нет оружия, сколько надо… Да если бы счастье нам и улыбнулось, Москва навалится всей грудью… Нашлет людей без числа и раздавит нас вконец… Единственно, что еще возможно, обратиться к содействию Пруссии, просить о посредничестве. Князь Радзивилл в родстве с Гогенцоллернами, а они так близки к российскому дому…
— Даже слишком! — вместо Радзивилла ответил Баржиковский на это наивное, неожиданное предложение Диктатора. — Мы на горьком опыте знаем, какие гибельные услуги оказывала Польше Пруссия даже тогда, если шло дело не о такой близкой родне, как российский дом…
— Конечно. О чем тут и говорить? — отозвались все, сразу желая покончить пустые пререкания.
— Ничего нам больше не остается, как принять войну, — повторил Островский.
— Войну?! — уже заметно раздражаясь, слегка повысил голос Диктатор. — Война невозможна. Единственно, если нападение на Польшу совершится, мы можем все пасть на поле битвы с честью… Но воевать? Не говорите пустяков… Я поведу на смерть полки и первый покажу им пример. Если же начнем войну и будем разбиты — позор ляжет на одного меня. Скажут: «Хлопицкий — предатель!»
— А разве не могут сказать того же, если, по настоянию пана Диктатора, мы без боя покоримся приказаниям из Петербурга? — спросил Баржиковский, глядя в упор на Хлопицкого.
Тот сначала словно и не понял всей силы неотразимой логики вопроса, но потом досадливо пожал плечами, ничего не ответил, а задал снова первый свой вопрос:
— Еще раз спрашиваю, панове, и прошу дать решительный ответ: стоите ли вы за выполнение воли круля-цесаря… или за войну?..
Переглянувшись с товарищами, заговорил Чарторыский:
— Если исчерпаны последние средства для достижения более почетного и выгодного, более приемлемого соглашения и остается только отдаться на милость, тогда ни вопроса, ни выбора быть не может… Один остается нам прямой, честный путь… Подымемся все и с оружием в руках будем искать свободы или смерти!
— Да, это лишь и остается… Это одно, — подтвердили все остальные.
— Нет, я все-таки на это не пойду, — покрывая общий говор, заявил Диктатор. — Война с Россией — гроб для Польши! Не мне, не панам решать такой вопрос. Пусть же сберется Сейм. Он и решит: покорность или война! А нам остается только исполнить решение земли.
Удивленные, обрадованные, члены Ржонда поспешили, конечно, согласиться с Диктатором.
На другой же день появился «Универсал» Диктатора, которым созывался Сейм на 17 января.
Но еще за четыре дня до этого срока появился, наконец, в Варшаве и граф Езерский, один, без Любецкого, конечно. Последний навсегда поселился в России.
На другой день упорный Диктатор сделал еще попытку настоять на своем. Созвал Верховный Совет и Временное правительство, передал вести, привезенные графом Езерским, подчеркнул, что силы собраны против Польши огромные. Но круль еще ждет покорности и обещает полное примирение взамен.
— Мы уже единогласно высказали наше мнение! — кратко отрезал Чарторыский, тоже потерявший терпение. — Пан Диктатор выдал «Универсал» о Сейме. Ждать осталось всего три дня. Подождем.
Взбешенный, ушел Диктатор. Тревожные вести разошлись по городу о ссоре Диктатора с правительством, о заговорах на Диктатора… Особенно забурлили массы, когда узнали, что Лелевель арестован Диктатором по подозрению в заговоре.
Арест этот, состоявшийся 11 января, продолжался недолго. Уже через пять дней профессор стоял перед Диктатором вместе с Верховным Советом, выбранным еще в декабре для проверки действий Хлопицкого.
До сих пор Совет воздерживался от всякого вмешательства в дела. Но письма, полученные из Петербурга, то, что писал туда Хлопицкий, — все это было слишком важно, но скрыто от всех. И Совет потребовал от Диктатора, чтобы были показаны все документы.
Особенно неприятное впечатление произвело письмо Хлопицкого к крулю, слишком смиренное и не соответствующее положению генерала как главы правительства. Поразила многих и собственноручная приписка круля на письме Грабовского к Хлопицкому, две строки карандашом, писанные по-французски, гласили: «Надеюсь, генерал, на вас в деле успокоения вашей Родины, как было то и до сих пор».
Устно повторил Совету Диктатор все, что внушал так горячо Временному Ржонду.
— Во всяком случае, — закончил он свою речь, — я исполнил свой долг. Завтра открытие Сейма, и я слагаю власть Диктатора. Делайте сами, как знаете. Я руки умываю, вот мой последний сказ.
— Не надо бы, пан Диктатор, поминать тут о Пилате, — кинул Зверковский.
Чарторыский, предупреждая стычку, быстро вступил в беседу.
— Но, пане генерале, хотя Диктатором быть ты не желаешь, все же останешься верховным вождем всей армии, не правда ли?
— Нет, я еще с ума не сошел, — раздражительно оборвал Хлопицкий. — И вождем не останусь, потому что не желаю быть разбитым, как глиняный черепок, железными батальонами россиян.
— Будешь, потому что мы прикажем, целый Сейм! — выйдя из себя от такого упорства, крикнул пылкий граф Ледуховский, депутат из Енджеёва.
— Не буду! — с каким-то визгом, вне себя выкрикнул Хлопицкий. — Шельма я буду из последних, если приму от Сейма булаву!..
— Нет, пане, станешь биться… Если не как гетман, то как последний рядовой, по приказу Сейма! А не захочешь, так будешь ославлен по целому свету как трусливый хорек, как изменник народному делу.
Зарычал Диктатор, побагровел, ударом ноги вышиб дверь в соседний покой, чтобы дать исход бешенству и не наделать безумий. Затем, весь трепеща, с пеной на губах, обернулся к Ледуховскому:
— Буду… буду драться, если уж так!.. Но и ты… ты будешь тут, рядом со мною… в самом огне… со мною!.. И ты, Ледуховский, должен будешь стать на бой!..
Трудно описать, какое гнетущее чувство овладело всеми в этот миг. Молча поклонился Чарторыский Диктатору и вышел, остальные также молча последовали за ним.
А Хлопицкий, не унимаясь, крикнул вслед Ледуховскому.
— Этого я тебе не забуду никогда!
В тот же вечер вся Варшава говорила об отвратительной сцене, разыгравшейся в покоях Диктатора.
На другой день открылся Сейм, и, когда был оглашен и принят к сведению отказ Хлопицкого от диктатуры и власти, даже излишне шумливая, впечатлительная галерея, полная, как всегда, не проявила ничем своего удивления или протеста.
Диктатора не стало. Карьера Хлопицкого как государственного деятеля закончилась навсегда.
Новый год не принес нового счастья упорному, прямолинейному солдату, задумавшему пуститься в дипломатию…
В одном только успел еще экс-Диктатор, как звали его теперь. По его настоянию вождем назначен был князь Радзивилл, полновластный во всех военных делах, но с правом лишь совещательного голоса в делах гражданских.
Сознавая свою полную неспособность к большой, ответственной роли, открыто заявляя о малых познаниях в военном деле, Радзивилл, в свой черед, успел уговорить Хлопицкого, и тот остался при новом гетмане не то простым волонтером, не то начальником штаба и войска, только без всякого титула…
Все больше и больше запутывался узел, в котором переплелись судьбы целой Польши.
25 января 1831 года — роковой день, который должен быть вписан особыми чертами в историю польского народа.
В этот день в полном собрании Сейма маршал граф Островский поставил на очередь предложение депутата Романа Солтыка, внесенное еще в минувшем декабре, касательно «детронизации» круля Николая и объявления Польши независимым крулевством. Сейму принадлежало также право избрать другого кандидата на трон Пястов и Ягеллонов. Было избрано Народное правительство, состоящее из президента князя Чарторыского и четырех членов: Баржиковского, Лелевеля, Моравского и Винцентия Немо-евского.
Ровно в половине четвертого состоялось голосование «детронизации», результаты которого были и раньше всем ясны.
— Война, война! — крикнули депутаты…
И вольная Польша, какою стал край с ночи 29 Листопада, теперь перед всеми официально подтвердила свое отделение от России.
Осторожный всегда Чарторыский, подписывая только что оглашенный акт, тихо вздохнув, сказал:
— Сгубили вы Польшу!
Мохнацкий в простом солдатском мундире был здесь среди зрителей. Он уж давно оставил агитацию в Союзе и пошел добровольцем в полк, чтобы сеять пламя возмущения среди военных людей.
— Что, доволен, пане Мавриций? — обратился к нему Анастас Дунин, несмотря на разницу лет друживший с юным мечтателем.
— Чем? — криво улыбаясь, возразил Мохнацкий. — Разве слова что-нибудь значат на весах истории?.. Попытку «детронизации» сделали мы в ночь 29 ноября!.. Тогда же рванулась Польша, чтобы освободить себя от лишних пут и оков. Боюсь, что дело наше потеряно… Как потеряно время за эти два месяца, которые равны двум десяткам… нет, двум векам спокойных, сонливых годов… Пока Николай — царь и круль на Волыни, в Киеве, на Литве и в Подолии, — он на деле есть круль польский, и мы скоро почувствуем его руку на своей вые…
Предсказания старика Чарторыского и юного Мохнацкого сбылись, и очень скоро…
Только новые скорби и испытания принес Польше Новый год.
Глава III ОТРАЖЕННЫЙ УДАР
На земле — все битва!..
«Распни Его!»
Не хвали день до вечера.
С конца января, как только слова «война, война!» прозвучали в стенах Сейма, разбивая последние надежды на мирный исход, которые таились на дне души у более робких и нерешительных, — еще сильнее закипела жизнь столицы, чем до этого решительного дня.
Горячечная деятельность, хотя и не совсем толковая и целесообразная, охватила особенно военное министерство. Так, например, все отставные и уволенные были взяты на пополнение вновь формируемых 3-го и 4-го батальонов и 5-го, 6-го эскадронов. А всю массу нового набора пустили на образование «новых» полков молодой армии. Между тем, если бы новобранцы, как водится, вошли в ряды старых солдат, они там скорее могли узнать все приемы и напитаться боевым духом. Теперь же плохо, наскоро обученные, даже вооруженные наполовину косами новые полки являлись очень сомнительной боевой силой.
Затем полковником Колачковским и другими было предложено перевезти из Модлина в Варшаву около двухсот тяжелых орудий, необходимых для обороны. Их успели перевезти лишь тридцать… И многое такое еще. Но все же работали усердно, лихорадочно.
Со всех сторон посыпались пожертвования в военный фонд, подписка, объявленная для этой же цели, народный внутренний заем был пополнен довольно дружно.
Добровольцы прихлынули не только поодиночке, но целыми толпами, батальонами, даже полками…
В середине января Варшава восхищалась и радовалась, когда на Краковском предместье, заливая всю глубь улицы, сверкая алыми верхушками своих шапок, как поле, усеянное маками, показался отряд «Кракусов» в две тысячи человек и почти бегом направился к Колонне Жигимонта, потрясая над головой блестящими, остро отточенными косами, насаженными на древко, вроде прямой секиры или рогатины. Отец Бернардин с крестом в руке ехал впереди полка. У Колонны разом опустились люди на колени, и зазвучал торжественно молитвенный гимн к Богородице, вырываясь из двух тысяч человеческих грудей, полных одним желанием, одним чувством — защитить родную землю или умереть.
Клики восторга смешались с рыданиями женщин и мужчин в толпах народа, заполнившего площадь…
Чем ближе надвигался опасный миг, тем больше росло воодушевление столицы. Только высшая шляхта, особенно пани и паненки, испуганные предстоящими ужасами осады и войны, покинули Варшаву, переселились в Краков, Вену и Париж.
Наконец в первых числах февраля в Варшаву от комиссаров Ломжинского, Августовского и других поветов стали получаться извещения, что первые отряды россиян, все больше казаки, перешли границу и вступили в пределы Польши.
А еще через несколько дней вся армия фельдмаршала графа Дибича-Забалканского, в числе 115 000 штыков при 396 орудиях, развернув фронт почти на шестьдесят миль, стала заливать край и надвигаться прямо к столице, постепенно стягивая отряды от окружности к этому центру.
Радзивилл, набожный и чистый, далекий всяких интриг, безупречный как человек, вождем быть не мог и не умел. Он больше молился перед Распятиями и чудотворными иконами, которые возил за собою. Настоящим руководителем кампании являлся Хлопицкий.
Но последний и теперь даже не успел или не умел выбрать себе определенного плана, ни оборонительного, ни наступательного.
Одетый не по-военному, в простом, до горла застегнутом сюртуке — «бекеше» гранатового цвета, в мягкой фуражке, с папиросой во рту, он слушал предложения планов, которые сыпались с разных сторон, от Прондзиньского, Хшановского, Дверницкого и других… Решения никакого не принимал, а когда его спрашивали:
— Что же мы будем делать, когда подойдут россияне?
На такой вопрос он неизменно, заложив руки в карманы, спокойно, уверенно отвечал:
— Вздуем их хорошенько!.. Дадим тумака так, что будут помнить…
И хмурый, невозмутимый на вид, продолжал покуривать свою папиросу. Однажды только он словно вспыхнул: идея, напоминающая тактику Наполеона, зароилась в его голове.
— Вот что надо сделать, — волнуясь, говорил он окружающим. — Соберем все силы… Армия неприятеля растянулась безобразно… Над Бугом есть чудесные места, лесистые холмы… Притаимся, будем ждать и в самый удобный момент ударим на них, не ожидающих ничего… А, славно?! Вдребезги разнесем всю армию толстого крикуна Дибича!.. Гроб им приготовим в наших лесах! Гроб!..
И прежний громкий смех прозвучал, словно озарил все кругом.
Конечно, возражений не было. Дело приняли всерьез, стали готовиться. Но через день экс-Диктатор, усталый, апатичнее прежнего объявил:
— План мой никуда не годится!.. Их — полтораста тысяч против сорока. Нас отрежут фланговые отряды россиян от Праги. Столица останется беззащитной, и назад мы не вернемся. Я говорил глупости…
Напрасно его убеждали, что остается тогда прекрасный путь на Варшаву через Модлин. Он остался непоколебим и снова погрузился в апатию, посасывая неразлучную папиросу…
Кто ближе знал генерала, кто не забыл его слов о невозможности ведения настоящей войны, о том, что остается только схватиться грудь с грудью и подороже продать свою жизнь, те понимали эту спокойную маску холодного отчаяния.
Но и они возмущались бездействием человека, от которого зависело так много, который стоял фактически во главе сорока тысяч солдат, желающих не только умереть, но и победить…
— Он забывает, что народ польский, четыре миллиона живых людей, верит ему, требует от него защиты. Жестокий, упорный человек…
Так говорили даже друзья… Но апатия, в которую погрузился Хлопицкий после особенно бурно проявленной деятельности, может быть, зависела столько же от физической усталости, усиленной влиянием пятидесяти восьми прожитых годов, сколько и от нравственной, вызванной разочарованием во всем, что окружало Хлопицкого.
Польская армия понемногу росла, защита края создавалась как-то сама собою. Но передовые отряды поляков все больше и больше прижимались к главному ядру армии, расположенному у Грохова, под Прагой… Близок был час, когда пружина сожмется до отказа и наступит день решительной встречи…
Но еще до этого грозного дня судьба послала несколько своих ласковых улыбок полякам.
Осторожный, но храбрый и сообразительный в поле, генерал Дверницкий, которого назвали даже «польским Блюхером», находясь на правом берегу Вислы с отрядом, состоящим из четырнадцати эскадронов конницы и двух наново сформированных полков пехоты, при шести легких орудиях, всего имея около пяти тысяч людей, медленно отступал под натиском корпуса генерала Гейсмера, прославленного за свою победу над турками под Божолештами.
У русских насчитывалось больше десяти тысяч человек. Ни они, ни Главный польский штаб не допускали мысли, чтобы Дверницкий вступил в решительный бой с таким, превосходным по силам, неприятелем.
Но старый вояка думал свою думу…
15 февраля Варшава проснулась и зажила обычной теперь для нее, тревожной, шумной жизнью, напоминающей скорее жизнь военного стана.
Ученья, муштровка идет на всех площадях города, на просторных дворах загородных казарм, в манежах и на просторе Уяздовских и Лазенковских аллей. Где-то громыхают на полигоне пушки, идет учебная стрельба… Ударяют отдельные резкие выстрелы из ружей, целые залпы грохаются, как бочка с горы; рассеянные залпы прокатываются дробно и обрываются сразу, как будто вблизи мгновенно руки гиганта разорвали длинную полосу крепкого полотна… Это обучаются новобранцы.
Едва кончилась служба, как прямо из храмов, с лопатками в руках потянулись к окопам на Праге тысячи добровольцев, работников, работниц. Женщины, дети, старики — тянутся бесконечной вереницей, чтобы копать землю, выше и шире насыпать валы, рыть шанцы для защиты родной Варшавы…
Вот с хоругвью над головами, выводя звонкими, ясными голосками любимую песню польского народа: «Еще Поль-ска не згинела», — идут школяры, мальчуганы восьми-десяти лет и кончая подростками лет восемнадцати… Лопаты на плече, с румяными личиками, они шагают так бодро, стараясь выправкой и молодцеватым видом походить на настоящих жолнеров.
От еврейского квартала, из синагоги, тоже потянулся длинный ряд людей, большинство из них в длинных, темных кафтанах, в ермолках и треухах на голове. Только молодежь одета, как и все теперь в столице: в национальный польский костюм с конфедераткой на голове. Отряд еврейской Народной гвардии идет впереди, особо.
И у всех лопаты, заступы… Они не желают отстать от христиан при защите угла, заменившего им родину…
На углах улиц, где обычно вывешиваются распоряжения Ржонда, вести из главного штаба, газетные уличные листки и афишки, тоже сгрудились обыватели, читают все, что тут наклеено, спорят, обсуждают, критикуют действия правительства, вождей, создают свои планы военной обороны и дипломатические ходы, способные разом привести дело к самому блестящему и желанному для Польши концу…
Среди общего движения и городского шума, где тройственное звяканье костельных колоколов сливалось с окриками возниц, понукающих своих коней, с грохотом колес по ужасной мостовой, вдруг обнажившейся за последнюю сильную оттепель, с напевами божественных гимнов и залихватских военных песен, звучащих с разных сторон, неожиданно от моста, ведущего через Вислу в Прагу, показался забрызганный грязью всадник, молодой офицер. Он скакал сломя голову, по пути махал свободной рукой и выкрикивал отчетливо, громко, насколько позволял широкий галоп коня:
— Победа, поляки… Славная победа!.. Дверницкий разбил в пух корпус Гейсмера… вдвое сильнейший, чем мы… Пленные, пушки, знамена — все в наших руках. Два полковника их убито и солдат — без числа!.. У нас потерь нет почти… Господь… помог… и сохранил!.. Да живет отчизна!..
Безумными криками радости ответили толпы на эту первую весть о нежданной победе, на первый жаркий луч удачи, который озарил темноту отчаяния, таящуюся в глубине души почти у всех, несмотря на бодрый, веселый вид… Эта мучительная тьма сразу стала таять… Словно могильная крышка, висящая над многолюдным городом, свалилась, открывая свет солнца, давая надежду на воскресение, на новую жизнь…
Рыдания вместе с кликами восторга прорвались у многих. Обнимались чужие, из улицы в улицу переносилась радостная весть… Стучали в незнакомые дома, кричали в раскрытые двери, в запертые окна:
— Победа над россиянами… Бог сжалился над Польшей!..
Не успел вестник радости доскакать до замка, где заседал Ржонд, не успел он соскочить с коня, окруженный толпой, которая, надрываясь, выбиваясь из сил, бежала за ним, поспевала за скачущей лошадью, только бы скорее узнать подробно: что произошло? — а уже целая Варшава знала, что он прискакал, что он привез весть о первой победе над могучим, опасным врагом…
Вот он перед Ржондом, в кругу депутатов, которые теперь заседают почти ежедневно и собрались сейчас толпой, смешались с правителями, с министрами, пришедшими услышать радостную весть.
Волнение, восторг победы заставили измученного гонца забыть о смертельной усталости. Он стоит на ногах, и никто не сидит кругом, обступили, слушают живой рассказ. Как у юноши вестника, сверкают сейчас глаза и у стариков, загораются краской щеки, сжимаются руки… А он говорит:
— Понимаете, панове, генерал наш хотел неожиданно напасть. Потому ж их было вдвое, чем наших… Да не удалось… Эти казаки, как коршуны, носились впереди, с боков отряда, кругом!.. Все видят, обо всем упреждают своих… Ну, выходит одно: отступать надо… Стояли мы уже у Зелехова. А генерал ходит такой насупленный, надутый, словно мышь на крупу… «Неохота, — говорит, — в первую же встречу да тыл показать россиянам. Честь польского воина того не велит!» И все думает, думает… Вот мы уж и Стоцк миновали, стали на пути, ведущем к Жерочину. Неважное место, защиты мало… Да вдруг приказ дневной: бой решен на 14-е число… На вчера, значит… Мы чуть плясать не пустились мазура от радости. Про солдат и говорить нечего: молодые рвутся в огонь… Старики, кавалерия только чиститься стали да рубахи сменили… Пикеты стали наши подходить. Подали добрые вести. Видно, не боялся пан Гейсмер наших слабых сил. Прямо навалиться решил, без дальнейших историй, резервов не оставил, весь отряд в две колонны вытянул, чтобы с обоих боков напасть и раздавить нашу горсть… А не тут-то было!..
— Ну… ну!.. — звучат голоса, торопя рассказчика. Но он и сам спешит, трепещет, бледнеет, словно опять переживает весь пыл и лихорадку боя.
— Хорошо!.. Хорошо, видим, веселее стал наш генерал… Поймал кончик нитки… Уж доберется и до клубочка… Так и вышло… Построились мы, изготовились к бою… Много людям говорить не пришлось. Видим, удерживать их надо, а не в огонь посылать… Вот голова первой российской колонны показалась из лесу от Жероциня. Кавалерия, драгуны, тяжелые, рослые такие, на челе… Сзади — пушки ихние сразу показались, заговорили… Огнем и железом осыпали наши ряды. Стоим, ждем, не дрогнем, как видит Бог… как слышит меня Богородица Святая… Все одно — помирать. Хоть со славой… Да нет… Первые четыре эскадрона наших лихих улан-копейщиков бросил генерал на драгун, на пушки неприятельские… Рубят великаны-драгуны палашами… жалят их наши уланы пиками, увиваются вокруг… Редеть стали ряды драгун… Меньше половины их сидит монументами на сильных, огромных конях… И, смотрим, повернули эти кони, под защиту пушек и пехотного огня уходить стали, соединились со вторым драгунским полком, стоящим наготове, наших к себе словно зовут… Тут соколом сбоку ротмистр Левиньский на них налетел со свежим уланским эскадроном… Смертельная свалка пошла… Бились недолго, зато отчаянно… И не выдержал неприятель… Совсем назад повернули драгуны… А дорога-то узкая, по гребле, на болоте… Растянулись кишкой. Уланы их тут и приняли в пики!.. Пять пушек отбили, сто пленных попало в наши руки… А тут, торопясь на гул боя, на канонаду орудий, по дороге от Точисков показалась вторая, главная колонна Гейсмера!.. Картечью так и засылали они наши пехотные батальоны. Но те не дрогнули, огнем отвечают на огонь, их громкие песни: «Еще Польска не згинела» — заглушает даже удары орудийного огня!
— Виват, польское войско! — словно против воли вырвалось у многих.
— Тише, не мешайте, — остановили другие.
— Подождите… дайте досказать, — нервно оборвал и говоривший. — Что дальше было! Вот стоит наша живая стена, терпит. Падают люди — но сейчас же смыкаются ряды… Словно и не случилось ничего… Дверницкий, наконец, видит: пришла пора! Целую лавину конницы бросил на россиян: егерей конных, улан свежий Четвертый весь полк… Но и россияне молодцы. Хоть бы колыхнулись, хоть бы единый шаг назад!.. Пришлось нашей лихой кавалерии сдержать коней у самой этой грозной стены, ощетинившей штыки, как ряд смертельных змеиных жал. Перед самым фронтом неприятеля замерли наши люди и кони… Еще миг — двинется эта стена… Начнет брюхо пороть коням, дырявить мундиры наших улан вместе с грудью… Тем придется кинуться назад. Все рухнет!.. Но не выдал старый волк Двер-ницкий… Сам с пехотой чуть не бегом ударил во фронт вражеской колонне сбоку — другой наш отряд валит на россиян… С другого — третий!.. Врукопашную дело пошло! Полковника ихнего пан Анастасий Дунин сразу свалил своим палашом… Кровь полилась… Глядим, через полчаса поле за нами осталось!.. Уланы пустились за уходящими остатками колонны неприятельской, шесть пушек еще нам досталось совсем готовых, незаклепан-ных. До двухсот убитых россиян насчитали наши санитары… Раненых сколько, не знаем…
— А у нас?! У нас?..
— Сберегла Пресвятая Дева… — обнажая голову, проговорил печально офицер. — Убитых только двадцать семь пало на поле чести… Ранено — шестьдесят. Не тяжко по большей части… Некоторые и в лазарет не захотели… Из рядов чтобы не выходить.
Крестное знамение творят все кругом… Шепчут заупокойные молитвы… Радость и печаль так странно и жгуче переплелись в людских душах, обычно чуждых одна другой, а сейчас словно слитых воедино, сближенных, сплоченных одним сложным чувством ликующей радости и жгучей печали…
Заупокойные мессы отслужены были немедленно по всем храмам, а после — благодарственные молебны. Горел от огней целый город, иллюминированный вечером, расцветился флагами, коврами… Оркестры музыки гремят везде, ликуют, поют, веселятся варшавяне…
А в душе у всех звучит: «Помяни, Господи, и помилуй души верных сынов родины, павших за нас в бою!..»
Ничего не слышат эти убитые, ни людской радости, ни людских слез и молений, воссылаемых за них…
Они были… их не стало больше… Не нужны им ни радости, ни сожаления, ни мольбы.
А там, далеко, в холодных городах России — тоже немало пролито было слез и прочитано молитв, когда двести семей узнали, что нет больше у них отцов, сыновей, братьев…
Они были, ушли в чужой край… И больше не вернутся никогда!
Таков закон жизни и смерти, таков неуклонный жребий войны, как называют люди братоубийственную свалку, если в ней участвует много, много тысяч и сотен тысяч людей…
Но молитвы и слезы не помогают ничему, как бессильны и слова, раз загремели, заговорили пушки…
Они продолжают греметь, и кровь все льется и льется…
Отважно встречают поляки натиск мощного неприятеля, удачу посылает им случай, бог войны. 19 февраля под Вавром удачно отбили грозный напор поляки. Но силы слишком неравны: 120 тысяч против тридцати. И постепенно отступают к Грохову полю, под прикрытие пушек Праги, польские отряды… Медленно надвигаются на них бригады и дивизии Дибича…
Близок решительный бой… Слышны уж совсем ясно в Варшаве удары орудий, рокот ружейной перестрелки во время небольших отдельных стычек между передовыми отрядами обеих армий…
И вдруг затишье настало на короткое время… Нащупали друг друга враги-братья. Готовятся к большому бою…
Бой начался 24 февраля, когда на подмогу Дибичу явилась свежая дивизия князя Шаховского… И началась затяжная битва на три дня, стихая под Бялоленкой на краткие часы ночи, загораясь снова на Гроховских полях вместе с утренней зарей следующего дня.
У Бялоленки Шаховской, имея за собой двадцать тысяч штыков и сорок восемь пушек, уже успевший опрокинуть слабые отряды графа Казимира Малаховского, сам принужден был остановиться, сойти на новый путь, когда Круко-вецкий со свежими силами в числе двенадцати тысяч людей при двадцати четырех орудиях соединился с отступающим Малаховским, двинулся в атаку, осторожно, но упорно вырывая у россиян пядь за пядью пройденный ими уже путь…
Очистили Бялоленку поляки, взяли три пушки. Но за собой оставить позиции не пришлось… Надо спешить к Грохову, где, словно эхо, отзываясь на канонаду Шаховского и Круковецкого, загремели пушки Дибича, а потом и у Хлопицкого, в польской армии…
Накануне гроховского боя Хлопицкий с Баржиковским обходил позиции, чтобы выяснить, что еще надо и возможно сделать в эти последние часы.
— Хорошо бы тут для защиты наших орудий возвести земляные насыпи. Ведь наша артиллерия куда слабее российской, — заметил осторожно Баржиковский, угнетенный, словно сам зараженный усталым безразличием, которое ясно было написано на лице Хлопицкого.
— Так полагает… пан? Пожалуй… Нет, впрочем… Если уж дело дойдет до того, что враги подойдут так близко, никакие насыпи тогда не помогут. Мне ли не знать россиян, когда они уж чувствуют, что победа близка?! Грудью надо защищать орудия, отвагой войск, а не насыпями… А вот, — внезапно оживляясь, быстрее заговорил он, — видит пан эту олышшку? Рощицу такую хорошую на холме… Летом она хороша: зеленая, веселая. Шуму лесного полна и цокота птичьего… Вот эта роща — ключ всей позиции Гроховской. Пока она у нас в руках, победа за нами!.. Увидите, как на нее накинутся россияне… А тут им — и гроб! Вот в этой ольшинке!
И даже улыбка появилась на бледном, вечно хмуром теперь лице.
— Гроб… гроб!.. — много еще раз повторил он, двигаясь вперед и озирая позиции, проходя мимо коновязей и лагерных стоянок своего войска…
Эта мысль словно овладела Хлопицким, и весь главный бой, случайно ли, по его ли воле, действительно скипелся вокруг ольховой рощи, где сиротливо темнели стройные деревья, подымая к небу причудливое плетенье, тонкий узор оголенных ветвей.
Еще вечером накануне боя Хлопицкий, созвав Военный совет, указал, что позиция неприятеля много лучше польской.
— Лучше нам заблаговременно перейти на левый берег и готовить защиту города!..
Все в один голос горячо восстали против этого.
— Пусть так, будем драться, — усталым голосом согласился тогда Хлопицкий.
Ему пришлось вести первую линию войск в огонь. У болота на правом крыле он поставил дивизию Шембека. Стрелки Кушеля засели в лесном молодняке. Гренадеры, новый двадцатый полк и две батареи подполковника Пионтки и Наймановского стали у Грохова.
Ольшину заняла целая дивизия Жимирского, слева подкрепленная дивизией Скшинецкого, за ним — две кавалерийских дивизии Уминьского, составляющими как бы связь между главной армией и генералом Круковецким, надходящим от Бялоленки.
За Шембеком в боевом порядке развернулись резервы артиллерии и конница до самых прагских окопов… Здесь начальником — граф Любенский.
Радзивилл со своим штабом занял наблюдательный пункт у Железного Столба, старого памятника воинам польским…
Сам Хлоцицкий, в своей неизменной гранатовой бекеше, первое время оставался при батарее Пионтки, откуда можно было следить за развитием первых мгновений боя.
Загремело двести орудий Дибича с севера… Прямо на ольшину Розен первым повел двадцать четвертую дивизию… Но меткий огонь польских орудий заставил скоро отступить. Две новых дивизии, пехоту и гренадер, шлет Дибич… Бригада генерала Ролланда, выдержавшая первый натиск неприятеля, стала колебаться, терять силы… Жимирский спешит ему на помощь, отбрасывает ряды россиян… Они снова наваливаются… и опять… Трижды переходил из рук в руки опорный пункт позиции, небольшой ров, пересекающий посредине густой ольховый лесок…
Только когда Жимирский, шедший впереди солдат, пал, смертельно раненный, дрогнули ряды его дивизии… Стали отступать поляки, и ольшинка осталась за россиянами. Но не надолго. «Чвартаки» Богуславского и восьмой полк Скшинецкого со штыками наперевес ринулись лавиной и выбили из лесной заросли неприятеля, дальше погнались за уходящими отрядами его.
А меткий огонь орудий Рженецкого, Нешокоца и Турского и ружейные залпы заставили обратиться в бегство опрокинутые ряды россиян.
Сам Хлопицкий, с папиросой в зубах, в решительный миг повел Гренадерский полк в атаку. И вид этого «штатского» с львиной гривой, с горящим взором, со штыком наперевес — устрашил неприятеля, стоящего впереди… За тридцать шагов уже увидели поляки, как дрогнули ряды, готовящие им встречу, и повернули назад, к своим, под защиту пушек Дибича. Безумная храбрость генерала охватила страхом врагов. Высоцкий везде и всюду при Хлопицком, хотя уж два коня убито под ним…
Резервы шлет свои Дибич… Грохочут орудия… Но по рядам польских войск разливается вместо российского «ура» песня народная… И с нею, словно на парад, бешено кидаются в огонь солдаты, опрокидывают все на пути!..
Сам Дибич, по примеру Хлопицкого, пошел в огонь… С ним рядом Нейцгард, Пален, Толь, даже Фрейганг, еще не успевший залечить свою раненую голову… Они грозят отступающим, гонят их обратно!.. Последний резерв, Гвардейский полк Константина, пошел в контратаку… Тогда лишь остановился натиск польских полков, а россиянам снова удалось пробиться к ольшине, теперь забрызганной кровью, где вся земля мокра от крови, где нет дерева целого, не пронизанного пулями и осколками картечи.
Три тысячи польских трупов лежит здесь… Больше, чем деревьев в гибельной рощице…
Снова завязался упорный рукопашный бой.
— Не уступлю позицию!.. Она будет за нами, или я сам погибну тут же, — вне себя кричит Хлопицкий, видя, что россияне почти заняли заклятый, убийственный клочок земли, покрытый трупами.
Поскакал Высоцкий и другие ординарцы в разные концы. Шембеку дают приказ ударить слева на этот ключ позиции… Любенскому трижды послано распоряжение прийти на помощь Хлопицкому, с фронта налететь конницей.
Уже второй час дня… Пот и кровь на лицах солдат смешались и засыхают пятнами… А Любенский не идет…
— Не знаю я Хлопицкого, — говорит надменный и трусливый граф. — Только князь Радзивилл может посылать мне приказы… А не этот отставной бригадный генерал, пехотный фронтовик, не понимающий ничего в делах кавалерии…
— У, проклятый, погоди, сочтемся еще с тобою! — бормочет Хлопицкий, услыхав такой ответ. Шпорит коня, спешит к Радзивиллу.
Приказ получен…
Обратно несется генерал, дрожа от гнева, пылая боевым огнем. И вдруг прозвенела вблизи тонко, противно граната… Удар, разрыв, и, осколками раненный в обе ноги, валится молча на землю Хлопицкий…
Упала отвага польской армии с ним вместе… Отлетела удача… Замешательство началось во всех отрядах, не знающих, что дальше делать?.. Как поступать?
Пока Высоцкий бросился за носилками, Прондзиньский склонился над раненым и, видя, что тот не потерял сознания, задает самый главный вопрос:
— Кому вести дальше бой?
Стиснув зубы, превозмогая боль и стоны, раненый бормочет:
— Скшинецкому. Он сегодня дрался молодцом… Скажи… Всеми силами пусть ударит и вырвет ее из рук у россиян… Ольшину…
Вдруг словно припомнил что-то, сделал резкое движение, силясь приподняться:
— А ведь нынче тоже пятница, полков…
Обморок не дал досказать…
Явились носилки. Раненого унесли…
Скшинецкий, которому Прондзиньский передал назначение экс-Диктатора и «штатского» вождя, сразу словно вырос на глазах у всех и приказал созвать к себе начальников частей.
— Еще не все, — говорит Прондзиньский. — Генерал приказал, просил во что бы то ни стало снова овладеть ольшиной и не выпускать ее из рук!.. Он сказал…
— Э, да разве ж то возможно, сам погляди, пан полковник, какой ад там творится?! Стоит ли людей напрасно посылать на убой… У нас есть о чем подумать поважнее… — сказал досадливо новый вождь — и отъехал…
Линия боя сразу как-то ослабела, словно упал туго натянутый шнур и нет страха ни на одной, ни на другой стороне.
Не задаются россияне вопросом: отчего слабеет бешеный натиск, отчаянный отпор в иных местах со стороны поляков?
Дибич рад временной передышке… Тоже дает отдых измученным полкам… Поредели их ряды… Еле на ногах стоят люди после восьмичасовой смертельной борьбы…
Но, чу! — слышны стали трубы подходящих полков Шаховского…
Духом воспрянул умный силезец Дибич. Сзади есть заручка, значит, можно рискнуть.
Десять тысяч конницы, всю кавалерию свою под начальством Герстенцвейга бросает Дибич на центр польской армии.
— Вы должны мне, генерал, добраться до самых окопов Праги! Там золотой Георгий приготовлен для вас…
Опять заговорили двести пушек Дибича на высотах Вавра и Выгоды… двадцать четыре полевых орудия очищают прямую дорогу русским всадникам… Бурей несутся все десять тысяч, эскадрон за эскадроном. Дрожит, зыблется влажная земля… Протяжно стонет, словно в муках! Много детей ее ляжет сейчас у нее на груди, под копыта этого живого урагана, этой лавины животных и людей, доведенных кипением боя до состояния озверелости…
Опрокидывая все на пути, мчатся российские эскадроны, рубят, секут… Дрогнула дивизия Скшинецкого, думавшая ружейными залпами разредить живую скалу, разбить ее, отколоть от нее хотя бы осколки… Расстройство наступило по всей линии…
Уже чересчур «нервный» для народного гвардейца граф Антоний Островский проскакал по улицам Варшавы, крича:
— Закрывайте дома и лавки… Все закрывайте… Идут москали!
Ужас разлился уже волною по столице, и рос, и рос что ни миг… Мечутся люди! Проклинают, плачут! Стоящие на валах Праги видят, что уже близко эскадроны врагов.
Но Рок в последний раз пожелал даровать удачу польским орлам.
От Бялоленки показался головной отряд дивизии Круковецкого… С холмов Шмулевщизны заговорили орудия Гелгуда… Сбоку Скальский со своми ракетными орудиями грохнул градом конгревских гранат в самую гущу кавалерии российской, бешено мчащейся стеной!..
Снаряды с ревом рвутся под копытами коней, убивают их и всадников… Все смешалось… Свои налетают и сшибают своих же!.. А тут еще сбоку Клицкий во главе Второго уланского полка, с эскадронами Замойского, налетел на кирасиров принца Альберта, несущихся во главе всей массы российской кавалерии.
Смятые, поражаемые копьями, кирасиры дают тыл…
Но ни одному почти не удалось избежать неволи либо смерти… Полковника Мейендорфа Клицкий как рыцарь спас от гибели. Полковник Зон попал в руки полякам…
Гибель кирасиров сразу словно заворожила ураган, поднятый копытами российской конницы, неудержимо летящей вперед.
Одни эскадроны заколебались, остановились, не зная, что начать, другие сразу дали тыл.
Началась паника, знакомая только тем, кто бывал в огне, в кровавых боях…
Мчится назад вся лавина, но уже не сплошною массою, а разбитая, рассыпанная, как будто лава, шедшая грозным током, вдруг разлилась, разбилась на тонкие неопасные ручьи…
Пол огнем польских ружейных и пушечных залпов, через рвы и камни, падая, ломая руки, шеи, несутся россияне…
Конница Скшинецкого спешит за ними…
Вот настигает, близко!..
Но россияне-кавалеристы понемногу сдерживают бег коней, раздаются кусками по сторонам эскадроны, и на дороге, ведущей от Бялоленки, ощетинясь штыками, зачернела грозно и широко колонна Шаховского, готовая к контратаке.
Едва успели скинуть ранцы славные «варненские львы», гренадеры Шаховского, покрывшие себя лаврами под стенами Варны, и стоят, ждут удара польской горячей, бешеной конницы…
Но удара не было.
Уже вечереет… Устали кони и люди… Назад отзывает Скшинецкий свои эскадроны, не решается их обрушить на штыки российской пехоты…
Спустилась ночь…
Затих кровавый бой…
Видя свой тяжкий урон, Дибич дает приказы отступить на старые позиции… Чтобы не попасть снова под неожиданные тяжкие удары упорных польских когорт… К полному отступлению готовятся россияне…
Видя, что силы истощены, дает Скшинецкий такой же приказ по армии: «Отступать под прикрытие прагских окопов и батарей!»
Варшава очутилась в осаде.
Так кончился тяжкий бой на Гроховских полях, где тела людские валялись грудами, рядом с сотнями и тысячами конских трупов, с осколками снарядов, с обломками орудий и зарядных ящиков…
Золотым крестом был награжден Скшинецкий и чином генерала за этот бой, которым закончился первый период войны между Россией и Польшей в 1831 году.
Тут выбыло у россиян свыше двенадцати тысяч из строя, а у поляков до семи тысяч людей. Новые полки польские, наполовину вооруженные косами, получили славное боевое крещение и так отважно стояли в огне, что Хлопицкий, лежа в перевязках, сказал:
— Я виноват перед нашей «рухавкой»… Это — славные жолнеры, не уступят старым… Э-эх, если бы после боя, ночью же ударить снова на россиян… Не ушел бы ни один… Они были совсем измучены, выбиты из колеи… Эх, кабы я мог сам!..
Но Судьба нашла, что надо положить конец удаче польского войска… Началась затяжная война, с переменными успехами… Дибич вынужден был отступить к Седлецу… Потом умер при загадочных условиях. Вторично осажденная Паскевичем Варшава сдалась победителю, — так закончилась печальная, грозная эпопея братоубийственной войны 1831 года.
— Finis Poloniae! «Сгибла Польша!» [12] — так часто повторяли Хлопицкий, Чарторыский, Немцевич и тысячи честных, искренних патриотов еще задолго до взятия Варшавы, когда видели, какой развал, какая рознь началась в польском войске и среди правящих крулевством лиц немедленно после Грохова, как эта рознь росла и не утихла даже в тот момент, когда пылающие укрепления Варшавы и Воли видели веянье русских знамен, пришедших на смену уходящему польскому Белому орлу…
Это — самые печальные страницы в истории изображаемой нами борьбы двух родных народов…
Но мы их развернем…
Былое горе учит людей ковать радости в Грядущем…
Будем же у Былого брать добрые уроки для этого Грядущего.
― СГИБЛА ПОЛЬША! ―
(Finis Poloniae)
Роман-хроника
От автора
Настоящая книга является последней из четырех, посвященных мною истории Польши начала минувшего столетия.
Вышедшие раньше два романа: «В стенах Варшавы» и «Осажденная Варшава» — рисуют эпоху от 1815 года до февраля 1831 года, то есть касаются Польского королевства, созданного АлександромIна Венском конгрессе, так называемой «Конгрессувки», дают очерк выпуклой фигуры цесаревича Константина, фактического «хозяина» «Конгрессувки» в течение 15 лет, вызывают перед глазами дни ноябрьского восстания в Варшаве, которым закончилась пора, отмежеванная Судьбой для призрачного крулевства с воображаемым конституционным строем…
Дело дошло до того, что, по выражению профессора и дипломата Лелевеля, «самодержец всероссийский НиколайIоказался вынужденным воевать с конституционным крулем НиколаемI».
И настал страшный день боя на Гроховских полях…
Но даже не в этом главный интерес изображаемой поры и тех последних месяцев кровопролитной борьбы, которые описаны в настоящей книге и в прежних трех.
«Сгибла Польша» — так вслух говорили лучшие сыны тогдашней Польши… Так думали почти все…
Действительно, с падением и сдачей Варшавы 9 сентября 1831 года, со вступлением армии графа Паскевича Эриванского в привисленскую столицу — сгибла «старая Польша», полная средневековых пережитков и особенностей, напоминающих для нас теперь «старую Японию», которую в обновленном ее виде россиянам пришлось узнать так неожиданно и так… близко.
Не стало Польши полуфеодальной, с ее аристократическим Сеймом, где не было партий, как мы их понимаем теперь, но не было и проявлений зрелой политической мысли народа… Да и самого народа, принимающего участия в государственной жизни, тоже не было в этой старой Польше. Только магнаты, чиновники и мелкая земская шляхта посылали депутатов в Сейм, из них избирались члены второй высшей палаты, именуемой Сенатом польским.
«Народ безмолвствовал» даже в городах. А о деревенских хлопах, об этом «быдле», о серой скотине, как ее звали паны, и говорить нечего… Они еще несли иго барщины и если не знали всей прелести русской крепостной системы, то нечто близкое было им хорошо знакомо.
Еще ксендзы, мелкие и крупные, отцы-пробощи и высшие князья церкви играли большую роль в экономической и политической жизни края. Особенно сильно его влияние было среди женской части населения…
И вдруг после парижских Июльских дней, после Брюссельской революции повеяло чем-то иным под сводами старинных вельможеских палацев, под готическими арками древних храмов, на площадках, на улицах, даже на просторе деревенских полей и лугов.
В Варшаве это движение ярко и сильно проявилось взрывом революции 29 ноября 1830 года.
Потом началась война с Россией, тянувшаяся с переменным успехом больше девяти месяцев… И понемногу стала выясняться в эти дни новая «Молодая Польша», демократическая, «сознательная», которая после содроганий 1863 года как бы притаилась, ушла в себя, ища новых путей для самоопределения и освобождения духовного и экономического, как и подобает «современным» народам, отошедшим от фантомов средневековой поры…
Но при легком даже знакомстве с былым Польши — невольно хочется получше разобраться в сложном переплете ее переживаний, проследить эту печальную героическую эпопею, какою несомненно является польско-русская война 1831 года.
И для такого знакомства с былой шляхетно-ксендзовской Польшей начала прошлого столетия нельзя представить себе ярче и выразительнее поры, чем «дни Листопада» и все, что вызвало горение народного духа в течение 9 месяцев и 10 дней, закончившись падением Варшавы.
Собственно, агония тянулась еще некоторое время и потом; предсмертные трепетания народного духа стихли не сразу.
Модлин, Плоцк, Рыбин, Свидзебно и наконец Шпеталь — вот этапы, по которым влачились остатки польской армии и «странствующее» Народное правительство Польши, бессильное, гонимое… Пока не расплескались за прусской гранью последние волны народной бури, так сильно взметнувшей к нему свой мощный прибой ночью 29 ноября 1830 года и так скоро истощившей свою грозную силу в бесцельных, нелепых порою порывах, в круговороте сословных и партийных противоречий, в пене и шуме полуусвоенных понятий, полуосознанных стремлений, стихийных страстей…
Словом, было все, что бывает при большом народном волнении. Но судьба не послала Польше одного: даровитого, прозорливого, сильного вождя с чистым сердцем и ясным умом.
И грозная игра была проиграна с самого начала, даже когда первые блестящие успехи наполняли восторгом сердца лучших патриотов страны. А их было немало. Были среди них и герои, и героини.
Были тут и политики высшего полета, и мелкие политиканы… Крупные карьеристы и бессознательные хвастуны; были подлецы и предатели… Все как водится.
На черном фоне «дельцов»-изменников, вроде графа Грабовского, князя Любецкого, Курнатовского, Любовицкого, среди колеблющихся очертаний таких личностей, как граф Залусский, князь Радзивилл, Шембек, литвин Гелгуд, в толпе честолюбивцев и политиканов, состоящей из Адама Чарторыского, Лелевеля, Скшинецкого, Дверницкого, графов Любенских и Круковецкого, обоих Немоевских, Хлаповского, Прондзинъского, Заливского, не говоря о нулях, вроде Рыбинского, Венгржецкого, Ролланда, — на всем этом тусклом общем подмалевке жизни яркими искрами, светлыми пятнами горят образы таких людей, как безногий генерал Совиньский, весь словно литой из бронзы; как Фр. Мицельский, Владислав. Островский, великолепный Дембинский, генерал Уминьский, Петр Высоцкий, Эмилия Платерувна, эта польская Жанна д'Арк, с ее мужественными подругами, ксендз Адам Лога с несколькими другими служителями алтаря, Парчевский, Станевич и наконец сам диктатор — Хлопицкий, невольно, по роковому своему недомыслию погубивший дело родины, но безупречный гражданин и воин…
Все они были связаны воедино тесным, жгучим узлом общего напряженного стремления: дать новую жизнь восставшей родине.
Узнать этих людей — значит узнать всю Польшу той поры.
При всем этом отсутствие «простого народа», его далекое положение от переворота придает особое значение этой если не «барской», то — военно-городской революции, желавшей решать судьбу страны и целого народа с помощью народных сил и крови, но без участия общенародного разума и воли, без всякого идейного влияния со стороны масс.
Подобное стремление вождей восстания много помогло провалу общего дела…
Словом, выпуклые, красочные картины быта и загадки внутренней жизни народа, его гражданского и политического самоопределения, его творческая мощь — все это выявилось в пору «дней Листопада», в пору падения Варшавы, когда польский Белый орел склонился перед орлом Двуглавым.
И невольно влечет поближе узнать эти бурные, давно минувшие дни, ставшие теперь достоянием истории…
Ведь история — это критика минувшего, урок для настоящего, прорицание — для грядущих событий и дней!..
Л. Ж.
Часть первая СВЕТЛЫЕ И ЧЕРНЫЕ ДНИ
Глава I ДЕТРОНИЗАЦИЯ
Война — дело Мрака, созданье Духа Тьмы…
«Каин, где брат твой, Авель?»
Книга БытияЯсное морозное утро разлилось над Варшавой, над Вислой, над окрестными лесами и полями, одетыми белою пеленою снегов, сверкающих мириадами искр под бледными лучами зимнего солнца.
Весело разгорается роковой для Польши день, вторник 25 января 1831 года.
Спозаранку полны людьми площадь перед крулевским замком и прилегающие к нему улицы. Забрались любопытные и в наружный двор замка. Публика почище протиснулась в нижние покои, разлилась по коридорам. А самые отважные протолкались не только на хоры для публики, где уж яблоку некуда упасть, но и в нижнее помещение зала, где часа через два начнется заседание Сейма.
Очень обширен зал заседаний Сейма; высокий, в два света, он кажется величественным в своей благородной простоте. По шести колонн с каждой стороны поддерживают боковые галереи, висящие так смело и легко на трехсаженной высоте. А еще выше этих галерей — ряд больших окон льет потоки света, наполняя им середину зала и все углы за колоннами, где под галереями, за довольно высоким барьером стоят ряды кресел для «панства, поветовых послов», т. е. — депутатов Сейма.
Особенно залит светом трон под балдахином у стены, стоящий на возвышении, к которому ведут несколько ступеней. Две двери темнеют по бокам. В них появлялись еще так недавно крули-цесари: величественно прекрасный Александр, Николай, такой же рослый, но далеко не так обаятельный, царственно ласковый, как его покойный брат. Сегодня пустует трон. Никто не появится из боковых дверей, не совершит обычной формулой открытия Сейма, не скажет тронной речи… Сейм открылся самочинно и правит во имя «державных прав польского народа», как объясняют всем незнающим депутаты-калишане, правоверные конституционалисты от начала до конца.
На другом конце зала, против трона — стол и кресло маршалка, президента Сейма, места его секретаря и товарища председателя. Здесь же невдалеке, у барьера, отделяющего места за колоннами от срединного простора зала, устроены места для газетных сотрудников — приезжих и своих.
С этой стороны находится также общий вход в зал Сейма.
Несмотря на раннюю пору, депутаты почти все уже в сборе. Одни кучками собрались в боковых комнатах, в более спокойных и пустых концах широких коридоров и обсуждают прошлые события, готовятся к предстоящему «большому», боевому дню… Другие прямо направляются в зал, отыскивают и занимают свои места, причем нередко приходится выдворять оттуда кавалеров и дам, решивших, что можно занять и депутатские места, раз они стоят свободны…
До тысячи человек, вместе с галереями, может вместить сеймовый зал. Но сейчас, еще задолго до прибытия полного состава Сейма и членов Народного Ржонда с министрами, что даст около 150 человек, он залит людьми до краев. Даже ступени тронного возвышения и все пространство перед ним, обычно свободное, занято теперь почти сплошною массой публики, преимущественно военными, молодыми и старыми, высших и низших чинов.
В мундиры разных ведомств одето больше чем 3/4 тысячной толпы, успевшей заблаговременно влиться в стены заветного зала. И на хорах, за первыми рядами дамских блестящих, изысканных туалетов, — вплоть до самых стен пестреют уланские и гусарские колеты, мундиры артиллеристов, инженерного войска и славной польской пехоты, известной своими подвигами в пору наполеоновских войн не меньше, чем их собратья — легкие кавалеристы и солидные пушкари…
Среди депутатов большинство тоже носит мундир, хотя бы милиции, Народной гвардии, как граф Антоний Островский, щеголяющий при мундире неизменной своей конфедераткой.
И особенно скромно, незначительно выглядит кучка «гражданских» темноцветных сюртуков и чамарок, горсть депутатов Калина, Августовского повета и других «невоенных» членов Сейма, ютящаяся особняком в одном уголке, где к ним присоединился и старик Немцевич, красивый, внушительный в своих серебристых локонах, напоминающий даже наружностью «отца Свободы», Лафайета, не только своими речами и взглядами. Тут же виден и президент варшавского магистрата, безусый, моложавый еще профессор Каэтан Гарбинский, напоминающий другого славного француза, Андре Шенье.
Вообще многие деятели польских политических кругов, случайно либо сознательно, поступками, речами и наружностью напоминают деятелей Великой французской революции 1789–1794 годов или героев последних Июльских дней… Недаром Варшаву считают «маленьким Парижем», а поляков — французами Севера.
О дамах и говорить нечего. Правда, сейчас на галереях Сейм собрал цвет польской знати. Княгиня Потоцкая, Ржевусская, Сапега, Эльская, Радзивилл и молодая Замойская почти все свои туалеты, до туфель и перчаток включительно, получают из Парижа. Но и дамы среднего круга, не имеющие возможности пробраться сегодня на заветную галерею, гуляющие с утра у замка, чтобы скорее поймать интересные вести из Сейма, и они словно сошли с модных картинок последних парижских журналов.
Особой группой на лучших местах галереи сидят основательницы самого любимого и почитаемого в Варшаве «Общества охраны детей воинов, ушедших в бой». Здесь все участницы Комитета — графини Красиньская, Ржевусская, Броель-Платер, жена сенатора, пана Михаила, Собеская, Ледуховская, затем пани кастелянша Наквасская, Рембелинская, генеральша Кицкая, Бжестовская, пани Бишпингова, Майковская, Гарчиньская, Венгржецкая, тут же подруга Хлопицкого, пухленькая пани Вонсович, и в центре, как гостья, как особливо почетная дама, рядом с величавой княгиней Потоцкой сидит молоденькая графиня Эмилия Шанецкая.
Ей всего 24 года, скромно так выглядит она в простом темном платье без всяких украшений. Кротко светятся большие темные глаза на миловидном, нервном лице графини. Как только дошли в начале декабря до Познани вести о восстании Варшавы, графиня Эмилия собрала все, какие могла, наличные средства, уговорила брата Константина, остригла свои густые, волнистые косы, оделась по-мужски, и вдвоем они успели пробраться через границу довольно благополучно. Уже в начале декабря явилась графиня к Диктатору Хлопицкому и заявила:
— Отчизне нужны люди и деньги. Денег я привезла. Людей найдем. Мы с братом решили выставить полк по-знанских пикинеров. Славный полковник пан Август Бже-заньский приехал с нами. Сослуживец пана Диктатора, герой победы при Барри-о-Баке, отличившийся под Вязьмой, Можайском на глазах Наполеона и в Бородинском, бою. Он берется сформировать отряд. Больше 10 000 наших познанцев уже перешло польскую границу, через неделю их будет 30 000 в Варшаве. Я слыхала, правительство почему-то гонит их назад, боится поссориться с Пруссией, надеется сладить с Петербургом. Конечно, Диктатор не знает об этом. Генерал сам хорошо понимает, что на примирение надежды мало; а такую помощь, какую мы предлагаем родине, отталкивать грешно. Я жду содействия от Диктатора Польши.
Не сразу ответил Хлопицкий. Он знал, что эта хрупкая, изящная женщина с волосами, подстриженными по-мальчишески, с ее скромными и свободными манерами, полная прелести и достоинства, — известна не только в Познани, в Пруссии, Польше, но ив целой Европе. Это она, словно соревнуясь с лордом Байроном, с поэтом Шелли, создала Познанский дамский комитет на помощь повстанцам-грекам и оказала большие услуги Гетерии в борьбе с турками. Во время Июльской революции минувшего года графиня явилась в Париж, давала деньги республиканцам, ходила за ранеными, была дружна с самим Лафайетом. Странным казалось только Диктатору, что не знает графиня, кто гонит из Варшавы познанцев. Ведь это именно он, Хлопицкий, решил, что надо не воевать, а прийти к соглашению с крулем Николаем, он старается избежать великих осложнений. Но как бы то ни было, очаровательную женщину, горячую патриотку, деятельницу, известную целому миру, не может грубо оттолкнуть даже упрямый прямолинейный Диктатор. Он крайне любезно, по-французски, так же бегло и красиво, как графиня, заговорил:
— Я лично, дорогая графиня… я тронут… я положительно очарован тем, что вижу и слышу сейчас. Говорю это как честный человек. И, клянусь, не носи я сейчас почетного и тяжкого бремени власти, грозной ответственности за благо целого народа и всей Польши… я бы первый записался в полк графини Шанецкой простым пикинером. Слово чести! Но… власть обязывает умерять даже личную отвагу и думать не только о боевой славе родины, а обо всем ее существовании. Мое глубокое убеждение, что теперь еще рано браться за крайние средства. Подождем, что скажут из Петербурга. 7 января прискачет мой адъютант Вылежиньский с ответом от круля. Да или нет! Больше никаких. И если «нет»… Тогда прошу принять мою лепту и мое содействие при образовании полка героев, каким, я верю, будет полк, формируемый польской Жанной д'Арк, графиней Эмилией из Познани. А до тех пор прошу в личное одолжение — потерпеть, повременить…
Вскинула на него глаза чуткая женщина. Словно тень легкой иронии, добродушной насмешки послышалась ей в этом упоминании о Жанне д'Арк. Но время ли думать и толковать о пустяках?
— Благодарю вас, генерал, и за такое полуобещание, — просто ответила графиня. — Буду ждать. Благо — недолго… Хотя время слишком дорого… И я оставляю за собою право вести подготовительные работы.
На этом они расстались.
Пришло и прошло 7 января. Из Петербурга прислано решительное «нет!». А Диктатор, вопреки желаниям общества, настояниям Верховного Совета и многих членов Сейма, все-таки упорно продолжал вести свою «примирительную» игру… Собрался Сейм, Диктатор потерял власть.
В первом же заседании Сейма, 20 января 1831 года, когда выяснилось, что войско далеко не сформировано, что нет вождя, нет гражданских властей, не заготовлено в течение двух месяцев всего, что нужно для войны, тогда закипела работа.
Раньше всего — восстание, вспыхнувшее 29 ноября, признано было делом всенародным. Сейм высказал благодарность военной молодежи и жителям Варшавы, так отважно проявившим себя в первые трудные минуты. Затем избран был Народный Ржонд из пяти лиц. Председателем явился неизменный князь Чарторыский, его сотоварищами — Станислав Баржиковский, Теодор Моравский, Вин-центий Немоевский и, конечно, профессор Лелевель.
Партий в том смысле, как это понимается в парламентах Англии, Франции, их не бывало в сеймах «Конгрессувки», проходящих под зорким надзором цесаревича Константина и Новосильцева. Не существует их и в Вольном польском Сейме 1831 года… Но как-то само собой вышло, что в состав правительства вошли представители трех главных течений мысли в депутатской среде; а эти течения, разумеется, соответствуют основным настроениям целого польского «народа-шляхты».
Хлопов-землеробов на Сейме нет, значит, и говорить о них нечего…
Все три настроения, или зачатки будущих партий, легко было различить даже в том «парламенте характеров», а не умов, каким всегда являлось собрание депутатов Сейма.
Самые умеренные и осторожные, крупные собственники, магнаты настаивали заодно с Хлопицким на переговорах, на уступках Петербургу, только бы избежать войны, не рисковать тем немногим, но существующим, что было в руках, ради воображаемых благ, добытых борьбою и кровью… Более отважные и последовательные конституционалисты, депутаты Калиша и вообще депутаты независимого характера — готовы были на крайнюю борьбу, только бы отстоять сполна «хартию вольностей», полученных поляками на Венском конгрессе. Эти особенно надеялись на дружескую помощь и заступничество Франции и Англии. Третья, еще более решительная партия так называемых реформистов стояла за немедленное провозглашение былой республиканской Речи Посполитой, в крайнем случае с каким-нибудь иностранным принцем во главе, как, например, эрцгерцог Карл Австрийский или Жозеф Наполеон, герцог Рейхштадтский. Все прежние провинции: Волынь, Литва, Жмудь, Украина и Подолия — должны слиться с привислянской Польшей, Познань и Краков тоже не мешает вернуть в старое лоно, если не сейчас, то после…
Так думали и громко возглашали депутаты, в большинстве из членов Патриотического Товарищества.
Чарторыский и Баржиковский представляли первое течение. Немоевский и Моравский — второе и, наконец, Лелевель — был главным, хотя и не всегда отважным вождем третьей партии.
Было еще и четвертое настроение. Радикальная молодежь мечтала о Великой Социальной Республике, о переделе земли и всех земных благ, об освобождении холопов и наделении их пашнею, конечно, магнатов, владеющих огромными пространствами земли, пропадающей зря или плохо обработанной рабскими руками.
Порывистый Валентин Зверковский, народник, Ян Ольрих из Шанецка, Климонтович, Рембовский, даже аристократ генерал Дембинский, другой генерал, Левиньский, кастеляны Бнинский и Леон Дембовский — с первых и до последних дней сами настойчиво поднимали вопрос о полном освобождении холопов, о бесплатном наделе земли, об уравнении в правах не только крестьян, но и «поляков-старозаконных», то есть евреев.
Эти прозорливцы твердили, что 300 000 рук поднимется тогда на защиту края, вольных крестьянских рук… Но благородные люди хлопотали о чужом интересе. Холопы не имели своих представителей в шляхетном Сейме, руководимом магнатами, владельцами десятков тысяч десятин земли… Отсутствующие всегда не правы! Не выиграли своего дела и холопы. Проиграла также и революция… Но это было впереди. А пока три главных партии правили Сеймом и Польшей, да еще клала на весы тяжкую руку военная партия, ищущая побольше наград и чинов.
Никогда нельзя было угадать наперед, какой исход будет иметь голосование по каждому отдельному вопросу. Все зависело не только от наличного состава панов депутатов, но и от их настроения в данную минуту, от прихоти случая. Только в одном этот анархический коллектив, этот разноголосый Сейм шел дружно, стеной: когда дело касалось обороны страны, военных приготовлений и затрат.
Здесь все сливались в едином желании: сделать как можно лучше, затратить без раздумья и учета все наличные средства казны.
Если не разумом, то своим женским чутьем понимала, конечно, графиня Эмилия запутанное положение вещей. Но сейчас ее занимало не будущее, а настоящее.
Не стало Диктатора. Вместо него вождем армии избран мягкий, безвольный, но рыцарски-благородный, чистый князь Михаил Радзивилл. Всех добровольцев из Пруссии, из Галиции, из Завислянской земли, литвинов, жмудинов, охотно принимают в Варшаве. Полк познанских улан совсем готов, сформирован. Цвет молодежи Познанского княжества вошел в ряды не только в качестве начальства, но а простыми воинами… Правда, большая часть состояния графини и брата ушла на задуманное ими дело. Земли заложены, проданы последние, самые скромные украшения, не говоря о родовых бриллиантах. Но светится личико графини чистой радостью. Внимательно оглядывается она кругом, ласково улыбаясь, отвечает на вопросы, которыми осыпают ее патрицианки варшавские, искренне очарованные женскими подвигами и самой графиней, такой неподдельно скромной и милой на вид.
Блестящая военная молодежь, вроде Владислава Замой-ского, графа Ржевусского, князей Потоцких, двух кузенов графов Платеров, барона Калькштейна, графа Чапского и других, стоя и сидя частою цепью позади гирлянды прелестных магнаток, словно охраняет их от натиска менее изысканной публики, наполняющей до отказа остальное пространство галерей.
Среди ярких, по большей части кавалерийских, мундиров этой золотой молодежи резко выделяется темная ряса молодого ксендза с умным выразительным лицом, сидящего почти за плечами графини Эмилии.
Это капеллан Познанского полка добровольцев, ксендз Адам Лога. Отец его, воин, соратник Костюшки, умирая, сказал сыну:
— Возьми, сынок, вот этот почетный перстень, полученный мною из рук самого Костюшки в награду за мою верную службу родине, за отвагу на полях битв с врагами милой Польши. Оставляю и тебе единый мой, великий завет: борони родину… Мсти врагам отчизны.
По примеру отца юноша готов был бросить ученье и поступить в ряды войска. Но дядя его, почтенный патриот и каноник Гнезненский, успел отговорить племянника от такой неблагодарной карьеры.
— Разве только с пистолью и палашом в руке можно принести пользу родному краю? Слово — самое страшное и неотразимое оружие. Ты с его помощью сможешь выставить в поле сотни и тысячи ратников, которые со славой и успехом заменят тебя одного. Больше успеешь в темной сутане, чем в мирской одежде, мое дитя. Ты будешь утешать раздавленных гнетом, укреплять слабых, колеблющихся. Будешь разжигать слабые искры в душах, толкать нерешительных на бой. Это лучше, чем кинуться самому, сразить двух-трех врагов и пасть трупом.
Юноша послушал совета. Талант, энергия молодого ксендза привлекли внимание ученого отца Волицкого, арцибискупа Познанского, который пригласил Логу занять место в его консистории. Здесь блестящие дали открылись перед юным Логой.
Но донеслась до Познани весть о варшавском восстании. Заговорила кровь старых бойцов в жилах ксендза, известного своей примерной монашеской жизнью. Он не снял рясы, не пристегнул к боку отцовского и дедовского палаша, но вступил полевым священником, капелланом к познанским пикинерам Шанецкой, объявив, что пойдет за ними везде и всюду с Распятием в руке и молитвой на губах.
Столько же воин по духу, сколько и аскет-священник, он быстро сдружился и с тою знатною молодежью, которая занимала офицерские посты в полку, и со всеми рядовыми уланами до последнего обозного конюха… Сама графиня Эмилия никому так не доверяет, как этому юному еще ксендзу, который выглядит гораздо моложе своих 30 лет, хотя изнуряет молитвой и постом свое сильное тело, чтобы легко было блюсти обеты целомудрия и воздержания, данные при вступлении в священный сан. Особенно горячо молится и строже истязает он себя после долгих бесед с любимой «духовной дочерью своей».
Еще несколько других ксендзов видны здесь и там на галереях и в самой зале… Ксендз Лосский, ярый демагог, один из вожаков Патриотического Союза, умеющий совмещать всю горячность ревностного католика с крайними убеждениями социалиста-республиканца, мелькает здесь и там, словно надеясь и среди важной публики, наполняющей зал, отыскать новых последователей своим крайним взглядам… Ксендзы Балцерковский, Крапивницкий из Комарников — тоже покинули теплые, насиженные гнезда в плебаниях, в богатых приходах и решили разделить с народом его горе и радости, пожелали молиться за умирающих, отпускать им грехи тут же, на поле битвы, ходить за ранеными, а не полнеть и благоденствовать в своих углах, когда люди гибнут под ударами врага. Ксендз Бреанский из Венгржовца пошел еще дальше, снял рясу и сан, отрастил волосы на бритом «гуменце», на темени, и надел солдатскую шинель, повторяя всем:
— Нет выше любви, если кто и душу свою отдает за братьев своих!
Так поступали жрецы, священники, обычно самый практический и рассудительный люд во всех землях, у всех народов…
И уж не могло никого удивлять, что со всех концов света, даже из Америки, слетелись в Варшаву польские отставные рубаки, знающие Наполеона, и офицеры действительной службы в армиях прусской, австрийской, испанской, отовсюду, куда раньше разлетелись воинственные и бедные сыны Польши в поисках славы и денег.
Всесветные «кондотьеры», наемные военачальники и солдаты — слетались теперь польские выходцы под сень крыльев, которые распростер над краем старинный Белый орел.
Это ли не счастье для израненных, прославленных бойцов, постоянно тосковавших по родине, даже тогда, когда слава и удача улыбалась иным. Они все теперь могут и проявить свою доблесть, и покрыть себя бессмертной памятью не как наемные «сольдеры», вроде швейцарских гвардейцев Италии, а как защитники родной земли и вольности святой…
Вот отчего так тесно и шумно сейчас в зале Сейма и на три четверти залита она военными всех родов оружия, во всевозможных мундирах, вплоть до старопольского кунтуша и кривой сабли при золоченом поясе, позвякивающей сбоку.
Гул и говор несется по всему обширному залу, наполняя его самые отдаленные углы, отражаясь и перекрещиваясь под потолком, там, на высоте двадцать с лишним аршин, забираясь и во все закоулки галерей.
Толкуют обо всем: о наступающих ордах российских войск, которые успели залить и опустошить всю Литву и Жмудь, хотя там не встретили вооруженного сопротивления; о том, что через несколько дней они вступят в пределы Польши. Говорят о плохом выборе вождя, другие возражают, что Хлопицкий сам обещал остаться ближайшим советником князя Михаила. И если экс-Диктатор оказался плохим дипломатом и государственным деятелем, то его отвага и военные дарования слишком велики, известны целому миру, и нечего бояться Москвы, имея такого военачальника. А князь Радзивилл, состоявший в дружбе и родстве с Гогенцоллернами, тоже будет полезен краю.
Обсуждают все случайности предстоящей войны, возможность оборонительной и наступательной тактики, средства казны. Радостно делятся известием, что вчера лишь ворота Польского банка раскрылись для принятия большого транспорта серебра, благополучно прибывшего из Гамбурга. На 6 миллионов звонких «злотувек» стали богаче кладовые и подвалы казнохранилиша, где в общем сложено до 70 миллионов злотых «готувки», т. е. металлического фонда.
Вспоминают и мелочи жизни, растущую дороговизну припасов, поднятие цен на рабочие руки в городах, и там, в земской глуши, где почти вся рабочая молодежь взята уже в ряды войск по набору или готовится к этому.
Считают новые полки, формирующиеся чуть не ежедневно, подсчитывают средства обороны столицы, которая вовсе не представляет из себя укрепленного города. Молодежь попутно цитирует места из зажигательных статей, какими полны теперь газеты и журналы; напевают отрывки патриотических опер и пьес с пением, заполнявших все театры Варшавы… Перечисляют имена французских врачей и военных, которые явились на первые звуки набата к берегам Вислы; одни — лечить поляков, другие — портить здоровье их врагам. Много польской крови пролито на полях Франции, под ее орлами. И теперь галантные французы не желают остаться в долгу, спешат оказать услугу за услугу…
Сидящим на галереях прекрасно виден этот живой, многоцветный водоворот, кипящий внизу. Можно разобрать и уловить не только отдельные фразы, но и целые разговоры, особенно если направить внимание на один определенный пункт и этим как бы оградить слух от вторжения шумной волны колыхающихся, прорезающих друг друга звуков, переплетающихся между собою в огромный, многоголосый клубок.
Первый раз попала графиня Эмилия на заседание Вольного польского Сейма и с особым вниманием приглядывается, прислушивается ко всему, что происходит вокруг.
Два юных «рыцаря»-графа — Стае Ржевусский и Владислав Замойский — выдвинулись из рядов остальной молодежи, незаметно косясь на красивого ксендза Адама, заняли места у него по сторонам, как можно ближе к приезжей славной соотечественнице, которая успела совсем очаровать обоих.
Замойский постарше, он по воле случая принял самое деятельное участие в совершившемся перевороте, явился посредником в переговорах цесаревича с вождями народа и, словно бы против воли, кажется более сдержанным, сохраняет больше важности в осанке и в словах, чем его младший беззаботный, безудержно веселый, злоречивый болтун соперник.
Ржевусский, совершенно не обращая внимания на ревнивые взгляды Клодины Потоцкой, которой еще позавчера клялся в любви, теперь не сводит сверкающих глаз с Эмилии, склоняется к ней, как клонится гибкая ива над тихим ручьем, сыплет новостями, шутками, насмешками без конца. Он знает все и всех, ловит взгляды, которые графиня переносит от группы к группе, от лица к лицу и сейчас же дает свое определение, словно краткую, выразительную подпись на картине.
— Этот, толстый, такой важный, медленно шествующий по зале? Шельма первой величины… Прусский консул, тайный агент, шпион, медиатор по любовным делам, все, что хотите… но ловкая каналья, еще не попался ни разу… Нас продает пруссакам, пруссаков — нам, а русским — и тех, и других… У него даже уши навостряются и шевелятся, как у кошки, когда он замечает, что двое или трое говорят по секрету… А на вид — жирная немецкая свинья. Идет, словно дремлет на ходу… Даже, глаза прижмурил… чтобы лучше слышать, что ему надо… А этот, худощавый, с немного удивленным выражением лица? Сам наш главный герой великой ночи Листопада… Майор Высоцкий… Да, да, он самый… Можете удивляться. Конечно он и сам не ожидал, что может произойти на свете от попытки кучки головорезов, в числе 170 подхорунжих, напасть на «льва в берлоге» Бельведера и обезоружить своими слабыми руками три полка русской конницы… Притча о драке Давида с Голиафом повторилась в наши дни, хотя и не во всех подробностях… Удачно взлетевшая огненная шутиха, безвредная ракета — разбудила целый народ… и свершилось великое дело.
— Да, великое дело, — срывается негромко с уст графини. А взоры ее уже скользнули по новым, неведомым ей лицам…
— Лысый блондин в рединготе… Известный журналист и дипломат, Андрей Городисский… Вот он подошел к Высоцкому… Друг и правая рука князя Адама… Он же писал и эту знаменитую «благодарность», которую пан Высоцкий на днях поместил в «Курьере польском»… Мастерский был ход, надо признаться… Умен Чарторыский, как дьявол умен…
— Как?.. Почему же Чарторыский?.. И разве не сам пан Высоцкий?..
— Писал статью… Ха-ха-ха… Он — честный патриот, отважный солдат. Плавает превосходно. Я сам видел, как он со всеми своими учениками на коне, в полной амуниции переплывал Вислу взад и вперед на летних маневрах.
— Святой Иисусе!..
— Ничего страшного и удивительного нет… «Старушек» из Бельведера, правду надо сказать, умел создать нам первое в мире войско… Классы ланкастровские везде заведены, чтобы неграмотных не было в рядах… «Академию» плавания даже устроил… Вот этот уродец, замухрышка, что сейчас подходит к Высоцкому и Городисскому… Это — «герой номер 2», пан Заливский… Правая рука Высоцкого в перевороте… Он учитель школы плавания… А директором француза выписали, храброго полковника Франсуа д'Отэрив и лучшего пловца Европы.
— Слыхала, знаю… Но?..
— Сейчас вернемся, выплывем опять к нашей статье… Нырять умеет пан Высоцкий хорошо, но не на столбцах журналов. Там ему остается тонуть. А князь Адам заметил скверную штуку: многие магнаты, а больше новые «денежные тузы» стали выезжать из Варшавы. Во-первых, боятся войны. А второе, думают в «двойном сыграть»… Если Москва победит, они явятся как ни в чем не бывало… А эти же первые… канальи «патриоты» поджигали в свое время молодежь, обещали содействие Высоцкому с компанией… Такая была у них игра… Зато теперь, когда во всех газетах мира перепечатана горячая благодарность им за помощь революции, перечислены все имена, — теперь трусам податься больше некуда! Они и уезжать перестали, опять деньги стали вносить на общее дело, настоящими патриотами, без кавычек, заделались… Для этого стоило князю Адаму подать мысль пану Городисскому написать теплую статейку, а «отцу революции» Высоцкому к оной руку приложить…
На смех Ржевусского графиня Эмилия откликнулась грустной бледной усмешкой.
Приняв ее за одобрение, Ржевусский снова заговорил:
— Это еще что… Вот я вам расскажу, как мы выставили пана профессора Лелевеля из президентского кресла в Ржонде, куда он было совсем уже вскарабкался по плечам своих «союзников» — ослов. Недавно, три дня тому назад, разыгралась комедия… И я как раз принимал в ней благосклонное участие… Приезжаю в Сейм и узнаю, что в предварительном голосовании за этого книголюба, за ключаря костельного… Пусть не взыщет ксенже Адаме, — обратился мимоходом к Логе увлекшийся рассказчик, — за этого арцибискупского племянничка больше собрано записок, чем за самого князя Адама… Сумей намутить ученый трус, фразер… Я и говорю шутя воэн графу Владиславу, который рассказал мне неприятную новость: «Ну, Владзя, на свою голову изберут они этого якобинца… Он заранее готовится отпраздновать победу! Ехал я мимо площади Золотого Креста, а там уже несколько гильотин подряд ставится… Это будет наш Робеспьер-Лелевель магнатам и умеренным глупые башки рубить с завтрашнего утра… как только власть получишь в руки». «Врешь», — говорит Владзя. Я и рассмеялся… Говорю: «Гильотины правда ставят. Слово чести. А для чего и для кого, — сам отгадай…» И все смеюсь… А он, хитрый… молчит, задумался, слова мне не сказал, пошел с князем Адамом, с другими из наших потолковать… Потом мне шепчет: «Если услышишь что странное — молчок… Не порть. дела…» И правда: через десять минут меня же какой-то чубатый индюк стал уверять, что сам видел на плацу гильотины Лелевеля… Там — другой, третий… Я тут понял… Прокатили нашего «президента»… Еле в члены Ржонда попал… И то уж под конец, когда вернулся в Сейм посланный отсюда и сказал, что ставят на плацу не гильотины, а соломорезки для полкового фуража, для кавалерии… Ха-ха-ха… Ловко… А ведь и мы не лгали… Эти соломорезки совсем на настоящие гильотины похожи… не для людей только… для коней и… для кандидатов в президенты польского Ржонда, выскочивших в плебании из-под припечка.
— Это забавно, правда, — совсем не веселым, скорее, печальным голосом заметила графиня. — Но кто знает, может быть, пан профессор сумел бы… Я так много слыхала о нем, о его учености, о горячем патриотизме… Конечно, князь Адам старинного рода, большой дипломат, известный политик… Но Польша начинает новую жизнь… Может быть?..
— Графиня шутит, конечно, — неуверенно произнес Ржевусский. — А если серьезно говорить, — да можно ли равнять их? Князь Чарторыский… конечно, он не Гедиминыч, не Ольгердович, не Яггелоныч… но кровный вельможа… Наш по духу, по всему… И ему мы можем вверить интересы родины, свои права и интересы… Он не продаст, не выдаст… Ему есть что терять. Он не заведет революции, только бы получить министерский портфель и хороший оклад… У него и так довольно от дедов и пра… Вы улыбаетесь, графиня… Ну, конечно, я глупо делаю, убеждаю вас в том, что вы и без меня хорошо знаете и чувствуете, как каждая полька…
— С синей, вельможной кровью, прибавьте, граф… Пожалуй, понимать — я понимаю… А сочувствовать… Ну, да не об этом речь. Мы пришли смотреть и слушать… А где же министры?.. Отчего их не видно?.. Скоро открытие заседания… А они…
— О, они придут к началу… И сейчас там, в кабинете, идет важное совещание… Я, конечно, не могу сказать заранее… Но, сдается, нынче предстоит «большой день», как говорят в английском парламенте…
— И не говорите вперед, в чем дело. Мы, женщины, любим испытывать неожиданности… Продолжайте лучше ваши интересные наброски, если не углем, так живою речью… Вокруг — столько замечательных людей, цвет народа… А я в далекой Познани и не видала почти никого…
— Кроме самого очаровательного создания в мире, которое ежедневно показывает ваше… зеркало… Ай, ай… виноват, не буду!.. Не глядите с таким укором, графиня… или я… перепрыгну через барьер, туда, прямо на голову этим двум военным… Видите?.. Один — словно сейчас уксусу хлебнул и собирается лить слезы… Это — «чувствительный» полковник инженер пан Колачковский… И, как нарочно, с ним его «пара»… Полковник Скшинецкий. Их так и зовут: «пара ходоков».[13]
— Скшинецкий?.. Вот он какой!.. Я слыхала так много…
— От наших дам? Ну, конечно, они все без ума от нашего Кайя-Аппия в пехотном мундире. Римлянин, великолепный, не правда ли? Какая осанка, какое благородство в чертах. А послушали бы, графиня, как он нижет и сыплет трескучими фразами!.. «Отчизна… религия… гражданские доблести… Высшая Сила»! Куда любому отцу-проповеднику… Даже наш прославленный ксендз Дембек может поучиться жару и манерам у этого полкового комедианта. Да, да… Мы-то его знаем! Недаром так прозвали полковника заодно с Колачковским. Какой интересный, моложавый. На вид — нельзя дать и сорока лет нашему снобу. И самый гибкий характер у обоих этих господ. Был Константин в Бельведере — они ходили в Бельведер. Ходили потом в банк навещать Временное правительство; теперь ходят в Сейм и к Народному нашему Ржонду. Завтра будет Лелевель, или черт в ступе, или опять Бельведер — они будут ходить. Не удастся ли выходить повышения, орденочка или еще чего-нибудь?..
— Граф, да неужели же такие почтенные на вид люди… и вдруг могут?..
— Все могут. Они даже могут казаться почтенными, хотя это нисколько не соответствует их начинке, слово чести!.. И верьте, я говорю без всякой злобы. Оба полковника… я с ними в лучших отношениях… Но правда — выше дружбы. Это я учил еще в гимназии, где так плохо успевал именно в латыни. Оттого только я не пошел в ксендзы, слово чести… Вот-вот, смотрите, графиня… Оба ходока направились к этой кучке военных. Самая влиятельная компания… И они уж подсоседятся к ней.
— Одного из них я знаю, пан Дезидерий Хлаповский… Его поместья недалеко от нашего замка в Познани. А кто остальные?
— Цвет нашей армии и знати. Умница и патриот чистой воды генерал Уминьский. Видите, графиня, справа… лысоватый и не похож даже на военного, а на штатского чиновничка, переодетого для маскарада в нарядный мундир. Заговорщик от рождения. Но хорошей души человек. С ним рядом, полный, осанистый, генерал Княжевич, почтеннейший из старших офицеров у нас. Отважный, находчивый… Ему бы надо держать булаву… Но… князь Адам и еще другие предпочитают видеть его подальше от Варшавы, и потому он едет на днях в Париж хлопотать о заступничестве у торгаша Луи Филиппа, который не только Польшу — родного отца продаст за лишний год власти и наживы…
— Да, теперь во Франции другие времена, — вздохнув, отозвалась графиня. — Будь это во дни Июльского восстания, когда генерал Лафайет и его друзья имели такую силу… Мы бы уж без просьбы получили хорошую помощь от Франции… У меня там есть еще друзья. Они пишут. Весь народ французский на нашей стороне… А правительство…
— На стороне тех, кто может больше заплатить… Ну, конечно! Я же говорю, «Торговый Дом Луи Филипп и К°» свои дела ведет умно… Рядом с Княжевичем тоже гениальный человечек, полковник Прондзиньский. Лучший стратег считается в нашем штабе… Да, пожалуй, и во всей Европе теперь… Если не считать вон того, коренастого, похожего на российского фельдфебеля. Полковник Хшановский и вправду лет пятнадцать тянул лямку в российских полках, был на Кавказе… Так узнал москалей и привык к ним так, что своих позабыл… Он много должен помочь отчизне в этой тяжелой борьбе… По его словам, здесь принимать войны нельзя. Надо кинуться на Литву, на Жмудь всеми силами, пусть даже тут займет толстый колбасник Дибич на время Варшаву… Зато из Литвы огонь мы перекинем и в российские провинции… Там ждут сигнала тоже, чтобы посчитаться с немцами, которые правят страной и жмут масло из холопов… Тогда Дибич побежит без боя домой спасать собственные хаты… А его по пути и перенять… и распорошить… Умно советует пан Хшановский… Да наши не послушают, я уж знаю… А все-таки по его совету вот разыскали в бумагах цесаревича эту штуку… отпечатали ее и будут раздавать в России… Тоже поморщится там не один…
Ржевусский достал и подал графине небольшую, четко отпечатанную брошюрку на плотной бумаге. Текст был русский…
— Что такое, граф? Я по-русски не читаю…
— Очень нужно… Я вам переведу, графиня… Или нет… Вот дальше идет французский текст. Собственно, написан был сначала этот документ по-французски… А потом «приятель» наш пан Новосильцев перевел его на русский… Это ни больше ни меньше как «Уставная грамота», основной закон, которым покойный круль-цесарь Александр собирался и у себя в России ввести конституционное правление, наподобие нашего…
— Быть не может?! Я и не слыхала…
— Да, да… Еще пятнадцать лет тому назад. Что вы не слыхали, графиня, это немудрено. Но и сами россияне не знают об этой важной государственной тайне… Как только вступил на престол наследник Александра, он приказал уничтожить все списки этого закона, такого опасного для его власти… У нас в Варшаве,' в Бельведере, теперь нашелся один список… С него отпечатали сотни оттисков, тысячи их… Еще будут печатать… И эти «бомбы» по совету Хшановского будут разбросаны и в армии российской, и среди дворян, и в простом народе… Интересно, как зашевелятся все они после такого назидательного чтения!.. Как потребуют новых прав, которые готов был даровать народу добрый Александр, но которых не дает его преемник…
— Д-да… это может сыграть большую роль…
— Сыграет, увидите, графиня… И уж не повторится того, что было в Петербурге в декабре, шесть лет тому назад… Нет… Особенно если мы сумеем еще явиться на помощь россиянам…
— Дай Бог… дай Бог, — задумчиво прошептала Эмилия.
— Ну вот, я думал развеселить, а нагнал грусть… Полюбуйтесь лучше еще. Я не представил вам всего зверинца… Вот полковник Шембек, фокусник и актер с переодеваньем. Куда почище обоих ходоков. Три раза менял религию, из плохого немца-лютеранина стал скверным поляком-католиком. Сам сознавался недавно, что трижды изменил Константину ради Польши, своей «новой отчизны»… Теперь всех интересует, кому он предаст Польшу, ради кого изменит ей… Но, конечно, перед этим будет назван генералом. А пока губернатор нашей столицы… Старик этот с оловянными глазами и злой миной — храбрый, упорный, истый поляк, генерал Круковецкий… Он, как и Хшановский, как Прондзиньский и еще другие, только вчера вернулся из ссылки… Так они и стоят кучкой, «ссыльные»…
— Кто их ссылал, куда… за что?..
— Почтенный экс-Диктатор, переговорщик и кунктатор генерал Хлопицкий, храбрый из храбрых, как называли его французы и поляки… до той минуты, когда пришла пора спасать родной край… Круковецкого он не выносил как опасного соперника и отправил в Згерж… Хшановский и Прондзиньский смели ему советовать, приносить хорошие планы войны, когда Диктатор писал жалобные письма Константину, Николаю и молил мира… Конечно, их тоже убрали, одного в Модлин, другого в Замосцье, чистить ржавые пушки… Но как только три дня тому назад не стало Диктатора, — словно по воздуху кто послал нашим ссыльным радостную весть… И видите, они все налицо!.. И много хорошего ждем мы все от них… И даже… А, смотрите — подполковник Цикута тоже здесь…
— Цикута?.. Яд?.. Какая странная фамилия… И этот толстяк такой смешной…
— Забавный… Его фамилия Зелиньский. А прозвание — Цикута. Глупец вычитал в каком-то старом не то соннике, не то скотолечебнике, что цикута очень полезна при разных заболеваниях… И чем бы ни заболел у него солдат, дает ему настой цикуты… Только что не отравляет людей… Да и то по их осторожности. Они выливают на землю лекарства пана подполковника…
— Знаете, граф, это… это далеко не так забавно, как вы хотите представить…
— Я и не думаю ничего представлять. Пусть сами они представляют себя и свои глупости… А я, чем вздыхать, — предпочитаю смеяться. Это все-таки не так скучно… Но уж если вы нахмуритесь, глядя на этих трех господ, двух военных и штатского, которые так оживленно беседуют у самого балдахина… Это три младших брата; так их зовут. Старшие — умные, почтенные, граф Владислав Островский…
— Президент Сейма?
— Он, он… затем граф Густав Малаховский и депутат Калиша пан Винцентий Немоевский, первый коновод Сейма… А это — ихние три младших братца, как в сказке говорится, «дурачки», граф Казимир Малаховский, «генерал-баба», даже лицом напоминающий вдову консисторского чиновника перед пенсией… Второй, с конфедераткой в руках и в генеральском мундире Народной гвардии — граф Антоний Островский, тоже депутат. Но он всегда молчит, потому что сказать ему нечего. А если и поднимется с речью, так читает по шпаргалке… Благо брат-маршал позволяет братцу-депутату нарушать сеймовый обычай… Третий — Немоевский, нумер второй; Бонавентура — при крещении, Мезавентура [14] — по общему признанию. За что ни возьмется, все умеет испортить… Право, при взгляде на этих frиres cadets думается: природа — очень скупая особа и не отпускает польским отцам и матерям столько материала, чтобы хватило подряд на двух умных сыновей…
Последняя скользкая шутка, очевидно, покоробила чуткий слух графини Эмилии. Слегка кивнув, вместо ответа, головой, она сразу обратилась к Замойскому:
— А вы, граф Владислав… Отчего вы все молчите?.. Или вам не так хорошо известна Варшава и ее люди, как графу Станиславу?
— О, нет. Кое-что и я знаю… Но ждал, когда иссякнет поток красноречия моего друга… Я не люблю никому мешать…
— Пожалуйста, — обиженным тоном отозвался Ржевусский, почуявший укол от перемены в графине Эмиии, — мне никто мешать не может… И я — не каскад, чтобы изливаться без конца… и бесцельно… Честь и место!.. А я найду себе свое…
Уязвленный юноша обратился с каким-то замечанием к своей «покинутой» даме Клодине Потоцкой. Та встрепенулась, они оживленно и негромко повели беседу. Замойский, также мгновенно повеселев, весь отдался графине, стараясь дальше знакомить ее со «всей Варшавой», наполняющей зал Сейма. Но он делал это совершенно иначе, в более сдержанном и серьезном тоне, чем его балагур-товарищ…
Шум и говор наполняют обширный покой замка, где, в ожидании урочного часа, задолго перед открытием заседания сошлись члены Народного Ржонда, президенты Сената и Сейма: графы Станислав Залусский и Владислав Островский, секретарь Плихта и вождь армии польской князь М. Радзивилл.
Почти все министры и несколько самых влиятельных депутатов и сенаторов тоже приняли участие в совещании перед сегодняшним важным, решающим заседанием.
Сейчас порядок занятий обсужден в подробностях. Большинство присутствующих довольны, глаза сверкают, головы гордо вскинуты кверху, словно они уже кинули вызов кому-то и ждут отклика… Лишь угрюмый, почти подавленный, сидит князь Адам Чарторыский, машинально выводя на полулисте бумаги два знакомых вензеля, один полузабытый — Екатерины Великой, большую, красивую букву Е и римское II посредине… Другой — еще сравнительно недавний — с одного почерка обрисовывается латинское большое N, в котором при помощи смелых завитков сочетается полное имя: Napoleon Bonaparte.
Спокойно стоят рядом оба эти вензеля монархини и монарха, таких враждебных и в то же время сходных по духу, давно уже тлеющих в земле.
И все лягут в землю… Успокоятся там вражда и страсти… Но сейчас потрясен Чарторыский. Плохое дело, по мнению старого политика, задумали хорошие люди, стоящие и сидящие кругом него… И не может он переубедить этих близких, хороших, умных людей, хотя говорят они на одном и том же родном языке, близки и по крови, и по воспитанию… Оттого и клонится низко седая, красивая голова, тяжело, медленно выводят чуть дрожащие пальцы два знакомых вензеля… А что-то теснит грудь, какое-то жжение ощущается в глазах… В этих старых, усталых глазах, видевших так много грустных часов и мало радостных…
Граф Островский тоже сильно взволнован, и ему не по себе. Он сейчас одержал победу, большинство согласилось с его мнением… Но победа не радует честного добряка, он скорее желал бы на этот раз быть разбитым.
Будет сегодня в Сейме так, как он предложил… Как советовала графу пылкая, но умная, хотя и не в меру честолюбивая сестра Клодина Потоцкая… Чтобы снять с себя тень, какая покрыла имя Владислава в глазах общества за покровительство и потворство, выказанное по отношению экс-Диктатора Хлопицкого, вчерашнего кумира толпы, сегодня — заклейменного именем чуть ли не предателя родины, — для собственного оправдания граф решил внести нынче одно роковое для Польши предложение… Она, конечно, будет принято… Особенно если за него будет говорить сам президент Сейма… А как бы хотел теперь этот президент провалиться со своей речью… Дело слишком важное… Участь целого народа. Что, если судьба пошлет неудачу? Целиком падет она на плечи ему, графу Владиславу… Вот почему бледный, смущенный не менее Чарто-рыского сидит граф-победитель и не спешит закончить совещание… Он надеется…
Надеется еще на что-то и Чарторыский…
И вдруг оба заговорили сразу:
— А что, панове рада?..
— Что, если вельможное панство?..
И сразу оба смолкли. Каждый знает, что скажет другой. Насторожились и остальные.
— Прошу, прошу… пусть граф Владислав говорит…
— Нет, никогда… Извиняюсь… прошу князя Адама… которого мы все так чтим… Да разве можно?.. Твоя речь, мосце ксенже!..
Грустно пожал слегка плечами Чарторыский, медленно, печально заговорил:
— Конечно, мы решили… Но… вы чувствуете все сами… что-то еще недосказано… Словно дело решено по молчаливому соглашению… А в такие великие минуты надо договаривать до конца… Свершится! Мы выйдем из этого покоя в шумный зал… Скажем слово… навсегда сожжем за собою мосты… и вдруг — станем у пропасти бездонной, на глубине которой ждет гибель… Целый край… Старую, милую отчизну… Землю дедов наших и отцов… и праотцов… Можно ли так решать, как сейчас сделали мы?..
Молчит Островский. Не ребенок же он, чтобы мгновенно менять решения. Он — президент Сейма… И если даже не прав, пусть другие докажут… Чтобы не показаться смешным торопливой уступчивостью. Кто-нибудь же станет соглашаться или возражать князю Адаму…
Живо отозвался Лелевель:
— Я плохо понимаю… не совсем улавливаю основную; мысль ясновельможного князя Адама… Все оговорено, обдумано… Не дети же мы… И опять позволю себе вопросом ответить на вопрос: а смеем ли мы оставаться в том положении, в каком находится сейчас и Польша, и целый народ?.. Ответ здесь был дан всеми: нет, не смеем, если уважаем себя, свой край и польское имя!.. Как же поступить? И это нами решено. Надо выйти и сказать Сейму, через головы депутатов, — поведать краю, народу польскому, целому миру то… что давно надо было сказать… Чего ждет народ, Польша, Европа, весь образованный' мир… И князь Адам колеблется еще… полагает, что нечто есть недосказанное… — «Какое ребячество…» — чуть не вырвалось было у тонкого, умного казуиста, но он вовремя удержался. Такая резкая, недопустимая выходка могла бы дорого обойтись «выскочке» — профессору, народному представителю от громады «разночинцев», допущенному в совет первых вельмож страны. Сразу меняя тон, он задушевно, мягко заговорил: — Впрочем, я и мы все понимаем это… недосказанное, о чем думает высокочтимый князь Адам… Нам жаль… нам страшно за участь родной земли… Что делать? Бывают исторические минуты, когда надо свои лучшие, нежнейшие чувства нести в жертву долга чести… Не мне, темному, неизвестному педанту-школяру, поминать об этом высокому собранию людей, облеченных полным доверием народа, носящих достойно свои древние, славные, исторические имена… Кто в Польше не знает вековых девизов, сверкающих на гербовых щитах Пацов, Чарторыских, Островских, Радзивиллов? «Первый между равными!» «Верен чести до конца!» «Вперед за веру и честь!» «Бог и отчизна!» Это же ваши девизы, вера ваших отцов и праотцов, такая же священная, как земля, в которой они лежат, на которой вы родились и выросли. И вы не изменяете своим девизам и родине, вельможные паны, приняв решение, о котором мы так долго толкуем…
— Нет, конечно, нет! — послышался общий дружный ответ.
— О чем же больше говорить?! А боль сердца… И у меня сжимается оно не то от предчувствия беды, не то от грядущей радости… Кто знает? Судьба народа столько же у него самого в руках, сколько и в руках Божиих. Будем верить… А для князя Адама скажу и больше… Мы же не можем решить наперед: как Сейм примет предложение, внесенное графом Владиславом?.. Он, может быть, отвергнет!..
— Да! Да! — сразу неожиданно вырвалось у Чарторыского и Островского. Лица их преобразились, как будто непроглядная тьма разорвалась перед их взором и блеснул луч надежды.
— Конечно, Сейм может не согласиться, — подтвердил поспешно Островский. — И я не буду очень настаивать…
Чарторыский, опомнясь, как и многие другие, только печально, недоверчиво покачал головой.
— Ну, пусть так, — подхватил Лелевель, привыкший побеждать в словесных боях. — Есть еще надежда и выход… Заступничество Европы!.. Лучшие люди Франции открыто стоят за нас. Вот, вы же знаете… Глядите сами, вельможные паны… — Он торопливо достал и развернул листок. — Вот состав Центрального франко-польского комитета в Париже… Президентом — сам Лафайет, его товарищи: академик дюк де Вальми, пэр Франции, родня короля… Виконт Шарль де Лейстер… Президент Сената Сольвер… Секретари, члены комитета — сильнейшие депутаты парламента, европейски прославленные имена: мэтр Кабэ, Одиллон, Барро, Лас-Казас, братья Арраго, де Жирарден, Казимир Делавинь, Камилль Дюмулен, поэт Беранже, мэр Парижа де Гассанкур, сорок депутатов, десять редакторов главнейших десяти газет в Стране… Скульптор Давид, артисты, художники, князья гения и короли Биржи… В Лондоне — тоже… лорд Пэнмор и Дудлей Стюарт, кузены короля, Эрль Скарборо, лорд-министр Брухэм, О'Коннор, маркиз Бекингем, Томас Кемпбелл, поэт Эмерсон, Тэнан… леди Лендсдоун, дюшесса Гамильтон, Лейчестер… В Брюсселе — то же самое… В целом мире у нас бескорыстные, сильные друзья… И только на Севере — туча, темная туча врагов… Побоимся ли?.. Да если и опасна эта туча… то друзья нас прикроют… Даже Австрия обещает помогу… Конечно, больше гораздо сулит, чем думает сделать. Но кое-что сделает и она…
Горячо льется речь Лелевеля, но мало трогает она души слушателей… Потому, должно быть, что и сам он, холода ный, рассудительный, плохо верит тому, в чем хочет убедить остальных…
Но ему на помощь пришел теперь Островский.
Неловко стало молчать виновнику спора. Он громко, решительно заговорил:
— Конечно, дорогой почтенный князь… Вот князь Михаил писал в Берлин… Оттуда тоже, может, Господь свет пошлет… Австрия даром, конечно, не делает ничего… Но поехал же граф Антон Залусский… повез наши денежки… пятьдесят тысяч дукатов… Это и для проныры Гентца, и для его господина, князя Меттерниха, — хороший куш… Можно надеяться…
— Почти не на что, — глухо отозвался Чарторыский. — И вы, как и я, знаете… Слышали, что здесь говорил агент Австрии пан Эйхснер… Что писал барон Функе княгине Леоновой Сапежанке… Что говорил французский посол дюк де Мортемар, когда его успел перехватить наш агент Козьминский на пути в Петербург!.. На Францию, на Австрию?.. На них надежды нет!.. На Пруссию?.. На нашего вековечного врага… на верного друга Москвы — и подавно…
— Остается Англия…
— О, ей теперь самой не до нас! Вы знаете: там боятся таких же дней, как Июльские в Париже, как в Брюсселе, как наши в Листопаде. Ну, да что там? Чему быть, тому не миновать! Идемте, панове. Толковать больше не о чем… и некогда… Пора в заседание…
— Да, да, пора! — заторопились все и поспешно, сумрачные, двинулись к дверям.
Завороженная тишина сменила говор и гомон, едва на пороге показался граф — президент Сейма и члены правительства.
Пока они занимали места, группы депутатов и сенаторов, еще о чем-то спорящих посредине покоя, быстро стали пробираться, протискиваться к своим креслам, откуда пришлось удалять публику, не постеснявшуюся там устраиваться с удобством и без колебаний.
Островскому не пришлось даже ни разу ударить своим маршальским жезлом для водворения тишины и порядка. Толпа, переполняющая зал, словно замерла и даже старалась затаить дыхание, ожидая чего-то.
Но заседание началось довольно прозаично, с оглашения ряда подсчетов и цифр.
Правда, цифры все крупные: подсчеты дают миллионы и десятки миллионов. Дело касается самого важного сейчас: обороны страны.
— Снаряжение каждого кавалериста и пехотинца в среднем обходится до пятисот злотых, — отчетливо, медленно докладывает военный министр граф Исидор Красиньский, словно желая врезать цифры в память слушателей, а равно дать возможность стенографам точно отметить слова и ряд чисел. — Истрачено до сих пор пятьдесят восемь миллионов сто тридцать девять тысяч семьдесят шесть злотых и пять грошей, включая и артиллерийские парки. Выставлено в боевой готовности двенадцать полков пехоты, по четыре батальона каждый, два батальона служилых солдат, четыре батальона гвардии, шестнадцать новых, из двух батальонов, полков и Пятый стрелковый полк добровольцев-варшавян, созданный на их средства… который так и зовется теперь «дети Варшавы»…
Взрыв рукоплесканий покрыл эти слова, окна задрожали от виватов, от кликов публики:
— Да живет польское воинство!.. Да живет отчизна!
— Кланяюсь Варшаве за ее привет, за ее жертвы, — громко заявил министр, когда возобновилась тишина. — Продолжаю дальше. Всего получаем девяносто батальонов, или семьдесят две тысячи штыков. Еще формируются шестнадцать батальонов новой пехоты, то есть двенадцать тысяч человек. Волынско-литовский легион, надвислянские стрелки. Четыре тысячи карабинов Национальной гвардии же, охраняющие столицу, их также надо не забыть. Выходит всего девяносто тысяч людей в пехоте… Это — на первое время, до предстоящего весной набора… Без добровольцев, которые десятками тысяч сходятся отовсюду.
Передышку сделал оратор, как бы давая возможность публике выразить свою радость, а стенографам — записать слова.
Но не одни стенографы работают сейчас в Сейме.
Консул Шмидт незаметно записывает цифры на бумажке, укрытой в ладони… И еще несколько человек на галереях и в самой зале заняты тем же… Сегодня же ночью полетят отчеты и в Берлин, и в английские журналы, и в Петербург… Всюду, куда следует…
Министр продолжает:
— Теперь кавалерия. Полк шестой улан Варшавы — четыре эскадрона, пятый полк семьи Замойских — три эскадрона… Старой кавалерии — пятьдесят четыре эскадрона и шестьдесят четыре — новой… Пять добровольных эскадронов: полковника Гротгуса, Августовский, Подлясский, Сандомирский и Краковский, привислянские уланы, гали-цийские, волынские и познанские пикинеры. Охотники По-нятовского, «Костюшки» и «Золотой Хоругви». Затем — два полевых жандармских эскадрона. Значит, еще двенадцать. Итого — сто тридцать семь эскадронов, или двадцать шесть тысяч людей на конях. Артиллерия, кроме крепостной, насчитывает сто пятьдесят орудий и четыре тысячи человек орудийной прислуги. Саперов — одна тысяча… Общий итог дает сто двадцать одну тысячу человек при ста пятидесяти орудиях конных и пеших батарей.
Дальше читает министр, цифры бегут одна за другой. Проясняются даже самые сумрачные лица у слушателей… Только хмурятся те, кто украдкой записывает длинные ряды цифр…
Говорит после него подполковник Хшановский, хорошо знакомый с численностью и силами российской армии, особенно той, которая стояла в Литве и теперь с Дибичем идет на Варшаву.
— Первый и Четвертый корпус пехоты у российского фельдмаршала, — уверенно перечисляет полковник, — и Гражданский корпус, а всего не больше чем сто пять, сто шесть батальонов, вместе с Литовской гвардией да к ним III и V кавалерийский корпус, да казацких три либо четыре полка… Значит, пехоты… — смотрит в свои записки Хшановский, — не свыше девяноста тысяч. Регулярной кавалерии — двадцать три-двадцать четыре тысячи и тысячи три-четыре головорезов, казаков… Имеем сто пятнадцать — сто восемнадцать тысяч людей… Пушек… пушек у них много!.. Больших и легких орудий наберется больше трехсот, — понижая прежний громкий тон, вынужден признаться Хшановский. — Да еще гвардия Михаила Павловича идет, тысяч пятнадцать штыков…
Он умолк.
Но первое впечатление сделано. Силы почти равны… И снова несутся клики:
— Бог поможет!.. Да живет отчизна!..
Удивляются «добровольцы-стенографы», сидящие среди публики: откуда знает так хорошо подполковник польской армии русские силы? Торопливо заносят они имя Хшановского в свои заметки…
Полковник Колачковский сладким елейным тоном начинает говорить о мерах, принятых и намеченных впереди для обороны Варшавы.
— Сами пойдем окопы сыпать! — раздаются голоса из публики, как женские, так и мужские.
— И мы не отстанем, — кричат депутаты, сенаторы. Новый короткий взрыв энтузиазма, восторгов, смешанных с предчувствием большой, близкой беды…
Кончены речи и отчеты, пестрящие рядами важных, но утомительных для публики, цифр… А публика, впервые после десятков лет снова попавшая в стены своего парламента, — принимает живое участие в заседании, влияя сильно и на ораторов, и на весь состав Сейма.
Словно турнир происходит по-старинному на глазах первых красавиц земли, на глазах всего народа…
И самые спокойные ораторы зарываются, как горячие скакуны, почуявшие укол шпоры на своих благородных боках…
Стукнул жезлом маршал Сейма, дал знак — и явились в своих красивых старинных нарядах делегаты Литвы и Жмуди, Волыни и Подолии. Все молодежь, но первые имена страны. И явились эти юноши, посланные старейшинами в семье, как представители целых родов, всей земли, некогда польской, теперь — слитой с российскими границами.
— Мы готовы до последнего помочь словом и делом родной Польше. Помогите нам слиться с вами, стать свободными, равными вам…
Кончили свои речи, кланяются Сейму и народу…
Совещается недолго Сейм. Постановлено — принять предложение завоеванных россиянами старых польских земель. Им — слиться с Польшею в одно. Польше — помогать собратьям до последнего часа.
Снова буря кликов и плесков потрясает зал.
Сели тесной, красивой чередой делегаты в цветных чамарах, в кунтушах, в оружии, сверкающем золотой насечкой и дорогими каменьями.
Дальше «обрядует», ведет свое заседание Сейм.
Знак дал маршал. Новую папку с документами раскрыл секретарь Плихта и громко объявляет:
— Бывшего Диктатора Польши, генерала Юзефа Хлопицкого с правительством и крулем-цесарем Николаем переписка.
— Огласите для Сейма документы, пан секретарь, — предлагает маршал.
По всему залу разносится громкое, отчетливое чтение Плихты.
— Пять документов было вручено послам, графам Ксаверию Любецкому и Яну Езерскому. Доклад Административного Совета от четвертого декабря нового стиля одна тысяча восемьсот тридцатого года, второй доклад Временного правительства с пометкой пятого декабря, два собственноручных письма Диктатора от десятого декабря, первое — крулю-цесарю Николаю, второе — цесаревичу Константину. И, наконец, наставление, писанное от Ржонда, выданное послам относительно порядка и сути поручений, возложенных на вельможных послов от имени польского народа.
— Письма!.. Начать с писем… — раздаются голоса депутатов. Их поддерживает и публика, которая из газет знает содержание докладов и наставления, но для которой содержание столь важных писем до сих пор было тайной.
Плихта взглянул на маршала. Тот ударил своей тростью и, выждав, когда шум стих, объявил:
— Начнем с писем. Но все-таки раньше огласим те условия, какие ставило польское правительство в основу соглашения с крулем Николаем. Их не мешает освежить в памяти тех, кто знал, и объявить для общего сведения другим.
— «Первое, — читает Плихта, — строго и неуклонно в пределах крулевства должна соблюдаться конституция, дарованная в Бозе почивающим Александром-миротворцем Польше на основании подписанных в Вене трактатов. Второе: эта же „хартия вольностей“ и все законосвободные учреждения, связанные с нею, в соответствии с помянутыми трактатами, получают силу и для областей Литвы и Жмуди, Подолии, Украины и Волыни. Третье: на первое мая одна тысяча восемьсот тридцать первого года — сзывается в Варшаве Всеобщий Сейм, на котором сберутся не только послы, депутаты и сенаторы крулевства Польского, но также и от всех областей, упомянутых выше. Четвертое: необходимо иметь ручательство, что российские войска не будут никогда введены для постоя в пределы крулевства. Пятое: полное прощение и забвение всех политических преступлений, совершенных словом либо делом до последнего дня».
— Так… Правильно… Все хорошо… — гудит толпа в зале и с галерей.
— Болтовня пустая… Трусливые забеги, — звонко прорезают два-три задорных юных голоса резкою нотой разлада общий согласный хор.
Но шиканье, новые крики одобрения заглушают эти единичные голоса…
Начинает читать письмо Хлопицкого крулю Николаю пан секретарь — и все стихло.
Так же как и Ржонд в своем докладе, Диктатор начинает с того, что восстание, начатое молодежью, нашло широкий отклик в стране, потому что поводы для него, и слишком достаточные, даны были именно теми лицами, которые поставлены были на страже законности, а сами попирали и законы, и «хартию вольностей» на каждом шагу. Указывал Хлопицкий и на доверчивость цесаревича по отношению к людям дурным, продажным, и на его нерешительное бездействие в первые минуты взрыва. Как бы желая оправдать свои собственные действия, Диктатор писал, что принял власть в минуту всеобщей растерянности, когда анархия грозила бедой, когда надо было скорее положить конец общественным беспорядкам, сохранить в войсках остатки дисциплины, расшатанной революцией, предупредить крайности военного и гражданского террора. Он писал, что целый народ силою обстоятельств доведен до отчаяния… Но сам Хлопицкий готов приложить крайние усилия, постарается успокоить край, на одном лишь условии, конечно, если будет объявлено, что Польше обеспечена полная независимость, согласно трактатам. Народ не думает рвать узы, связующие его с крулем-цесарем, подтвержденные присягой… И надеется, что области, отошедшие к России, также будут слиты по-старому с Польшей и осчастливлены тою же «хартией», как их братья на берегах Вислы.
— «Заклинаю Ваше Величество во имя человечности, — заканчивал Хлопицкий, — преклоните слух к живейшим, горячим просьбам, какие от имени польского народа сложат у трона Вашего послы народа. Верность до конца, искренняя любовь целого народа — вот что будет ответом крулю-цесарю на его внимание к голосам земли».
— Подождите… Дальше послушаем, — снова прорезались дерзкие молодые голоса и потонули в шуме протеста.
Совсем иначе звучит «конфиденциальное» письмо Диктатора, посланное на имя цесаревича, врученное последнему Любецким в Брест-Литовском по пути в Петербург.
Горячо заверял Константина Хлопицкий, что и, не подозревая ничего, не мог ожидать, что вспыхнет этот бессмысленный бунт шалой молодежи, которую подожгли корыстные честолюбивцы-политиканы. Себе он приписал прямую заслугу тем, что сумел остановить анархию и произвол, ослабил на первых же шагах гидру мятежа, просил цесаревича не делать весь польский народ ответственным за те крайности, безумные, дикие проявления толпы, которые неразлучны со всяким народным взрывом. Плохие советники цесаревича, вроде Новосильцева, Рожнецкого и им подобных, конечно, тоже виноваты: они своей неправдой тревожили, мутили всех честных людей, таили правду от цесаревича ради личной корысти. Но теперь, когда все вышло на чистую воду, он, Диктатор, молит цесаревича явиться перед троном государя истолкователем желаний польского народа, заступником и помощником его в беде. К его сердцу, влиянию и уму обращается Хлопицкий.
Прочел секретарь последние, обычные строки, но такие же приниженные, полуопасливые, как и все письмо, и умолк.
Молчит весь зал. И только одно легкое восклицание вырвалось на галерее из чьих-то женских уст:
— Фуй!..
И опять тишина…
— Пан депутат Роман Солтык будет говорить, — объявляет маршал Сейма, увидя, что фигура последнего поднялась из рядов.
— Да много и говорить не приходится. Дело ясно, как детская азбучка, — заговорил этот гордый, желчный, но прямой, отважный человек. — Знаю я экс-Диктатора, как свой старый чапан… И это коротенькое, но довольно гнусное письмо не изменило моего мнения о пане генерале Хлопицком. Он еще терпим в казарме, в кровавой свалке, но не в зале Совета, где дурно делается от его солдатской дипломатии… Я наравне со всеми испытываю отвращение, узнав, что вождь народа — бранил свой народ… Что он ковал измену с первой минуты… что для измены взял в руки неограниченную диктаторскую власть. «Фуй!» — сорвалось там с чьих-то уст. И это восклицание отдалось, я уверен, в сердцах у нас у всех. Отдаваться будет в сердцах целого народа польского много и много лет спустя. Экс-Диктатор виновен перед народом… Он и сейчас опасен родине. А потому я в свое время внесу предложение о том, как бы обезвредить его, лишить возможности губить отчизну и дальше, как это он делал доныне. Затем, хотелось бы послушать, что скажет сидящий здесь граф Езерский о своем посольстве в Петербурге? Помог ли там цесаревич полякам?.. Получил ли там князь Любецкий свои три тысячи дукатов, данные в Брест-Литовском взаймы княгине Лович?.. Вообще, пусть сломит печать молчанья, как делал то в Згерже… И пусть не опасается… Во-первых, генерал Круковецкий, который выловил его там из реки, — сидит и здесь… А во-вторых, мы не будем купать в ледяной воде… плохого посла… за… неумные вести. Или наоборот? Я спутался, словом… Уж потом напомню и пану маршалу Сейма о моем предложении, которое сложил к его жезлу еще три дня тому назад…
Сел Солтык. Меняется в лице граф Островский.
Он надеялся было, что гроза пройдет, что роковое решение можно будет обойти. Нет, оно снова встает на очередь…
Говорят депутаты. Малаховский пытается защитить Хлопицкого. Граф Ян Ледуховский, стремительный и пылкий, за ним Старжевский и другие — обрушились с новой силой на экс-Диктатора…
Маршал поспешил дать слово Езерскому, но растерянный, бестактный, недалекий от природы, граф не поправил дела.
— Я, видит Матерь Божия, мосци панове депутаты, не знал об этом письме. Один князь Ксаверий… Он и толковал очень долго в Бресте с цесаревичем… он… все он… А я докладывал его величеству крулю-цесарю, как мне был дан наказ от Ржонда. И оставил мемориал… Но результаты вы знаете, вельможное панство… Указ оглашен: надо сдаваться на полную ласку круля-цесаря… Эти войска, которые называл полковник Хшановский, — это что!.. Круль-цесарь говорил, что зальет землю войсками… Сотрет Варшаву с лица зе…
Ему не дали договорить… Под свистки, под грозные окрики и брань удалился граф из зала, оберегаемый несколькими депутатами от более серьезных оскорблений толпы…
Буря растет грознее, шире… Слышатся угрозы, крики:
— Изменники!.. В Сейме, в Ржонде!.. Всюду!.. Искоренить их пора!..
Бледный как полотно поднимается граф-маршал, громко ударяет жезлом… Еще… и еще, каждый раз громче прежнего… Дрожит серебряный орел от ударов, сотрясается трость…
Затихла понемногу буря криков.
Громко заявляет маршал Сейма:
— Теперь настало время внести на обсуждение высокого собрания то предложение, о котором поминал депутат пан Солтык. Как слишком важное, решающее судьбу Польши раз и навсегда, оно было отложено до более подходящего мига. И он наступил. Посол из Петербурга полковник Гауке привез такие условия, о которых и говорить нельзя спокойно. Эти условия и «приказ» по армии Дибича напечатаны в газетах как угроза польской земле и народу. Наши условия отвергнуты окончательно… Что нам остается, панове высокая рада Сейма?!
— Война! Война! — загремело со всех сторон.
— Видно, пробил час! — покрыл граф-маршал общий шум своим ясным вибрирующим сейчас голосом. — Московские полчища двинулись против Польши. Неужели мы поддадимся страху или под влиянием старого навыка смиримся, как дети? Того не будет. Нам говорят, что мы нарушили клятву верности и потому круль-цесарь считает себя вправе нас покарать, считает себя свободным от данных раньше обещаний. А мы знаем, что права, дарованные нам добровольно, наша конституция, скрепленная торжественными обетами, — была нарушена лицами, поставленными от круля на страже закона, во главе правления крулевства. Эти Новосильцевы, Куруты, Любовицкие! Кто их не знает, поляки?!
Говорит граф Островский, чувствует, что зал и галерея с волнением ловят его речи. Сам разгорается оратор; теряя самообладание все больше и больше. Еще горячей заговорил он:
— Мы верно держим клятву, веками хранили ее, данную Пястам, Ягеллонам и другим правителям земли. Но теперь больше клятвы для нас не существует. Она нарушена не нами — и мы свободны. Страдания наши известны целому миру. Теперь хотят отнять последние остатки нашей вольности… Смерть… Скорее смерть, чем рабство.
— Война, война!
— Да, война… Оружие решит… «Смерть или воля» — вот наш пароль и лозунг отныне. Завет, цель нашей жизни. И верьте, нелегко будет солдатам неприятельских полков задушить этот клич, вылетевший из груди целого народа, смело идущего на бой за гражданскую честь и свободу… за все святое в жизни… Мы не будем подсчитывать своих батальонов, считать ряды воинов, защищающих народную свободу… Мы слышим биение их отважных сердец, видим пламя в очах, решимость победить или пасть… Так возгласим же нашу независимость, веруя в собственные силы, веря в единодушие и разум европейских держав, надеясь более всего на Небесную справедливость и милость Творца миров… Первый долг польского народа отныне — все отдать для достижения великой цели… И мы, члены Сейма, — переходя в торжественный тон, заговорил медленнее Островский и поднял к небу руку, словно для присяги. Весь зал был мгновенно на ногах; руки, как одна, поднялись над головами толпы. Граф продолжал: — Мы, члены Сейма, перед лицом Господа и народа даем клятву: выполнить наш долг до конца без колебаний и страха, не щадя себя ни в чем. Наша единая цель видеть страну свободной, видеть Польшу в рядах народов целого мира на том месте, какое ей назначено Провидением. А потому предлагаю прежде всего, на основании проекта, предложенного депутатом Романом Солтыком, выработать и утвердить голосованием закон, коим Польша навсегда отделяется от Москвы.
— Согласны, немедленно внести!.. Закон!.. Голосовать!.. — послышались возгласы.
Все их покрыл снова неугомонный, зычный Ледуховский:
— Что там за проекты?.. Зачем возиться, время терять. Дело ясно: свободная Польша!.. Живет отчизна!.. Вот и весь закон!..
— Живет отчизна!.. — ответила голосу Ледуховского вся тысяча мужских и женских голосов. Депутаты стоя размахивали палашами, конфедератками… Дамы махали платками, срывали шарфы, цветы с себя и кидали вниз…
И вдруг сразу стихло все, словно кто приказал или шепнул людям на ухо: «Молчанье!»
Оглядываются все, не то тревожно, не то радостно. Страшное слово сказано. Через день его узнает край… Через три — Европа, а через пять — он, грозный, пугающий даже издали всю эту толпу возбужденных людей.
Но будь там что будет… Сейчас надо ликовать.
Подымается посол поветовый, пан Лущевский, вынимает часы и, обращаясь к маршалу Сейма, к секретарю, как человек закона и порядка, объявляет:
— В сей день, двадцать пятого января одна тысяча восемьсот тридцать первого года, в три часа и шестнадцать минут пополудни, по единодушному решению Вольного польского Сейма порвано единение короны Польской с Московской и трон крулевский объявлен свободным. Прошу записать.
— Записано, пан посол Седдецкий, — успокаивает маршал. — А к этому предлагаю прибавить для сведения и успокоения Европы, для наших друзей и врагов, — что польский народ создаст новое правление, под сенью новой династии будет жить мирно, в труде, верный конституционно-монархическим заветам, каким верны были наши отцы и деды.
— Слово… Прошу слова… Я хочу сказать!.. Мне слово, пан маршал!.. — с разных сторон поднялись и крикнули вожаки крайних партий: Лелевель, Ян Ольрих из Шанецка и другие…
Но Островский чует опасность, перебивает всех:
— Я недосказал еще… Не хвалиться буду… Должен сказать… Пешком пришел я нынче в заседание, потому что всех лошадей своих отослал для армии… Теперь же вношу триста тысяч злотых в общенародное дело. Верю, что многие сделают подобно мне.
— Вношу сто тысяч злотых, — четко и кратко заявил граф Людвик Пац…
— Я — пятьдесят… тридцать… семьдесят тысяч пишите… — слышно со всех сторон.
Покрывается подписями лист… Растет итог… За миллион перешел.
Дембинский, подписав свои двадцать тысяч, просит голоса.
Слушают все внимательно почтенного депутата, наполеоновского славного офицера.
— Мосци панове, вы тоже знаете: дом, семью, детей я кинул, как только узнал, что отчизна в опасности. Что ей нужны руки! Но надо подумать и о будущем. Россия велика. Нас всего и пяти миллионов не наберется. От наборов больше двухсот тысяч солдат нам не вывести в поле. А край боронить надо… Возьмем хороший пример у неприятелей, у тех же россиян. Народ там, холопы столько же воевали с Великой армией, сколько и линейные войска. Хороший там, добрый народ… И он угнетен крепостным игом… И он в рабстве. А затем, мы не сказали ясно, чего ждем от завоеванных провинций. Что готовим для них? Вот мой проект закона в трех отделах или как там?.. Пусть юристы назовут… Первое: народ польский не сложит оружия, пока Литва со Жмудью, Подолью и Волынь с Украиной не войдут под сень польской короны. Второе: немедленно надо объявить и дать знать по всему простору Российского царства, что польский народ не сложит оружия, пока русские братья не получат законосвободных учреждений по примеру нашей земли. Третье: свобода от оброка и панщины объявляется всем холопам крулевства, и они уравниваются в правах с остальным, шляхетным людом нашей земли. Я сказал.
Одобрения, громкие и единодушные, какими сопровождались первые два предложения, — словно споткнулись и замерли, когда Дембинский высказал третий свой пункт.
Маршал покрыл неловкую паузу:
— Все слышали. Предложение записано. В свое время внесем его на голоса… А теперь мы слишком все потрясены… Объявляю до завтра перерыв…
Кончился радостно этот начатый так тревожно день…
Но много горя, крови и слез принес он потом польскому народу, шляхте, люду, холопам… всей земле…
Собственный свой приговор подписали паны депутаты.
И только один прозорливый старый политик, князь Адам Чарторыский, остался грустен среди общего возбуждения и шумного ликованья, понимая все политическое безрассудство, содеянное Сеймом в этот миг. Только он, подписывая протокол заседания, скользнул взором по строкам, где стояли роковые слова, и шепнул:
— Сгубили Польшу…
Глава II ОСТРОЛЕНКА
… Еще напор, — и враг бежит…
И следом конница пустилась.
Убийством — тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась,
Как роем черной саранчи…
А. Пушкин…Святой победы торжество,
Нет в мире сладостней его.
— Изменник!.. Предатель родины!
Такое обвинение, эту смертельную обиду представители народа пред целым Сеймом и всей Варшавой кинули чуть ли не в лицо экс-Диктатору, своему недавнему кумиру…
Толпа легко создает себе кумиров, возносит их высоко-высоко и быстро свергает в пропасть презрения, забвения или вражды.
Эта игра забавляет серую, усталую от жизни толпу, медленно влачащую дни в полусумраке житейских дрязг и невзгод.
Минутные кумиры, игра с ними скрашивают пустоту жизни… Скучно, тоскливо было бы без них…
И словно возликовали Сейм, Варшава, Польша, когда оглашено было письмо Хлопицкого к Константину, которое большинству давало достаточное основание презирать героя, вчера еще чтимого, носившего название «первого из поляков, храброго из храбрых… Бога войны и рыцаря свободы»…
Но люди избранные, близкие к кулисам политической жизни края отлично знали, что и как говорил Хлопицкий, принимая власть… Знали, что экс-Диктатор и не мог цесаревичу писать иного, чем сказанное им громко, перед членами того же Сейма, шесть недель назад, когда они явились вручить власть избранному народом вождю. Но тогда Сейм надеялся, что Хлопицкий «изменит» свои убеждения, пойдет по их путям, а не по своим…
Этого не случилось. Отважный и упорный галичанин-солдат остался верен себе до конца, ни на какие сделки не пошел ни с Ржондом, ни с Сеймом, ни с целой страной.
Результаты получились печальные. Враждебное войско подходило, а не было готово ни пушек, ни снарядов в достаточном количестве, не собрано даже того числа солдат, какое можно было поставить под знамена еще месяц назад!.. Не было даже дано значков и знамен полкам и батальонам. Не создали священных хоругвей и орлов, к которым в минуту боя могли стекаться воины, разметанные ураганом борьбы…
Страна эта узнала. Искала виновных… Слагая с себя вину, взвалив груз ее на экс-Диктатора, Ржонд и члены Сейма поступили ловко… но далеко не честно…
Поэтому отношение к генералу правительства и Сейма, за исключением некоторых непосвященных или не любящих Хлопицкого, — осталось по-прежнему полным доверия, особенно как к военачальнику.
Верило и войско своему генералу, все офицеры до последнего. Они не могли наверное знать, но чуяли, что экс-Диктатор потерпел за чужие грехи, по проискам «штафирок», крыс сеймовых и других… И потому с радостью узнали, что генералиссимус, князь Радзивилл, — только кукла, пышно одетая и поставленная на высоте ради связей и знатного имени. А настоящим вождем, хотя без всякого чина, даже без мундира, является тот же генерал Хлопицкий, в своем гранатном сюртуке-бекеше постоянно мелькающий теперь среди обозов Праги, между полками, стоящими за Прагой, на Гроховских полях, обращенных в огромный военный лагерь…
Правда, досадовала молодежь, отчего не позволяют кинуться навстречу российским батальонам, опрокинуть их, прогнать назад и не допустить, чтобы враждебная нога топтала польскую землю, чтобы двуглавые орлы реяли над прекрасной Вислой.
Но железная дисциплина, которую пятнадцать лет насаждал в польских батальонах цесаревич, и слепая вера в Хлопицкого не позволяли недовольству проявиться как-нибудь открыто, резко. Судили у себя, по углам, а внешне ничем не проявлялось брожение в рядах бездействующей армии, до которой ежедневно доходили вести, как спокойно надвигается враг к столице, развернув свои отряды на сотни верст…
Варшава, отпировавшая Новый год, встречающая карнавал, — вела обычную, шумную, кипучую жизнь. Военное положение, объявленное в столице, связанные с ним работы на окопах Праги и Иерусалимской заставы, движение войск, грохот провозимых орудий — все это не набросило, казалось, малейшей темной тени на обычную, свойственную варшавянам жажду жизни, а придало ей особую остроту и прелесть…
Не смутил столицу и грозный манифест, которым ответил круль-цесарь Николай на отчаянный вызов, брошенный поляками в роковой день 25 января.
Все вины Польши и самая тяжкая из них: акт детро-низации, — были перечислены в Указе. А заканчивался он так:
«Столь неслыханное забвение присяги и долга, такое упорство в неправоте своей переполнило меру проступков. Пробил час применить силу оружия против закоренелых в строптивости гордецов, и, призвав на помощь Высшего Судью дел и помыслов людских, мы приказали верным войскам нашим выступить на бунтовщиков…»
Читают варшавяне угрозу, сулящую много горя и слез… У самых отважных сжимаются сердца… Но они крепятся… Даже самые робкие пока не выказывают тревоги…
— Пресвятая Дева и Христос Распятый спасут Польшу, где народ так почитает Божественного Избавителя!..
Так шепчут женщины и с утра наполняют храмы, часами лежат, упав ниц пред Распятием, распростершись также крестом на холодных плитах.
Мужчины ведут обычные дела или маршируют в рядах Народной гвардии, спорят о политике, делятся вестями, доходящими из армии; наполняют галереи Сейма, слушают тамошний спор, пререканья и «рокош», как говорили в старину.
А вечером коротают часы в близком кругу или в каком-нибудь театре, клубе, кафе, где собирается больше народу.
Совсем по-обычному катится колесо жизни; по утрам Варшава молилась, каялась, днем — сеймовала, «роковала», торговала… Вечерами — играла, пела, плясала и грешила до полуночи…
Так шли дни за днями до 14 февраля н. с, когда в первом же большом столкновении с россиянами отряд генерала Дверницкого первою одержанной победой порадовал свой край…
Большим багровым кругом садится солнце за мглистым, синевато-фиолетовым изломом, за иглистыми вершинами дальних лесов, протянувшихся вокруг Варшавы и за нею по левому берегу Вислы.
Быстро спадает ночь и на правом берегу ее, где за предместьем Праги раскинулось Гроховское поле, много раз вспаханное и перепаханное остриями мечей и ядрами вместо плугов, засеянное телами, орошенное кровью вместо посева и благодатного вешнего дождя.
И сейчас здесь затихает лишь понемногу упорный, затяжной бой, начатый еще вчера на рассвете, 19 февраля, у самой Ваврской корчмы. Ночная темнота остановила сражение, а наутро оно разгорелось опять с новой силой и яростью.
Долго грохотала сперва канонада, своими летучими жалами ядер и картечи отыскивая за холмами, за перелесками вражеские отряды, стоящие здесь и там неподвижно, молча, наготове, с ружьями в руке, с беззвучной, затаенной мольбой о личном спасении, о светлом мгновении победы на сжатых, побледневших губах…
Потом затрещали ружья. Их легкие, светлые дымки свивались под дыханием ветра в причудливые извивы, разрывались, сбивались опять клубами, переплетаясь с темными, тяжелыми дымами орудийных залпов… Эти клубы, словно завесой одевающие поле в течение десяти — двенадцати часов, и сейчас не успели рассеяться…
Под их покровом шли друг на друга стеной батальоны со штыками наперевес и валили, кололи, опрокидывали друг друга… В сером покрове дымов неслись на конях эскадроны, рубили пехоту, валились всадники с коней, пронизанные пулями, исколотые штыками… Кони с распоротыми боками и животами, в крови, которая хлестала из ран на груди, носились, как слепые, в пороховом дыму, пока не падали и затихали…
Кончилась рукопашная свалка. Темнота развела бойцов, никому не принося победы… Звучат протяжно, резко полковые трубы, отзывая с поля уцелевших бойцов. Перестали тяжко громыхать вдали орудия в заключительной вечерней канонаде, истощив свои запасы смертоносных летучих жал. Нет больше шрапнелей, картечей и ядер! Расходятся бойцы, каждый в свою сторону, на тревожный ночной отдых после кровавого посева, которым и сегодня люди засеяли Гроховское и соседние с ним поля… А дымы пороховые и ружейные — еще реют над ним. Их клочья, отдельные клубы и струи тянутся к темнеющему небу, сливаются там с темными, тяжелыми облаками, бегущими к западу…
Облака эти одевают зубчатыми своими краями огненный круг заходящего солнца, как будто вступили с ним в бой… Как будто в небе над Гроховским полем тоже гремела канонада и теперь там клубятся черные дымы невидимых пушек и мортир…
В этот же день, 20 февраля, часов около трех, когда уже затихла почти канонада и первый упорный, тяжкий натиск российских колонн, бешеный налет их конницы был отражен изумительной стойкостью, безрассудной отвагой польских рот и эскадронов, отчаянно кидавшихся в ответное наступление, где только это было возможно, — настала как бы мгновенная передышка…
Еще ударяли одинокие выстрелы орудий, здесь и там падали ядра и рвались картечи, взрывая землю, вздымая кверху снег и дым.
Трещали запоздалые залпы, какими польские каре провожали российские эскадроны, скачущие в беспорядке прочь после бешеного натиска и отраженной атаки… Польские уланы и конные стрельцы еще описывали широкую дугу, стреляя в темные ряды российских батальонов, отходящих под прикрытие своей артиллерии из пределов вражеского ружейного и орудийного огня.
Но все это потеряло прежнее направление, силу и стройность, то единство и мощь, каким отличается высшее развитие боя.
Первый удар нападающим не удался. Они стягивали назад усталые, поределые части, готовились новые, свежие двинуть вперед, пополняя зарядные ящики и лядунки стрелков…
То же делалось и у поляков, которым тяжело досталась радость сознания, что враг пока отбит, что удалось остановить первую, огнистую, опоясанную остриями штыков лавину его батальонов…
Чем-то грозит вторая, третья?! Кто знает, сколько еще каких ударов готовит нынче Дибич и Толь!
Бон там уже на опушках лесов строятся новые пехотные и кавалерийские колонны. Задвигались батареи, отыскивая поудобнее позиции для второй половины боевого дня…
Зашевелился и Главный польский штаб.
Гетман-«кукла», Радзивилл, с удобного и вполне безопасного пригорка наблюдавший за колебаниями и случайностями боя, за быстрой, живою сменой его грозных, широких картин, ударявший себя в грудь рукою и шептавший молитвы небесам, когда на земле люди сталкивались в последнем стремлении, несущем смерть, — и он теперь съехал со своего холма, объезжает поле битвы, едет по земле, залитой кровью, усеянной телами, снарядами и палыми лошадьми. По земле, которая еще как будто судорожно и тяжело, но глухо дышит после безумия борьбы, поднятой на ее груди двумя народами-братьями, ее родными, жалкими детьми!..
Хлопицкий, сумрачный, бледный, едет рядом, в своем штатском сюртуке, с вечной папиросой в зубах… Третьим с ними едет Баржиковский, член правительства. Остальной штаб широкой цветистой группой всадников следует за ними поодаль.
Подъезжая к небольшой ольховой роще, красиво брошенной в центре между обеими враждебными армиями и составляющей ключ расположения войск, все задержали коней.
Два свежих полка подходили сюда: славные «чвартаки» со своим полковником, пожилым, добродушным балагуром, спокойным храбрецом Богуславским, и молодой 5-й полк егерей.
А из рощи выступали усталые, поределые ряды, обвеянные пороховым дымом… Это шли на отдых полки, выдержавшие в заклятой ольшине первый тяжкий натиск врага…
— Бог в помощь вам, дети мои! — приветствует тех и других генералиссимус князь Радзивилл.
— Виват, Хлопицкий! — усталыми, хриплыми голосами отвечают ряды, покидающие рощу Смерти, ольшину.
Они видели, как далеко стоял от боя «вождь». Видели, как «штатский» по наряду, но воин духом Хлопицкий сам водил в огонь, в рукопашный бой батальоны генерала Мильберга, спеша на выручку им, сидящим в этой адской мышеловке, в ольховой роще.
Первый глухой, но дружный клич солдат еще дружнее подхвачен с другой стороны подходящими свежими полками.
— Виват, Хлопицкий!..
Разве могут они крикнуть иначе сегодня, когда видели все, что видели и другие их товарищи, живые еще и лежащие, кругом, на широких Гроховских полях?!
Грустно, слабо улыбается Радзивилл, дает шпоры коню и двигается дальше, кивнув успокоительно и дружески Хлопицкому, который так виновато пожимает плечами, так смущенно глядит на «официального» генералиссимуса, он, действительный вождь польских сил в данный миг…
Дальше едут все…
Полевей и повыше рощи, ближе к Праге, стоит артиллерия и помещается малый боевой штаб полковника Скшинецкого, которому поручена защита центра польских сил. Туда направляются всадники.
Задержав на мгновение коня, как бы желая нарушить неловкое молчание, овладевшее его спутниками, Хлопицкий, полуобернувшись к роще, темнеющей позади, сказал Баржиковскому:
— Да, видел пан Станислав: варилась здесь горячая каша! Пекло, можно сказать, а не местечко. Да, еще предстоит жаркий денек! Эта ольшинка, пане, знай! Она будет гробом Дибичу и его полкам! Слово чести. Об нее — надеюсь на Бога, разобьются все силы россиян! Если нынче дам им хорошего тумака, расколочу фельдмаршала… Ого! Тогда сяду ему на загривок… Ни отдыху, ни часа ему не дам… Гнать стану, гнать, гнать! Да нужно будет к тому времени под Брестом заготовить побольше амуниции и пехоты… Туда загоню я толстую силезскую свинью… Там начнутся дела… Туда перенесем войну, подальше от Варшавы. Оглянись, вацпан… Не видно ничего! А сорок батальонов пехоты стоят наготове только для обороны этой милой ольшины… Хе-хе! Потягаемся, пан фельдмаршал, чья возьмет!
И впервые за несколько дней лицо Хлопицкого оживилось, даже помолодело.
— Чудесно… О, отчизна не ошиблась в генерале, вверяя ему свою защиту, — любезно отозвался Баржиковский и сейчас же, чувствуя неловкость положения, обратился к Радзивиллу:
— Князю дан Богом чудесный сотоварищ и помощник. С таким можно… быть спокойным…
— Конечно… Если бы не согласие генерала — заменять меня, я бы не решился взять этого поста, — просто, искренно отозвался Радзивилл. — Какой я военачальник!.. Сами знаете.
В эту самую минуту к Хлопицкому, отделясь от общей группы, подъехал полковник Прондзиньский.
Небольшого роста, худощавый, с головой, тяжелой для своего тела, с высоким выпуклым лбом, он мало напоминал военного и общим видом, и выражением изнеженного, довольно красивого лица, которое словно озарялось взором больших умных темных глаз.
Лучший, всеми признанный стратег армии, он много планов, обдуманных и смелых в то же время, предлагал Хлопицкому. Но тот, продолжая держаться выжидательных действий, как решил сначала, — только плечами пожимал в ответ, хмурый и апатичный…
Теперь, заметив минутное оживление генерала, Прондзиньский словно загорелся надеждой.
Вот он уж рядом с Хлопицким, негромко, убежденно говорит ему:
— Слово чести, пан генерал, — вернейший ход!.. Победа в кармане… Да какая!.. Почти без потерь… Потому атака наша будет совершенно неожиданной… Да еще после сегодняшней резни… Я ручаюсь! Я нынче ночью сам поехал в объезд… с полковником Мацеем Рыбиньским… Он — простой, но смелая голова. Мы прорезались далеко вперед, дальше наших крайних пикетов… Уж стали реять разъезды россиян, ржали казацкие кони вблизи… И мы с полковником видели огни обоих отрядов: Палена, направо от нас… и Розена, стоящего вон там, совсем напротив… Болота между ними, перелески… И широкий прогон чернел между огнями этих двух станов вражеских… Послушайте меня, генерал… Нынче же, до свету, надо хоть сотню пушек перебросить на наше право крыло… Ну, хоть девяносто… Хватит и того… И собрать там тысяч восемь-девять конницы, поставить завесу, непроходимую для самого черта… Чтобы пушки охранять… И — никакой пехоты.
— Что!.. Что!.. — удивленно, хмуро, по-старому буркнул Хлопицкий, снова впавший в прежнюю апатию после минутного возбуждения.
— Никакой!.. Вы слушайте дальше, генерал!.. Вот эти сорок батальонов, все двадцать тысяч штыков пусть стоят и ждут… Еще к ним надо стянуть, сколько найдется вблизи… Понимаете?.. До свету — загрохочут всеми жерлами пушки против Палена… Земля дрогнет… Он и сомневаться не станет, что мы сбираемся ударить всею силой на него… Готовиться будет… Оглохнет от канонады нашей, подзовет к себе свои батареи справа, слева, от центра… Со всех сторон… А нам того и надо… Чуть забрезжит свет, — а мы уже ударим на…
— Розена, в их центр!..
— Угадал, пан генерал… Ха-ха-ха! Ловко… Победа верная… Пален на помощь не поспеет, как уж те будут разнесены в прах… И их там всего тысяч пятнадцать в отряде… Нас будет больше, неожиданный натиск… Слава… успех… Мы тесним москалей… Кавалерия наша — вперед… Опрокидываем врага… Гоним его, разбиваем в пух. Идем за ним все дальше, вперед… Поворачиваем влево, сокрушаем их слабый, правый фланг… Тесним их…
— А в это время, — в тон полковнику, с затаенным, но тем более ядовитым оттенком насмешки подхватил Хлопицкий, — Пален сообразил, в чем дело. Картечью разогнал нашу конницу, заставил смолкнуть и ускакать артиллерию нашу… Очистил от слабых резервов Гроховское поле и подсунулся под самую Прагу, отрезая целой польской армии путь к Варшаве! Не так ли, полковник?
Едва сдержался Прондзиньский, чтобы не ответить едкостью на глумливый тон. Но важность положения отрезвила его мгновенно. Он сухо и вежливо ответил:
— Быть может, и так, генерал… Но… вы забыли: нам остается путь на Модлин… А несколько десятков лишних верст военного марша окупятся тем поражением, какое должны потерпеть враги, если вы того захотите… если решитесь, генерал…
— Нет, уж лучше потерпим и мы… Пусть лучше я покажусь… нерешительным… пожалуй, робким в глазах моих юных и чересчур отважных сослуживцев, товарищей, чем… рискну последними силами моего народа, его защитой… его армией… Прага!.. Пока она за нами, ее пушки, ее валы, до тех пор мы неуязвимы для Дибича… Он желает взять Варшаву по приказу своего господина… Придет и… возьмет! Или сам ляжет в землю, которую решил завоевать… А мы воздержимся от неосторожных выступлений, пан полковник. Наша стратегия — наша осторожность. И я ей не изменю…
Молча, нахмуренный отъехал Прондзиньский к остальному штабу. Теперь все снова задержались у ставки полковника Скшинецкого, который поскакал им навстречу и весело, любезно стал болтать с Радзивиллом и с Хлопицким, как будто принимал гостей в своей богато убранной, уютной гостиной, а не на поле битвы.
С Баржиковским, ему незнакомым, Скшинецкий обменялся только очень приветливым поклоном.
Не успели прозвучать первые фразы, как со стороны россиян взвились орудийные дымки, грохнули пушки… Колонны пришли в движение, готовясь к новому бою.
Радзивилл поспешил проститься с Скшинецким и двинулся дальше, сопровождаемый Хлопицким и штабом.
Прондзиньский умышленно отстал и задержал Баржиковского.
— Вот, полковник, — обратился он к Скшинецкому, — вам надо ближе познакомиться… Член Ржонда, пан Станислав Баржиковский, известный патриот, писатель… Начальник народной обороны… Мы с ним немало говорили о тебе, полковник…
— Рад, рад, — дружелюбно, даже с некоторым оттенком снисходительности обратился полковник, изящный, спокойный и здесь, среди огня, как у себя дома. — Я тоже много слышал о пане Станиславе… Приятно, если он пожелал…
— Очень давно хотел… Еще после славной победы пана полковника у Доброй… А сегодня, когда видел, как пан полковник умеет справлять свои дела, как он…
— Пустяки… долг службы. Нам дают чины и награды, платят деньги не за парады на Саксонском плацу… — с притворной скромностью возразил Скшинецкий. — Делаем, что можем, что умеем… Что позволяют нам делать… Мда… Приходится слушаться начальства! А ты, пан полковник, что так смотришь, словно уксусу хлебнул! Или опять разлетелся со своими планами к нашему «штатскому» гетману… И он тебя…
Скшинецкий выразительным жестом докончил свои слова.
— Семьсот дьяволов и три Перуна! — вместо ответа буркнул Прондзиньский, хмурясь еще сильнее и нервно теребя свои красивые длинные усы.
— Ха-ха-ха!.. Упрям же ты, полковник… Или еще не убедился, что этого забора лбом не прошибешь… Все надеется, — обращаясь к Баржиковскому, заговорил энергично Скшинецкий. — Думает, что мертвеца он заставит петь и плясать мазура!..
— Что такое? — насторожившись, спросил Баржиковский, видя, что может узнать кое-что важное из внутренней жизни армии, охраняющей Варшаву и весь край.
— Старые истории… Полковник — чудесный тактик… гениальный стратег! Будь я вождем, слепо шел бы по его указаниям, выполнял бы его планы, давно бы освободил от осады столицу и выгнал… Нет, что там!.. И до Буга не дошел бы толстый Дибич… Там, в болотах, в лесах, полегли бы все… Последний план, предложенный позавчера полковником! Он нес русским второе поражение под Го-генлинденом. Ни одна пядь земли здесь кругом не была бы полита человеческой кровью. Палена и Розена еще два дня назад можно было поодиночке разнести. Варшава не трепетала бы так, как трепещет сейчас. Но его планов слушать не стали. И вот — результаты… Видели вы вчерашнюю бойню? Начало сегодняшней… Увидите еще более страшный конец еще раньше, чем солнце скроется за теми лесами, за крышами Варшавы на том берегу… Увидите и потом, завтра… через день, через неделю… А через месяц, может быть, услышите «урра!» россиян на плацу пред крулевским замком в столице!
Вдохновенно, пророчески звучит голос Скшинецкого, который давно славится как умелый оратор и даже опытный артист в знакомых ему любительских кружках Варшавы.
Баржиковский, совсем встревоженный, слушает, молчит, боится вопросом прервать поток речей полковника-говоруна, а хочется о многом расспросить.
Скшинецкий, наблюдательный, гибкий, видит, что делается в душе у собеседника, и предупреждает его желания, ловит мысли:
— Эх, вацпан!.. Много еще кой-чего мог бы я сообщить!.. Потолковал бы с паном, как с братом родным, по душе!.. Да… Нельзя! — неожиданно, эффектно оборвал этот полковник-дипломат, делая широкий жест по направлению к врагам. — Вон новые колонны высылает неприятель к нашей кровавой олышше!.. Трудно придется теперь моим голубчикам — «чвартакам»… Надо быть мне самому при них, в огне… Долг требует того! — скромно подчеркнул он. — Скажу только еще два слова. Недоброе у нас творится… Двуначалие, разновластие, дряблость… если не трусость! И если так дальше придет, гибель наша неизбежна… Эти паны, — кивая головой на Радзивилла и Хлопицкого, скачущих вдали, сильно закончил Скшинецкий, — если они и дальше будут командовать нами, как теперь, — сгубят нас ни за грош!..
— Так… что же делать!! Что делать? — вырвалось только у подавленного Баржиковского.
— Выход еще есть, — низким дружеским голосом заговорил Скшинецкий, — только надо спешить… Мне — нельзя отсюда оторваться, побывать в Варшаве… Но если бы завтра не было боя… просил бы очень пана президента, князя Чарторыского, и тебя, шановный пан, — пожалуйте сюда, в стан… Загляните ко мне… Я сделаю вам подробный важнейший доклад, как того требует мой долг честного офицера и благо отчизны!..
— Будем!.. Непременно будем! — пообещал Баржиковский, захваченный недомолвками Скшинецкого, подкупленный красивой, такой горячей, искренней речью, всем его видом…
Удачно для поляков кончился бой 20 февраля.
100 офицеров и больше 700 рядовых одними пленными потеряли россияне. Убитых легло до 600 и около 3000 раненых. Среди них — три генерала: Сухозанет, Афросимов и Власов. Далеко, на прежние позиции к лесу отодвинулись полки Дибича, и на другой день, как предполагал Скшинецкий, боя не было.
Конечно, пало и у защитников Варшавы много жертв. Но гораздо меньше, как это всегда бывает со стороны обороняющихся.
Тихая, светлая заря заалела над Гроховым, над Прагой, над Варшавой…
И с первыми лучами этого тихого утра Баржиковский, как обещал вчера Скшинецкому, появился в лагере вместе с президентом Народного правительства, князем Адамом Чарторыским. Даже секретаря, пана Андрея Плихту, захватили они с собой. И тот печально оглядывает кровавое поле битвы своими добрыми большими глазами. Побледнело его красивое, женственное лицо. Объехав главные позиции, они все трое появились у Скшинецкого, отряды которого выдвинулись далеко вперед, до самой Гжибовской Воли, выселка, раскинувшегося чуть полевее и пониже Ваврской корчмы, от которой стали уже отступать батальоны, стягиваясь к самому Грохову, где наскоро насыпаются полевые окопы для новых польских батарей…
За победу у деревни Доброй, за двухдневный бой у Ваврской корчмы генеральские эполеты привезли желанные гости молодому полковнику, который благодаря бритому лицу и молодцеватой осанке казался моложе своих 44 лет.
После первого обмена приветствий и взаимных любезностей Скшинецкий и Прондзиньский, сидящий тут же, обменялись взглядом, словно ободряя друг друга.
Скшинецкий решительно заговорил:
— Я просил князя-президента пожаловать сюда, никак не ожидая той радости и чести, какую он лично для меня привез с собою… Но свою тяжелую обязанность я должен и теперь выполнить до конца. Только прошу вас верить, панове, что не личные побуждения, не вражда либо зависть подсказывают мне то, что хочу сказать! Слышит и видит Он, Бог, Наш Судья… Душа болит, сердце обливается кровью при виде того, что творится кругом! Моя любовь в отчизне велит забыть о себе. Думайте, что хотите, но слушайте…
— Говорите, мы просим, генерал, — отозвался поспешно Чарторыский.
Чует старый мудрец нотку фальши какую-то в голосе, в манере свежеиспеченного генерала… Только еще неясно. Слушает и ждет.
А Скшинецкий с обычным наигранным подъемом и огнем уже смелее заговорил:
— Думаю, что и говорить много не придется… Даже далекие от военных дел люди ясно могут видеть, что происходит. Враг опасен, дерзок и хитер… Этот Дибич, полунемец, полутатарин, такой простой на вид, хитрее всех российских генералов… Он прет напролом, вызывая нас на решительный шаг… А мы!.. Что делаем мы? Бьемся наобум, слепо, без плана, без цели, без объединяющих замыслов… Кидаемся вперед, пятимся… все не по своей воле, а повинуясь движениям неприятельских колонн… Допустимо ли это? Мы тратим дорогое время бесплодно для себя… А враг усиливается новыми отрядами… Мы даже не умеем пользоваться, когда россияне делают самые грубые ошибки и промахи, подставляя себя под наш удар… Мы боимся воспользоваться даже помощью Неба и Судьбы!.. Солдаты! Наши солдаты показали за эти две недели целому миру, что такое польский воин! Ожила слава Костюшковых ко-синьеров и батальонов Чарнецкого! Вчера от сохи, — сегодня как стальные стоят наши воины в огне, вооруженные только косой… И ждут к себе конных и пеших врагов, чтобы косить их, как траву, под корень, насмерть!.. А что делают «вожди», и объявленные, как князь Михаил… и необъявленные!.. Радзивилл… Ну, тот хотя сам сознается, что войны вести не умеет, что быть вождем не способен… А другой… «генерал в сюртуке», пан Хлопицкий… Прямо скажу: тот не хочет! Да-да… И вы должны сознаться, Панове, что оно так! Не штука взять в руки ружье, наклонить штык и вести роты в атаку… Это умеет каждый подхорунжий наш не хуже пана генерала Хлопицкого… А — побеждать врага… гнать, давить его… Ловить в силки, пользоваться его ошибками… Задумывать и выполнять планы, ведущие к победе… Либо принимать чужие, вот, скажем, панов полковников Прондзиньского, Хшановского, Дверницкого… Со всех сторон дают разумные, святые советы «штатскому» вождю… А он покуривает папиросу… молчит… и губит родину… Прошу извинить, панове, если я в пылу речи скажу что-либо не так… Душа заговорила… И не я один… Целый штаб… кто еще не ослеплен бравадами Хлопицкого, войско — и то поняло, как плохо его ведут… Да вот, например…
Потоком тут посыпались указания на все ошибки и недосмотры, сделанные Хлопицким, начиная с его появления в качестве Диктатора и до этой самой минуты, до вчерашнего боевого дня… Все отвергнутые генералом планы, все совершенные им явные и сомнительные ошибки перечислил Скшинецкий в своей горячей обвинительной речи.
— Вот сидит блестящий офицер нашей армии. Безусловно честный, всеми чтимый человек. Он подтвердит, что я сказал лишь правду, — указывая на Прондзиньского, закончил Скшинецкий наконец.
— О да, — горячо отозвался Прондзиньский. — Я подтверждаю словом чести, что генерал Скшинецкий далеко еще не все то высказал, о чем надо помянуть… Он, уважая себя, очевидно, щадит и пана Хлопицкого… хотя даже в Сейме, всенародно, ряд почтенных депутатов, чистейших патриотов не постеснялись кинуть в лицо нашему генералу Хлопицкому пару смертельных слов…
Настало неловкое, тяжелое молчание. Оба поняли, что зашли уж слишком далеко в своем обвинении, да еще — заочном.
Первый нашелся Скшинецкий. Приняв скромный вид, он заговорил:
— Еще раз уверяю: только долг мой и любовь к родине вынудили на то меня, что я здесь сказал. Конечно, я готов и открыто повторить… если вацпаны…
— О, нет… нет! — поспешно прервал Чарторыский. — Мы же хорошо понимаем: не такая теперь пора, чтобы делать очные ставки, ссорить наших лучших генералов между собой, когда надо вызвать единение и взаимную дружбу в сердцах!.. Нет, то, что мы слышали… Оно — между нами… Мы же верим, понимаем, что руководит генералом… и полковником Прондзиньским! Что вас заставило… О чем тут толковать! Скажу больше. Я и мои товарищи… мы глубоко признательны за оказанное нам доверие… Тронуты, видя такую горячую заботу об участи отчизны и войска… Но и сами же, панове, вы знаете… Теперь ли время менять вождя… под выстрелами вражеских батарей!.. Невозможно, конечно… Вы не волнуйтесь, генерал. Конечно, Ржонд чутко приглядывается ко всему. Он замечает свежие, молодые силы и дарования, чтит молодых генералов, которые теперь так быстро и смело успели покрыть лаврами польское оружие и себя. Но — их йремя еще не пришло. Сами же понимаете, панове… Ну, пусть генерал Скшинецкий скажет… Допустим, Радзивилл сам бы ушел… Или был смещен… И Хлопицкий отойдет от булавы… даже как ближний советник… Кому же как не старейшему из остальных генералов придется вручить власть? Скажем, тому же пану Круковецкому.
Разгоряченное раньше лицо Скшинецкого постепенно бледнело во время речи осторожного, уклончивого князя Адама. А при имени Круковецкого оно мгновенно стало серым, потом вдруг побагровело, как будто вся кровь бросилась туда.
— Этот… интриган!.. этот… трус, пролаз и… — глухо вырвалось у Скшинецкого сквозь сжатые зубы. Он еле сдержался, умолк, недоговорил всего, что рвалось из груди по адресу ненавистного соперника.
Чарторыский переглянулся с Плихтой, с Баржиковским и молчал. А Скшинецкий, передохнув, нашел в себе силы принять более спокойный, немного грустный, обиженный вид и прибавил уже без излишнего озлобления:
— Боже мой! Да это будет хуже того, что есть. Круковецкий — вождь армии, и наше дело тогда погибло бесповоротно… Он в неделю смутит и перессорит всех, проиграет каждую стычку и сдаст войско, оружие, Варшаву, землю, себя и самого пана Бога россиянам даже без хорошего подарка с их стороны… Да можно ли думать, вельможный князь! Или вы, панове…
— Говорить о Круковецком, панове, — вмешался и Прондзиньский, — конечно, могут лишь люди, плохо знающие его, далекие от войска. Спросите офицеров, солдат: никто не захочет даже драться, когда булава ляжет в руки этого… генерала Круковецкого… Войско знает и ценит каждого по заслугам… Да разве же, имея таких людей, как генерал Шембек, как вот наш генерал Скшинецкий…
— Нет, нет! — живо, с притворной скромностью перебил Скшинецкий. — Ни звука обо мне!.. Я, если бы даже, паче чаяния, вышло… Я — булавы не приму… Сам ясно вижу, что еще молод, не готов для этой высокой позиции… Час мой еще не пришел. Я только — видит Бог! — хочу служить спасению родины… Прошу помнить это, панове… И так, не иначе, судите обо мне!..
— О, конечно!.. Не иначе! — хором заверили хозяина его высокие гости. Беседа была кончена. Они расстались.
А вечером Скшинецкий долго сидел у Хлопицкого, выслушивал отрывистые мысли, которыми делился с гостем хмурый, усталый генерал, — восхищался ими, восторгался всем, что до сих пор успел сделать Хлопицкий, просил у него руководства, советов и, обласканный, награжденный дружеским объятием хозяина, поздно ночью вернулся к себе.
Лежа на прекрасной пружинной постели, которую всюду возил с собой, лениво потягивался молодой генерал и в полусне решил:
— А день мой прошел не напрасно!
Сразу и сильно изменилась жизнь и внешний вид Варшавы.
Еще не настали покаянные дни Великого поста, а карнавальное веселье стихло в шумной столице…
Не до него уж тут, когда неделю целую, почти не умолкая, гремит канонада так близко, через Вислу, на Гроховских полях и под Бялоленкой, что чуть подальше, за Брудной, на дороге, ведущей через Прагу к северо-востоку, прямо на Петербургский шлях…
Три дня молчали только окрестности Варшавы.
А в нее вступали целые обозы своих раненых, входили отряды пленных россиян… Госпитали наполнялись невольными жильцами… Частные дома спешно обращались в лазареты, потому что предстояли новые бои…
И они начались 24 февраля у Бялоленки, продолжались там 25-го и перекинулись сразу в этот день на Гроховские поля…
Большая битва разыгралась здесь… Переполнились полевые лазареты с первых же часов боя… 7000 раненых собралось к концу дня в стенах встревоженной столицы… Везут их на дрожках, на линейках, сами тащатся те, кто еще может стоять на логах… Ползут иные, которым не хватило места на телегах, не стало сил идти по-людски…
Без конца прибывают окровавленные люди, еле перевязав тряпицами раны, обмотав чем попало изуродованные руки, волоча перебитые, раздробленные ноги.
И плакать некогда Варшаве, жалеть своих милых, несчастных гостей. Слишком много дела… Перевязать, накормить, обмыть, уложить. Многие палацы и большие частные дома уже раскрыли свои двери, принимают печальных гостей…
А те прибывают, прибывают без конца… И не смолкают залпы за Прагой, на Гроховской равнине… Новых гостей столице готовит там братоубийственная резня.
Удивлены были варшавяне, когда, проснувшись по привычке на заре 26 февраля, они стали тревожно прислушиваться — и услыхали там, за Прагой, одну глубокую, зловещую тишину.
Испуг охватил всех…
Что произошло, если смолк этот страшный рокот и грохот, потрясающий тело, терзающий сердце? Что-нибудь страшное свершилось! Или — неожиданное, хорошее!.. Почему тишина?
И сразу понять не могут варшавяне, что безумие боя тоже требует отдыха… Что там, у россиян, у братьев-врагов тоже тысячи, десятки тысяч убитых и раненых. Что они лежат не в стенах большого богатого города, изобилующего всем, — а прямо на соломе, на мерзлой, влажной земле, в грязи, под намокшим холстом солдатских шатров, а то и под открытым небом, под таким холодным и враждебным в эту пору, к концу зимы… Там — нет мягких женских рук, которые здесь осторожно омывают и перевязывают глубокие, кровавые, гнойные раны… Нет внимательных, скорбных глаз, которые следят за бредом больных, ловят искру жизни на лицах, искаженных страданиями, хотя слезы накипают в этих самых широко раскрытых женских глазах…
Нет там ничего: нет даже утешения веры, нет довольно попов, чтобы исповедать умирающих и отпустить их очищенными в иной мир, как делают это здесь ксендзы, в Варшаве…
Там — грубые руки усталого, полуголодного товарища неумело касаются запекшихся ран, бередя их еще сильнее… Там острый голод жжет внутренности, когда перестает их жечь лихорадка… И только мороз февральских ночей приносит страдающим отраду, охлаждает пламя, дарит облегчение и смерть!..
Вот отчего тихо занялось утро 26 февраля… И тишина царит над обоими станами братьев-врагов!..
Обширное, светлое помещение Новой Рессурсы на Сенаторской улице обращено в лазарет.
Раненые лежат повсюду, не только на кроватях, диванах, скамьях, но даже и на полу, куда брошены матрацы или просто мешки, набитые сеном…
Только для раненых офицеров отведено два покоя, где больше простора и воздух чище, не наполнен испарениями прелой одежды, карболки и кисловато-острым запахом свежей и запекшейся крови, еще не отмытой, текущей по телу или темнеющей в отверстии ран…
Графиня Эмилия Шанецкая, в темном своем наряде, с повязкой сестры милосердия, вошла в первый покой, отведенный для офицеров. Хорошенькая, пухленькая пани Вонсович, многолетняя приятельница генерала Хлопицкого, в шубке с муфтой, в шляпке, розовая от мороза, с красным носиком, как будто от слез, с глазами, тоже заплаканными и полными сна, который пришлось прервать на заре, далеко до обычного срока, — осторожно, словно крадучись, идет за графиней вдовушка, не то брезгливо, не то с состраданием оглядываясь по сторонам и не отнимая от губ и носа надушенного нежным иланг-илангом батистового платочка…
Маленькое шествие замыкает совсем юная худощавая сестра милосердия, с выразительным, очень красивым лицом семитического типа — Рахиль Вайнштейн, дочь богача банкира, одна из первых евреек, посвятившая себя уходу за ранеными.
Спит еще вся палата… Один только тяжелораненый стонет и бормочет что-то в бреду. Около него темнеет силуэт особой сиделки, которая меняет лед на ране и смотрит, чтобы повязка не соскользнула…
Полутемно в палате… Вот все три очутились перед второй дверью.
Вонсович остановилась, как и обе остальные ее спутницы.
— Прошу вас подождать, — мягко, негромко, но решительно говорит по-французски Эмилия. — Конечно, серьезного ничего… Вы можете взглянуть… Но я погляжу раньше… Если генерал спит… не надо его тревожить… Взгляните и… А потом, позднее, вернетесь… Только не плачьте, пани… Ради Бога… Это растревожит и вас, и его… Вы обещаете?
— Обещаю, — томно произносит вдовушка, а у самой носик и глаза сразу закраснелись еще сильнее, — я постараюсь… Правда, я взгляну… Успокоюсь, если увижу, как он выглядит… Что он не… не… умирает…
Град слез покрыл последние слова.
— Ну, вздор какой! — умышленно твердо, отрывисто говорит графиня, чтобы сдержать проявление нервности у посетительницы. — Несколько царапин ноги… Легкая контузия… Генерал счастливо отделался… Картечь была на излете… Так возьмите себя в суки… А я сейчас…
Легко шагнула она за порог и, миновав ряд коек, остановилась между двумя дальними, у окна.
На одной из них на подушке покоилась крупная, львиная голова Хлопицкого, который вчера, среди дня, в самый разгар боя был ранен осколками снаряда в ноги и перевезен сюда.
По странному совпадению — на соседней койке лежал раненый волонтер-пехотинец, литератор Мавриций Мохнацкий, один из главнейших деятелей ночи 29 Листопада, самый ретивый из творцов этого переворота, крайний революционер, талантливый писатель, земляк Хлопицкого, галичанин, и его непримиримый политический враг.
Раньше всех Мохнацкий осудил медлительную, бесплодную, вредную для края деятельность генерала-Диктатора, поднял целую бурю, чуть ли не второй переворот социального оттенка… Думал свергнуть Хлопицкого… Но общество еще верило Диктатору, молодежь — боготворила его… Смерть угрожала Мохнацкому от руки защитников генерала. Юноша, не желая, чтобы братские руки поднялись на него, ушел в стан, поступил волонтером и был вчера на Гроховском поле ранен почти в тот же миг, как и его противник, экс-Диктатор. Обоих привезли и положили здесь рядом. И бледное, опухшее теперь от усталости боевой лицо чахоточного юноши-литератора вырезалось на подушке в двух шагах от Хлопицкого.
Графиня осторожно подошла к генералу. Спутница ее продвинулась к юноше-демагогу, речи которого восхищали бойкую, революционно настроенную панну Рахиль.
Оба еще спали: якобинец и «старовер»-генерал.
Рахиль опустилась осторожно на табурет у постели Мохнацкого, стала готовить перевязку и бинты.
Графиня Эмилия слышала дыхание Хлопицкого.
Истощенный двухдневным напряжением боя, обессиленный от потери крови, от болезненной первой перевязки, генерал спал крепко. Первые лучи солнца, пробившись в окно, скользили по его лицу, но он ничего не чуял. Однако дыхание его было тревожно, легкий румянец, признак лихорадки, неизбежной спутницы всяких ран, проступал на исхудалом сразу, бледном лице.
Осторожно прошла обратно до середины покоя Шанецкая, стараясь не разбудить спящих кругом, и сделала знак Вонсович.
Та на цыпочках, прижимая платок к губам, пробралась к постели своего друга.
Долго, внимательно глядела она на него. Грудь ее судорожно вздымалась… Слезы так и сбегали по щекам… Но она сдерживала рыдания. Ни звука не вырвалось из груди…
Только когда раненый, словно почуяв на себе горячий, острый взгляд, сделал легкое движение во сне и слабо простонал, почуяв боль в перевязанных ватой и марлей ногах, пани Вонсович вся как-то сжалась, втянула голову в плечи, муфтой совсем закрыла лицо и почти ощупью, наугад быстро вышла из комнаты, миновала вторую, очутилась в коридоре, упала здесь на какой-то темный ящик и глухо, порывисто зарыдала.
Графиня Эмилия, словно предвидевшая это, уже стояла рядом, давала ей нюхать соль из флакона, гладила своей мягкой осторожной рукой по волосам, ласкала, как ребенка, эту рыдающую горько женщину и спокойно повторяла:
— Ну, будет… ну, довольно… Вы же видели, убедились: генералу совсем не плохо… Он через неделю будет здоров… Ручаюсь вам. Вы же сами видели… Вы же понимаете…
И быстро, словно завороженная этими внушительными звуками, успокоенная, убаюканная лаской, сдержала рыдания расстроенная женщина, слабо улыбнулась, залепетала:
— Благодарю вас, графиня… Вы правы… Я видела… У него… у него совсем не такой вид… понимаете?.. Я видела… Я вам верю… Я так вам благодарна… Видите, я не плачу более… Я поеду… Успокоюсь… И вернусь попозже… когда он встанет… То есть проснется… Благодарю вас…
Едва пани Вонсович, а за нею графиня Эмилия успели отойти от койки генерала и скрыться за дверьми, он сделал снова движение… И проснулся, словно от толчка. Боль на мгновение пронзила ноги и затихла.
Еще в полусне, не раскрывая глаз, генерал испытал ощущение, говорящее, что здесь кто-то был сейчас… Легкий знакомый запах духов, казалось, носился и таял в воздухе… В то же время он чувствовал, что в груди у него жжет, губы пересохли от жажды.
— Пить, — слабо протянул он, все еще не раскрывая глаз.
Рахиль, которая уже подстерегла его первое движение, стояла тут, рядом. Она осторожно приподняла ему голову и дала сделать несколько глотков из бокала, стоящего наготове.
Приоткрыв глаза, он различил красивый, семитический профиль девушки, уже ему знакомый, успокоился, поблагодарил слабым движением век и снова закрыл их…
Хлопицкий вспомнил, где он, и обрадовался.
Кругом такая глубокая, отрадная тишина!.. Почти как в могиле. Спать не хочется. Но он не раскроет глаз.
Впервые после стольких мучительных часов, после грохота боя, после хриплых выкриков команды и дико звучащих напевов, с которыми шли на смерть польские ряды, после крови и отчаянья — мир, покой и тишина! Как хорошо…
Теперь — все кончено. Ему не надо ломать себя, вести людей на убой и давать приказы, несущие смерть другим, тем, кто стоит напротив… И только потому, что они стоят не рядом, не позади, а напротив, лицом к лицу, грудь перед грудью, — они враги!.. Их надо убивать, хотя ничего лично не сделали эти большие, здоровые люди в серых шинелях, с добрыми лицами ни самому Хлопицкому, ни тем, напряженным, тесным рядам жолнеров, которых ведет генерал за собой…
Он, Хлопицкий, понимая всю нелепость, бесцельность боя, крикнул своим: «Вперед! Колите!» — и они колют, убивают, падают сами… Но все же они падают на родную землю, как ее защитники и дети…
А эти, пришлые?.. Совершенно чужой для них человек пришел и сказал им:
— Пойдемте!
Они пошли. Он привел их, иззябших, не утоливших голода и жажды, поставил в чужой земле, против незнакомых, чужих людей и крикнул:
— Убивайте!
И они исполняют приказание, сами не зная, за что и почему льют кровь…
И только дивятся: отчего это на пиках, на штыках? у передовых рядов вражеских торчит клочок бумаги, на котором написано что-то крупно. И по-русски, не по-польски!
Грамотные читают вслух:
— За нашу вольность и вашу!..
Но мало кто понять и разобрать может, что означают эти слова!
А если и разберут, то уж слишком поздно, когда нет времени столковаться; когда две живые лавины, несущие друг другу смерть, уж слишком сблизились, на расстояние штыка… Когда надо скорее колоть, рубить, если не хочешь, чтобы закололи тебя…
Понимал все это Хлопицкий… И ничего не мог сделать…
Долг… родина… голос крови, узы чести!
И он шел под ярмом всех этих слов… Под тяжким ярмом… Долго так шел! Но вот что-то ударило по ногам… Он выбит из строя… Он свободен наконец!
И, глубоко, привольно вздохнув, не раскрывая глаз, Хлопицкий отдался воспоминаниям…
Прежде всего — вчерашний бой…
Ольшина… Кровавая ольшина… отбил ее Скшинецкий у россиян или нет?.. Больше двух тысяч тел уже лежало там, холодея, когда ранен был Хлопицкий… Он сказал, чтобы новые полки двинуть на помощь батальонам, выбитым из этого важного места отчаянной атакой врага… Россияне были в ольшине, когда падал Хлопицкий… Но ведь он приказал… Он назначил себе преемником Скшинецкого… Этого милого, отважного, молодого генерала… И приказал ему через Прондзиньского отнять ольшину… Наверное, так и вышло. А бой был грозный… Решительный… Чем кончился он?..
Беспокойное движение сделал генерал при этой назойливо мелькающей в уме тревожной мысли, при этом больном вопросе. Мимолетною, острою болью в ногах отдалась душевная боль. Было бы нехорошо, если уход его, Хлопицкого, послужил во вред польскому войску. От кого бы узнать?..
Не успел промелькнуть в мозгу этот тревожный вопрос, как на пороге комнаты обрисовалась знакомая крупная фигура, и полковник Дезидерий Хлаповский, близкий друг и брат по оружию генерала, стал приближаться к его койке.
— Наконец-то ты, Дезя! — встретил громким окликом товарища генерал.
Даже Мохнацкий и еще другие проснулись от звука сильного голоса, привыкшего раздаваться властно на полях битв.
А Хлаповский почти подбежал к постели, принял в свою протянутую горячую руку генерала, осторожно жмет ее и весело говорит:
— Вот это славно. Оказывается, меня не обманули ле-каришки, старина! Ты чувствуешь себя недурно и раны — пустяковые.
— Черт его знает!.. Я бы готов сейчас на ноги и опять за дело, — почему-то не глядя в глаза Хлаповскому, говорит генерал, — да лекари сказали… вот которые вчера ковырялись у меня в ногах, что придется полежать недельки четыре или пять… А, мол, опасности — никакой… Будем верить… И я, как видишь, свеж и бодр… Лихорадит немножко. Так, пичкают меня… Вот, видишь, красоточка девица какая, панна Рахиль уже приближается с утренней порцией.
— Да, да, пане енеррала, — раскатывая красиво свое гортанное «р», — заявила Рахиль, подавая микстуру Хлопицкому. — И пррошу пить, бо есть самый час… Порра прринять лекарство… И не очень много мувиць тоже пану енералу лучше будет…
— Ишь, какая мать-командирша… Что поделаешь?.. Слушать надо. Тут своя дисциплина… Я помолчу… А ты валяй, Дезя… расскажи, что было, когда меня увезли с поля?.. И… прежде всего, чем кончился день?.. Сегодня не слышно треску. Угостили мы, значит, пана фельдмаршала… Сыт, не просит больше?
Шутливые фразы срываются у Хлопицкого, лицо улыбается. А в глазах такая затаенная, сильная тревога, почти ужас. Словно чего-то страшного ожидают они, неизбежного…
Но Хлаповский сразу понял и успокоил Хлопицкого:
— Можешь быть доволен, старина! Ты поставил колымагу на колеса, а мы уж легко докатили ее до цели… Ольшину, за которую ты так опасался, помнишь…
— Ну, ну…
— И отбирать у них не пришлось… Сами ее оставили, совсем к Седлецу отходит пан Дибич, на роздых, на опочив… Перехватили нынче курьера от него, который скакал на север… тринадцать тысяч выбыло у них вчера!.. Вдвое больше, чем у нас… Да!.. восемь пушек мы взяли… Знамя… Пленных!.. И спокойно отошли себе под Прагу…
— Под Прагу-таки отошли!
— Ну да, как и ты это думал… Гнаться бы за ними, так в пух бы их разнесли… Да наши были чертовски измучены… Особенно после контратаки на кирасир Альберта да на улан цесаревича…
— Контратака! — раздумчиво повторил Хлопицкий, словно перед ним сейчас развернулись картины боя, не виденные им вчера. — Какая, где, как… Не тяни!
— Смешная история вышла, надо тебе сказать… Шембек-то, дружок твой, совсем… тово… оконфузился! Понимаешь, всю кавалерию бросил было на нас Дибич… после тебя… Словно шепнул ему кто, что смутились войска твоей раной… Пока мы тут наново строились, видим: их эскадроны, тысяч девять-десять, так лавой и несутся… — забывая сдержанность, громко стал описывать Хлаповский. — Кирасиры принца Альберта впереди… на наш центр, на Столб Железный, на Прагу… Уланы цесаревича — полевей… Другие — справа… Отовсюду… Мимо наших батарей, мимо конницы как безумные… несутся, черти, сломя голову, опомниться никому не дают…
— Ну… ну.
— На счастье, уланчики попали на глубокий ров… Знаешь, канава гроховская…
— Ну, ну!..
— Забавно видеть было, как кувыркаться стали кони, люди через головы их летят… А тут и наши опомнились, ударили… перебили кой-кого, другие — назад поворотили… А все же альбертовцы и за ними еще эскадроны — ломят вперед, секут одиночных всадников наших, отряды малые разносят, которые попадаются им на пути… У двух пушек прислугу изрубили… Бешеные!..
— Ну?..
— Совсем почти к окопам Праги дотерлись, пока мы успели опомниться… Дибич обрадовался… Колонны, одну гуще другой, высунул из-за прикрытий, шлет коннице своей вслед… У нас — в тылу — паника… Да, да… настоящая паника началась! Понимаешь, Шембек, немецкая ветчина проклятая, первый свою дивизию чуть не бегом под Прагу гонит… Да к мосту… А там уж и пушки наши подбежали, натискались и подводы обозные, и лазареты, и дрожки с ранеными… Едва выдержал мост… Погнулся чуть не до льда… По Варшаве уже поскакали вестники — трусы, поганцы! Кричат: «Москали Прагу взяли! Запирайте лавки! Спасайтесь, кто может!..» И граф Антоний Островский — первым! Потеха, старина!..
— Дальше… дальше…
— Что дальше!.. Все хорошо вышло… Оправились наши… Ракетная батарея капитана Скальского первая за ум взялась… Вжж!.. Завизжали, метнулись снаряды, разрываться стали под ногами коней у альбертовцев. Падают кони, люди!.. Кровь — потоком!.. Остановились шальные россияне, видят: зарвались далеко — и помощи близко никакой. Назад повернули… Да не тут-то было!.. Клицкий лихо сбоку налетел, подоспел со своими уланами да с эскадронами замойских добровольцев… Справа, слева, со всех сторон рвать, валить стали дружков… Половина — пали… Остальные — в плену у нас. Сам полковник Майендорф еле ушел с кучкой человек в пятьдесят… А там — и остальные эскадроны повернули российские назад, и колонны их свернулись, когда от Шмулевщизны заиграли с высоких холмов дальнобойные пушки пана Гелгуда… А из лесу, от Бялоленки, — выдвинулись колонны твоего приятеля, Круковецкого: еще с утра, как знаешь, ждали его. А он приполз только к вечеру… но зато подоспел в самый решительный час… Тут уж мы не зевали!.. Тоже в кулак собрали свои эскадроны, приказу ни от кого ждать не стали… Понеслись следом за уходящей российской кавалерией… двести пушек нам навстречу снова загремели… Да мы и не слушаем!.. Совсем настигать стали врагов. Вдруг они задерживать начали коней, рассыпаются на обе стороны. А перед нами, штыки наёжа, опираясь спиною на леса, стоит весь корпус Шаховского… И он в пору поспел к Дибичу, как пан Круковецкий к нам… Еле сдержали мы коней перед самым острием этой стальной щетины… Пришлось назад вернуться… с легкими потерями… Но зато — день наш… хотя и дорогой ценой…
— Да, дорогой ценой… Что же теперь!.. Как войско?
— Войско… — медленно, нехотя отозвался Хлаповский. — Оно устало очень… Совет был… И решили его на левый берег отвести… Пока на роздых… Не сунутся москали… У них дыр больше, чем у нас… И пушки на новых верках Праги тоже маху не дают…
— Вот как… Но ты говорил… Дибич отступил к Седлецу…
— Да, да… Сегодня мы узнали только… Уж, видно, плохо ему пришлось, если… Тоже чинить прорехи будет, как и мы…
— Да, да… понимаю… Все понимаю теперь, — закрывая глаза, негромко заметил Хлопицкий, передохнул и спросил: — А… когда Совет?.. Кого думают вождем?.. Неужели же этого проныру… Круковецкого?..
— О нет, ручаюсь честью… Нет! Можешь успокоиться, старина. Совет идет сейчас. Я собираюсь прямо туда… И дам тебе знать немедля… Но будь уверен: выберут Скшинецкого, согласно твоему желанию…
— Да… да… его!.. Сейчас — некого больше… Его!.. — с внезапным оживлением проговорил раненый, затем затих, словно истощил в порыве последние силы тела и души.
Усиленные знаки Рахили привлекли, наконец, внимание Хлаповского, который сидел, еще возбужденный своим рассказом о событиях вчерашнего боя.
Поняв, чего желает девушка, он кивнул ей и осторожно обратился к другу:
— Ну, сердце Юзеф, мне пора… Ты — отдохни… А я еще загляну к тебе, все расскажу… Не тревожься, не думай… Дело идет отлично… Прощай… Здоров будь, старина…
— Да, правда, я отдохну!.. Крови ушло немало, ослабел! — как бы извиняясь, произнес раненый, слабо отвечая на пожатие друга.
Хлаповский вышел. Генерал отвернулся к стене и затих, зажмурясь… Он не видел, как поднялся на подушке его сосед, с какой ненавистью устремил на него глаза, полные слезами… Эти слезы катились по воспаленным щекам, по шее, по груди на подушку… Судорожно сжались пальцы исхудалой руки… она поднялась, заколебалась с угрозой в сторону соседа… Беззвучные проклятия шептали уста:
— Сгубили, сгубили Польшу!.. Предатели!.. Медлили, переговоры вели, когда надо было…
Мысли у юноши оборвались… Что-то колыхнулось в исхудалой, чахоточной груди… Соленое и сладковатое, теплое что-то наполнило рот… Тонкая струйка крови просочилась в углу рта и поплыла, покатилась вниз…
Рахиль кинулась к больному, не понимая, что случилось с ним!.. Что значит его внезапная ярость и эта кровь, текущая изо рта?..
Выйдя от друга, Хлаповский поскакал в старинный палац «Под Бляхой», отведенный для заседаний Народного Ржонда, где сейчас происходил большой Военный совет, в котором и он должен был принять участие.
В пятом часу утра стали уже собираться генералы и некоторые влиятельные полковники, приглашенные на совет от имени Народного правительства. Только генералу Круковецкому не было зова, чтобы решить дело без резких выходок и грубых вспышек, какие позволял себе часто надменный, неукротимый старик.
Председательское место занял президент Ржонда князь Чарторыский. Десять генералов и четыре полковника, включая и Хлаповского, составили совет.
Хлаповский застал дело в полном разгаре, хотя не было даже шести часов, когда он занял место за общим столом.
Обсуждались события последних трех недель, потом перешли к вчерашнему бою… Нападки, жестокая критика раздавались со всех сторон. После оконченного боя каждому стали особенно ясны чужие ошибки, вольные и невольные промахи, а больше всего их стали насчитывать за князем Радзивиллом.
Мягкий манерами и душой, воспитанный в заветах старого рыцарства, долго и терпеливо слушал нападки князь Михаил, наконец заговорил по-французски своим всегда спокойным, сдержанным тоном:
— Я понимаю печальное настроение господ генералов и полковников, созванных для совета в столь тяжелые часы… Готов охотно принять на себя всю ответственность за сделанные промахи, за несодеянные удачные шаги… Но все-таки попытаюсь немного пояснить: что привело армию к настоящему печальному положению?.. Конечно, будь здесь генерал Хлопицкий, он сумел бы лучше, яснее изложить и наши теневые стороны, и те надежды, которые он питал впереди и которые я вместе с ним…
— Простите! — вдруг совершенно неожиданно и даже неучтиво перебил его Скшинецкий, которому Хлаповский успел шепотом сообщить о разговоре с раненым экс-Диктатором.
Радзивилл невольно умолк, все обернулись в сторону Скшинецкого/ который по-французски решительно заговорил:
— Все это — чистейший пустяк и вздор, о чем мы толковали битый час, что желаете пояснить и вы, князь. Прошлого не вернуть… Его будут судить наши потомки, родная история. Постараемся вперед не делать больше глупостей, не терять времени на пустую болтовню. Позволю себе говорить так решительно потому, что дорог каждый час… Дибич еще до вечера может явиться перед Прагой… Может взять ее… А затем и Варшаву… Негде будет нам тогда и разговаривать… Теперь главный, насущный вопрос — выбор верховного вождя для армии. От этого зависит спасение страны… Вот и займемся настоящим делом, а не болтовней!..
Как ни резка была форма речи, но справедливость высказанной мысли и прямота Скшинецкого, непривычная совершенно в этом человеке, понравились всем.
— Верно, верно! — послышались возгласы… Ободренный ими, Скшинецкий так же «по-солдатски», как он сам про себя подумал, продолжал рубить:
— Вы, князь, конечно, и сами признаете, что для данной роли не пригодны… Особенно без дружеской помощи генерала Хлопицкого…
Поставленный ребром вопрос покоробил слегка окружающих. Но ждали, что скажет Радзивилл.
Легкий румянец проступил на бледно-матовом, выхоленном лице родовитого магната, дрогнули слегка ресницы, скулы… Но сейчас же ровным, прежним тоном он ответил:
— Вы, может быть, и правы, мой генерал… Даже наверное… Только просил бы я не забывать одного… Я булавы не искал, ради власти не забегал ни перед кем, никого не умасливал… Сам объявлял, что быть вождем не гожусь… Меня упросили, почти заставили… И верно — только получив обещание генерала Хлопицкого делить со мной непосильное бремя воеводства, я принял власть… Делал затем, что умел… И если господину генералу Скшинецкому кажется, что он лучше сумеет повести дело и справиться с ним… Честь и место!.. Уступаю охотно… Пусть принимает главенство хоть сейчас!..
— О, я не позволю себе принимать власти, мне не порученной правительством, как и князь, конечно, не думает серьезно ее передавать без воли Ржонда… Но, господа, — обратился к остальным Скшинецкий, — я так понял речь князя Радзивилла, что он отказывается от главного начальства над армией…
— Не знаем… Пусть князь яснее… Хотя, конечно, — послышались отдельные голоса.
Радзивилл вспыхнул окончательно:
— Какие могут быть еще сомнения! Я окончательно слагаю с себя власть! — отчеканил он.
— Что же, — подал голос Чарторыский, — примем к сведению, панове, и приступим к избранию другого вождя. Генерал Скшинецкий прав… Время не терпит… Даю четверть часа на обсуждение кандидатов… Прошу их огласить, и мы приступим затем к голосованию.
Все разбились на небольшие группы. Один князь Адам остался на своем месте и, положив перед собой свой старинный брегет, стал что-то писать на листке, поглядывая изредка на стрелку, мерно и ровно свершающую свой круг на золоченом диске часов с эмалевыми цифрами.
Уминьский первый, потолковав с полковниками Хшановским, Прондзиньским и Хлаповским, вернулся к своему месту за столом. За ним потянулись другие, и задолго до назначенного срока — все сидели на местах.
— Я подаю голос за генерала Скшинецкого! — первый же объявил Уминьский.
— Таково же мнение и генерала Хлопицкого, — скромно поднимаясь, объявил Прондзиньский.
— Мы это подтверждаем, — в один голос поддержали еще два полковника — Хлаповский и Хшановский.
— Я тоже за него! — поспешно заявил Шембек, пожелтевший лицом после вчерашнего позора.
— И я… И я… — раздались со всех сторон голоса. Граф Лубеньский, Клицкий, Вейсенгоф, Дембинский, сам Радзивилл — почти все назвали его же. Скшинецкий подал свой голос за Уминьского. Князь Чарторыский после раздумья объявил:
— Конечно, вам, господа генералы, лучше знать, кого вам надо выбрать вождем себе и армии… Но, соглашаясь с мнением большинства, обращу внимание и на другое имя, прозвучавшее здесь… Вот генерал Мильберг и Дверницкий назвали пана Круковецкого… Заслуженный воин, старейший во всем нашем штабе служака… Чем его возместим за… Прямо скажу… за обидный обход!.. Подумайте, господа…
— Я бы предложил поручить ему пост губернатора… Теперь, когда враг у ворот столицы… когда она осаждается и могут начаться приступы… нужен именно испытанный, боевой генерал, чтобы…
Скшинецкому, который, очевидно, заранее приготовил этот мостик для соперника, провалившегося перед ним, не дали досказать.
— Конечно, понятно! — раздался общий говор. — Круковецкого — губернатором.
Дверь распахнулась, и в ее пролет, как дух на заклятие, появился Круковецкий, взъерошенный, наскоро, кое-как одетый, озлобленный и настороженный, как зверь, готовый прыгнуть на врага.
— Что такое?.. Почему это так?.. Большой Военный совет… Собраны не только все паны генералы, а даже полковники… А я?.. А меня… — начал было скрипучим желчным своим тоном вновь пришедший.
Но его перебили несколько голосов:
— Нельзя было!.. Не успели!.. Собрались внезапно… Но пана не забыли, шановный генерал!
— Да, да! — громко заговорил Чарторыский, спеша отвести бурю. — Пан генерал единогласно избран губернатором осажденной столицы… И, конечно, такой важный пост вполне отвечает талантам и энергии генерала… А мы можем спать спокойно под его охраной, как за рядами стотысячной армии.
Понял старый интриган, что его перехитрили… Он опоздал. Все смотрели прямо ему в глаза, были заодно!.. Он взвесил положение, скрипнул зубами и криво улыбнулся, говоря:
— Благодарен за честь, панове!.. А кто же вождем?..
Обведя всех глазами, Круковецкий вопросительно остановился на Чарторыском, который слегка почему-то замялся, но потом решительно объявил:
— Вождем избран… генерал… Скшинецкий, почти единогласно.
— Вот как, — с нескрываемым недоверием процедил Круковецкий. — Не ожидал… Правильно… Достойный выбор!..
— О, конечно, — словно не поняв иронии, серьезно произнес Чарторыский. — Надеюсь, недоразумений между нами никаких не будет; хотя генерал, конечно, не такой заслуженный и старый воин, как пан граф Круковецкий!.. Надеемся, граф будет охотно помогать… Содействовать распоряжениям, исходящим от верховного вождя…
— Может ли быть вопрос?.. Я — старый солдат, привык повиноваться начальству, какое бы оно ни было… «До-боша», барабанщика поставьте с палками в вожди, я того послушаю, палкам кланяться буду… До свиданья, панове!..
Кинул Скшинецкому последний, быстрый взгляд, полный ненависти, повернулся и исчез внезапно, как появился, этот старый обозленный интриган, которого успел обойти молодой, новой складки генерал-дипломат, пан Скшинецкий…
Переглянулись все, но ничего не сказали, качают лишь головами. Новый избранник между тем ясно чувствовал, что последнее слово за ним, что от него ждут если не настоящей «программной» речи, то хотя бы легких намеков на таковую.
Картинно опираясь одной рукой о край стола, Скшинецкий провел другой по лбу, словно собирая мысли, и звучно заговорил по-французски, как и прежде:
— Господин президент правительства и вы, дорогие сотоварищи славной боевой жизни! Приношу вам благодарность за доверие и высокую честь, оказанную мне вашим решением и вашим выбором. Принимая на себя власть, прошу верить, что я сознаю всю тяжесть своего и общего положения, всю ответственность, возлагаемую на меня этим избранием. Является вопрос, насколько я заслуживаю его; надеюсь ли, сумею ли оправдать? Конечно, все в руках Божиих. Но я сам и вы все довольно хорошо знаете меня, сотоварищи. Вы знаете, что этот крест Почетного легиона дан мне рукой великого вождя Наполеона, которого я спас в битве при Арси-сюр-Об. Я его укрыл в каре моего батальона и отбил грозный напор врагов!
Отбросив излишнюю, неуместную сейчас скромность, могу сказать открыто: вы не без оглядки, конечно, сделали свой выбор. Я — отважен, опытен в военном деле, которому посвятил немало лет. Изучил теорию войны, овладел ею в достаточной мере. Но, конечно, не могу называть себя светилом, гением. Обещаю только честно служить отчизне, делать все, что мне по силам. И, — подняв свободную руку к небу, с особенной торжественностью заговорил он, — беру в свидетели Бога: не побуждаемый честолюбием или личными своими соображениями и расчетами, принимаю высокий сан вождя и гетманскую булаву. Клянусь, нет! Делаю это только для блага своего народа, для спасения отчизны… А уж если Рок не захотел бы послать удачи святому делу нашему, торжественно обещаю, что честь Польши будет спасена… Падем со славой — и большую тризну я справлю миру над гробом польской армии… Много жертв в последней схватке принесут и враги… Их жены и матери так же станут плакать, как польские осиротелые жены и матери!..
Красивые фразы, умело сказанные, подкупили даже прозорливого президента… Общие поздравления покрыли речь нового генералиссимуса. Затем все разошлись.
В зале остались Скшинецкий и три полковника: Колачковский, Хшановский и Прондзиньский, которых незаметно удержал он при общем прощании.
— Вас особенно, дорогие друзья, должен я благодарить за ту отрадную минуту, которую переживаю сейчас! — обратился к ним генерал, едва вышли остальные. — Ваша поддержка, ваши советы, прямая, испытанная дружба — оказали мне услугу, которой я не забуду никогда. Слово чести! Но… одну просьбу имею я к вам…
— О, генерал!.. Пусть генерал приказывает. Готовы служить не за страх, но за совесть нашему вождю, — последовал общий ответ.
— Верю… и буду говорить с вами не как вождь целой армии… а как ваш старый друг… Только вы и Бог должны знать и помнить, что теперь скажу. Я принял высокое назначение, только надеясь на вашу помощь, как и раньше говорил вам… Один человек всего не может знать… Сам Наполеон искал себе помощников и друзей… Так и мне подавно не стыдно вам признаться… о чем вы сами, наверное, знаете… Был я хорошим боевым полковником в пехоте, устав которой знаю твердо… Но — и только. С артиллерийским, с инженерным делом почти не знаком… Не приходилось командовать большими отделами, где собираются все роды оружия… Кавалерию видел, когда вместе приходилось идти в атаку… Времени не было вникать во все… Но, повторяю: надеюсь на вас, друзья. Будьте мне верными помощниками и советниками, каждый по своей части… Без вас — ничего не стану начинать, так и знайте… Тебе, пан Клеменс, — обратился он к Колачковскому, растроганному до слез, — я поручаю инженерную часть всю сполна. Тебе, Хшановский, придется ведать Главным штабом, а тебе, пан Игнаций, — остается квартирмейстерская, теперь — особо важная часть! Согласны?!
— Генерал!.. Дорогой генерал!..
Крепкое рукопожатие заменило слова. Скшинецкий продолжал:
— Значит, дело сделано, я спокоен и за себя, и за армию, и за страну. Я вверяю вам их и себя… И от вас жду полного доверия… искренних прямых советов и — полной тайны в делах!
— Слово чести! — разом прозвучали три одинаковых ответа, как из одной груди.
Затем Прондзиньский, взволнованный, растроганный не меньше чувствительного и слезливого по натуре Колачковского, заговорил:
— Сомневаться, конечно, ты не можешь, генерал… Твои слуги, помощники и друзья до последней минуты… Веди отчизну к спасению, а нас и себя по пути славы!..
— Бог на помощь! — так же искренне, хотя и по-бабьи немного, прозвучал дрожащий, высокий голос Колачковского.
Всегда холодный, рассудочный Хшановский на этот раз тоже ощутил особое волнение, захваченный важностью минуты. Но он не изменился наружно, подошел, крепко пожал вторично руку вождю и твердо отрезал:
— Когда и в чем только надо, можешь, генерал, положиться на Хшановского…
Две слезы, искренние на этот раз, показались на выразительном, красивом лице Скшинецкого, и он медленно, жестом опытного актера отер их легким прикосновением руки…
— Чтобы не откладывать долго, я сейчас же хочу предложить одну важную меру, — заговорил Колачковский, когда легкое молчание принесло успокоение всем.
— Пожалуйста, прошу, — указывая на места, пригласил Скшинецкий.
— На войне следует предвидеть самые дурные случайности. Положим, Дибич получит скоро большие подкрепления и… осадит теперь же столицу со стороны Праги… Держаться крепость может… даже довольно долго… хотя пушек на ней недостаточно. Но все равно… А тут под самым боком — болячки… Деревянные домишки обывателей предместья… Немного, домов четыреста неважных, старых… Но гореть они могут превосходно… Выждав, пока ветер будет к западу, неприятель гранатами подожжет целое предместье, как один костер… Мы будем задыхаться в дыму, нас опалит огнем… А отряды врага воспользуются этим для атаки… Да и просто под прикрытием этих хибарок россияне могут подбираться к самым нашим окопам, обстреливать нас, выбивать прислугу при орудиях… Так лучше…
— Предупредить россиян и сжечь теперь же эти лачуги… — подхватил оживленно Скшинецкий.
— И очистить пространство перед верками, как учит стратегия…
— Великолепно… Я понимаю… Согласен… Тем более что тут кроме правил стратегии будет показана целому миру глубокая, прекрасная аллегория!
— Аллегория, генерал! Какая?..
— Блестящая!.. Мы без слов объявим Польше, Европе, врагам, покажем на деле, что «корабли сожжены!» Что мы готовы на все… Своей рукой, как наши праотцы, скифы и сарматы, — жжем родные жилища при наступлении врага, готовя ему грозный отпор! Это — великолепно! Это — классическая выйдет штука!.. Как бы сейчас привести ее в исполнение. Хотя четыреста домов зажечь трудненько… Разве ракетами?
— Да. Можно. А еще лучше — смоляные вязанки… Сухие сучья в смоле… Поджигают превосходно…
— Отлично… Распорядись, прошу, пан полковник!.. А тебя, пан, — обращаясь к Хшановскому, сказал генерал, — попрошу написать приказ капитану ракетников, Скальскому… И дать знать жителям предместья, чтобы сейчас же вылезали из своих нор, забирали что получше с собою… А за дома и за рухлядь им надо будет что-нибудь там заплатить… Я доложу Ржонду… Благодарю еще раз всех. До свиданья, панове!.. Я должен отдохнуть… Да и вам это не мешает, полагаю…
Когда кирасиры принца Альберта показались вчера у самых валов Праги, лишенных всякой защиты, смертельная тревога и ужас овладели Варшавой. Запирались двери и окна, кто мог — садился в экипажи или на лошадь и спешил покинуть город, куда сейчас войдут москали, казаки, башкиры-людоеды и начнут резню, грабеж…
Уверенность в этом была полная. Даже юркий консул Шмидт быстро черкнул и послал с нарочными депешу в Берлин, извещая, что русские овладели Прагой, войска окружены, сдаются в плен и власти городские готовятся выйти с ключами и покорностью навстречу победителю Дибичу…
Напуган и встревожен был город по ту сторону широкой реки. Можно себе представить, что творилось в самой Праге!
Предместье, населенное бедным людом, рабочими, мастеровыми, мелкими торговцами, которые наживались от полков, расположенных здесь, — в один миг закипело, закишело людьми.
Бежали, ехали, везли, несли, волоком тащили скарб, детей, стариков, беспомощных и больных… На мост нельзя было пробиться… Там шли войска, ехали пушки, фургоны, везли раненых… И по льду протянулись тысячи людей, обезумевших от страха… Попадали в зажоры и промоины, оставшиеся после недавней оттепели, падали, тонули или, поднявшись кое-как, выцарапывались на твердый лед и бежали в эту темную, надежную на вид столицу… Там увидели они панику, не уступающую их собственной… Но варшавяне уходили из города; и беглецы из Праги набились в раскрытые костелы, в казармы, в дома, откуда убежали хозяева… И там затаились, притихли… Только небольшая кучка самых отчаянных, из молодежи, осталась смотреть, стоя на валах, что будет дальше… Не ушли и подонки столицы, ютящиеся именно здесь, в Праге: веселые женщины, «коты», жулики разного калибра…
Этим нечего терять. Сейчас они, словно большие крысы, шныряют и шарят по бедным лачугам Праги… А завтра, кто знает: может быть, крадучись следом за ордами москалей, не доведется ли похозяйничать и в богатых палацах и лавках Варшавы, которую сейчас слишком зорко и ретиво охраняет стража общественной безопасности, сменившая прежнюю продажную полицию, организованную взяточником Любовицким…
Но вот прошло несколько часов. Неприятель не появился. Кирасир Альберта вырубили польские уланы почти дотла на глазах людей, стоящих на валах пригорода… Успокоилась Варшава… Вернулись на ночь домой и обитатели бедных домишек Праги, хотя далеко не все…
А нынче к полудню снова толпы напуганных, дрожащих бедняков, плохо одетых, голодных, не успевших отдохнуть от вчерашней передряги засновали по улочкам, переулкам и площадям грязного предместья.
Какие-то странные станки выстроились против деревянных домишек… ездят, трубят солдаты, ходят народные гвардейцы и объявляют, что сейчас будут жечь Прагу… Так надо, чтобы не подпустить врага к Варшаве…
И все должны оставить свои гнезда, если не хотят сгореть с ними или быть убитыми при разрыве зажигательных ракет.
Снова повторилось отчаянное бегство… Мост почернел от людей и повозок, нагруженных жалким добром «предмещан».
Слезы, крики отчаяния висят в воздухе. А когда с темных станков взвилась и зашипела одна, другая, третья конгревская боевая ракета, когда они ударились в стены, в крыши покинутых жилищ, стали глухо взрываться, выбрасывая дым, огонь, зажигая деревянные стены, — вся толпа беглецов остановилась, как один человек, головы обернулись назад, глаза застыли на печальном, тяжелом зрелище, и жалобный вопль вырвался из тысячи уст, как из одной общей груди, разнесся кругом, поднялся к небу и, казалось, должен был достичь до престола Того, Милосердного, Кто учил не враждовать друг с другом…
Но сверху не было отклика… Сыпался крупный, влажный снег, дул порывистый ветер, и гонимая им толпа, рыдающая, бледная, иззябшая, катилась через мост к городу, к этому каменному лесу домов, где ожидала приюта…
С дымом пожаров, с братскою кровью Вопли о мщении к Небу летят!..Неожиданно зазвучала печальная и громкая песня позади толпы, почти у самых домов пылающей Праги.
Это шла со своей амарантовой хоругвью небольшая кучка народных гвардейцев предместья: юноши, зрелые люди и пожилые, полувооруженные, озлобленные…
Они не плакали, горели их глаза, сжимались пальцы на рукоятках старых сабель, на прикладах карабинов. Тесной группой шли они, как бы охраняя тыл убегающей толпы, и пели свой печальный напев. Их значок, реющий над головами, отражающий пламя пожара, казался сейчас облитым кровью. Звуки песни покрывали треск огня, шум ветра прорезали громкий стон и плач толпы, бегущей вперед в поисках какого-нибудь пристанища.
Но далеко не все нашли его. У самих варшавян много горя в дому. Одних раненых около семи тысяч лежат по лазаретам и требуют ухода, помощи.
И целые семьи, таборы беглецов из Праги остались на целый день под открытым небом, ночевали в снегу, на мостовой…
Женщины плакали, дети коченели и затихали навеки. Мужчины дремали сидя, скорченные, неподвижные, бормоча проклятия даже во сне.
А там, за мостом, от предместья расстилались клубы черного дыма, даже среди темной ночи четко вырезаясь на багровом пологе огромного зарева… Но не все предместье успели выжечь в первый день и в эту ночь. Ракеты плохо делали свое дело. Да и беречь надо порох… Поэтому наутро 27 февраля явились еще отряды с большими вязанками сухих сучьев, густо политых смолой… Уцелелые дома подожжены были этими вязанками… И снова круглые сутки зарево колыхалось, темнело, багровело над Вислой, пылал гигантский костер, зажженный во славу войны… И когда он угас, когда свернулась, упала вниз багровая завеса пожарного зарева, давая полный простор мраку и холоду ночи, — одни печные трубы и обгорелые балки кое-где торчали из груды углей и пепла… Но и это все было повалено, уравнялось с землей…
И чистое пространство лежало перед батареями правого берега Вислы, как требуют правила стратегии…
Изгнанные из углов своих пражане, да и вообще весь простой люд Варшавы — совершенно иначе, по-своему посмотрел на дело…
Проклятия посыпались «панам», которые по злобе-де жгут жилища бедняков; а потом — гонят их из Ратуши, вместо обещанного вознаграждения осыпая бранью… Пошли дикие толки об «измене»… о том, что Варшаву продали потихоньку москалям и жгут своих, чтобы запугать народ. Толпы крестьян, приезжая на рынки, подхватывали самые нелепые слухи, верили им наравне с городской чернью… И тайно, медленно, но стойко назревало какое-то тяжелое брожение.
Да теперь же усилились грабежи и кражи, даже — убийства в самой Варшаве и окрестностях. Целые шайки озлобленных, полуголых людей бродили по дорогам, прятались в лесах, высматривали и нападали на крестьян, везущих в столицу припасы, даже на одинокие брички и нейтычанки шляхетных подгородных помещиков мелкой руки… Пришлось пустить усиленные патрули по улицам столицы, по окрестным дорогам…
Виселицы затемнели кое-где. На них закорчилось несколько преступников, изловленных и уличенных. Но кражи и грабежи не уменьшались.
Осталось одно утешение: требование стратегии было соблюдено. И никто не думал, что скоро, через каких-нибудь пять месяцев, разорение пражских нор, волнение местной черни даст жгучие, кровавые плоды, отзовется и в самой Варшаве.
Лучший из домов в Милосне, пана посессора Качковского, отведен для Дибича, расположившего свою штаб-квартиру в этом тихом местечке, в самом тылу передового корпуса генерала Гейсмара, резервы которого также были размещены в местечке и по окрестным выселкам.
Яркое зарево горящей Праги, высоко рдеющее над лесами, отраженное и темным ночным небом, и навесом тяжелых туч, было видно и здесь, в Милосне.
Фельдмаршал сильно обеспокоился сначала. Он знал, что его измученные отряды без приказа не могли начать никаких действий. Не слышно было пушек неприятельских, предвещающих нападение, посылающих как бы вызов перед поединком. Да и наступление поляков не объяснило бы появления зарева со стороны Варшавы. Или они жгут леса, рощи пригородные, чтобы лишить возможности русских укрываться там при новых атаках. Но леса теперь намокли, их нелегко разжечь. А зарево вспыхнуло сразу, сильно и широко…
Не мог угадать настоящей причины и очень волновался Дибич; позвал Толя.
Тот, вечно спокойный, уравновешенный и определенный, процедил:
— Что-нибудь там у этих безумных творится в Варшаве. Новая революция — и жгут город… Вот увидите… Прискачут наши донцы, засевшие на Сасской Кемпе… Они вам скажут. Право, нечего волноваться.
Пробормотал проклятие Дибич, забегал по низенькому зальцу.
— Potz Donner Wetter! [15] Будем ждать! — заговорил он по-немецки. — Вам, конечно, все равно. Не вы, генерал, отвечаете за исход кампании…
Толь промолчал.
Правда, скоро прискакали с донесением из казацких пикетов, которые залегли на берегу Вислы против самой Варшавы, совсем недалеко от моста, ведущего из Праги в Варшаву. Особенно далеко вперед для разведок подбирались они по ночам, ползая по земле и «снимая» зазевавшиеся польские пикеты.
— Так што, ваше сиясь, поляки сами Прагу ихнюю жгут! Подпалили с разных концов и жгут, — доложил коренастый рябоватый донец-ефрейтор, присланный с докладом.
— А, понимаю! — протянул Толь. — Хорошо, ступай!.. — приказал он казаку, который четко сделал оборот, сверкнув серебряной серьгой в левом ухе, и вымаршировал из покоя.
Обратясь к Дибичу, который, еще плохо понимая от волнения, багровый, отдуваясь, глядел на Толля круглыми, неподвижными глазами, последний продолжал методично:
— Нам же доносили: они спешно возводят батареи, строят укрепленный лагерь и верки под Прагой… А эти… деревянные домишки им помешали, вот и все… Правила обороны… Вот и все!
— Вот и все! Вот и все! Правила!.. А кроме наших правил — понимаете ли вы дух вещей, генерал?.. Мы ждали сегодня покорности! Ключей Варшавы! А они, извольте! Сожгли Прагу!.. Целый пригород… Тысячу домов…
— Нет… не больше пятисот, я полагаю…
— Вы полагаете… А этого — мало! Пятьсот домов!.. Potz tausend hundert Teufels!.. [16] Эти нищие полячишки жгут целые городки… Да еще после целой недели такой потасовки, которая им досталась…
— Нам тоже досталось порядком, надо сознаться, — вставил Толль, желая сильнее подразнить начальника, которого не любил.
— Нам!.. нам!.. нам!.. Что я, без вас не знаю, каково нам?.. Об этом бы надо было хорошенько подумать… и потолковать… А пока можете отдохнуть. После вчерашнего дня мы все заслужили небольшой отдых. Жаль, что в Петербурге думают иначе. Немало там есть у меня «приятелей», завистников, которые нашептывают, под выстрелами. Еще когда будут награды… А пока — мерзость, зависть, интриги… И даже здесь, вокруг меня, я знаю, есть господа, корреспондируют моим врагам… в Петербург. О, я хорошо знаю, Blitz und Donner! [17]
— Да? — прямо глядя в глаза Дибичу, перепросил Толь. — Интересно, кто бы это мог быть?..
— Не знаю… Наверное не знаю!.. А не то бы уж я… Прямо поставил бы вопрос: одному уйти, другому — оставаться… А пока не знаю наверное… не могу сказать, — не глядя на своего начальника штаба, проворчал фельдмаршал и протянул руку для прощанья. — Доброй ночи!.. Завтра еще побеседуем!.. Да, постойте… Когда послан государю доклад о гроховском и других боях?
— Немедленно, как только высочайший рапорт был подписан вашим высокопревосходительством… Со всеми дополнительными ведомостями… и доклад министру…
— Время, время, я спрашиваю… А не экипажи там разные…
— В семь часов сорок пять минут пополудни… Я сам присутствовал…
— Ах, сами?.. Ну, тогда, конечно… Хорошо. Благодарю! Очень я того! Знаете, эта проклятая неделя дает себя знать… А может быть, еще не хотите спать? Сигару, стакан вина… Пиво прекрасное мне здесь успели раздобыть. А?..
— Нет, благодарен, ваше высокопревосходительство! Я правда устал. И если позволите?..
— А!.. Ну, ну… С Богом, с Богом!.. Я вам очень благодарен!.. Доброй ночи…
Не успел еще Толь шагнуть за порог, как Дибич, стоя у стола, подвинул ближе лежащий тут же ворох бумаг, достал копию рапорта, посланного Николаю. Усевшись поудобнее, он расстегнул мундир, нахмурил брови и с видимой натугой стал вникать в десятый раз в ровные, красиво выведенные строки, над которыми полдня старался лучший каллиграф походной канцелярии фельдмаршала. До сих пор, силезец родом, он плохо даже говорил по-русски, с резким акцентом, а уж о чтении, о письме — и говорить нечего.
Перевернув первую страницу, Дибич будто вспомнил что-то, поглядел на дверь, куда вышел Толь, забормотал какое-то привычное проклятие и снова, посасывая сигару, хотел было приняться за чтение, но огляделся, словно ища чего-то, и крикнул:
— Тенис! Дай пив!..
Денис, денщик, словно ждал, быстро появился с пивом и любимой огромной кружкой на подносе, поставил, молча ушел и только в продолжение целого вечера заглядывал, уносил пустые, приносил полные бутылки…
А Дибич тянул пиво, затягивался крепкой сигарой, читал, перечитывал рапорт и думал… думал…
Он хорошо знал, что именно Толь играет в руку врагам фельдмаршала в Петербурге при дворе, сообщая многое, чего не надо; выставляя в плохом свете даже удачные шаги начальника русской армии.
Конечно, и у Дибича, кроме его репутации счастливого вождя, почтенного именем Забалканского, были свои покровители и друзья при дворе. Они отражали нападки, помогали ему, чем умели. Дибич знал, что сильный соперник уже теперь выдвигается там ему: граф Паскевич. Это бесило полнокровного, вспыльчивого, хотя и довольно изворотливого, хитрого силезца.
Но он наметил себе с самого начала кампании свою тактику и твердо ее держался.
С самого начала он старался подчеркнуть и поставить на вид необычайную трудность ведения борьбы зимой, в краю, население которого враждебно по духу, фанатично настроено своими ксендзами против москалей-схизматиков, детей антихриста…
При малейшей неудаче, в которой, конечно, Дибич винил кого угодно, только не себя, — он рисовал положение чуть ли не отчаянным, находя, таким образом, в стечении роковых обстоятельств извинения для уронов, понесенных его отрядами. Он жаловался, хотя и справедливо, но уж чересчур усиленно, на медлительность военного министерства, которым управлял Чернышев.
Набросав, таким образом, самый мрачный общий тон, Дибич малейший свой успех, самую сомнительную удачу раздувал чуть ли не до степени решительной, «блестящей», во всяком случае, победы… И эта «победа», разумеется, имела тем более ценности, чем больше трудностей, по докладам Дибича, приходилось преодолеть ради достижения успеха.
Ему казалось сначала, что эта система действует хорошо. Письма императора Николая дышали доверием и расположением. Но чем больше затягивалась кампания, тем больше нетерпения, недовольства и даже, пожалуй, недоверия чуялось в отрывистых фразах, в коротких строках писем, доставляемых Дибичу измученными фельдъегерями за знакомой, твердой подписью, за этим грифом, недоконченным, кратким и властным и — выразительным в то же время.
Политика фельдмаршала потерпела крушение!
Умно, сдается, составлено донесение о Бялоленке, о Вавре и гроховских боях… Большая убыль людей, потери пушек обвернуты умно, закутаны в ловкие выражения и хорошо объединены… Положение врагов представлено отчаянным. Они не сегодня-завтра принесут повинную, капитулируют без всяких оговорок… Разгром их довершен до конца…
Словом, впечатление должно получиться прекрасное. А там!.. Там найдутся новые отговорки и оправдания, на помощь призовутся стихии: оттепель, вьюги, морозы, болезни, недостаток припасов, снарядов, пороху… Правда перемешивается с выдумкой, и дело покатится дальше… до конца!..
«До какого?» — вдруг словно против воли задал себе вопрос Дибич. Не хотел он этого. Вопрос сам мелькнул, сам теперь сверлит мозг, разгоняя даже легкое и приятное состояние полуопьянения, в котором много лет привык находиться силезец, любитель пива и других крепких напитков.
Каков будет конец? Когда его можно ждать?!
О, там, в Петербурге, даже на Литве, и потом, при первом вступлении в пределы крулевства, Дибич давал себе легко самый приятный ответ на данный вопрос.
Он, герой турецких побед, во главе двухсоттысячного войска совершит военную прогулку к стенам Варшавы, там, для приличия, разыграется хорошая баталия по всем правилам военного искусства, с обеих сторон выбудет тысяч по пяти-шести человек… Затем — зареет белый флаг, явится магистрат столицы, высшие власти, вручат ключи победителю… Он торжественно въезжает в столицу крулевства, поселяется в стенах древнего замка как генерал-губернатор, а то и наместник… Но слава дальше зовет его, к берегам Рейна, и туда, в Париж, где он усмирит последние вспышки революции, укрепит трон законных королей Франции и окончательно почиет на новых лаврах.
Глубоко уверен был в этом толстенький, низенький, суетливый, совсем не герой по внешности, но заносчивый, честолюбивый генерал. Недаром он открыто говорил полковнику Вылежиньскому, адъютанту Диктатора, присланному с письмами в Петербург:
— Теперь дело с Польшей решено. Я назначен в армию… с особенными полномочиями… Вы, конечно, слышали уже… Меня знают в Польше, знают в Германии. Даже турки хорошо узнали Дибича! Собаки обрезанные! Я уже привык стоять во главе армии, когда еще ваш «знаменитый» Хлопицкий был хорошим бригадным генералом, и не нюхавшим главной команды над войсками… Да-с!.. Потягаемся, если уж так… Но я по-дружески советую ему: пусть уговорит своих, этих… головорезов… И людей поумнее… Надо только встретить меня хорошо, дать мне свободу… Я живо все налажу… Ну, придется… вздернуть пять-шесть самых отчаянных, неугомонных крикунов. Журналы эти ваши, газеты якобинские прибрать к рукам… Чтобы пикнуть не посмели. Ну, конечно: войска побольше придется разместить по целому краю. Вот и все! Остальное пойдет превосходно. Права народа будут соблюдены нерушимо. Конституции вашей, или как вы там называете, никто не посмеет нарушить ни на йоту! Я ручаюсь в этом моими двумястами тысячами штыков, да!
Вылежиньский, конечно, оценил всю силу последнего доказательства и сдержанно ответил:
— Передам, ваше высокопревосходительство, генералу-Диктатору все, что слышал от вас…
Дибич был очень доволен собой и своим красноречием… Но разочарование явилось скоро и росло по мере приближения к Варшаве. Покорности не видно никакой… Стычки, бои, поражения… За три недели потеряно больше 17 000 убитыми и ранеными. Столько же почти больных от зимнего похода и от плохой пищи.
Потеряно одиннадцать пушек, три знамени. Больше ста русских офицеров и несколько тысяч солдат взято в плен. Они разгуливают по Варшаве, на них смотрят толпы, и растет отвага в надменных польских сердцах. Русские офицеры заходят в парламент, слушают обсуждение народных дел народными представителями, набираются вредными идеями, посылают домой не только письма, ужасные по содержанию, но даже оттиски какой-то «русской конституции», которая лежала в столе у цесаревича и с другими бумагами попала в руки поляков.
Император Николай обо всем узнаёт… пишет укоризненные письма!..
Кампания затягивается, поляки жгут свои предместья, очевидно, готовясь к отчаянному сопротивлению… Блеск крулевского замка, кресло наместника, победные лавры — все это тускнеет, уходит куда-то далеко… И даже воя пишут: другой, соперник готов подкопаться под фельдмаршала, занять его пост, отнять почет и выгоды, связанные с этим высоким положением.
Теперь, когда он, Дибич, столько сделал!.. Подготовил так много!.. Истощил первое сопротивление врага, ослабил его силы…
Теперь может явиться другой и…
— Teufel! [18]
С силой ударил о стол кружкой толстяк, багровея от гнева даже своей короткой шеей… Жидкость и пена выплеснулись через край, залили бумаги. Круглый след от тяжелого дна толстой каменной кружки вдавился, почти пробил верхний слой бумаг, лежащих перед Дибичем.
Откинув рапорт, он допил кружку, налил еще, опорожнив бутылку, одним духом осушил ее, поставил на стол и крикнул:
— Тенис!.. Дай кюммель!..
Прошло еще две недели.
Особенно незадачливый день выпал для Дибича в субботу, 12 марта.
За окнами, поглядеть, так хорошо! Снег почти весь стаял, солнышко греет по-весеннему. Лужи местечка сверкают под лучами, как литые из темного стекла; воробьи возятся, купаются в колеях, брызжа каплями мутной воды, роняя перышки, гоняясь друг за другом… Влажные, потемнелые от ночного дождя, молодые, тонкие, безлистые еще деревца в садах и огородах, густые заросли окрестных лесов обсыхают под налетами теплого, ласкового ветерка, и почки вот-вот готовы набухнуть на них…
Сентиментальный, хотя и грубый в то же время, как многие немцы, Дибич любит эту пору первой весны. И кровь вращается быстрей, и настроение у него лучше. Даже жажда особенная является, если прогуляться хорошенько, проскакать верхом несколько верст…
Но сейчас не мила ему весна, забыл он свою жажду.
Суровые письма, каждое — строже и обиднее другого, приходят все чаще с Севера… Особенно реляция о «гроховской победе» вызвала беспощадную отповедь императора Николая.
«Никоим образом понять не могу, — писал он между прочим, — как это случилось, что поляки, разбитые наголову, согласно официальным донесениям, успели в полном порядке отступить к Варшаве, сохранив всю свою артиллерию».
Вообще весь доклад о гроховских боях подвергся сжатому, но основательному разбору, были отмечены все сомнительные места.
Дибич не мог допустить, чтобы сам император Николай так хорошо и скоро успел разобраться в длинном, искусно состряпанном докладе. Он подозревал, что соперники и недруги его, начиная с военного министра Чернышева, постарались открыть глаза царю. У фельдмаршала роилась уверенность, что также из его армии многие послали сообщения, неблагоприятные для него, особенно — Толль…
Но высказать прямо это своему помощнику, не имея точных доказательств, Дибич не решался. У Толля тоже была сильная заручка при дворе. Да и здесь он был нужен фельдмаршалу.
И надменный этот человек чувствовал себя, как сильный зверь в ограде из толстого стекла. Он видит всех своих врагов: и сильных, с которыми можно вступить в бой, и слабых, которых одним ударом клыков можно положить на землю. Только прозрачная стенка отделяет от них. Но она — непреодолима, и стоит зверь, прижавшись лбом к прозрачной стене, напряженный, готовый терзать. Судорожно дергаются мускулы от продолжительного, бесплодного напряжения, которое сдерживает и собственная воля, и это прозрачное, но несокрушимое стекло!
Сейчас в своем зальце Дибич сидит наедине с Толлем, обсуждают они несколько бумаг и писем, полученных из двух столиц: российской и польской. И если бы Толль был так же нервен и впечатлителен, как он уравновешен и толков, — ему бы жутко стало от затаенного огонька ненависти, каким загораются порой маленькие, глубоко сидящие глаза Дибича.
— Чертов день! — бормочет последний. — Каждому дню, говорят, черт или ангел хвост пришивает и шапку дает. Сегодня — день писем у меня. Самых приятных, нечего сказать! Государь недоволен… Укоряет в медленности, ждет энергичных выступлений… А с чем, я вас спрошу? Все парки артиллерийские почти расстреляны. Ничего нет и для полевого боя. Не говоря об осаде… Вот, читали, что пишет Чернышев? Осадные орудия могут поспеть к нам только месяца через два, если не к середине июня даже! Я вас спрашиваю, чем я буду осаждать, из чего буду стрелять? Из себя самого, что ли… А что до тех пор делать? Стоять тут, зябнуть, мокнуть… Отбиваться от мелких отрядов, обессиливать себя, терять людей от болезни больше, чем от боя… Черт бы их подрал! Что ж? Ну, что же вы ничего не скажете, генерал?
— Вы правы, что же мне говорить, ваше высокопревосходительство?
— Прав?.. Да, прав! Тут, когда я налицо, так я и прав. А там, где меня нет, там я всегда виноват. Тысяча чертей!.. Хорошо еще, что полячишки присмирели… Надеются на соглашение. Как же! Ослы. Ничего, пускай. Мы выиграем время. Вы, конечно, помните: этот полковник, граф Мицельский, который дней десять тому назад был у нас парламентером, по поводу обмена пленными…
— Как же! Ваше высокопревосходительство долго беседовали с ним наедине… Я тогда предположил…
— Не предполагайте. Сейчас вам все скажу… Потолкуем. Дело такое… тонкое. А вы, генерал, у меня — известный дипломат. Так вот… Наше положение после гроховской драки вы знаете.
— Д-да… хуже — трудно себе и представить…
— Вот-вот. Но им тоже не сахар достался. И этот… граф завел речь о возможности мирного соглашения. Показал письмо нового «гетмана» тупицы Скшинецкого… Все как надо… Я щупал графчика со всех сторон… Ну, а сам только и сказал ему, что готов начать переговоры, о которых немедленно сообщу его величеству. Но в подробности никакие не входил. Думаю: чем дольше потянуть дело, тем лучше для нас.
— И для них…
— Они — дома. Им — всегда и все хорошо! А нас черт занес в болота над Вислой. Скоро кругом и вязанки сена нельзя будет достать. Все подобрано поляками и нами. Получаем чуть ли не хворост для костров из Бреста, за сотни верст. О чем же толковать, генерал? Кому хуже, а кому лучше?.. Дело ясное… Но слушайте… Уехал Мицельский… И до сих пор ни гу-гу. А сегодня вот из Варшавы наши дружки Шмидт и Крысиньский шлют вести. Вообще много важного… Я сейчас вам прочту. Тут шифр… Пишут насчет переговоров. Сегодня к нам явятся два парламентера. Тот же граф Мицельский и с ним — полковник Колачковский. Все с той же целью — устроить обмен пленных. Это для виду. А на самом деле — привезут условия, на которых поляки готовы сложить оружие. Мы прочтем… подумаем недельку-другую… А там — скажем свои условия! Ха-ха-ха! Которых они, конечно, принять не пожелают. Но… Поняли? Умно, а?.. Или, скажете, нет?
— Гениально, ваше высокопревосходительство!..
— Ну, зачем уж так?.. Не гениально, а ловко!.. Главное — выгадаем время.
— Как знать, ваше высокопревосходительство… Отдохнут и поляки, они в лучших условиях, чем мы… И солдат их куда больше выработан, чем наш. Конечно, исключая тех, которые под командой нашего фельдмаршала пожинали лавры за Балканами. Эти «варненские львы» одни стоят целой бригады. Но — остальные полки…
Дибич, которого покоробила громкая, льстивая похвала Толля, не щедрого на любезности, — недоверчиво сначала покосился на собеседника. Но тот сохранял такой спокойный, открытый вид, что сомнение быстро исчезло.
— Да, остальные кадры многого оставляют желать… А эти наши дворянчики в гвардии… Будет еще нам с ними хлопот! — доверчиво и дружелюбно подтвердил Дибич слова Толля. — Но нечего гадать на гуще. Начнут поляки — не отстанем и мы. Выбьют всю армию у меня — новые батальоны придут. Будут драться, хворать, умирать… Опять придут… И снова, и снова… Две, три, четыре сотни тысяч… Полмиллиона! Пока не раздавим и армию польскую, и народ. В России черни много. На две войны таких хватит. А уж назад пойти нельзя!
— Кто же говорит об этом, ваше высокопревосходительство! Я — меньше всех. Только полагаю, всегда надо быть готовым… Но вы правы, пока другие вопросы на очереди. Вы желали познакомить меня…
— Да, да, — перебил живо Дибич, который от постоянно нервного возбуждения никогда не мог усидеть спокойно в кресле; теперь он пересел в нем как-то боком, повернувшись к окну, и стал разбирать записку, которую достал из кармана.
— Это пишет Шмидт… Прусский консул в Варшаве.
— Знаю, знаю… Что он пишет?
— Сейчас… Нужно сообразить… Я без ключа уж помню… Кхм… Вот: «Паника улеглась…» Кхм… «Сначала Сейм, Ржонд собирались перевести… в…» Черрт!.. Какие глупые названия у этих поляков!.. «В Me… хофо… хово… Мехово, бывшая резиденция братьев Гроба Господня и укрепленный замок». Дурачье! Нужны они нам очень!.. Кхм… «Но теперь сразу новая бодрость. Причины не успел узнать». Это, конечно, в надежде на соглашение со мною… с Петербургом… Ха-ха!
— Я слушаю, генерал…
— Кхм… «Прагу сильно укрепили. Нагрев белый листок, который вложен, получите набросок всех сооружений и сделанных там работ».
— А-а! Это хорошо!..
— Ну, что хорошего! Без пушек и без снарядов что мы сделаем… Да. и кроме того… Войск у них для защиты Варшавы довольно. Ну, возьмем Прагу… А потом — через Вислу надо ломиться, брать город… Нет, у меня есть новый план. Сейчас, сейчас договорим… Дочитаю… кхм… «Войска пополняются быстро, больше добровольцами, чем по набору». Болван! Утешительные новости сообщает… Кхм… «Некий Козьмян, посланный Ржондом, перехватил на пути дюка де Монтемара, чрезвычайного посла Франции в Петербурге. Дюк прямо заявил: на Англию и Австрию надеяться Польше нельзя. Франция тоже многого сделать теперь не может. Поляки доверились агентам партии Лафайета и совершили переворот, но Лафайет теперь совсем потерял влияние. Пусть поляки пришлют делегатов к царю, выразят покорность и просят о сохранении конституции, пока он, Монтемар, будет там. И в этих рамках он обещал свою помощь и содействие Луи Филиппа». Кхм… Это хорошо!.. Это мне надо было знать… Особенно сегодня… перед появлением господ парламентеров… Ха-ха… Знаете ли, генерал, — вскочил с места, походив по комнате, начал было Дибич. — Я уверен, двух недель не пройдет, мы с вами…
— Вы хотели, ваше превосходительство, прочесть второе письмо, — мягко, но деловито перебил говоруна Толль.
— Да, да… Интересно… Слушайте. Пройдоха этот Крысиньский, который при Диктаторе ихнем был правой рукой… Нам он оказал большие услуги. И сейчас — незаменим. Например… — Скользнув глазами по листу, Дибич нашел желаемое место и начал медленно читать, дешифрируя текст: «Парламентеры выезжают к вам двенадцатого марта. Надежды большие. Высоцкий, главный враг России и коновод военной партии, командирован в Замосцье, чтобы не узнал и не стал мешать. Скшинецкий уволил Круковецкого от командования первой дивизией. Разгорелся конфликт. С трудом дело уладили Чарторыский и Ржонд. Но разлад между главными начальниками растет. Пробуйте Шембека и Круковецкого. Батареи Праги заканчиваются. Армия сейчас считает: главное ядро — сорок батальонов линейных, семьдесят два эскадрона и сто двадцать шесть орудий, с большим запасом снарядов и прочего…» — Дибич невольно сделал паузу, поглядел на Толля, почесал за ухом и продолжал: — Кхм… «Резервы: корпус генерала Паца, новобранцы: двенадцать батальонов, шестнадцать эскадронов и четырнадцать орудий. Корпус Серавского: семь батальонов новобранцев с косами, одиннадцать эскадронов, шесть пушек. Корпус Дверницкого: три батальона, двадцать эскадронов, пятнадцать пушек. Гарнизон Модлина — восемь батальонов, Замосцье — шесть батальонов. Всего пехоты до семидесяти тысяч человек. Кавалерии — тысяч восемнадцать. Артиллерия — сто шестьдесят орудий и четыре тысячи людей. Первая дивизия передана Рыбиньскому. Стали Лысой Горе и кругом. Вторая дивизия Малаховского и третья Гелгуда в лагере под Варшавой. Четвертая пехотная генерала Мильберга — у Ко… Козеньиц… охраняет переправы вверх по Висле. Первый кавалерийский корпус Уминьского — у реки Наровы, выслан против гвардии вашей; ему доданы части: пехотный корпус стрелков и стрелковые батальоны четвертой дивизии. Второй кавалерийский корпус Лубеньского под Варшавой; генерал Скаржиньский с кавалерийскими резервами вошел в город, также и резервы артиллерийские. Генерал Дверницкий — выслан к Замосцью, чтобы вредить вам в тылу…»
— Что!.. Как?
— «При неудаче же, — громче продолжал Дибич, — войдет в Литву, там поднимет восстание, ударит на пути сообщения с Россией, чтобы отрезать вашу армию и помогать удару, направленному с фронта…» А, что скажете?.. Неужели этот болван Скшинецкий выдумал такую комбинацию…
— Наверное нет! Похоже на смелые замыслы полковника Хшановского. Вы знаете его… Дельная голова… Если бы он оставался с нами…
— Да, если бы… Мало ли что «если бы»… Вот хотел бы теперь слышать ваше мнение, генерал.
— Дело ясно. Если донесения этого шпиона не лгут, у Дверницкого от десяти до двенадцати тысяч в отряде. Надо послать пятнадцать — двадцать тысяч людей… рассеять этот корпус, если не удастся взять его целиком в плен.
— Поляков-то!.. Мы видели, как они сдаются… Даже холопы с косами — и те прут чуть не на самые батареи, кидаются к жерлу наших пушек. Безумцы, только и можно сказать. Отважные безумцы. Но… вы правы… Иначе ничего не остается делать. Составьте план, маршрут и сформируйте сами отряд. Я вам поручаю командование, генерал.
— Глубоко благодарен за доверие и честь, фельдмаршал!
— О, без лишних слов. Мы знаем друг друга не первый день. Перейдем теперь к самому главному. Вам, конечно, ясно, что выступлением Дверницкого враги не ограничатся. Я имею основание думать, что они собираются ударить на нашу линию сообщения с Брестом отсюда, с правого фланга… Теперь же… Конечно, как только убедятся, что мира им даром не получить!
— О, сомнения быть не может. Я и то удивлялся, как они раньше не кинулись, когда наша армия была растянута на сотни верст…
— Не догадались, и слава Богу. Подумаем о будущем… Как я уже говорил, брать сначала Прагу, потом — Варшаву — не стоит…
— Трудненько будет, что говорить!
— Ну, трудно… Ну, хорошо!.. Скажем даже, нельзя… для нас теперь… и даже после… Значит…
— Мы переходим на левый берег Вислы…
— Вы сегодня прямо пророк! Именно. Понемногу будем готовиться.
— Ледоход начался уже вчера. Через неделю земля подсохнет. Пустимся в путь… Пока что… Пока разыграется несколько стычек… А тут — и пушки к нам подойдут осадные. И мы сможем с той стороны с запада разгромить гнездо мятежников, сломить их упорство… если они раньше сами не смирятся…
— Прекрасный план!
— Надеюсь… Если только?..
— Что, ваше высокопревосходительство?
— Если нам не помешают оттуда! — Он кивнул на север, в сторону далекой столицы. Затем, глядя прямо в глаза Толлю, проговорил значительно: — Я еще имею одну новость из Петербурга. Личного характера на этот раз… Знаете ли, генерал, что мне готовится уже заместитель?
— Д-да… неужели? — бегая глазами и невольно бледнея под упорным тяжелым взглядом Дибича, пробормотал Толль.
— Да… да… Вы не волнуйтесь… Или, впрочем, и для вас есть основание волноваться. Я не точно выразился… Вы тоже получите преемника.
— Я! Но… почему?.. — совсем теряясь, спросил Толль.
— О, не по случаю повышения, генерал. Не думайте… Просто нас обоих собираются…
Грубым, солдатским жестом докончил Дибич свою мысль.
— Как… и меня! — невольно прорвалось у Толля, не ожидавшего со стороны неповоротливого, медлительного умом силезца такого смелого и тонкого подхода.
— Да, обоих! — совсем довольный, потирая руки, подтвердил Дибич. — Но мы не дадимся, не правда ли? Мы будем действовать так поспешно, что нас не успеют…
Он повторил тот же жест и раскатился хохотом.
Толль, натянуто улыбаясь, отирал платком свой высокий, белый лоб, покусывая от досады тонкие, красивые губы.
Полковник Прондзиньский был болен больше недели.
Нарыв в горле, не опасная, но мучительная болезнь, сопряженная с сильным жаром, держала его дома именно теперь, когда так много дел и служебных, и личных ожидало решения.
Хотя все посещающие больного, лишенного возможности не только говорить, даже двинуть головой, уверяли его, что дела идут отлично, все тихо, Дибич сидит недвижимо, и каждая легкая стычка поляков с передовыми частями россиян кончается поражением последних, но Прондзиньский понимал, что они хотят только успокоить его, предупрежденные врачом.
Но вот 28 марта вечером нарыв прорвался, мука прекратилась, лихорадка сразу упала.
Крепким, целительным сном забылся впервые за десять долгих дней измученный человек.
Снов он не видел всю ночь или заспал их… И только на заре, перед самым пробуждением, снилось ему ярко и правдиво все то, о чем он постоянно мечтал наяву.
Богато одаренный, мечтатель по натуре, женственно-мягкий и застенчивый, робкий в личных сношениях с людьми, Прондзиньский вечно мечтал о великих воинских подвигах и в бою — перерождался. Спокойный, хладнокровный, он смотрел, как умирают другие, готовился сам умереть — и в то же время ясно все видел, прекрасно соображал и понимал, что делается вокруг, как можно использовать обстоятельства с наибольшей выгодой для своих планов.
И в эту ночь снилась ему большая битва. Не вся, а самый решающий момент. Линия боя, сначала такая ровная, словно отмеченная линейкой на земле, — сломалась, изогнулась здесь и там… Одни отряды врезались далеко, вперед в ядро вражеской армии. Другие отступили назад под натиском врагов. Пушки с обеих сторон умолкают, потому что, громя неприятеля, можно поразить и своих, — так тесно сошлись обе армии. И вдруг он, Прондзиньский, видит, что правое крыло врага совершенно открыло себя для удара, зарвавшись в стремлении идти напролом. Он шлет приказания… Резервы польские все переливаются влево… Туда же скачет кавалерия центра… Сшибка… Правое крыло врага бежит, опрокинутое на центр… Смятение, кровь!.. Погоня! И победителя поднимают высоко на руках солдаты и офицеры, полные восторга. Но в эту самую минуту одно чье-то неловкое движение… Он попадает мимо рук… падает, падает… падает в пропасть без конца.
Вскрикнув, Прондзиньский проснулся. Только занималась заря. Розоватый отблеск ее пробивался сквозь занавеси, опущенные на двух окнах спальни полковника, служившей ему и рабочим кабинетом.
С наслаждением потянулся полковник, закинул за голову руки, стал думать о виденном сне, о том, что ему надо сделать сегодня, где быть… и незаметно опять заснул.
Разбудил его звонок, задребезжавший в прихожей небольшой, но уютной, красиво обставленной квартирки, которую занимал полковник с матерью-старухой и младшей сестрой.
Не успел Прондзиньский подняться, спустить ноги с кровати, сунуть их в туфли и протянуть руку к своему платью, лежащему на стуле рядом, как вошел денщик.
— Пан полковник Колачковский пришел до пана полковника, — доложил он.
— Сейчас… сейчас… Боже мой, уже десять часов… а я так заспался… Сейчас выйду… проси подождать… Венгерку, скорее, столб еловый. Ступай, скажи сейчас! — торопливо натягивая платье, хрипло, невнятно еще, словно неуверенно бормотал Прондзиньский.
В это время раздался легкий стук в дверь и послышался тягучий, слащавый голос Колачковского:
— А можно мне войти? Я на минуту. Не стоит беспокоиться дорогому больному.
. — Прошу, прошу. Милости прошу пана полковника. Рад видеть. Садиться прошу… вот тут поудобнее… Трубку… Слышишь, дай, Войцех, трубку… огня…
— Да Бога ради… Ну, можно ли так беспокоить себя… Мне, правда, почтенная пани матушка полковника сказала, что полковнику лучше. Я потому и решился… Вот, слава Богу, уж и голос есть у коханого пана Игнатия… А то ж просто беда! Самая светлая голова у нас в армии — и выбыла из строя! А тут столько нового… Пан полковник не читал еще сегодняшних газет?
— Не успел…
— Там лежат все… вот, на столе, под рукой у пана полковника…
— А что такое? Я спрашивал всех, кто бывал у меня… И ничего не говорили…
— Ну, больному… конечно… Но теперь, дал Пан Иезус, пан полковник здоров… И надо приниматься за дело… пока не поздно…
— Не поздно… Что такое?
— Не волнуйся, пан. Ничего дурного. Очередные гениальные… глупости нашего «мудреца» — Скшинецкого. Ты слушай, пан полковник… И не утруждай себя… Тебе еще надо беречь горло, как сказал врач. Слушай… Я все расскажу… Начну с нашей поездки с графом Мицельским к Дибичу «за миром»… из которой мы вернулись…
— Со стыдом, я знаю!
— Помолчи же, прошу тебя, полковник! Какой неугомонный! Я сам все скажу… Да, со стыдом… для всей Польши! Он морочил только… Не нас, а того, кто нас послал… Нашего умника — генералиссимуса… Мы с графом Михаилом знали, чем дело кончится.
— Кто этого не знал!
— Пан Скшинецкий! Он один! Ну-с, так принял нас Гейсмар у самых ведетов, когда мы девятнадцатого числа вторично явились за ответом. Долго толковать не стал, прямо отрезал: «Фельдмаршал, ознакомясь с письмом генерал лиссимуса Скшинецкого и с памятной запиской, составленной парламентерами, полковниками Мицельским' и Колачковским, двенадцатого марта, — считает все, там изложенное, неприемлемым и всякие переговоры прерывает. Парламентеров больше никаких принято не будет, если только они не явятся с выражением полной и безусловной покор…»
— Шваб проклятый! — выкликнул, не сдержавшись, Прондзиньский и сильно закашлялся сейчас же.
— Ну, я говорил тебе, не волнуйся. Береги силы и. голос. Еще понадобятся. И он не шваб, ты же знаешь, а силезец… Эти — куда хуже… Но он тоже получил перед этим пару кнутов из Петербурга. Мне наверное сказали… Знаешь, пан, наш Крысиньский имеет там друзей и многое важное узнает. Вот и теперь он передал полную диспозицию россиян. Но об этом после… Слушай далее… Как мы ни держали в секрете наши «дипломатические» переговоры, о них проведали и в войске, и в Варшаве. Даже в заграничных листках появились известия… Конечно, сам Дибич постарался. Чтобы унизить нас… «Посмотрите, мол, поляки струсили, ослабели и просят мира!» Можешь себе представить, что поднялось, какая буря закипела везде.
— А я лежал, как…
— Как надо лежать больному… Помолчи, пан Игнатий. Дай досказать… Вот нынче наш вождь решил оправдаться. Поместил в газетах историю переговоров, наши три пункта, которые мы оставили Дибичу, и…
— И свое письмо…
— Угадал, коханый! Только ты помолчи! Я все сам тебе скажу. Вот, слушай… Интересный документ!.. Ну, тут первые комплименты, пустые строчки… Насчет пленных… А… Вот! Слушай, сердце. «Пользуюсь случаем поговорить о главном, о том кровавом столкновении, о войне, которая возникла между двумя соседними, родственными по крови народами, о ее причинах, о тяжком ходе событий и о тех возможных исходах, какие предстоят для враждующих сторон. Не хочу оправдывать нашего дела, которое считаю святым и правым, но должен лишь указать на причины, вызвавшие первый взрыв и дальнейшие печальные события со дня двадцать девятого ноября и до кровопролитного боя в течение семи дней, начатого девятнадцатого марта под Вавром, законченного двадцать пятого на Гроховских полях. Десятки тысяч убитых и раненых, миллионы народных денег — вот кровавая жатва этих недолгих дней, первого месяца войны. И впереди еще ряд таких же месяцев!.. Польша решила: победить или погибнуть! Теперь вопрос: что привело наш мирный, добрый народ к такому отчаянному, может быть, самоубийственному решению?.. Конечно, не его добрая воля!..»
— Хорошо пишет! — вырвалось у Прондзиньского. — Если бы он…
— Так же умно поступал, — докончил Колачковский. — Ну, нельзя же от человека требовать и того, и другого. Но, слушай, пан… Дай дочитать. Дальше — еще лучше! Пан Андрей Городиский, известный журналист, недаром сидел три ночи с нашим вождем, пока они состряпали этот манифест. Слушай! «Не стану перечислять подробно тех тяжких нарушений порядка и законности, свидетелями которых была страна за долгий ряд лет… Нарушены основные законы, утвержденные монархом Александром и другими на Венской конференции. Введен добавочный пункт, заседания Сейма стали закрытыми, и народ лишен был возможности видеть, слышать, как исполняют его волю его избранники — народные представители, даже отчетов о заседаниях Сейма не печатали… Депутатов, не угодных почему-либо, подвергали аресту, вопреки праву и закону… Новосильцев и его подручники нарушили святейшие права народа, статьи закона и святость семейного очага.
Они наводнили край продажными агентами своими, внесли порчу и разложение в недра народа! Подкуп и соблазн пускались в ход для личных целей этих людей, которые вредили столько же авторитету власти, изображаемой ими, как и благосостоянию нашей отчизны… Лучшие передовые люди народа: профессор философии К. Шанявский, демократ Зайончек, храбрый офицер, Рожнецкий, соратник Домбровского, его товарищи по оружию Шлей и Юргашко, почетный легионер полковник Блюмер и десятки, сотни других — были совращены, закуплены, из честных работников мысли и духа обратились в полицейских агентов, в „палочников“, готовых предавать и избивать своих же братьев по приказу.
Новосильцева и его помощников!.. Этого народ выносить не мог.
Но оставим даже все прошлое. Перейдем к настоящему положению вещей. Кровь пролилась, искупила многое!.. Драгоценные жертвы принесены… Пар пролитой братской крови несется к престолу Всевышнего и просит о примирении, о прекращении резни!.. Если бы ваше высокопревосходительство согласилось со мною… Если бы вы нашли возможным представить своему повелителю все, изложенное выше… Если бы могло состояться соглашение на приемлемых для нас, для Польши, условиях, принимая во внимание честь польского народа и всю тяжесть, всю величину жертв, которые им принесены, которые он готов еще принести без малейшего ропота… Тогда, конечно, можно будет только призвать милость Божию и приступить к более подробным переговорам о заключении немедленного перемирия, а затем и полного, вечного мира…» Подпись, конечно… Ну, что скажешь, пане коханый?
— Весь он в этом письме! Все изложил и рассудил прекрасно… А вывод сделан самый дикий, самый нелепый! Да разве возможен мир после того, что здесь писано? Они же никогда нам не простят… Они и раньше показали это ясно. А теперь…
— Вот-вот. Так думают все. Хотя наш почтенный пан Немцевич, желающий примирить воду с огнем, и хвалит Скшинецкого за его правдивые слова насчет Новосильцева и других господ. Но… Послушал бы ты, коханый, что делалось нынче утром в кофейне… в «Гоноратке»! Что там сейчас делается!.. Я случайно зашел выпить кофе… Из дому ушел рано. Не успел… Вхожу туда, а там — осиное гнездо. И «рябчики» — обыватели, и наши петушки-офицеры, молодые, старые… Читают вслух это письмо и всю историю… Орут, кричат, ругают генерала самыми черными словами. Другие заступаются. Но мало… Вот все то же говорят: «Пишет пан гетман складно, а поступает, как трус и предатель!»
— Так громко говорят!
— Бог свидетель, я не лгу! Конечно, это уж… чересчур… Наш генерал не предатель. А… хуже! Да, хуже: дурак!.. Самолюбивый, упрямый дурак. И трусоват при этом! Нас никто не слышит, и я решаюсь говорить с тобой прямо, сердце Игнац. Тем более что есть еще дело…
— Еще?.. Что такое?..
— Мы собираемся в поход. Мы послушали Хшановского… Мы выступаем на «паничей», на гвардию, к Щучину…
— Да это же погибель наша!
— Я так же думаю… И говорил это, повторял много раз. Но — наш ласковый теленочек, который перед избранием своим был так мил и кроток, на первых порах тоже изображал доброго товарища, послушного голосу рассудка. Он теперь совсем стал упрямым быком. Понравился ему план Хшановского — и больше слушать он ничего не хочет! А все-таки вечерком, когда станет тебе, коханый полковник, получше… Ты попробуй и…
— Как вечером! Сейчас надо, не теряя ни минуты! Значит, мой план он отменил… Он же соглашался… А теперь… Время уходит! Я сейчас… едем сию минуту… вместе, полковник! Гей, Войцех, мундир, поскорее!
— Да ты с ума сошел, сердце мое! Полубольной… На мертвеца еще похожий… И поедешь спорить, волноваться… Вон у тебя слова из горла едва вылазят. Подожди… Не делай глупости…
— Оставь, пан Клеменций. Тут — вопрос жизни и смерти… Судьба отчизны на карте. А я буду думать о себе… о дурацком нарыве… о больном глупом горле! Едем, едем…
— Ох… Ну, что же, едем, — покорно, со своей слезливой миной согласился Колачковский.
— Да! Где эта диспозиция россиян, о которой ты помянул? Она будет нужна… Эта… — быстро пробегая глазами листок, поданный Колачковским, сказал Прондзиньский. — Так… так!.. Превосходно… Как я и думал… Иначе быть не могло… Отлично… едем!..
— Его вельможность пан генерал еще спит! — негромко заявил гостям важный камердинер, появляясь в богато убранной гостиной, куда ввел ливрейный лакей Скшинецкого обоих полковников. — Прошу панов полковников обождать!
Поклонился и бесшумно исчез.
За женой, взятой из родовитой семьи богачей Скаржин-ских, генерал получил крупное состояние и мог зажить широко, привольно, по-барски, как это было свойственно его ленивой натуре, склонной к земным наслаждениям, его влечению к удобствам в красоте.
Повар Скшинецкого, его погреб славились по всей Варшаве. Огромный особняк с целым посадом людских, конюшен и сараев вокруг, занимаемый Скшинецким, знали все, и лучшее общество собиралось на вечерах, на обедах и ужинах, часто даваемых гостеприимными хозяевами палаца.
Только неугомонный червь личного честолюбия, который точил и пани генеральшу не менее, если даже не больше, чем ее мужа, — заставил генерала искать высокого положения, взять на себя пост вождя армии в военное время, когда грозили лишения, чрезмерные труды, даже смерть…
Правда, Скшинецкий старался и умел в самых необычайных обстоятельствах сохранить обычный ход и порядок своей личной жизни.
Вставал он поздно. Его повар с целым штатом прислуги следовал за ним всюду, готовил завтраки, обеды и ужины из отборной провизии, добываемой самой невероятной ценой. И в известное время генерал садился за стол, долго оставался за ним, а затем ложился спокойно отдыхать в своей походной палатке или в отведенной для него комнате деревенского дома, как в своей роскошной супружеской опочивальне.
Не было это проявлением особого хладнокровия, боевой храбрости, воинской отваги, а просто делом привычки. После, еды — тяжелели глаза, туманилась мысль… И сон стихийно овладевал этим выхоленным, большим, сильным человеком.
Так же было и во всем остальном: привычка, рутина являлись самыми сильными и понятными двигателями для этой узкой, безучастной к людям души, для себялюбивого, изворотливого умом человека, каким был Скшинецкий. Но людей недалеких, особенно при первом знакомстве, он умел чаровать и привлекать к себе своим красноречием, блеском высокопарных оборотов, уменьем нанизывать сверкающей нитью красивые слова, задевать лучшие чувства, сокрытые в человеческих душах, тревожа Властителя миров, поминая отчизну, долг, славу, отвагу, решимость и вдохновение… Все то, чего не хватало самому Скшинецкому, что было далеко его душе, слетая гремящими и пустыми звуками с гибкого языка политического пустомели.
Пока полковники лишний раз любовались знакомыми уже им картинами лучших мастеров, украшающими стены, пока они, ведя негромко разговор, много раз успели измерить из угла в угол обширный покой, где шаги оставались неслышны благодаря пушистому дорогому ковру, время медленно, но шло вперед… Вот уж бронзовые античные часы на камине, медленно отзвонившие одиннадцать ударов при появлении посетителей, снова, отмеряя первую четверть, коротко отчеканили свое нежное динь-дон…
— Однако, — заворчал хрипло Прондзиньский, поправляя повязку на больном горле, — пан генерал не торопится… Сказал ли этот «пан камердинер» ему, что мы здесь?.. Что у нас важное дело… Или?..
— Я полагаю, он даже не пошел будить генерала, — спокойно отозвался Колачковский. — Подождем… Кстати, еще идет кто-то… Ба, Хшановский… Вот как раз!..
— Да, да. День добрый, полковник, — идя навстречу Хшановскому, проговорил Прондзиньский, стараясь не выдавать усилий, каких стоило ему каждое слово.
— Матерь Божия! Воскрес из мертвых!.. Здоров, коханый Игнаций!.. А мы тут горевали;.. Пан полковник, — пожимая руку Колачковскому, обернулся к нему Хшановский. — Вы что же, панове? Вас тоже звал он пораньше сегодня?..
Хшановский кивнул на дверь, ведущую в кабинет.
— Нет, нас не звал… Мы сами пришли, чтобы… — начал сразу горячо Прондзиньский, но ему перехватило горло. Невольной паузой воспользовался Колачковский.
— Прошу тебя, помолчи немного, полковник! Еще наговоримся, когда войдем туда, к генералу… Я объясню полковнику все толком… Да пан полковник и сам понял, конечно, что ты пришел говорить о своих планах… Что хочешь спорить с паном полковником и с его выводами… Что…
— Ага… Конечно, понимаю! — прервал Хшановский. — Отлично, превосходно! Я сам рад послушать… Если я не прав, готов сознаться!.. Жаль только, что товарищ еще не совсем здоров и должен…
— Ничего… Я потому и пришел с полковником… Если надо будет, я кое-что дополню, — примирительно заметил Колачковский, довольный, что соперники не слишком петушатся, наоборот, даже склонны выказать взаимное великодушие.
Робкий по природе, усталый по годам, миролюбивый, добрый поляк, готовый на всякие уступки и сделки, лишь бы не возникло даже простой ссоры, тем более — революции или войны, Колачковский дружил со всеми, был хорошо принят в Бельведере у цесаревича и особенно у княгини Лович, дружил с ее сестрой пани Гутаковской, но оставался честным человеком, слугой отчизне, как и чем мог!
Теперь Колачковский уже собирался изложить Хшановскому те основания, по которым он вынужден согласиться с планами именно Прондзиньского, а не Хшановского, когда растворилась высокая дверь и на пороге обрисовалась стройная, выхоленная фигура генерала в домашней тужурке, с газетой в руке.
— Пожалуйте, пожалуйте, панове!.. Виноват, если заставил ждать. Знаете: моя подагра… Нет-нет да и дает себя знать!..
Он сделал легкий жест, указывая на ноги, и в то же время посторонился, чтобы пропустить в кабинет гостей.
Одна ступня генерала, маленькая, породистая, с высоким подъемом, почти женской формы и размеров, была одета в щегольской ботинок. А другую скрывал бархатный просторный сапог на мягкой подошве, какие обычно носят подагрики. В кабинете, ярко освещенном тремя большими окнами, можно было хорошо разглядеть, что цвет лица у генерала желтый, нездоровый, а под глазами легли синие тени, набежали дряблые складки.
Не успели все трое произнести первые приветствия и высказать свое соболезнование генералу, как он обратился к Прондзиньскому.
— Не ждал, но рад вас видеть. Очень кстати… Мы тут сейчас займемся делами… Но прежде мне интересно знать… Конечно, вы уже читали все, панове!
Он потряс листком газеты, которую держал в руке.
— Какая бомба! Мои враги не ждали, что я так прямо выложу карты на стол. Пусть теперь говорят, что хотят!.. Обвиняют меня, что я не испросил согласия у Ржонда… не вошел раньше в Сейм… Для чего, спрашивается? Чтобы тайные переговоры раньше времени стали известны на всех перекрестках!.. Хорошее дело. Я не так глуп. Что я сделал — то сделал. Пусть посмеют меня судить теперь! Ха-ха! Я погляжу… Ну, да Бог с ними. Враги мои побиты — и я не хочу их еще топтать в пыли. Это не в правилах генерала Скшинецкого!.. Да!.. Перейдем к делу… Я звал полковника Хшановского для окончательного выяснения… Для составления приказа по армии ввиду нашего выступления против российской гвардии. И мнение ваше, панове, — обратился он к Прондзиньскому и Колачковскому, — конечно, для нас ценно. Дело вот в чем… Впрочем, пане Хшановский, не желаете ли вы сами изложить?
— С большой охотой… если только это необходимо… Полковник Колачковский уже слышал… мы обсуждали не раз… Знает и пан Прондзиньский… Конечно, теперь введены кой-какие изменения… А главный план тот же… Из лагеря Дибича нам донесли, что он сам перенес свою главную квартиру в Рыки. Для демонстрации — два отряда посланы выше и ниже Варшавы, будто бы искать мест для перехода армии на левый берег… А на самом деле он дал приказ всей армии двигаться вдоль Вепржа, до его впадения в Вислу, и там, скорее всего, у Тырчина, против Козинец, где острова на Висле… где есть мели и броды, — там он думает перебросить свои полки на наш берег…
— Так… конечно, так!.. — хрипло подтвердил Прондзиньский, оживляясь по мере того, как Хшановский развивал положение неприятельской армии…
— Рад, что мы сходимся с паном полковником. Теперь дальше. Донесения шпионов подтвердились нашими разведками вчера и нынче утром. Прискакало несколько шляхтичей из тех мест, по которым движутся сейчас колонны россиян. Это, кажется, единственная война, в которой наш Главный штаб может узнавать каждый шаг неприятеля.
— Так же как и он узнает все о нас, — вставил Колачковский.
Но Хшановский, увлеченный своими мыслями, продолжал:
— Мы оставляем над Вислой два отдельных корпуса — графа Паца и генерала Серавского… Их будут подкреплять две дивизии: первая и четвертая… Всего около тридцати тысяч людей при сорока пяти орудиях. Этого довольно, чтобы выдержать первые натиски армии Дибича, если бы тот неожиданно повернулся назад.
— Вы так думаете, полковник? — послышался осторожный вопрос. Это робко прозвучал хриплый голос Прондзиньского, который весь насторожился и, казалось, даже оробел, слушая решительную, вескую речь Хшановского, своего вечного соперника в деле осуществления широких стратегических планов.
— Конечно. Иначе я бы не говорил этого! — досадливо кивнул Хшановский, уверенный в поддержке Скшинецкого, и поспешно закончил: — Остальное понятно. Мы идем форсированным маршем.
— По весенней распутице… — прозвучала опять осторожная вставка.
— По весенней распутице… Как шел ваш полководец Наполеон, когда люди теряли обувь в грязи и вязли пушки, тонули кони… А он нападал на отряды врагов поодиночке и разбивал их в пух!.. Это сделаем и мы! — уже совсем поднимая тон, заговорил Хшановский: — Пойдем форсированным маршем… обрушим пятьдесят тысяч войск на гвардейцев, которых не больше двадцати — двадцати двух тысяч…
— И двадцать шесть наберется, полковник, с ближними отрядами россиян…
— Двадцать шесть… Согласен! А нас будет пятьдесят… А мы видели здесь, под стенами Варшавы, на полях Грохова, что тридцать пять тысяч нашего войска выдержали удар армии минимум в шестьдесят тысяч штыков… И ничего, справились!..
— Ценою каких жертв… Это — пиррова победа, полковник! — послышалась опять хриплая отповедь. Чем резче возражал Хшановский, тем больше, казалось, пробуждалось энергии и мощи в небольшой, слегка склонной к полноте фигуре Прондзиньского, тем тверже и металличнее звучал его голос сквозь прежнюю болезненную хрипоту.
— Есть у россиян пословица: «Снявши голову по волосам не пла…» Нет, не то… Я хотел сказать: «В драке волос не жалеют». Мы ведем войну, а не шахматную партию! И надо возможно скорее достигать самых лучших результатов, не считаясь с тем, чего это может стоить! Разобьем гвардию… этих ленивых баричей, избалованных «паничей», которые возят за собой чуть ли не всю свою дворню и гаремы… С ними расправа будет легка.
— Ну, конечно, — заговорил оживленно Скшинецкий, — я видел, знаю этих «паничей» — гвардейцев. Им с нашими паненками впору воевать… Мы их так расчешем!..
— Пожалуй, верно! — неожиданно меняя тон и занятое положение, согласился Прондзиньский, лицо которого сейчас пылало, а голос стал звонок и силен, как всегда, только изредка вдруг прерываясь какими-то хриплыми перебоями. — Вижу, пан Хшановский прав. План его превосходен!.. — Слушающие в недоумении переглянулись. Не давая им опомниться или заговорить, Прондзиньский продолжал: — Расположились враги для нас превосходно! Дибич со всеми силами уходит к Лукову, к Радзину, к болотам Вепржа, где думает переправляться на эту сторону… Один Гейсмар под Варшавой и Розен у Седлеца будут сторожить нас… Но мы сумеем обмануть москалей. Конечно… Среди нас не найдется предателей, которые известят их, что армия пустилась в дальний путь, на князя Михаила… Что столица осталась под охраной косинеров Паца и Серавского и двух дивизий… Мы сделаем спокойно сто двадцать верст… Одолеем распутицу и непролазные дороги августовские… Нападем на «паничей»… Разобьем их своими превосходными силами. Возьмем богатую добычу… огромный обоз!.. А тут… тут не появится Дибич со своими еще более превосходными полчищами… не рассеет наших дивизий, не возьмет беззащитного города и потом не кинется на нас, не задушит своими двойными силами наши пятьдесят тысяч штыков, которые мы поведем на «паничей»…
Бурная речь Прондзинького, неотразимая по своей логике, полная жгучей, но благородной иронии, ошеломила слушателей.
Они молчали. Умолк и Прондзиньский. Приступ кашля овладел им и потрясал все его хрупкое тело. Он отнял ото рта платок, и общее сочувственное восклицание вырвалось у всех. На платке алело большое кровавое пятно.
— Ох, пане Игнатий… Ну, охота так волноваться и принимать к сердцу! — с искренним участием заговорил Скшинецкий. — Дело еще вовсе не решено… И если вы уж так думаете… что оно такое… неподходящее… такое опасное… Мы…
— О, нет… Я нисколько не нахожу его неподходящим… или опасным! — живо возразил Прондзиньский. — А вы, панове, не обращайте внимания на это… на эти пустяки… Там в горле остался рубец от нарыва… Будем продолжать нашу беседу, панове… Может быть, и я не прав… Жду возражений.
Наступившее молчание прервал первым Колачковский:
— Я всегда думал и говорил, вот как сейчас пан полковник…
— Позвольте… Да я еще недосказал, — снова оживляясь, довольный одержанной победой, тише, мягче прежнего заговорил Прондзиньский. — План полковника Хшановского — великолепный план… Да, да! По чести говорю. От чистого сердца! Их, этих лежебок, белоручек, гвардейских паничей, поколотить надо. Только — в свое время. Есть очередная, более насущная задача. Вот, прошу приглядеть, панове!
Смело, словно в собственном кабинете, Прондзиньский придвинулся ближе к тяжелому, большому письменному столу черного дерева, украшенному художественной резьбой, отодвинул наваленные здесь польские и иностранные газеты, последние книжки французских журналов, развернул большую карту, лежавшую тут же, и, указывая на ней точку за точкой, живо продолжал:
— В данную минуту обстоятельства складываются необыкновенно счастливо для нас! Сам Господь ослепил Дибича, отнял у него разум, и мы должны воспользоваться ошибкой врага. Вот здесь, за Наревом, — их гвардия… которая от нас не уйдет! Генерал Витт с резервами своими в Пулавах… Главная армия потянулась к Бобровникам по правому берегу Вепржа, по болотам и топям, по узким гатям и лесам. Против нас оставлен слабый корпус Гейсмара, растянутый от Ваврской корчмы до Гжибовой, до Кавенщизны… Дальше от Бельки Дембе до Минска стоит заслоном Розен со своей дивизией, охраняя их артиллерийские парки в Лукове и огромные склады россиян в Седлеце… Сюда мы и направим удар! Никому не говоря… даже самым надежным людям… у которых есть жены, сестры, экономки и близкие друзья… Не говоря даже пану президенту Чарторыскому.
— А тем более пану губернатору Круковецкому, — вставил Скшинецкий.
— Тем более ему… Мы соберем под столицей те же пятьдесят тысяч войска, о которых говорил пан Хшановский… Выступим ночью сегодня… лучше — завтра, когда их главная армия отойдет подальше отсюда… Чтобы она не услыхала… не поспела на гром орудий… Итак, завтра ночью — выводим людей… Идем в темноте… К рассвету наш левый фланг у Кавенщизны далеко обогнет правое крыло Гейсмара… Мы ударим с боков и в центр… В плен должен сдаться весь его корпус! Или… будет уничтожен! Правду сказал пан Хшановский, в драке волос не жалеют, особенно чужих. Не давая передышки, не позволяя опомниться, — навалимся на двадцать тысяч россиян, которые впереди, с Розеном… Конечно, им тоже сам Бог не поможет одолеть нашу армию, в два с половиной раза сильнейшую… А там…
— А там — и на гвардию! — воскликнул Скшинецкий, разгоревшийся от картин легкого, верного успеха, какие рисовал Прондзиньский.
— Нет, пане генерал!.. Сперва — на Дибича! Он не поспеет собрать в кулак свои колонны, свои пушки и эскадроны, растянутые вдоль Вепржа по болотам и лесам, а уж мы, захватив и Паца, и Серавского, и Дверницкого подозвав, если успеем… всех, до последнего человека, — обрушимся на россиян, на их фельдмаршала, на главную армию… Растреплем ее, отряд за отрядом, загоним в уголок между Вислой и Вепржем!.. Пусть выбирается оттуда мимо наших орудий и штыков… А если не понравится пану Дибичу такая задача, он поторопится уйти туда, к Бугу, подальше от пределов нашей бедной отчизны, от ее опустелых полей, залитых нашею и вражеской кровью!..
— Великолепно! Превосходно! — одновременно покрыли голоса Скшинецкого и Колачковского последние слова мечтателя-стратега, который заразил и увлек их силой своей мечты, яркостью рисуемых картин.
— Что ж, расчет довольно правильный и верный… если не будет каких-либо случайностей! — неохотно вынужден был согласиться и Хшановский. Его тоже увлекли планы Прондзиньского, но прямо согласиться мешало ложное самолюбие.
— Случайности возможны при всяких планах, и при твоих, пан полковник! — отозвался Колачковский, видя, что победа всецело на стороне Прондзиньского. — А уж ты, полковник, известный Spiritus contradictionis [19]! Во всем найдешь ошибки. Обо всем любишь спорить…
— Не спорю я вовсе, а так заметил… Не слушай ты старого ворчуна!.. — обратился к Прондзиньскому Хшановский, делая над собой усилие. — План — прекрасный, и я готов от души помогать тебе, чем могу!..
— Вот благодарю… от сердца! — пожимая протянутую руку, радостно воскликнул Прондзиньский. — Так если генерал позволит, займемся сейчас же составлением подробного плана, надо приготовить приказы… Времени очень мало…
— Прошу, прошу, панове… Займемся! — с широким жестом откликнулся Скшинецкий. — Но… я имею прескверную привычку — принимать пищу именно в этот час! Прошу сделать мне честь, разделить убогую трапезу. За столом потолкуем, потом вернемся сюда, все напишем, оформим…
Он позвонил. Вошел важный камердинер, теперь имеющий очень скромный, почтительный вид.
— Завтрак готов? Вели подавать! Идемте, панове!..
На другой день около полуночи генерал Круковецкий, военный губернатор Варшавы, приняв вечерние рапорты, сделав распоряжения на следующий день, из приемной комнаты прошел на свою половину, в кабинет, тесный мундир и сапоги сменил на удобный халатик на меху, на теплые туфли, обогрел тонкие старческие пальцы у камина и сел писать письмо своей жене, которую отправил к родным? подальше от осажденной столицы.
Раздался стук в двери. Вошел старый гайдук, служивший не одному поколению графов Круковецких, учивший и графа верховой езде, когда тот приезжал на каникулы домой в богатое поместье.
— Там этот ободранец… Куциньский пришел… Что приставлен смотреть за паном гетманом…
— Молчи, старый сыч! Кто тебя спрашивает об этом обо всем? Доложи и впусти, без лишних разговоров!..
— А на что же Пан Бог и язык дал людям, если не для разговора, — уходя, заворчал гайдук. — Или только панам можно говорить, а нам, холопам, нельзя…
Впустив в кабинет плохо одетого шляхтича, смахивающего на мелкого торгаша или мастерового, ворчун ушел.
— Докладывай, что там у тебя! — отрывисто кинул вошедшему Круковецкий и, чтобы казаться совсем незаинтересованным, продолжал водить по глянцевитому листку тонко очинённым гусиным пером, которое с легким скрипом выводило крупные, неровные буквы, вязало их в темные, внушительные по виду строки…
— Большой съезд сегодня у пана генерала… Все офицерство! Новый француз приехал, полковник… Рымарин звать его…
— Раморино, а не Рымарин…
— Вот-вот, мосце пане генерале!.. Рамаринов… Его принимает у себя пан генерал. Паны полковники Прондзиньский и Хшановский были у генерала в день… И другие офицеры… Все, як каждый день, ясновельможный пане графе!
— Ничего особенного не заметно? — пытливо глядя на агента, переспросил Круковецкий. — Нет никаких сборов?.. Не готовят экипажа, не выводили лошадей?.. И ты верно говоришь, вот сейчас — идет там пирушка?
— А провалиться мне на этом месте!.. Да разве ж посмею я обманывать яснейшего пана графа! Да пусть кости моего отца выйдут из гроба, если…
— Ну, хорошо, ступай! — оборвал его Круковецкий. — Вернись туда… И если что заметишь, бегом спеши, дай знать…
Низко поклонившись, вышел пан Куциньский.
— Может быть, это ошибка!.. И войска просто для того поставлены нынче под ружье, чтобы немного поднять настроение… И то уж начали ворчать солдаты… У этого… блазня… у бабьего прихвостня пирушка… Конечно, он не собирается в поход… А если?.. Гей, Стаc!
Вошел гайдук.
— Слушай! — негромко обратился к нему Круковецкий. — Мне надо проверить… Это очень важно… Понимаешь?.. Я бы иначе тебя не послал.
— Да пусть прямо приказывает пан граф. Разве ж я не старый Стаc для пана Яна? Что надо?
— Сейчас же возьми коня, проезжай мимо… ну, понимаешь… мимо его дома. Узнай, правда ли гости там пируют? И не готовится ли ночью ехать куда-нибудь… он… понимаешь?
— Мигом узнаю, панночку!
Старика не стало в кабинете.
А Круковецкий, сидя у стола, опустив голову на руку, погрузился в глубокое раздумье, в томительное ожидание…
Приказ всем войскам, стоящим в городе, стать под ружье после полуночи, о котором поминал Круковецкий, был дан секретно, поздним вечером, именно с тою целью, чтобы о нем не узнал никто до срока. Но губернатор Варшавы везде имел глаза и уши: в домах, в казармах, даже в храмах Божиих…
Однако если он и узнал, что затевается выступление, все же не мог узнать главного: куда и зачем собираются вести полки его начальники с верховным вождем во главе.
Не знал Круковецкий и того, что мост через Вислу около полуночи был покрыт толстым слоем соломы, как мягким ковром… В этом ковре тонули копыта коней, беззвучно опускаясь на солому… По этому ковру бесшумно прокатились одна за другой батареи… Только сбруя позвякивала на упряжных конях да оружие побрякивало на канонирах. А колеса без обычного грохота-рокота, беззвучно катятся по мосту… Как будто это призрачные орудия движутся, длинные, черные, поблескивающие изредка под луной, в прозрачной мгле весенней влажной ночи.
Еще не заалелась заря в Страстной четверг 31 марта, как загрохотали первые выстрелы от Зомбков, со стороны Кавенщизны.
Эскадроны генералов Клицкого и Дембинского, получившего недавно свои эполеты, лихо вынеслись вперед, готовясь к атаке.
Но Гейсмар, как будто предупрежденный кем-либо, был начеку. Зарычали российские орудия, затрещали ответные залпы…
Напрасно!
Хорошо обдуман был план Прондзиньского… Черными камнями отмечен был день 31 марта для россиян. Красные камни удачи и победы выкинули вещие богини Норны в этот день для поляков…
Мольбы к Распятому Искупителю Миротворцу неслись во всех костелах края в этот день покаяния и Страстей Господних… И после обычных гимнов миллионы людей добавляли:
— Милостивый Боже! Пошли нам победу… Дай поразить врагов! Яви милосердие Свое к людям, к рабам Твоим!..
Звон колоколов носился над Варшавой и смешивался с отголосками отдаленной канонады…
Эти глухие отголоски, казалось, новое пламя придавали всенародным мольбам. Стотысячное население словно слилось в одном желании: победа нашим, поражение врагам!
Первые победили… Дрогнули, побежали вторые… Правда, и силы слишком не равны! Здесь сорок тысяч, там только восемь!
Рыбиньский, зная, что за ним надежная поддержка, отважно ведет бой. По дороге к Милосне гонится за уходящими россиянами… Весь их 95-й полк вырублен или попал в плен. Взято две пушки, два знамени… 2000 пленных уже окружены кольцом конвоя… А Рыбиньский все продолжает теснить отступающих, рвется вперед и вперед, пока не увидал перед собою у деревни Бельки Дембе весь корпус Розена, развернутый в грозном боевом порядке, охраняемый жерлами пушек, очертания которых темнеют в небе на самой вершине холмов, господствующих над дорогой и всей равниной; а россияне стоят только в полугоре, как бы подзывая поляков…
В самой деревне, лежащей у Розена слева, тоже веют значки и знамена… ржут кони, сверкают стволы орудий; там за опустелыми домами укрыт сильный отряд русской пехоты и пушки при ней.
От недавних дождей поля по обеим сторонам шоссейной дороги обратились в топь, только по шоссе и можно подступить к деревне, к позициям Розена. А на этом шоссе все пушки россиян рыгнули огнем и железом.
Остановился Рыбиньский…
Остановились все отряды, следующие за ним. Вся польская армия.
— Генерал! — трепеща от волнения, заговорил Прондзиньский, обращаясь к Скпшнецкому, который в бинокль оглядывал поле будущего сражения. — Генерал, ради Бога! Надо торопиться! Уже четвертый час!.. До наступления темноты надо кончить дело, чтобы они не ушли от нас.
— Да, это бы хорошо! — цедит Скшинецкий, усталый, голодный, обозленный предстоящими трудностями нового боя, после того как легкая победа над Гейсмаром совершенно насытила мелкое славолюбие и честолюбие этого неудачника-генерала. — Недурно бы их разбить. Но — как?.. Вон слева непроходимое болото. Справа перед деревней, перепаханное поле, да еще размякшее от ливней. Артиллерию, конницу и думать нечего пустить по этим зажорам! А послать их на шоссе, под перекрестный огонь, на верную гибель? Конечно, и вы не захотите этого.
— Но, генерал, у нас такая чудная пехота. Тут кусты… прикрытия… Они превосходно могут, почти без потерь…
— Понимаю… все понимаю сам прекрасно… Конечно, пехоту мы двинем…
И по-французски обратился к новому своему адъютанту, французу, полковнику Раморино, которого чествовали вчера:
— Полковник, передайте Богуславскому, чтобы он с «чвартаками» своими постарался занять деревеньку… вон там… Она называется Бельки Дембе… Большие Дубы… Понимаете?.. А пана, — обратился он уже по-польски к графу Замойскому, — прошу генерала Венгерского. Пусть возьмет восьмой полк и подберется к Розену с правого крыла… Выбросить не сможет ли москалей из позиции?.. Не захватит ли пару пушек еще для завершения сегодняшнего счастливого дня?..
Вестники поскакали. Прондзиньский, видя, что Скшинецкий совершенно успокоился, сдержанно, но тревожно задал вопрос:
— И это… все, пане генерале?
— А что же вам еще, пан полковник?..
— Я думал… я полагал… Такая сильная позиция неприятеля… Столько пушек… Надо двинуть почти всю пехоту. Чтобы навалилась со всех сторон, карабкалась, бежала… Чтобы они не знали, куда им повернуться, куда направлять пушки и штыки, откуда ждать смертельного удара?.. А эти два полка… Надо еще послать, пан генерал…
— Надо и мне стать впереди ради удовольствия пана полковника Прондзиньского, не так ли? Ненасытный ты человек, пане Игнаций… Кажется, мы сегодня оправдали наше жалованье… Заслужили свой отдых… А тут черт нанес Розена… Мы его и так поколотим… Не бойся… Стоять он там на тычке долго не будет. Мы в обход пойдем… А он и раньше тягу даст… Вот мы его и настигнем…
— Но, генерал, что сделают эти два полка, посланные тобою? Что они могут против такой позиции?
— А вот мы посмотрим! Нужно будет, еще пошлем… Не забудь, полковник, «чвартаки» наши с Богуславским в дело пошли. Эти не выдадут. Ну, перестань грызть усы. Пойдем лучше, там мой повар привез-таки мне и сюда на позиции хороший завтрак. Перехватим немного. У меня сосет вот здесь… И у тебя губы пересохли, полковник. Идем!..
— Пойдем, пан генерал! — со вздохом согласился Прондзиньский.
За столом, накрытым в полуразрушенной, пустой клуне, Прондзиньский пытался подвинтить Скшинецкого, говорил ему о блестящей победе, о славе… Отяжелелый от еды, согретый несколькими стаканами хорошего вина, Скшинецкий впал в дремоту, сидя на скамье, прислонясь спиной к грязной плетеной стене сарая, служащего столовой гетману польской армии.
Стало уж темнеть, когда, окруженный своим штабом, Скшинецкий снова появился на холме, откуда было видно сражение.
Атака Венгерского была отбита с большими потерями, и остатки полка, отстреливаясь от россиян, залегли в кустах, словно не желая уходить, ожидая помощи. «Чвартаки» Богуславского более счастливо, почти без урона подобрались по колена в грязи к самому выгону деревеньки и осыпали из-за кустов градом свинца белые низенькие хатенки, откуда тоже, звеня и жужжа, сыпались пули…
Разглядевши все это, Скшинецкий обратился с брезгливой миной к Прондзиньскому и Хшановскому, которые стояли рядом и быстро переводили бинокли с одного места на другое.
— Из этого пива не будет дива! Я говорил вам, Панове… Они к нам не идут. Нам к ним — тоже не рука!.. Уж скоро ночь! Кони и те уморились… Что же чувствуют люди? Надо дать им роздых!
— Генерал, да можно ли? — начал было, не выдержав, Прондзиньский. Хшановский, тоже выходя из своего постоянного спокойствия, зашевелился, словно собираясь возражать.
— Панове, кажется, я по-польски говорю, не по-китайски… Или — не я здесь начальник и вождь?! — с подчеркнутой строгостью, желая предупредить всякие возражения, отчеканил Скшинецкий. — Венгерскому — послать приказ вернуться назад… А Богуславского…
Генерал еще раз направил бинокль на деревеньку, на густые кусты, за которыми залегли «чвартаки».
— Он там, кажется, хорошо устроился со своими молодцами. Пусть так и остается: сторожить москалей-дружков. Попробуют они ночью выйти, он их встретит. Захотят уйти — он их проводит и займет теплое местечко… Пожалуйста… Скачите!
Два офицера, к которым обратился вождь, поскакали.
Увязая в мокрой, вспаханной земле, ковыляя, добрался конь ординарца, посланного к Богуславскому, до середины открытого пространства, лежащего между штабом Скшинецкого и теми кустами, где в грязи, в воде залег храбрец полковник.
Тут пришлось ординарцу слезть и пойти пешком, ведя лошадь в поводу, перебегая от куста к кусту, чтобы не служить верной мишенью для русских пуль, летящих из-за хатенок, за которыми укрылись враги.
Кое-как добрался до полковника ординарец и передал Богуславскому приказание вождя.
С недоумением огляделся кругом добродушный седоусый храбрец.
— Ночевать… здесь… До утра?.. Вот тут, в болоте? А разве ж мы утки деревенские, а не люди?.. Нет, этого не можно! А ну-тко, крещеные, раздобудем себе получше квартиру… Штыки наперевес… За мной, вперед, братики!
Ниспадающая тьма обвеяла уже россиян в деревеньке. Усталые от боевого дня, они готовились пойти на покой, отдохнуть; не ожидали, что после первой вялой атаки, после нескольких часов бесплодной перестрелки поляки предпримут какие-нибудь решительные шаги.
Грозные крики «чвартаков», их боевая песнь ошеломили, словно зачаровали россиян… Они сразу дрогнули и после недолгого сопротивления очистили деревеньку, быстро уходя к главному ядру российского отряда, туда, на взгорье, под защиту пушек.
Мгновенно тревога пробежала по всему отряду Розена. Задвигались батальоны, стали перемещаться пушки, как будто ища более надежного места для себя. Одно общее впечатление быстро надвигающейся, неожиданной опасности испытал сам Розен и его полки, его эскадроны, когда услышали победные крики «чвартаков», увидали своих, выбитых из деревни, уходящих под напором врага дальше, дальше к холмам…
Заметили это смятение оба полковника, Прондзиньский и Хшановский. В последнем вспыхнула боевая искра, и он вместе с недавним соперником стал молить Скшинецкого:
— Генерал, победа сама дается в руки! Дайте знак к общему наступлению… Через Бельки Дембе… туда… туда… на них… Победа, слава нас ожидает… Не медлите, генерал!
— И не подумаю я рисковать всею армиею! Из-за чего?.. Чудак Богуславский с его безумцами ворвался в деревню, выбил оттуда горсть москалей. А панам полковникам уж видятся и лавры, и победы… Ни за что!
Бледный от отчаянья, с глазами, полными слез, отошел Прондзиньский. Но Хшановский, упорный и холодный, вдруг выпрямился, словно вырос, и твердо заговорил:
— Генерал, минута слишком грозная и важная… Я вынужден отложить в сторону обычные рамки… забыть, быть может, свое положение подчиненного и напомнить генералу день двадцать шестого февраля, когда генерал говорил о… о своей некоторой… неосведомленности в деле управления большими армиями… и просил ему помогать честно, по совести. Теперь я должен напомнить генералу его просьбу… и во имя ее А повторяю: минуты терять нельзя!.. Если не весь отряд…. Пошлите кавалерию… По шести в ряд успеют они по шоссе доскакать до деревни, где теперь не враги, теперь там наши… А остальное? Вы увидите! Генерал, моею жизнью… честью своею ручаюсь за полный успех!
— И я… и я!.. — хрипло выкрикнул Прондзиньский, одолеваемый приступом своего жестокого кашля.
— Ну, хорошо! Пусть по-вашему будет, — после короткого раздумья произнес нерешительный, трусливый вождь.
Оба полковника не стали ждать повторений. Приказания посыпались одно за другим. Поскакали ординарцы… Зазвучали трубы…
Вот уж кавалерийская дивизия генерала Скаржиньского зачернела на шоссе. Впереди — два эскадрона конных стрелков. За ними — карабинеры Шнайде и еще эскадроны… Все быстрее, чем ближе к деревеньке, к позициям россиян… Бурей налетели конные отряды. Первый батальон россиян, встреченный у деревни, окруженный лавиной всадников, сложил оружие. Четыре пушки, стоящие вправо от шоссе, замолкли и попали в руки карабинеров. Тут же взяты в плен генерал Левандовский, полковник Соколов, три артиллерийских офицера и вся прислуга при орудиях. Скаржиньский сам повел в атаку эскадроны на каре россиян, сломал, опрокинул его и взял еще четыре орудия. Тыл дали остальные отряды… Напрасно Розен пытается остановить бегущих, вести их на врага. Он сам, окруженный польским отрядом, мог очутиться в плену. Но явился на выручку Гейсмар, успевший собрать своих улан. Семь эскадронов врезались сбоку в сечу, напали на поляков. Карабинеры Шнайде, не ожидавшие ничего, хлопотавшие около пушек, занятые пленными, сначала приняли за своих летящие на них ряды улан. Но скоро и жестоко поплатились они за эту ошибку… Колют их уланы, гонят перед собою, сбросили в топь, лежащую вправо от шоссе. Ободренные успехом, дальше понеслись российские эскадроны с пиками наперевес. Но сбоку на них ударили, в свою очередь, шассеры майора Косиньского.
Поскакали без всадников уланские гнедые, статные кони, заалело, засияло шоссе и топь придорожная от мертвых тел, от уланских мундиров и рейтузов…
А за шассерами несется, как новая буря, 5-й полк польских улан с Дембинским… Эскадрон «майоров», познанских добровольцев с отважным Бжезинским во главе… Последнее сопротивление россиян сломлено даже без усилий…
Уносятся рассеянные всадники… Бегут батальоны и роты… Бегут рассыпанные ряды… Догоняют их польские эскадроны, обезоруживают, берут в плен…
Меньше половины корпуса отвел к Минску Розен… Полковники Шиндлер, Бутриков легли мертвыми… Генерал Унгбауер в отчаянии напрасно искал смерти, кидаясь в самую гущу боя… Он не нашел того, что искал, и, подавленный, обессиленный, окаменелый, ехал за Розеном…
11 000 пленных, 10 пушек, 6000 карабинов досталось полякам после этой для них самих неожиданной победы… Весь обоз Розена и артиллерийские ящики со снарядами тоже попали в их руки.
Красными камнями отметили вещие Норны день 31 марта для поляков и черными — для россиян…
Конные отряды, особенно эскадрон графа Владислава Замойского, всю ночь до утра гнались за убегающими, брали новых пленных, новые трофеи…
А когда около полудня 1 апреля по улицам Варшавы побежали мальчуганы-газетчики с листками и закричали:
— Победа над москалями!.. Великая победа у Бельки Дембе… 20 тысяч взято в плен и 70 пушек и сам Розен!..
Покачивая головой, варшавяне приняли это за обычную для 1 апреля газетную шутку… Недоверчиво брали, читали… Пленных, напечатано, всего около 11 тысяч… Пушек 20… И обоз… И победа.
«Ну, разумеется, шутка!» так сперва решили горожане.
Но вот возвращаются отряды польские.
— Правда! Все правда! — крикнули они густым толпам, наполняющим улицы.
Показались коляски… В первой — генерал Левандовский сидит; конечно, не по доброй воле едет он в столицу Польши. А в других экипажах — полковники российские. Трое их! А там — 16 офицеров. В крулевский замок их привезли… Полковой оркестр россиян, целиком взятый с трубами, идет и громко играет гимн…
Проехали взятые пушки, прошли длинной вереницей пленные солдаты! Нарочно их повели через весь город в Лазенки, где им приготовлены опустелые казармы, занятые раньше россиянами же…
Заликовала Варшава… Печальные напевы Страстной недели стали чередоваться с торжественным «Те Deum» [20].
Будь не эти печальные дни — петь, плясать принялась бы Варшава…
Но и это от нее не уйдет. Послезавтра — светлый день Воскресения Христова, праздник возрождения, радости и весны… Сегодня и завтра лишь надо подождать, попоститься, в горячей мольбе полежать, припадая грудью и лицом к холодному каменному полу храма…
Но и до той поры громче, торжественней зазвучали повсюду молитвенные гимны и напевы; в этих напевах и в молитве выливает свой восторг, свою радость народная душа.
Еще один и последний раз красными знаками был отмечен для поляков день последней их победы — воскресенье 10 апреля.
Нерешительный, склонный к полумерам, скоро устающий, Скшинецкий и слушать не стал, когда Прондзиньский предложил ему воспользоваться удачей, угнетением духа у россиян и приподнятым настроением польских батальонов. Когда он молил сейчас же кинуться по следам Розена, взять артиллерийские парки в Лукове, оставленные без защиты, захватить огромные склады в Седлеце или даже кинуться на Дибича, разбить его отряд за отрядом, пока они еще тянутся вдоль болотистых берегов Вепржа.
— Ну, еще бы! — лениво, безучастно возражал Скшинецкий. — Вы на все готовы! Хотите, чтобы я осрамил себя, завязав генеральную битву с фельдмаршалом… Чтобы разом поставил на карту судьбу армии и Польши!.. Нет! На это я не пойду. Докажите мне сперва, что победа нам обеспечена безусловно! Тогда, пожалуй, я и приму к исполнению все ваши планы, буду с вами строить воздушные замки…
Наконец, когда ушло самое благоприятное время, когда Дибич, встревоженный отчаянными рапортами Розена, сжег всю громаду лесных материалов, собранных в устье Вепржа для наведения моста через Вислу и кинул к Седлецу на помощь Литовскому корпусу, — только тогда согласился Скшинецкий опять выступить из лагеря, идти на Розена, взять Седлец.
Прондзиньский двинулся вперед с отрядом в 11 000 человек пехоты и конницы, с 16 полевыми орудиями под начальством неустрашимого капитана Бема, или, как его звали товарищи, капитана Бум.
Скшинецкий взялся сам позаботиться, чтобы кавалерийский отряд Лубеньского, двинувшись от речки Кострини, овладел переправой через тинистую реку Мухавец, помог Прондзиньскому в решительную минуту боя и потом, погнав неприятеля, занял Седлец, ворвавшись туда у россиян на плечах…
Слово дал Скшинецкий, что лично позаботится обо всем и с рассветом корпус Лубеньского двинется в путь…
Это было вечером 9 апреля…
На заре 10 числа, в субботу, отряд генерала Сиверса со своими гусарами и с татарской конницей преградил дорогу Прондзиньскому у села Доманиц. Завязался горячий бой. Натиск кавалерии под командой графа Мицельского решил участь схватки. Сивере быстро отступил, оставя в руках поляков около 200 татар пленными, не считая раненых и убитых.
Уверенный, что Скшинецкий и кавалерийская колонна Лубеньского уже двинулись ему на подмогу, как только услышали гул орудийной стрельбы, Прондзиньский быстро пошел вперед, через Зелихово на Иганы, где ожидал встретить Розена с его восьми или девятитысячным корпусом.
Неожиданное зрелище представилось тут полковнику.
В боевом порядке стояли россияне числом до 17 000 штыков и 5000 всадников… Их батальоны и конница темнели на обоих берегах Мухавца.
Спокойные и грозные, очевидно, уверенные, что в тылу, откуда должен был бы явиться Скшинецкий, не слышно ничего о приближении польских войск. Отряд Палена II подоспел на помощь Розену. А Скшинецкого и Лубеньского нет…
«Предал!.. Проспал, ленивый трус!» — молнией пронеслось в уме Прондзиньского. Но назад повернуть нельзя… 9000 человек, которые стоят за ним, конечно будут истреблены, расстреляны, изрублены, если хоть на шаг подадутся назад… Лучше уж вперед! Должны же прийти, наконец, когда-нибудь этот сурок Скшинецкий и вся конница!
Так решил полковник и послал в атаку свой передовой отряд…
Орудия россиян, 36 пушек крупного калибра, расположенные за рекой, на холме, осыпают ядрами поляков, бьют во фронт, разят с боков. Бема на помощь позвал Прондзиньский.
— Братики, за мной! — крикнул приземистый, широколицый, добродушный Бем, обожаемый своими артиллеристами.
Лихо выкатила батарея, одна, другая… Все 16 орудий вынеслись на позицию, поближе к реке, совсем против вражеских пушек… Нацелились темные жерла… Метнули дым, огонь и железо на тот берег…
Смятение там сразу началось… Поднимать на передки, спешат орудия, отступают с ним россияне… Еще залп дают пушки Бема. В дыму, под пулями стоит капитан, сам наводит, радуется каждому удачному выстрелу, шутит, смеется, словно он на Саксонском плацу, на ученье, а не на поле смерти… И его артиллеристы не отстают от командира. Падает один, его относят, другой становится на его место, спокойно наводит, твердо подносит к затравке горящий фитиль.
— Огонь! — командует Бем…
— Смерть! — отдается эхом в рядах россиян… Падают там люди, поражаемые железом и свинцом. Но их много… Очень много!.. Устали разить орудия Бема… Реже и реже ревут они, меньше железа и огня извергают на врагов…
В это самое время, пользуясь смятением неприятеля, произведенным бешеной атакой Бема, полковник Венгерский со своим 8-м полком пробился до самой деревни Иганы и засел среди полурасстрелянных хат, овладев пушками, стоящими на окраине деревни, и вырубив прислугу при них.
Как бы в ответ на этот смелый натиск, на высоком гребне плотины, перехватывающей глубокое русло Мухав-ца, показались, затемнели широкой, длинной лентой ряды за рядами, бегом кинулись в ответную атаку с ружьями наперевес два славных российских стрелковых полка: 13-й и 14-й, прозванные «варненскими львами». А за ними вся пехота российская, чтобы доконать врага! Вот первые ряды их уже на этом берегу… По той же высокой гребле бегут, спускаются к деревне, выбивают оттуда поляков, кидаются на другие отряды, какие видны вблизи, и с громкими криками — урра! — колют и гонят все перед собой…
— Бем… Что молчит Бем?.. Их надо остановить картечью! — трепеща от волнения, но спокойный на вид, приказывает Прондзиньский.
Но Бем сам прибежал к нему, тяжело дышит, весь закоптелый, растрепанный, бледный, и говорит, задыхаясь:
— Снарядов больше ни одного!..
И показывает на свои темные, молчаливые пушки, которые торопятся отъехать подальше теперь, когда они не могут защитить даже самих себя!..
Бледнеет Прондзиньский, но сдерживает раздражение и мрачные мысли, которые теснятся в мозгу. Зорко смотрит вокруг, нет ли помощи… Слушает, не зазвучат ли рожки кавалерии Лубеньского…
Нет. Молчит даль! Нет оттуда помощи!
Мучительно напрягается мысль, нельзя ли найти исход, спасти положение собственными силами…
И вдруг — словно прожгло что-то темноту, царившую в душе, в мозгу, в груди. Словно молния там сверкнула… Так! Спасение есть!..
Спокойно звучит его голос, которым он отдает ряд приказаний…
— Кицкому и Раморино передать: пусть отступают не. торопясь. Мы должны отодвинуть наше правое крыло! А ты, пан поручик, скажи первому полку: пусть люди залягут за околицей у деревни и держатся там во что бы то ни стало! Чтобы на них привлечь внимание россиян…
Поскакали гонцы. Сам полковник спешит к своему левому крылу, где 1-й пехотный полк стоит почти нетронутый, еще не выведенный в бой. И резервы последние зовет Прондзиньский.
Все три батальона 1-го полка развернулись мгновенно в широкий боевой строй и бегом кинулись к высокой гребле, по которой рядами, как река, катится российская пехота, стремится вперед… По шести, по восьми в ряд бегут солдаты по узкой гребле, иные срываются на бегу, падают в воду, выбираются снова на плотину и снова бегут, толкая тех, кто впереди, задерживая задних…
Это заметил Прондзиньский… Его батальоны бегут молча, без единого выстрела, со штыками наперевес. Добежали, врезались сбоку в длинную, растянутую, беспорядочно бегущую вперед колонну россиян. Два батальона он направил вправо, ударил в тыл россиянам, не ожидавшим ничего…
Другая половина польского отряда ринулась влево. Остановила остриями штыков набегающую волну российской пехоты… Оттуда тоже сверкают штыки. Но узкой лентой набегают россияне, наступающие на гребле. Широким поясом окружили их, перерезали им путь поляки. Вот уж к самому мосту пробились поляки!.. Недолго шла бешеная рукопашная схватка. Дрались, как львы, стрелки 13-го и 14-го полков… Валили их, кололи со всех сторон польские байонетты!.. Сдается в плен вместе с полковником, кладет оружие 98-й полк, из которого осталось всего 500 человек. Отрезанная от моста, бежит вдоль берега остальная пехота россиян, вязнут люди, тонут в тинистом побережье быстрого Мухавца… Больше 2000 пленных, пушки, знамена достались победителям. 700 жизней отдали они за победу… И 1600 человек выбыло у россиян, не считая пленных.
Сумерки уже спадают на поле битвы, покрытое телами. Трубы польских легионов созывают рассеянных кругом людей…
И только тогда за рекой от деревни Веселой зазвучали словно ответные трубы: показалась голова колонны Лубеньского…
Скшинецкий появился принять от своего полковника отчет о славной победе, одержанной над неприятелем, вдвое сильнейшим по числу штыков…
Сдержанно, сухо сделал свой доклад Прондзиньский.
Благодарит его Скшинецкий. Потом обращается к рядам утомленных, но сияющих войск:
— Кланяюсь вам, славное войско, и благодарю от имени отчизны!
Сказал и ждет ответа.
Громовый ответ прозвучал сейчас же:
— Виват, отчизна! Виват наш вождь Прондзиньский!.. Виват Прондзиньский!.. Виват Прондзиньский!..
Трижды прогремел этот клик. Три раза нож зависти и вражды повернулся в мелком, ничтожном сердце генерала-дипломата.
Он нахмурился и молча отъехал в сторону, пока Прондзиньский скомандовал разойтись на ночлег. Но еще не кончились испытания вождя… Офицеры и солдаты стали выступать из рядов, у каждого в руке — белые шарфы, снятые с убитых российских офицеров… Эти шарфы, как трофеи победы, они, на глазах Скшинецкого, словно по уговору, складывают на седло Прондзиньскому… Один, другой, десятый, двадцатый, сотый… Целая груда белых шарфов, говорящих о том, что разбиты, побеждены их прежние владельцы по воле этого небольшого человека с темными блестящими глазами и тонкими чертами лица…
— Виват, виват Прондзиньский! — звучат без конца восторженные клики.
Мрачнее и мрачнее становится лицо Скшинецкого. Сияет весь Прондзиньский, кланяется, благодарит…
И вдруг ему вспомнилось…
«Сон… Мой сон… Он вещий был! — почти вслух вырвалось у него. И тут же мелькнул в уме вопрос: — А страшное падение?.. Неужели сбудется и это? Нет… Господи, пусть то не сбудется! Благодарю тебя, что сбылось светлое предсказание. От печального избавь!..»
Если бы в эту минуту Прондзиньский видел, с какой ненавистью наблюдает за ним Скшинецкий, он, наверное, бы подумал: «Вот откуда ждет меня удар!»
Но удары, тяжкие удары неумолимой судьбы, ждали их обоих.
Глава III ОСТРОЛЕНКА
— Мене, текел, ферес.
Книга царствСкшинецкий действительно проспал в этот раз дважды и потому опоздал явиться к Иганам. Не ночью, а утром только попал он к Лубеньскому, где не было ничего приготовлено для переправы через Костриню… Потом позавтракал, лег спать, не отдав никаких распоряжений, и его едва разбудили около часу дня, когда уж грохотало 60 пушек под Иганами… Пока эскадроны Лубеньского устроили переправу, пока перебрались через три брода, — настал и вечер.
Так было под Иганами, где случай и собственная гениальность дали Прондзиньскому победу и генеральские эполеты. Но с этой поры Скшинецкий упорно избегал поручать молодому генералу какой-либо самостоятельный отряд, чтобы тот не прибавил новые лавры к старым и не затмил самого вождя.
Прондзиньский видел это, выходил из себя, но сделать ничего не мог. Тем более что после 17 апреля, когда Крейц разбил наголову генерала Серавского у Вронова, настало полное затишье кругом.
Дибич и его генералы сами не нападали и явно уклонялись от боя.
В бездействии, в лагерной тоске и в ожидании будущих событий проходили дни…
Так было в польском войске. Варшава, правда, легче вздохнула, когда Дибич со своей огромной армией не стоял больше тут, у Праги, у самых ворот города… Но и там, среди окопов и временных твердынь укрепленного лагеря, раскинутого между реками Костриней и Мухавцом, — грозен и опасен был фельдмаршал, хотя и затаился он в своих окопах, затих, словно выжидает чего-то, собирается с силами перед последним, решительным ударом…
Все понимали и чуяли это, кроме вождя польской армии. Писал ему Хлопицкий из Кракова, говорили окружающие офицеры, штабные и армейские…
Из себя выходили, надрывались оба «стратега», Хшановский и Прондзиньский, доказывая, что только теперь можно и должно, ударить на россиян, когда они слабее даже численно… Когда холера ворвалась в их крепкий лагерь и уносит больше жертв, чем взяли их до сей поры самые кровопролитные стычки…
— А у нас нет холеры? — возражал Скшинецкий. — Тоже есть… Наше войско набралось от россиян!.. И каждая стычка усиливает заразу. Люди наши также смертельно измучены трехмесячными походами и боями… А вы меня подбиваете на безумные дела… Хотите, чтобы я повел людей на осаду укрепленного лагеря. Штурмом его еще не прикажете ли брать? Вы с ума сошли, панове!
— Не совсем, генерал… если позволено будет ему возразить, — начал сначала мягко, осторожно, по обыкновению, Прондзиньский. — Правда, холера и у нас очень слабая пока… Но к нам уже приехали врачи с разных концов Европы, известные ученые. Они заботятся о наших больных не хуже, чем польские доктора, которых тоже, достаточно. Есть для больных и лазареты, и лекарства… У россиян — ничего почти нет… Где и найдешь что-нибудь в чужом краю, среди лесов, в военном лагере? Им очень плохо. И мы должны воспользоваться минутой, пока не подоспели к ним новые полки, бригады. Целые, свежие дивизии готовятся выслать из России на нас. Царь приказал Дибичу торопиться с переправой и взять Варшаву! Пан же знает… Поход Дверницкого на Волынь не удался. Он ушел в Галицию с остатками своего отряда. И все батальоны, которые преследовали Дверницкого на Волыни, придут воевать против нас. Неужели же не видит этого сам уважаемый генерал? И мы с полковником Хшановским не предлагаем генералу брать укрепления Дибича. Мы нападем на россиян с тыла, где окопов нет!
Тихий, почти просительный сначала, теперь голос Прондзиньского звучит сильно, почти властно. Он слишком сознает свою правоту и потому откинул обычную мягкость и осторожность.
Опустив голову, задумался Скшинецкий. Не хотелось бы ему открыть свои карты сопернику, объяснить, что во все концы Европы, ко всем главнейшим дворам пишет письма польский генералиссимус, затевает дипломатические переговоры и надеется, что без крови в дальнейшем покончится спор между двумя народами-братьями… Конечно, кое-что знает и Прондзиньский. Но если даже все ему сказать, этот фанатик войны не поймет сложной дипломатии генерала… Оружием, по мнению Прондзиньского, надо решать спор, затеянный с оружием в руках…
Чтобы отвязаться, Скшинецкий, наконец, заговорил:
— Ну, хорошо… Я подумаю… Посоветуюсь еще с князем Чарторыским… Ржонд против рискованных предприятий… А вы, вацпаны, сообразите что-нибудь другое… Без далеких обходов круговых, которые редко удаются… Без штурма укрепленных позиций… Россияне славятся на целый свет своим уменьем отстаивать окопы, траншеи и насыпи. Полегче придумайте что-нибудь!.. Повернее. Тогда, конечно, я спорить не стану… Охотно с вами соглашусь!
Довольные полуобещанием, стали думать оба стратега и вернулись к прежнему плану Хшановского: к нападению на гвардию, стоящую у Снядова, над Наревом.
С готовым планом, обработанным во всех подробностях, явился 3 мая Прондзиньский к вождю.
Волнуясь и торопясь, он водил по карте карандашом и объяснял:
— Здесь для заслона Варшавы, для наблюдения за Дибичем остается генерал Уминьский с пятнадцатитысячным корпусом… Если бы Дибич оставил свой лагерь и двинулся на защиту гвардии, Уминьский соединяется с генералом Дзеконским и Хшановским, которые сторожат наш тыл. Получится корпус в 25 тысяч человек… О! Эта компания может хорошо пощипать с тылу пана фельдмаршала, не позволяя ему слишком ретиво нападать на нас. А мы, собрав сорокатысячную армию и сотню орудий, форсированным маршем идем к Сероцку, потом на Длугоседло, на Снядов, разбиваем «паничей»… К нам подходит корпус Дзеконского… Теперь за Неман, за Буг перенесется война!.. Заняв Августовское воеводство, мы отрежем Дибичу сообщение с Пруссией, откуда он получает и фураж, и продовольствие для войск… Не дадим ему перейти Вислу внизу близ устья, как он это решил… Если Бог поможет, разобьем и его в решительном сражении. Дело наше будет спасено. Войско сразу воспрянет духом. Не станет больше заниматься' осуждением начальства и политикой, как сейчас. Вот мой план, генерал!
— Гм… Что же, план… недурной… Если бы генерал не упустил одного… О чем сам раньше говорил… Пока мы будем искать гвардию, Дибич найдет Варшаву.
— Никогда! Правда, я опасался… говорил о подобной возможности… Но это было больше месяца тому назад, когда Дибич стоял тут, за порогом Варшавы, а не над Бугом, как теперь… За десятки верст от столицы. Мы два раза успеем вернуться и заслонить Варшаву, если бы в самом деле он решился… Но об этом и думать нечего. И, наконец, Дибич только тогда узнает, что мы ударили на гвардию, когда ее батальоны, разбитые нами, побегут под защиту пана фельдмаршала.
— Все это — воздушные замки. На мне лежит слишком большая и тяжелая ответственность. Твоих планов, пан генерал, я принять не могу!
Решительно звучат слова Скшинецкого. Упорный огонек, хорошо знакомый Прондзиньскому, засветился в холодных, ясных глазах вождя. Простился, ушел Прондзиньский, возмущенный, негодующий.
В тот же день он кинулся к Чарторыскому, к Баржиковскому, ко всем влиятельным членам правительства…
Те убедились, что он прав… Письма с уговорами и просьбами полетели в Калушин, где стоит армия, где штаб-квартира Скшинецкого…
Отписывается генерал-дипломат, призвав на помощь своего главного секретаря, пана Андрея Городиского… То насмешливые, то даже вызывающие, дерзкие ответы шлет Чарторыскому Скшинецкий.
Наконец, пришел обширный «мемориал», официальное послание от имени Народного Ржонда, настойчиво советующее вождю прервать свое бездействие и выполнить план, предложенный начальником Главного штаба генералом Прондзиньским, или создать и осуществить иной какой-нибудь план…
«Если уж так вынуждаете меня, делать нечего: двину войска!» — написал тогда президенту Ржонда князю Адаму Скшинецкий, и 12 мая первые отряды выступили из Ка-лушина, к ним по пути присоединялись другие, еще и еще, без конца! И через два дня больше 50 тысяч человек стояло лагерем у Сероцка, а 15 мая эта целая грозная армия, успевшая обмануть зоркого Дибича, не тревожимая никем, быстро двинулась на Свядово, против гвардии, тоже не ожидающей ничего, не ведающей, какая беда надвигается на нее от Сероцка. 18 мая один переход только отделял главные силы поляков от лагеря российской гвардии.
В Трошине единственное каменное здание местечка, дом местного ксендза, занято под штаб-квартиру, и ксендз-плебан принужден был переселиться к арендатору, холостому и набожному шляхтичу.
Во дворе и даже перед воротами дома видны оседланные кони, стоят нейтычанки, возки, экипажи… Снуют люди, военные и штатские, офицеры разных рангов, вестовые, денщики, конюхи… Мелькают фигуры евреев-поставщиков и мелких торгашей, помещиков и толпы шляхтичей, желающих также повыгоднее сбыть свои запасы фуража и зерна большой польской армии, так неожиданно нагрянувшей в это время… Шум, говор стоит кругом, вся картина напоминает не то военный лагерь, не то деревенскую людную ярмарку…
Одна половина дома отведена для канцелярии штаба, а другие две комнаты через сени лично Скшинецкому.
На половине, занятой штабом, первая, самая просторная комната была полна народом. Несколько писцов быстро скрипели перьями, переписывая бумаги… Командиры, полков и начальники отделов толковали между собою, осаждали юркого лысого майора Крушевского, начальника канцелярии, торговались с поставщиками, проникающими и сюда за ними для скорейшего окончания сделок…
Вторая комната, поменьше, соединенная дверью с другой половиной дома, служила рабочим кабинетом начальнику штаба, то есть генералу Прондзиньскому, который сидел и сейчас здесь один за простым столом и внимательно рассматривал карту Августовского повета, изучая местность, где придется вести бой.
Отделавшись от всех вопросов, в эту комнату вошел и майор Крушевский с ворохом бумаг в руке.
— Донесение от генерала Гелгуда, пане генерале! Выпустил этого толстого кабана Сакена!.. Не поспел к сроку!..
— Не может быть! — быстро пробегая поданную бумагу, воскликнул Прондзиньский. — Да! Так и есть! Дембинский начал с фронта нападение рано утром… А пан Гелгуд с тылу только к трем часам дня поспел… Конечно, Сакен не стал ждать, чтобы на него и сзади напали, как спереди. Оставил Остроленку и ушел… Проклятье!.. Обедал по дороге где-нибудь пан Гелгуд и почивал потом… Думал, россияне ждать его станут… Старый кнур!
— Да, любит поесть и поспать пан генерал Гелгуд… Со старших пример берет, — вполголоса, кивая на дверь, ведущую к Скшинецкому, дружески пошутил майор, зная, как негодует Прондзиньский на барство и лень вождя.
— А там что еще? — словно не расслышав намека, спросил Прондзиньский. — Приказы на завтрашний день… Переписал, готово! Прекрасно… Молодцы наши писаря. Так! Все верно… Три списка для трех дивизий. Ну, с Богом, пан майор! Неси в добрый час для подписи вождю.
Аккуратно сложив листы, майор оправил мундир, пригладил остатки волос, торчащих вокруг голого черепа, откашлялся и постучал в дверь.
— Войти прошу! — раздался звучный голос Скшинецкого.
Он сидел за большим столом, покрытым сукном. Бумаги, планы, книги, еще неразрезанные журналы и газеты, доставленные почтою, покрывали почти весь стол.
Развалясь удобно в старинном вольтеровском кресле, полуобернувшись к окну, у которого оно стояло, генерал был погружен в чтение свежего номера «Journal des Débats», особенно любимого Скшинецким.
— Пане генерале, вот я принес приказы для подписи! — доложил майор.
— Положи их тут, на столе, — не отрываясь от чтения, уронил вождь.
Положил листы Крушевский, постоял, помялся на месте, пожал плечами и вышел прямо во двор, где высмотрел в общей толчее трех известных ему надежных офицеров. Подозвал их и сказал:
— Приготовьтесь, панове! Приказы надо развезти в три дивизии… Бой на завтра… «паничей» российских будем колотить.
— А что нам готовиться! — радостно отозвался один из трех. — Кони — вот. Сели — и поскакали… Довезем аккуратно, пан майор! Будь покоен! Черту не отдадим бумаги, только нашим генералам!
Расхохотались все.
Вернулся к вождю майор. А тот сидит, читает газету. Как раз о Польше интересная статья… Такая сочувственная. Добрый знак!
Вдруг за спиной раздался сиплый, негромкий басок майора.
— Приди попозже, майор! — с явным неудовольствием отозвался Скшинецкий, не отрываясь от чтения.
Выждал снова больше часу Крушевский, опять появился перед начальником.
— Три офицера готовы… сидят на конях, ждут приказа! — докладывает он.
— Сказал я уж раз, чтобы майор попозднее пришел! — с явным гневом окидывая Крушевского, отчеканил Скшинецкий.
Смущенный, пунцовый от незаслуженной обиды, быстро вышел из комнаты майор и очутился перед Прондзинь-ским, который явился узнать об участи приказов.
— Велел попозднее прийти, — пролепетал Крушевский и вдруг, сжав кулаки, бормоча невнятно проклятия, выбежал на крыльцо, спустился во двор, чтобы объявить о неожиданной задержке трем офицерам-гонцам.
Вечер уже спустился, мрак сбежался над этим уголком земли… Соловьи защелкали в кустах у пруда… Огонь засветился в окне кабинета Скшинецкого… Ждет майор… Вот уже влажная майская ночь и чуткая тишь надвинулись на шумное местечко. Десятый час скоро. Собрался с духом майор, постучал в генеральскую дверь. Нет ответа. Приоткрыл ее — темно… Нет огня и в соседней комнате, в спальне вождя…
— Спит! Вот тебе и приказы! — протяжно свистнул майор, тихо притворив дверь, обернулся, чтобы уйти, и чуть не столкнулся носом с Прондзиньским, который явился узнать об участи бумаг.
— Спит! — только и сказал майор, выругался невнятно и вышел.
В нерешимости несколько мгновений стоял Прондзиньский, потом взял со стола зажженную свечу, оставленную майором, решительно распахнул дверь, прошел первую комнату и очутился во второй.
На высокой постели, на перинах и пуховиках, доставленных из дома арендатора, укрытый шелковым одеялом, спал Скшинецкий.
Шум раскрываемой двери и свет разбудили его.
— Что случилось?.. Кто там? — тревожным, напуганным голосом спросил вождь, поднимаясь, садясь на постели и протягивая руку к пистолету, лежащему на стуле, у самого изголовья. Но, узнав Прондзиньского, лицо которого было ярко озарено свечой, сразу успокоился и довольно приветливо заговорил:
— Пан генерал!.. Что такое случилось? Не явились ли москали?
— Нет, пане генерале… Мы должны завтра на заре? явиться перед ними, как это уже было решено… Вот три приказа… Генерал хотел их подписать… Ждать нельзя. Едва успеем доставить их Гелгуду и Дембинскому… и Лубеньскому. Подпиши же скорее, генерал! Вот перо… чернила… Вот… я захватил… И прошу простить, если потревожил… Но такое дело.
— Понимаю, понимаю… Не надо извиняться… Жаль, что генерал вечером не зашел. Мы бы потолковали… Видишь, мне все как-то не… понимаешь… не верится, что так и будет, как говорил пан генерал. А что, если подоспеет Дибич на помощь этим лежебокам «паничам» и сзади начнет нас жарить? И там мало ли что еще… Знаешь, подождем до утра. Обсудим хорошенько… Получим еще вести от графа Лубеньского… Узнаем, что Дибич!.. И тогда…
— Поздно будет тогда! Генералы Полешко и Бистром, которых наш авангард поколотил под Длугоседлом… Они уже кинулись к Михаилу… объяснили ему, что вся наша армия надвигается… Князь Михаил нас ждать не станет… Сегодня еще он был у Снядова, как доносят наши пикеты. А завтра уж ночь там его не застанет! Головой ручаюсь… Не медли же, генерал! Не губи всего дела. Подпиши приказы!
— И не думаю я губить! С чего ты взял? — с досадой отозвался Скшинецкий. — Уж если нельзя иначе, давай подпишу…
Лениво, с неохотой смочил перо польский вождь, перечитал текст, что-то поправил, приписал две-три строки в конце, небрежно вывел свою подпись на трех листах и отдал их Прондзиньскому.
— Доволен? Получай, посылай… Спеши!.. А я спать хочу. Я не такой железный… неугомонный, как ты, генерал… Доброй ночи!
— Доброй ночи! Доброй ночи! — радостно откликнулся Прондзиньский и со свечой в руке, сжимая другою приказы, двинулся к дверям.
Он уже взялся за ручку, когда услышал за собой голос Скшинецкого.
— А… погоди-ка на минутку, генерал!.. Приди сюда еще… что я хочу сказать… Дай посмотреть еще на приказы… Одну минутку… Да!..
Он взял в руки все три приказа у Прондзиньского, который в недоумении вернулся к кровати и подал бумаги вождю.
Для вида снова скользнул он глазами по строчкам и заявил решительно:
— А знаешь?.. Сейчас вот пришло мне на ум, что дело все-таки не очень спешное. Не посылай этого приказа… Утром еще потолкуем немного.
Судорогой исказилось на мгновенье лицо Прондзиньского. Он побледнел, потом кровь хлынула ему в лицо и зеленые круги, огненные пятна замелькали в глазах. Чтобы не ударить этого ненавистного человека, не выкрикнуть, как он презирает его, трусливого, глупого и ничтожного, — крепко стиснул зубы Прондзиньский, до боли сжал кулаки, так что ногти вошли в тело. И напряженным, рвущимся голосом, но сдержанно, вежливо заговорил:
— Помилуй, генерал! И так мы потеряли целые сутки! Чудо Божиег что россияне еще не ушли… Подумай, что их ждет?! Там — двадцать две тысячи… Нас — сорок! Мы ударяем в лоб… Гелгуд обойдет слева и налетит с тыла, Малаховский и Рыбиньский перейдут бродом Русь и налетят, как коршуны… Камнем могильным навалятся на этих белоручек-лежебоков!.. Им одно останется: уходить под нашими ударами по длинным, узким плотинам, через болота и реки, на Тыкоцин, на Ломжу или на Гати!.. Все, что есть с ним, — будет наше!.. Пушки, огромный обоз!.. Фортуна до сих пор улыбалась нам, а мы все медлим… И добыча ускользнет! Судьба не любит, если люди играют с нею… Генерал, умоляю, не откладывай ни минуты! Дай послать приказ…
— Нет, нет и нет!.. Я отлично знаю то, что говорит пан генерал… Но я еще кое-что знаю… Гвардия не дастся легко в руки. Они будут сражаться на глазах великого князя. Будут защищать Михаила… Если даже победа и будет на нашей стороне, она нам дорого обойдется, это раз. Второе — они от нас не уйдут и завтра! Перебраться через несколько речек, через болота и топи по этим дорогам, о которых ты сейчас говорил… да с таким огромным обозом, как у гвардии… На это недели мало! Так не мучь меня сегодня, генерал. Подождем до завтра…
— Завтра будет поздно!
— Наоборот, сегодня поздно. А завтра я встану рано! Обещаю тебе… Очень рано, и мы обсудим…
— Как может генерал шутить в такие минуты? — вырвалось с явной неприязнью у Прондзиньского.
Тон и слова задели самолюбивого вождя.
— Я — у себя дома и говорю, как считаю нужным, генерал Прондзиньский! — по-французски, внушительно, тоном начальника заговорил вождь. — И прошу ваше превосходительство помнить, что приказы давать здесь могу один я… И все будет делаться так, как я считаю правильным и необходимым, а не так, как желает ваше превосходительство. А теперь — прошу дать мне уснуть!
Сказал, рукой указал на дверь позднему незваному гостю, протянулся на постели и даже обернулся лицом к стене.
Зашатался от обиды, от негодования Прондзиньский… Пробормотал невнятное проклятие и кинулся из комнаты, сильно хлопнув дверью за собой.
После тяжелой, бессонной ночи, желтый, исхудавший сразу, сидел на другой день утром Прондзиньский в своем служебном кабинете и разбирал поступившие донесения.
Как он и думал, разведчики генерала Янковского из авангарда дали знать, что гвардия вчера вечером отправила вперед обозы, на Менженик, к Тыкоцину и дальше… И сама приготовилась к быстрому отступлению налегке, которое началось именно сегодня утром.
Губы кусает от досады молодой генерал, бормочет глухие проклятия, поминая трусливого вождя. И вдруг, словно откликаясь на призыв, появился на пороге Скшинецкий, в мундире, свежий, гладко выбритый и надушенный своей любимой «О'де Прэнс».
— С добрым днем, генерал! — весело, громко, идя с протянутой рукой, как ни в чем не бывало обратился он к Прондзиньскому.
Майор Крушевский, стоящий у стола, посвященный Прондзиньским в события вчерашней ночи, так и застыл на месте от изумления.
Остолбенел на мгновенье и Прондзиньский, не зная, как ему быть. Чувство деликатности и навык военной дисциплины не позволили оставить на весу протянутую руку вождя. Осторожно, как будто опасаясь обжечься, коснулся он своими пальцами пальцев Скшинецкого и пробормотал:
— День добрый, генерал.
— Здравствуй, майор… Вы кончили ваши дела? Я не помешал?..
— Как можно, пан генерал, чтобы генерал мог помешать… Мы уж… Я то есть все доложил генералу… Могу пойти, генерал? — обратился к Прондзиньскому майор, все еще чувствуя смущение.
— Да… Майор может идти…
Едва оба генерала остались одни, Скшинецкий дружеским, веселым по-прежнему тоном заговорил:
— Ну, как ночь поспалось, мой генерал? Хорошо… И великолепно. А я попрошу генерала написать приказ Гелгуду. Я надумал вот что. Ломжа совсем без защиты осталась… Небольшой гарнизон, как мне дают знать… Пусть выгонит москалей и займет город. Главное — склады, какие там есть…
— Теперь пане генерале думает отослать к Ломже Гел-гуда… Когда гвардия уходит из-под нашего удара и может раздавить наш корпус, который у Гелгуда… И кроме того, есть донесения… Дибич собирается в поход… Конечно, на нас, сюда… И Гелгуд в Ломже будет отрезан от нашей армии и от Варшавы… Такой урон…
— Урон… урон!.. Как только я сам придумаю хороший ход, мои помощники-генералы пророчат один урон! Завидно, должно быть, что не они только умеют планы составлять… Урон всегда возможен на войне, как и удача. Еще раз вынужден напомнить: приказы даю здесь я. Будет так, как я решаю. И поэтому прошу пана генерала, как начальника моего штаба, исполнить поручение. Вот и вся недолга.
Медленно поднялся с места Прондзиньский и, опираясь руками на край стола, крепко сжимая его пальцами, чтобы сдержать нервную дрожь, негромко, но сильно заговорил:
— Да, я не наемный писарь генерала, а начальник Главного штаба польской армии… И на мне лежит часть ответственности за военные действия наших вооруженных сил… Поэтому именно я не могу оказать своей помощи при составлении таких… вредных… безрассудных приказов, как выслушанный мною сейчас… Прошу это знать, генерал!
— О, я и не это знаю… Знаю, что генерал хотел бы сам раздавать приказы, подкопавшись под своего начальника, под вождя, поставленного народом. Да, знаешь, пане генерале, кому Бог крылья не дает?.. Ха-ха-ха. Не очень нуждаюсь в помощи, обойдусь и без нее. Сам напишу указ! Будет не хуже других!
С громким, деланным смехом вышел из комнаты Скшинецкий.
Утром 20 мая много раньше обыкновенного покинул вождь свою нагретую, мягкую постель.
Около 8 часов камердинер, сопутствующий генералу и в его походах, разбудил осторожно Скшинецкого и доложил:
— От генерала Дембинского эстафета… Очень спешная для вашей миссии. А пана генерала Прондзиньского нет… А пан майор говорит, что распечатать не смеет… А адъютант генерала Дембинского говорит: очень…
— Довольно… Открой ставни!.. Подай пакет…
В короткой записке Дембинский извещал, что к нему вечером вчера приехали президент Чарторыский и князь Генрих Любомирский, вернувшийся из Вены, где вел переговоры с Меттернихом относительно польских дел. Утром оба гостя выезжают к вождю, в Трощино. Едет Чарторыский с целью уладить рознь вождя с Прондзиньским. И Дембинский счел нужным предупредить генерала обо всем.
— Прекрасно! Гости дорогие едут. Скажи повару, чтобы обед был на славу. Чарторыский и Любомирский обедают у нас… Да, скажи, отчего это так тихо сегодня у нас на дворе? Никого почти не видно. Праздника нет никакого, кажется…
— Нет, ваша мосць, какой там праздник!.. Я слышал, толковали, что в погоню за москалями утром рано пошли все наши. Вот, должно быть…
— За москалями! — поднимаясь на ноги, протянул недоверчиво генерал. — Погоня?.. Какая там еще! Я ничего не приказывал… Ты путаешь, как всегда, глухая тетеря. Кофе скорей подавай… Да чтобы экипаж был готов. Я поеду к войскам…
Быстро закончил свой туалет генерал, большими глотками выпил ароматный кофе, не просмотрел даже газет и, томимый какой-то тревогой, предчувствием чего-то неприятного, кинулся на сиденье экипажа, который мягко покатил, баюкая Скшинецкого на своих превосходных рессорах.
Смотрит — и глазам не верит генералиссимус польской армии…
Пусто и тихо там, где вчера еще белели палатки без числа, стояли обозные фургоны бесконечными рядами, весело топтались у коновязей целые табуны коней, наполняя воздух звонким ржанием…
Только следы стоянки заметны на земле. Брошенные колья палаток, обрывки, обложки какие-то. Остатки костров, отбросы пищи…
Тихие и пустые деревеньки попутные и отдельные хутора, одинокие придорожные корчмы, вчера еще кипевшие толпами пехотинцев, кавалеристов, бравых артиллеристов в шапках набекрень…
Стыдно вождю, но приходится обратиться к робким селянам, стоящим у своих хат…
— Куда ушли полки?..
— Туда! — неопределенно машут вперед молодые и старые…
Разве они знают, куда ушли жолнеры? По дороге пошли… А куда повернули за лесом — направо, налево или прямо, — этого не видали они…
Вот корчма у распутья трех дорог…
— Жид! — зовет вождь. — Гей, поди сюда! Куда пошли батальоны, кавалерия и пушки?.. Говори скорее…
— Куда пошли?.. А разве же я, бедный еврей, могу знать, куда ходят такие бравые жолнеры? Они себе пошли так!.. А куда, разве я знаю?..
Топнул ногой от досады генерал, и весь экипаж заколыхался от этого.
— Жидовская морда! Дурака корчишь! По какой дороге, я спрашиваю!.. Понял? Ну, говори… А не то…
— Ай, вей-змир! Зачем вельможный пане генерале серчает? Я' же сказал вельможному пану генералу, вот этой дорогой все пошли… Которая на Снядово!.. Пан же сам польский генерал… И пан не знает, куда пошли польские жолнеры?.. Ццццц! — удивленно зацокал корчмарь.
Но польский генералиссимус не слушает уже, что бормочет бедняк еврей. Сделав удачную разведку у корчмаря, он крикнул кучеру:
— По. этой дороге! Живее… Гони во весь дух!..
Корчмарь не обманул генерала Скшинецкого. Часа через два вдали показались польские отряды, вступающие в Снядово, откуда россияне вышли еще ночью… Где-то вдали шла живая перестрелка, изредка доносились одиночные орудийные выстрелы… Кавалерии польской, далеко ушедшей вперед в погоню за гвардией, не было видно за лесами, обрамляющими бесконечную ленту ломжинского шоссе. Они там, нагоняют тыловые отряды россиян, вступают в небольшие схватки… Отбивают кой-какую добычу, берут пленных…
Но тяжелый, бесконечный обоз петербургских «паничей» отослан раньше, ушел далеко вперед и недоступен для польских отрядов…
Да и самый Гвардейский корпус так быстро стал уходить от погони, разрушая за собою плотины, сжигая мосты, что уже 22 мая утром добрался до Белостока…
А вождь, успевший разыскать свою армию, не глядит ни на кого, только торопит отряды, посылает адъютантов во все концы, чтобы настигли неприятеля и рассеяли его…
— Мудрый лях по школе, когда коня украли, он конюшню запер! — подтрунивают над таким рвением вождя все в войске, до последнего конюха. Знает войско, что без приказа вождя генералы сами погнались за россиянами… Что вождь помешал вовремя двинуться на врагов!.. И часто слышит за собой насмешливые голоса Скшинецкий, когда проезжает в своей венской коляске мимо войск.
— Соня лесная! Вахтер гвардейский!.. Войско потерял!.. На Литву пора идти, а не спать! На Литву! — такие крики, даже более резкие укоры несутся нередко вслед вождю, проспавшему выступление своего войска в погоню за врагом.
Презрением решил отвечать Скшинецкий на все укоры, которые слышит у себя за спиной.
Как глубоко набожный человек, молебен приказал служить вождь в полях Тыкоцина, где высоко поднимается памятник народному герою польскому, Стефану Чарнец-кому. Много поражений наносил он врагам земли, сам поражен в битве… Он знал всегда, где его враги-австрийцы и другие. Знал, где его войско… Шел впереди батальонов, а не догонял их в коляске. Но Скшинецкий счел нужным показать, что он чтит чужую доблесть, что он смиряется перед волей Божества.
Здесь, на полях Тыкоцина, нагнал Скшинецкого и войско князь Чарторыский, который не застал уже вождя в Трощине.
— Ну, пан генерал, тебя почтой надо догонять! — довольно резко обратился к Скшинецкому Чарторыский, раньше всегда очень любезный и ласковый с вождем. Дембинский успел ознакомить князя со всей позорной деятельностью Скшинецкого, и Чарторыский теперь сдерживал негодование только для того, чтобы не поднять разлада и раздора в войске, и так уже склонном к безначалию. Не время для этого теперь, когда вековые литовские леса зеленеют по той стороне Нарева.
Все-таки мягкий, умный князь Адам недаром явился в стан. Он успел ослабить острый разлад между начальником штаба польской армии и ее вождем… Причем последний как будто решил проявить усиленную деятельность. Еще из Снядова выслал он на Литву небольшой передовой отряд: 1000 человек с отважным генералом Дезидерием Хлаповским во главе. С ними пошло сто офицеров-инструкторов, которые должны помочь формированию народного войска на Жмуди, на Литве, где уже целый месяц пылает пламя восстания и все российские гарнизоны ушли из городов.
К Ломже, вперед от Тыкоцина отправил только Скшинецкий генерала Гелгуда с отрядом в 10 000 человек; а сам собирается со всем войском перейти верховья Нарева, потом за Неман! Пусть фельдмаршал кинется за ним туда, в пределы Литвы и Жмуди. Там должна теперь закипеть война! Но тут пришла роковая весть от Лубеньского.
Дибич, узнав об опасном положении, в которое попал великий князь Михаил, вышел из своего укрепленного лагеря, 22 мая перешел Буг, соединился с гвардией и быстро движется кратчайшим путем к Надборам, к Остроленке, навстречу польским войскам.
Сам граф Лубеньский со своим отрядом чуть было не попал в плен, и только отчаянная храбрость помогла польским батальонам прорвать железную стену кирасирских эскадронов генерала Каблукова, заслоняющих им путь, скрыться в ближних лесах и, таким образом, уйти от целой армии Дибича, настигающей их по пятам…
25 мая в Остроленке позвал Скшинецкий Прондзиньского на совет. Тот пришел мрачный, угрюмый, явно недовольный. Но положение он оценил хорошо, план действий уже был у него готов.
— Остроленка и весь левый берег реки нам не годится для обороны, для встречи с Дибичем, если эта встреча, наконец, должна состояться. Там легче нападать и трудно нести оборону… Надо сейчас же стянуть и переправить все отряды на правый берег Нарева, разрушить, сжечь за собою мосты, занять артиллерией холмы против переправы и ждать… Когда Дибич перебросит побольше людей на нашу сторону, под перекрестным вашим огнем мы, как под Иганами, — с боков ударим на растянутые колонны… Часть погоним назад, часть отрежем и побьем. Если так повторится раза два-три, от армии россиян останутся одни щепки!.. Или он поймет, в чем дело, и поворотит поскорее назад их, пан фельдмаршал! Жаль только, что наши артиллерийские парки пан генерал раньше времени отослал к Модлину. Ну, да, может, хватит нам ядер и картечей на завтрашний день!.. — оживился немного, излагая простой и верный план, Прондзиньский.
Но все же какая-то глубокая усталость видна у него в глазах, в лице, в каждом движении… Голос звучит слабо… Старается не глядеть на вождя начальник Главного штаба… Слишком тяжела для гордого Прондзиньского незаслуженная обида, полученная недавно от Скшинецкого…
— Прекрасно! Превосходно! Гениальный план, пане генерале! — с преувеличенным, фальшивым восторгом восклицает Скшинецкий. — Так мы и сделаем все!.. Сейчас велю писать приказы…
Широко раскрыв глаза, посмотрел на вождя его помощник и сейчас же потупился снова.
Разве не дело начальника штаба писать приказы?
Но вспомнил Прондзиньский, что он сам отказался от этой неблагодарной работы три дня тому назад, во время последней ссоры. Молча встал, поклонился и вышел.
Весь вечер просидел вождь, хмурился, морща лоб, потирая его своей тонкой, выхоленной рукой, сочиняя приказы. Наконец эта тяжелая для генерала работа была кончена. Черновики переданы Крушевскому с строжайшим внушением: переписать немедленно, хотя бы в десять рук… Через полчаса были готовы в десяти списках начисто перебеленные приказы: перевести все отряды на правый берег реки и там отдыхать. Вождь их подписал, ординарцы поскакали их развозить; а сам Скшинецкий, усталый, но довольный, улегся спать на этот раз много позже обыкновенного.
Совсем уже засыпая, Скшинецкий вдруг поморщился в полусне. Неприятная мысль прорезала его отуманенное полудремой сознание. Завтра может завязаться большое сражение… А Гелгуду в Ломжу забыл совсем послать приказ генералиссимус, не успел вовремя призвать лишних 10 000 людей на помощь для предстоящего боя. Да и поберечь бы их тоже надо. Генералу с целым корпусом грозит опасность быть отрезанным от главных польских сил войсками Дибича…
Но тут же явились другие, более успокоительные соображения.
Бригада Богуславского, часть пехотной дивизии Каменского и Лубеньский со своей конницей оставлены им на левом берегу Нарева. Правда, этим нарушен целый план Прондзиньского… Но зато первое столкновение с фельдмаршалом обрушится не на плечи самого вождя, а на эти отряды… Может быть, удастся даже таким образом избежать решительной битвы… Если, конечно, позволят обстоятельства… Чтобы люди не сказали: «Скшинецкий бежал!» Этого не желает самолюбивый вождь. Нет. Никогда!
А Гелгуд!.. И утром еще будет время послать ему приказ. Он успеет соединиться с армией. Наконец, если раньше вечера нагрянут россияне и завяжется стычка между Лубеньским и Дибичем?.. Не дурак же совсем этот славный парень, веселый Гелгуд, с которым Скшинецкий провел немало приятных часов за столом! Поесть и выпить любит Гелгуд, как и сам вождь… Но он не дурак!.. Отрезать себя не позволит… Нет!.. Сам поспешит к Остроленке… как только услышит гул пушек… Конечно…
Тут течение мыслей генерала словно оборвалось. Он заснул.
На другое утро, 26 мая, Скшинецкий сам явился наблюдать за переправой армии на правый берег Нарева и только около семи часов, покинув Остроленку, тоже переехал мост и перенес свою главную квартиру в Круки, на правый берег реки.
Утро было жаркое, душное, в воздухе парило, как это бывает перед грозой.
Понимая, как плохо чувствует себя войско, запыленное, усталое от ночной тревоги и марша, вождь дал приказ: «Послать к речке Омулевке на купанье солдат, а потом дать им роздых до обеда».
Сам он тоже искупался, выпил кофе и перед завтраком лег отдохнуть, чтобы наверстать те часы, которых недоспал минувшей ночью, полной забот и тревог…
Уж больше двух часов спал Скшинецкий.
Когда здоров, хорошо, крепко спит он всегда, как человек уравновешенный, с прекрасным пищеварением, и видит только приятные, красивые сны.
В это майское утро ему снилось много хорошего. Пригрезилось этому дипломату-вождю, что он лично беседует с австрийским императором, принятый в торжественной аудиенции, в присутствии Меттерниха и послов Германии, Англии и Франции. Император, выслушав блестящую речь Скшинецкого, подзывает эрцгерцога Карла и говорит:
— Охотно исполняя желание польского народа, даю разрешение моему эрцгерцогу принять корону Польши; завтра же поведет он мои войска на защиту вашей прекрасной земли от россиян, прогонит их и коронуется в Варшаве… Но — с одним условием: вы, генерал, прославленный воин и мудрый государственный деятель, должны до конца жизни помогать юному вашему королю своим советом и отвагой!
На колени склоняется Скшинецкий, целует руку монарха, которая золотою цепью высшего ордена империи Габсбургов украшает ему грудь… Приветственные клики раздаются вокруг, салют пушек гремит за высокими, стрельчатыми окнами Гофбурга…
Восхищенный, растроганный Скшинецкий кланяется низко, лепечет слова признательности, но они заглушаются новыми залпами, еще более громкими… Еще и еще удары… И наконец последний, как удар молнии, раздается совсем вблизи. Колеблются стены Гофбурга, бледнеют, расплываются яркие образы сна, испуганно раскрывает глаза генерал и чувствует, что необычайное что-то происходит за окнами его спальни.
Бледный, испуганный, в это самое мгновение вбежал в комнату камердинер.
— Спасайтесь, пане генерале!.. Картечи уж лопаются у нас под самым крыльцом! — крикнул он и почти насильно стал одевать Скшинецкого, ошеломленного неожиданным волнением и словами своего старого слуги.
На град вопросов, какими осыпал он слугу, тот мог только одно объяснить:
— Услыхал я пушки, побежал на горку, гляжу: москали на том берегу! Видимо-невидимо их… Аж черно на десять верст кругом… И пехота, и конные… Наши бегут перед ними… Большой мост и «плывак» аж погнулись, столько наших разом повалило на эту сторону… А там «чвартаки» одни за мостом среди горящих домов от москалей отбиваются. Смотреть даже страшно!.. А тут одна картечина ихняя — прямо к нам на двор залетела и на кусочки ее разнесло. Как я сам жив? Не знаю… Уходить надо отсюда, пане генерале!.. Я уж сказал, чтобы коляску подавали… Уедем скорее подальше куда…
— Болван! Что ты там бормочешь? Лошадь вели подавать. Я верхом выеду… Живее, не то!.. — сердито крикнул Скшинецкий, застегивая последние пуговицы мундира, надевая шпагу. — Я уж сам тут!.. Ну, скорей!
— Бегу, скажу… даю!..
Камердинер выбежал и скоро вернулся с докладом:
— Конь у крыльца, пане генерале!
Скшинецкий вышел, вскочил в седло и поскакал прямо к батарее Турского, расположенной на плоской вершине лесистого холма, на левом фланге польской армии, наискосок от двух мостов через Нарев, высокого проездного и низенького «плывака», предназначенного для пешеходов или для легких деревенских бричек и нейтычанок.
Печальную картину увидел вождь, пока добрался до цели.
Не ожидавшие нападения, не получившие подробной диспозиции, отряды не знали своих мест, торопливо строились к бою, меняли позиции без всякого основания, здесь — начинали бесполезную стрельбу, там — залпы смолкали не вовремя…
Паники не было, но чувствовался полный разброд.
Только орудия Белицкого, с вечера поставленные против моста, сдерживают напор многочисленных батальонов россиян, не дают им раздавить храбрецов «чвартаков», которые залегли на том берегу, у самого моста, среди зажженных гранатами, пылающих домов Остроленки, и штыками отбиваются от атак Астраханского и Суворовского полков, идущих напролом.
Двенадцать орудий Белицкого, одно за другим, посылая снаряды в ряды атакующих, задерживая гибельный напор, дали «чвартакам» возможность спуститься к мосту и пройти на свой правый берег…
Дивизия Паца, раненного в ногу, еще раньше успела миновать мост.
Раненный штыком Богуславский, награжденный генеральским чином после Иганов, по прежней привычке неразлучен со своими «вярусами», или «крещеными», как он их зовет… Шаг за шагом, отражая штыковые атаки, отстреливаясь от врага, отступают «чвартаки» со своим генералом, идущим среди тесных солдатских рядов…
Перешли мост «чвартаки», за ними повалили россияне… Без конца идут их ряды по мостам, заливая правый берег реки…
Вот уже охватили они полукругом батареи Белицкого, выбивают прислугу… С трудом унеслись прочь все пушки, едва вырвались из рук врага!
Видит все это Скшинецкий… Пылает его лицо от возбуждения, от стыда. Никто не прибежал к нему вовремя, не разбудил!.. Давно, еще под Иганами — словно порвалась ниточка, соединяющая вождя с его армией.
Вот уж пять дней с минуты, когда он «проспал» выступление войск, — совсем далеким, чужим чувствует себя генералиссимус среди многотысячных отрядов, над которыми он поставлен главой…
И сейчас — почти пусто вокруг него…
Несколько адъютантов, несколько офицеров штаба… Там идет бой, гибнут люди… И начальники отрядов каждый сам защищается, как может!.. Словно нет у них вождя…
До крови кусает губы в досаде Скшинецкий. Но постепенно боевое волнение наполнило ему грудь. Забытые ощущения, пережитые давно, когда генерал был просто капитаном под знаменами Великого Корсиканца, горячка, охватывающая людей на полях битвы, трепетание, опьянение, самозабвение боя охватило Скшинецкого.
— Надо остановить переправу москалей! — говорит он начальнику батареи Турскому. — Спуститься надо с холма, поближе к мосту подъехать со своими орудиями и пальнуть по этому стаду!.. Они тогда перестанут валить без конца! Наши успеют оправиться, и мы им покажем тогда!
Едва сдержал Турский бранное словцо, которым готов уже был ответить на такое нелепое распоряжение. Вспомнив, что это даже не простой генерал, а сам гетман польской рати, он сдержанно заговорил:
— Пане генерале, конечно, не может быть хорошо знаком с нашими артиллерийскими порядками… Пусть поглядит на тот берег пане генерале. Россияне поставили свои орудия в кустах на пригорке, как и мы… И осыпают оттуда нас ядрами… Не дают подойти к мосту, гонят от него наших, очищают дорогу своим… А наши пушки?.. Видишь, генерал, как ловко они попадают в московские ряды!.. Вот!.. Третье, дай огонь! — приказал он бомбардиру.
Фитиль коснулся затравки, сверкнуло пламя, вырвался клуб дыма, и через несколько мгновений было видно, как снаряд упал в гущу неприятельской колонны, разорвался там, внося смятение и смерть.
— Четвертое, огонь!.. Третье заряжай!.. Видишь, генерале! Мы бьем на выбор, без промаха… Отсюда долетают гостинцы хорошо! И здесь они, мои голубушки, — поглаживая ласково пушку, продолжал Турский, — они здесь в безопасности… А там нас живо…
От нетерпения, от гнева пятнами покраснело лицо Скшинецкого.
— Капитан Турский сюда балагурить пришел!.. Капитан забыл свой долг: повиноваться приказам!.. Тем более — моим, вождя польской армии! Я сказал, значит, надо исполнять, капитан… Немедленно и без разговоров… Сам вижу, что здесь… безопасно… Если не для пушек, то для капитана! А я приказываю двинуть ближе к мосту и остановить эти массы, бегущие на нас с того берега реки!
Огнем сверкнули глаза Турского при грубом намеке вождя на трусость капитана… Сдержался старый служака. Враг впереди. Не время споры затевать… Потом сочтется он с этим… сонливым сурком, проспавшим свое войско. Молча отошел от Скшинецкого капитан, скомандовал людям; подняты на передки орудия и рысью съезжают с холма, двинулись вперед и стали на открытом лугу, ближе к большому, первому мосту…
Недолго там раздавались выстрелы орудий Турского… Прислуга четыре раза сменялась у орудий и выбывала; валились люди, пораженные насмерть или раненые, осыпаемые градом, пуль из приречных кустов, где засели русские стрелки… Все пушки Дибича сосредоточили также свой огонь на одинокой батарее Турского, стоящей на открытом лугу… Когда некем было заменить больше выбитую прислугу, когда не стало лошадей, а стрелки-россияне все ближе и ближе оцепляли полукругом батарею, готовясь овладеть этими неугомонными пушками, упросил Турский генерала Каменского: тот, стоя со своей дивизией в резерве в ближней роще, дал коней Турскому; успел отвезти из сферы огня все десять пушек, капитан не позволил, чтобы его «голубушки» попали в руки врага.
Видит это Скшинецкий… Забыл он все блестящие планы, которые обсуждал накануне с Прондзиньским… Не помнит, что надо дать врагу дорогу, заманить его подальше от реки, слабо защищаясь, следует только увлекать наступающие колонны вперед и вперед, чтобы они растянулись подлиннее, оторвались от главного ядра, чтобы тем страшнее был для них неожиданный боковой удар польских батальонов и конницы.
Все это и даже личную безопасность забыл Скшинецкий. Он словно обезумел. Стоит под градом пуль на открытом холме, окруженный штабом, и жадно следит за боем. Одно слепое, дикое желание владеет им: остановить напор россиян, опрокинуть назад эти темные, бесконечные ряды, живую лавину людей, которые еще через час-другой зальют весь правый берег реки, как залит ими левый, и тогда сотрут они с лица земли армию польскую, конницу, пехоту, артиллерию и его самого, Скшинецкого… Сегодня, скоро, через два-три часа, когда он еще не думает умирать, а хочет жить и пользоваться благами жизни… Правда, можно бежать, уйти от смерти. Но тогда будет испорчена вся жизнь, которую он спасет ценой позора… Нет! Надо остановить россиян… Неужели этого не могут сделать все 40 000 войска, которое сейчас в распоряжении вождя?
Он решил, что другого выхода нет… И понеслись ординарцы, разнося приказы, один безрассудней другого…
Грохот, пыл битвы не позволяют рассуждать генералам, которые получают безумные распоряжения. Повиноваться надо слепо. Это — самая священная заповедь боя.
Первым повел свою бригаду на явную гибель и смерть полковник Венгерский… Падают люди от губительного огня пехоты, от залпов орудийных, которыми с того берега встречают подходящих батареи россиян… Но бегут вперед польские ряды… Редеют, тают… И небольшою горстью добежав до темной, живой скалы, опоясанной штыками, до российского каре, — разбиваются об него в безумном, последнем порыве и, отраженные, теснимые наступающим врагом, должны бежать обратно, укрываться в соседних рощах и кустах, где снова кое-как строятся разгромленные батальоны…
После Венгерского — бригады Лангермана, Малаховского, Рыбиньского — идут одна за другою, также на гибель и смерть, по следам первых товарищей…
Последние проблески сознания теряет Скшинецкий. Действует и говорит, как в бреду, стоя под пулями и ядрами…
Шесть часов длится эта нечеловеческая борьба, последняя битва, вернее, бойня отборных польских легионов, гибнет бесцельно цвет народа, его лучшая сила!..
Сам дважды водил в атаку батальоны Скшинецкий, но остановить россиян не удалось!
Пятый час пополудни. Солнце стало клониться к западу, одетое с утра темными тучами, предвещающими грозу… От орудийных залпов, от клубов дыма, сдается, темнеют эти тучи, становятся гуще, быстрее набегают на солнце и отнимают у земли его свет и тепло. Пот и кровь покрывают лица людей, которые без устали продолжают убивать друг друга… Но россияне явно берут перевес…
Еще полчаса — и они двинут на польские отряды столько штыков, что раздавят, разгонят армию польскую…
Бледный, с запекшимися губами, с блуждающим взором, хриплым голосом отдает приказ Скшинецкий:
— Кицкому генералу с уланами надо сильно ударить на россиян! А дивизия Каменского пусть идет за ними, в атаку… В штыки!..
Готов был уже пришпорить коня ординарец, но задержался по знаку генерала графа Солтыка, стоящего тут же.
— Пусть извинит меня пан генерал, — поспешно обратился к Скшинецкому Солтык, — кавалерия, что она может сделать там, на вязком берегу реки, да еще поросшей кустами?.. Затем, генерал, может быть, забыл, дивизия Каменского — наш последний резерв… До вечера еще далеко… Расстройство в армии полное… Офицеры выбиты на три четверти… Пал генерал Богуславский, Пац ранен дважды… Кицкому, Каменскому то же самое предстоит! А главное, если Каменский… если эта последняя дивизия будет разбита, в чем сомневаться нельзя, мы лишены тогда последнего прикрытия в момент отступления!.. Придется не отступать, а бежать… Плен грозит всей нашей армии… Вернее, той половине, которая еще цела… А другая половина?.. Вон они, устилают широкие луга перед мостами… Наши славные солдаты!.. Подумай, генерал… Не посылай улан! Не рискуй и последним резервом своим! Не трогай Каменского!
— Так сам иди к мостам, останови москалей! — грубо отрезал Скшинецкий. — Не можешь?.. Так не мешай мне делать мое дело!..
Сказал и строго обратился к ординарцу:
— Что? Мне дважды повторять мои приказания, поручик?..
Поскакал вестник смерти…
Выступили из тыловых позиций эскадроны улан… Два полка, увязая в болотистом грунте, понеслись в атаку… Но и до половины не успели пройти пространства, отделяющего их от врага, как град картечи и залпы стрелков расстроили их ряды… Та же участь ждала пехоту резервов… Мертвым пал генерал Кицкий, ранен граф Каменский. Скачет обратно польская конница… Отходят последние остатки польских батальонов от берега, быстро отступают! А по мостам, вплавь через реку и бродом уже переходит на правый берег российская конница, чтобы броситься по следам отступающих, преследовать их и разить!..
Но Рок не допустил до окончательного разгрома польскую армию.
Генерал Бем, как и другие, понял, как велика опасность, и решился на отчаянный подвиг, как бы желая дать боевое крещение своим генеральским эполетам, полученным так недавно.
Из-за рощи, где стояла его легкая батарея, ровным галопом, как на парад, вынесся он со всеми 16 орудиями к берегу и прежде, чем успели опомниться россияне и принять какие-нибудь меры, стоял уже на расстоянии двухсот шагов от моста, в самой гуще их батальонов, на шоссе, которое быстро очистили россияне, видя, что прямо на них несется ряд сверкающих на солнце пушек…
Став на место полукругом, начали посылать залп за залпом, осыпают картечью пушки Бема россиян, густые ряды которых сначала оцепенели от испуга, от неожиданности, а потом быстро кинулись, хлынули толпами назад, на мост, сбиваясь там еще теснее, чем на берегу… И туда, в самую гущу, с визгом врезаются картечи, рвутся, уносят десятки, сотни жизней, большие просветы оставляя в темной гуще людских рядов…
Дымом окуталась батарея, мгновенные огни, одни за другим, как молнии грозовую тучу, прорезают этот дым… А с другого берега грянули, словно эхо, орудия Дибича, направившие огонь на эту большую и близкую цель, на дымное облако, одевающее орудия Бема… Туда же шлют залпы без конца стрелковые цепи россиян, залегающие там, за мостом, и здесь, по обе стороны его…
Садиться стало солнце, и перед закатом лучи его прорвались сквозь полог тучи, словно желая в последний раз озарить поле кровавой бойни… В этот самый миг, сразу, как загремели, так же внезапно смолкли орудия Бема. Разорвалось дымное облако, уходящее ввысь, к небу… И увидели, поняли сразу россияне и поляки, отчего умолкла батарея генерала Бема…
С одним трубачом, с капитаном Яблоновским, отъезжает от орудий генерал Бем, чудом уцелевший под ураганом смерти, который пронесся над его головой.
Ни одного человека не осталось из прислуги. Все лежат вокруг орудий убитые или тяжело раненные… Кони также выбиты до одного, и тела их, сваленные одно на другое, служили прикрытием для прислуги, пока она еще была на ногах и посылала картечь за картечью врагам…
Пали храбрецы… Но этой жертвой спасли остатки польской армии.
Очистилось пространство по эту сторону моста от россиян. Поразила их неслыханная отвага людей Бема… Да и вечер уже стал опускаться над землей…
На левом берегу собрал Дибич все свои отряды…
Понемногу стали оправляться и собирать рассеянные ряды польские батальоны на правой стороне Нарева.
Легкая гроза, налетевшая после захода солнца, скоро пронеслась.
Ночь, тихая, теплая, одела поля, нагретые за день лучами солнца, политые потоками крови, истоптанные ногами людей и конскими копытами…
Дорого стоил фельдмаршалу этот день! Около 50 000 людей выбыло у него из строя и 170 офицеров…
Почти вдвое больший урон понесли поляки. От целой бригады графа Малаховского, в которую входил славный полк «чвартаков» и не менее отважный восьмой, осталось всего около 400 человек…
На двадцать верст от Остроленки деревни, почтовые станции были переполнены ранеными, которых только понемногу можно отправлять в лазареты Модлина, Плоцка или Варшавы…
Около одиннадцати часов ночи, когда размещены были на ночлег измученные, жалкие остатки польской армии, когда убедились поляки, что и на том берегу все тихо, все спит и не собирается Дибич сделать ночного нападения, — тогда только собрались к вождю на совет все уцелевшие генералы и начальники отрядов.
Их ожидал и принял не прежний моложавый, щеголеватый генерал с барской осанкой и важными манерами, а совсем опустившийся усатый старик с землистым, посерелым и дряблым лицом, с потухшим взглядом.
Избегает глядеть в глаза окружающим вождь, дрожит и рвется его ослабевший, глухой голос. Но он первый говорит то, что думают все, сидящие кругом.
— Битва была позорной! — по-французски начал он ради генерала Лангерманна, который по-польски не говорил. — Позорной — беспримерно, надо сознаться в этом!.. Кто в том виновен? Теперь не время разбирать. Но честь велит нам скорее здесь погибнуть, чем уступить. Так я думаю… Пехоты?.. Пехоты у нас больше нет… Хочу отстоять позицию с помощью кавалерии. Ее еще довольно… Потом… потом все сорок пушек поставим против мостов… И… Ну, а там — пусть будет все, как себе хочет! Лишь бы… только бы имя польское и… нашу честь нам отстоять!..
Сказал и умолк и ждет, что другие скажут.
Но все молчат, понурясь, усталые, бледные, еще больше подавленные стыдом, отчаянием, чем ужасом и трудами долгого боевого дня.
Конечно, честь дорога этим испытанным бойцам, прославленным во всей Европе. Но не об их чести заботится сейчас вождь польской армии, только о своей. Он один виноват в том, что битва была «позорной» и кончилась таким тяжелым поражением. Правда, он тоже под конец проявил мужество, стоял часами в огне, словно ища смерти… Но только это и оставалось вождю, который своим неумением и ленью довел до разгрома такую чудесную, отважную армию, по праву признанную одной из лучших в Европе, после легионов Бонапарта…
Теперь этот вождь ради личного самолюбия, ради обеления своего готов послать остатки армии на окончательную гибель… Этого не могут допустить люди, сидящие вокруг.
И молчание их, тяжелее всякого осуждения, дает понять вождю, что его план неприемлем… Понял вождь. Еще ниже опустилась его склоненная голова. Совсем потух усталый взор, словно спит наяву Скшинецкий.
Заговорил Прондзиньский. Жалко стало мягкому, доброму человеку видеть отчаяние, унижение того же Скшинецкого, который позволял себе еще вчера унижать самого Прондзиньского.
Правда, безумен план вождя… Но есть одно обстоятельство, говорящее в пользу этого плана. И о нем заговорил Прондзиньский.
— Битва, о которой мы слышали от нашего шефа… конечно, она почти безнадежна… Но, господа! У Ломжи Гелгуд с двенадцатитысячным свежим корпусом. Если мы его не подождем, он будет отрезан совершенно Дибичем и… может попасть в плен… Этого допустить нельзя… Я уже послал ему приказ! Если завтра продержимся хотя бы до вечера, Гелгуд поспеет непременно!.. Поможет нам выйти из ямы… И сам избежит петли… Как вы полагаете, господа?..
— Я совершенно не согласен с генералом! — живо отозвался герой минувшего дня генерал Бем. — Тут сказано было о пушках, выставленных против мостов для задержания россиян. А чем, каким чертом будут стрелять пушки, если нет амуниции? Нам и сегодня уж не хватило снарядов! Парки артиллерийские, изволите ли видеть, по умной дороге посланы в Модлин, а не стоят там, в обозе армии, чтобы нам было чем стрелять в неприятеля. Теперь пехота… Раз ее нет, так наши пушки через час будут взяты врагами за милую душу. Обойдут, обскачут со всех сторон и заберут. Кавалерия — не защита для пушек, это и дурак знает. Так скажите, о чем же толковать? Сегодня водили на бойню, как быков, пехоту нашу, артиллерию… Ничего не осталось! Завтра хотят и кавалерию послать под нож… И пушки подарить россиянам… Дудки! Наших пушек, голубушек моих, никому не отдам. Сейчас же увожу их подальше от этого проклятого места. Вот, я сказал. А там как желаете. Ваше дело, господа генералы!
— Конечно, о чем говорить!.. Бой невозможен… Надо отступать! — послышались дружные голоса всех участников совета.
Молчит, не поднимает головы Скшинецкий. И снова спросил Прондзиньский:
— А… как же с Гелгудом?
— Ну, тут еще есть выход, по-моему, — медленно, вдумчиво, по своему обыкновению, отозвался генерал Дембинский. — Ведь наш поход был на Литву.
— Да, да, — живо подхватил Прондзиньский. — И я даже предлагал генералу теперь не возвращаться в Варшаву, а перейти Нарев, вступить в пределы Литвы… Там соединимся с отрядами повстанцев, которые уже разлились по целому краю и гонят россиян. Пусть Дибич кинется туда за нами… Мы встретим его лицом к лицу, подкрепленные бандами князя Кароля Залусского и другими… Гелгуд сзади будет его тревожить… И еще долго мы потягаемся с фельдмаршалом… Даже после нынешнего черного дня!..
— Нет! На это я не дам согласия никогда! — решительно отозвался Скшинецкий. — Отсюда нам один путь — в Варшаву…
— Совершенно правильно! — опять спокойно и внушительно заговорил Дембинский. — Я предложу иной выход… Как мы знаем, генерал Хлаповский неделю тому назад выступил из Ксендзополя и у Мени перешел литовскую границу, двинулся на помощь нашим братьям — литвинам. Но с ним всего тысяча людей и сотня офицеров-инструкторов. Что это значит на весь Литовский край? Капля в море! А вот если войдет туда Гелгуд с отрядом в двенадцать тысяч человек! Почешутся тогда москали… Если мне дадут эскадрон познанских улан с храбрым полковником Бжезанским, — ручаюсь, что доберусь до Гелгуда благополучно, передам ему приказание — идти на Литву… Да и мы с познанцами там тоже постараемся оставить памятку россиянам…
Всем понравилось предложение Дембинского.
Он с эскадроном познанского «полка майоров», как их звали в армии, в ту же ночь пустился в путь…
А после полуночи тихо, без шума стали отступать от печальных берегов Нарева польские отряды… На Модзель, на Пултуск и дальше на Варшаву легкой рысью, в полной тишине движутся эскадроны, за ними торопливо шагают остатки пехотных войск…
Сдав начальствование над армией Лубеньскому, поручив ему собрать рассеянные отряды и вести их в укрепленный лагерь Праги, далеко опередив всех, покатил туда же Скшинецкий в своей легкой, изящной коляске с Про-ндзиньским вдвоем.
Воздух полей так ароматен и свеж после недавней легкой грозы! Майская чарующая ночь пронизана лунным сиянием, прозрачным полумраком одеты дали… Соловьи заливаются в темных придорожных кустах, в вишневых, осыпанных белым цветом садах, которыми окружены попутные хутора…
Ничего не слышит Скшинецкий, ничего не видит кругом.
Слезы, холодные, редкие, скатываются по исхудалым щекам. Потускнелые глаза впиваются в темноту ночи, словно там видят что-то пугающее. Пересохшие бледные губы нервно подергиваются, и часто слетают с них одни и те же слова:
— Так позорно проиграли битву! Теперь — всему конец! Finis Poloniae… Сгибла бедная отчизна! Польше — конец!..
Молчит Прондзиньский, не льет по-женски слез, не охает, не ударяет себя в грудь рукой… Но его горе, его тоска — много глубже, чем слезливая жалоба вождя…
Из Сероцка отчаянное письмо жене и еще более отчаянный, короткий доклад Народному правительству послал Скшинецкий о своем посрамлении под Остроленкой…
Как бы избегая на родном языке начертать жгучие, обидные для себя слова, по-французски написал он оба послания.
«Мы дали самое позорнейшее сражение! — так начинался доклад. — Finis Poloniae! Ничего больше не остается, как войти в соглашение с неприятелем, и Ржонд должен немедленно начать мирные переговоры. Армия уничтожена, не существует больше. Дело наше погибло!..»
Но прошло двое суток, успокоились нервы у генерала, он снова приобрел свой свежий цвет лица, свою осанку и уже совсем иное, более обширное донесение правительству послал 28 мая из Пултуска. Не о позорном поражении, о победе говорилось в этом докладе!.. Все было представлено в розовом свете, даже потери людьми, доходящие до 9000 человек убитых, раненых и попавших в плен.
«Несмотря на отчаянные усилия, неприятель не мог переправиться всеми своими силами на правый берег Нарева. К вечеру, измученный напрасными атаками, он отошел опять за реку, оставя лишь стрелковые цепи у самого моста… И мы остались полными хозяевами на поле битвы, господами положения. Но, считая нашу задачу выполненной с отправлением корпуса Гелгуда и отряда Хлаповского на Литву, я дал приказ войскам идти на Пултуск, и этот марш был выполнен удачно, без малейших помех со стороны неприятеля».
Так посмел закончить Скшинецкий свой вторичный, наглый и лживый доклад правительству…
А вернувшись в столицу, пустив в ход прежние интриги и новые происки, не только сумел обелить себя бездарный вождь, но еще убрал с пути своего целый ряд неугодных ему и опасных людей.
Удален был Прондзиньский из штаба… Круковецкому пришлось подать в отставку, и ничтожный служака генерал Ротти был назначен на важный пост губернатора Варшавы…
А в ней как раз в это время назревало широкое опасное брожение.
Часть вторая ЛИТВА И ЖМУДЬ
Глава I ЭМИЛИЯ ПЛАТЕР
… И, томим святой любовью
К недоступной красоте, –
«Arno Matrem Dei!» — кровью
Начертал он на щите!
М. ЛермонтовВождь отважный в солдатском наряде, –
Не мужское он носит обличье.
Что за грудь! Сколько неги во взгляде!
И прекрасно лицо, как девичье…
То — Эмилия Платер, графиня,
Друг свободы, Литвы героиня.
Ад. МицкевичМолитва — это любовный порыв восторженной души человеческой.
Любовные порывы — это восторженная молитва нашего тела, почуявшего Силу Творчества!
— Дни рабства — рождают детей Свободы!
Рано повеяло весною в этом 1831 году на Литве и в соседней с нею польской Ливонии.
В середине марта по новому стилю стала обнажаться земля от снегов. И только в пущах Беловежья и в ливонских лесах, на реках и озерах, одетых льдом, да в глубоких падях и оврагах лежит еще рыхлой пеленою глубокий снежный покров.
Но и там снег стал полупрозрачный, голубоватого, вешнего оттенка, а не такой искристый, сверкающий, ослепительно-белый, какой он был зимою.
А к концу этого месяца еще быстрее дело пошло.
Совсем весенним, теплым дождем брызжет порою из туч, набегающих с запада и клубящихся низко над Западной Двиной, над полями, над дальним сосновым бором. Темными, извилистыми лентами тянутся вдаль узкие проселочные пути и широкое шоссе, ведущее из Риги в Вильну, на запад, и к Смоленску, на юго-восток. Избитые ухабистые дороги эти покрыты талым снегом, который обратился в густое грязное месиво под ударами конских копыт, вязнущих в нем глубоко. Широкие лужи, целые зажорины разлились в низинах и в уклонах проезжих дорог.
Под лучами солнца, пригревающего к полудню довольно сильно, темнеет, синеет, вздувается ледяной покров Западной Двины, очищенный местами от снежного савана соединенными усилиями ветра, дождя и солнца…
Тающий на полях снег и почвенные воды бесчисленными ручейками незримо стекают в реку, поднимают ее уровень, точат снизу толщу льда, силятся поднять, взломать, разнести его, как силится порою заживо погребенный сорвать, в щепы изломать гробовую крышку, раньше срока прикрывшую его, отнимающую жизнь, воздух и свет.
Стоит днем сильнее повеять южному ветру, полному тепла и влаги, стоит крупному дождю сильнее пролиться с вечера до утра — и с треском разломится ледяная кора, начнется дружный ледоход, с шуршаньем и треском понесутся к морю льдины по мерно плещущим, говорливым речным волнам…
На возвышенном берегу речки Ликснянки, впадающей в Двину, недалеко от Динабурга, или Двинска, белеет обширный замок Ликсна, построенный в начале прошлого века баронами Вольф из Линденгаузена, затем перешедший к роду Зибергов и принадлежащий теперь пожилой, бездетной вдове шамбеляна Зиберга, урожденной баронессе Моль.
Огромный старинный парк в английском вкусе с причудливо подстриженными аллеями, с лабиринтами, каскадами и гротами, темнеет по скатам холма, на котором стоит замок. Справа виднеется вдали вековой сосновый бор, загадочно синеющий на горизонте. Налево, до самой крепости, на шестнадцать верст протянулись луга и поля, вперемежку с холмами, одетыми молодою порослью.
От ворот замка вьется отлогая дорога к Двине, через которую летом ходит паром к местечку Иллукште, на другом берегу реки; самое местечко широко раскинулось у подножья холма, на котором темнеют развалины старого замка Зибергов. А новый, Шлосберг, принадлежащий графу Михаилу Платеру, — возвышается чуть подальше от старого, на обрывистом речном берегу.
Земли былой польской Ливонии раскинулись направо по течению реки, а влево — тянется до Немана литовская земля и до песчаных берегов Балтийского моря — Жмудь Святая, как зовут этот край и сами жмудзины, и белорусы, и поляки, даже — потомки ливонских крестоносцев-баронов, старинные немецкие семьи, за ряд веков польского владычества в стране совершенно слившиеся с поляками, принявшие их веру, обычаи, даже язык.
К такой немецкой, совершенно ополяченной знати принадлежат и Марикони, и Гоштофты, и Зиберги, и очень многочисленный род Платеров, у которых везде разбросаны родовые земли: в Ливонии, в Литве, на Жмуди и за Вислой, в' пределах «Конгрессувки», как зовут новое Польское крулевство, основанное на Венском конгрессе в 1815 году.
За несколько веков соседства успели породниться между собою все знатные роды по обе стороны трех больших рек: Немана, Вислы и Двины. И хотя стояли сторожевые кордоны на грани между привислянской Польшей и русскими областями: Литвою, Жмудью, Ливонией, — но мазуры надвислянские, белорусы, литвины и жмудзи, и бывшие «крестоносцы» по-старому чувствовали себя одной тесной, дружной семьей.
В хмурое и теплое утро в середине марта по дороге, ведущей к Ликсненскому замку от реки, на породистом английском скакуне шагом поднималась стройная, худощавая девушка в длинной темной амазонке и мужском полуцилиндре.
На вид ей нельзя было дать больше 19–20 лет. И только задумчивый, даже печальный взгляд больших голубых глаз говорил о ряде прожитых годов, о тяжелых испытаниях, доставшихся на долю графини Эмилии Платер, которой в ноябре этого года исполнится 25 лет.
Пожилой сухощавый инженерный генерал русской службы, плотно усевшись в высоком казацком седле, сдерживает, не дает выноситься вперед своему горячему горбоносому киргизу, приноравливая широкий мах степняка к легкой, мерной поступи коня, несущего его спутницу. Сам он, не стесняясь, не сводит маленьких темных глаз с бледного, нежного личика девушки, изредка озаряемого, как лучом, слабой и ласковой улыбкой, при которой слегка раскрываются пухлые розовые губы ее небольшого, тонко очерченного рта, поблескивает два ряда ровных, красивых зубов.
Девушку не смущают явно влюбленные взгляды генерала. Она словно не замечает или привыкла к ним. Слегка склонив голову в сторону спутника, она внимательно слушает ею внушительную, самодовольную речь, которая льется тягуче и плавно, как будто не свое говорит, а по книге читает что-то влюбленный генерал.
Польской речью владеет он довольно хорошо, говорит правильно, только слишком по-русски звучат все звуки, и кажется, кроме того, что сперва на родном языке составляет в уме он фразу, а после уже переводит ее на польский и громко чеканит требуемые слова.
— Да, вот какое дело, панна графиня. Кажется, дело подходит к хорошему концу… Кроме тех газет иностранных, которые я привез панне графине, мною получена эстафета из Вильны от генерал-губернатора Храповицкого. Мы с ним давние приятели. И он, между прочим, пишет, что еще три недели тому назад, двадцать восьмого февраля, генералиссимус польский Скшинецкий просил мира у Дибича и восстание кончилось… Войско идет к Плоцку, Ржонд выразил полную покорность, и скоро часть наших войск опять через Литву вернется в Россию…
— Пан генерал говорит: двадцать восьмого февраля!.. Это, верно, по вашему, по российскому счету… А я читала, что, правда, фельдмаршал начал говорить о мире еще двенадцатого марта, по нашему… по европейскому счислению… А уже девятнадцатого все переговоры были прерваны, когда варшавский Ржонд услышал, что требует фельдмаршал…
— Это все вздор! Это французские листки революционные так сообщают, чтобы мутить мирных людей… Напрасно панна графиня им верит. Я правильно говорю… Или панне графине не хотелось бы мира?.. Ей приятно, что льется российская и польская кровь?.. Ведь это же два близких, родных народа… Так неужели?..
— Матерь Пречистая! Кто же бы хотел, чтобы лилась кровь… да еще родная!.. Но если уж люди пошли искать свободы, — как же иначе? Говорят, даром ничего не дается на земле!
— Какая глубокая философия!.. Кто бы мог подумать, что такая юная и прекрасная панна умеет так хорошо рассуждать… Но увидишь сама, панна графиня… Мир не за горами… Повеселее станет тогда и у панны на душе!.. Я же понимаю: панна графиня сочувствует своим… Я не такой варвар, чтобы этого не понять… Тем более что к панне Эмилии я отношусь совсем не так, как к другим… Я буду рад видеть, когда будет снято это траурное одеяние… Срок траура по усопшей матушке панны графини кончается скоро… Светлые цвета так должны пойти к этой очаровательной головке… И… кто знает, может, еще этой осенью белый флердоранж украсит эти шелковистые русые кудри, эту чудную головку…
— О, если пан генерал так желает увидеть подобное зрелище, ему надо желать и продолжения войны… Мало того… Надо сделать, чтобы война здесь близко началась… Или — меня отпустить за кордон, туда, к Висле, где льется братская кровь, как сказал пан генерал…
— Гм… Туда, за кордон… на войну!.. Вот этого я уж как будто и в толк взять не могу…
— А дело просто, генерал! — улыбаясь, сказала девушка. — Пан генерал не знает старого сарматского обычая. Сарматки, прабабки наши, воевали всегда рядом с мужчинами… И девушка не могла выйти замуж, пока не побывала на войне и не принесла под кровлю своей хижины хотя бы одну одежду, снятую с убитого ею врага!..
— Боже храни и помилуй от такой жены!.. Подумать надо прежде, чем взять такую жену…
— Да, очень подумать надо… Это верно, вацпан!
— Ну, панна графиня, — это всякий скажет, — нисколько не похожа на кровожадных сарматок, о которых она говорила… И каждый… Да я вот первый счел бы за счастье просить ее руки!..
Признание хотя и неожиданно прозвучало у генерала, но он сам давно готовился к нему, и девушка знала, что рано или поздно оно должно быть сказано. Даже сегодня, отправляясь на прогулку с генералом Каблуковым, — так его звали, — графиня Эмилия почему-то чувствовала, что именно сегодня должно все произойти.
Желая положить конец неопределенным отношениям, которые установились за последнее время между нею и генералом, девушка поехала с поклонником, не оборвала разговора, который завел Каблуков, и теперь, после прямых слов генерала, не смущаясь, подняла на него свои ясные, серьезные глаза.
— Как надо понимать, пан генерал, эти слова?
— Так точно, как они были сказаны. Я давно собирался… и как-то не выходило… Духу не хва… Впрочем, нет! Не то я хотел сказать… Не было подходящего… э… как бы то выразить… момента… А вот теперь… прямо говорю: имею честь предложить панне Эмилии свою руку и… сердце… и… как уж оно там водится… И прошу мне дать ответ…
Медленно отвела глаза Эмилия, устремила их вперед по дороге, чуть тронула коня, и быстрее понес он ее в гору, к широким воротам замка, уже белеющим невдалеке.
Выждав немного, генерал заговорил по-французски еще тверже и настойчивей:
— Графиня, вы слышали… Я имею честь просить вашей руки. Предлагаю вам свое сердце… свое имя… Я жду, что вы мне скажете на это.
— Я, к сожалению, вынуждена отказаться от этой чести, генерал, — негромко, почти ласково, но решительно прозвучал ответ Эмилии.
— Вы… вы отказываете мне, графиня, — с крайним удивлением, раскрыв насколько можно шире свои глаза, спросил пораженный Каблуков. — Да это… это… Я даже, извините, отказываюсь верить… Мне казалось, графине ясно все искреннее расположение… все обожание мое, какое… И если я решился, то не думал, чтобы можно было ожидать… Чтобы я получил такой ответ… Подумайте, графиня. Я не тороплю. Я буду ждать. Конечно, разница существует… Мои года…
— О нет, не то, генерал… Вы искренне говорите со мной… И я должна вам сказать… По-моему — мужу следует быть старше жены…
— О, в таком случае я еще не теряю надежды. Графиня знает не только мое служебное положение, мои чины… Я имею счастье пользоваться особенным расположением моего государя. И вас, графиня, ждет блестящая будущность при российском дворе.
— О… только не это. Я ценю всю честь, какую вы, генерал, оказали мне своим выбором. Но брак наш — невозможен. Я говорю это обдуманно, серьезно. Это — мой ответ раз навсегда!
— Невозможен!.. Разве я имел несчастие чем-либо заслужить вашу ненависть, ваше презрение?
— О, вы лично — ничем, мой генерал!
— Так, значит, ваше сердце…
— Совершенно свободно.
— Но тогда… тогда я окончательно не понимаю… Подумайте, умоляю вас, графиня. Я буду вам другом, слугой. Лучшей партии, Бог свидетель, вы не встретите!
— Возможно, генерал!
— Вы признаете… Так о чем же еще говорить, зачем колебаться? Никакой больше помехи нет и быть не может. И вы…
— Она есть… несокрушимая… Я — полька, мой генерал.
Тихо, просто сказала эти два слова Эмилия. Но в них звучало так много силы и значения, что Каблуков ни звука больше не сказал до самого замка.
И там он молча помог девушке соскочить с седла.
Эмилия пошла переодеваться к завтраку. Генерал направился в гостиную, где хозяйка замка, родная тетка Эмилии, сестра ее матери, сидела у камина в старинном кресле и раскладывала свой неизменный пасьянс. Полная, величественная, она казалась моложе своих 54 лет и напоминала манерами и важностью придворных дам прошлого века. После нескольких общих фраз о погоде, о совершенной прогулке, генерал, как человек решительный, прямо заговорил:
— Пани шамбелянша помнит, что я собирался сегодня говорить с графиней Эмилией…
— Как же! Как же!.. Ацан [21] говорил… Что сказала племянница ацану?
— Отказала… Да, так, просто отказала — и все… Но я понять не мог настоящей причины… Панна сказала: «Я — полька… и потому принять предложения не могу!» Да это ж!.. Тут и смысла нет… Разве ж я хочу, чтобы панна перестала быть полькой, став моей женой?
— Так она сказала? — задумчиво покачав головой, переспросила шамбелянша Зиберг.
— Точно такими словами… Понять не могу! Это же чистый вздор. Может, шановная пани шамбелянова поговорит с племянницей… Растолкует ей… что лучшей партии… Наконец, пани шамбелянша заменяет ей мать. И может внушить молодой панне… Не правда ли?.. А я буду…
— Извини, ацан… Прямо должна тебе сказать: за твое дело — не берусь. Ей с мужем жить — ее и воля. Конечно, замуж девушке надо… И пора уже… Года ее самые настоящие. Мы прежде замуж рано выходили. Но я покойнице сестре клятву дала, что по своей воле пойдет Эмилия замуж, без моего понуждения. Сестра целый век несчастной была оттого, что ее родные уговорили выйти за графа Ксаверия. И девочка, глядя на мать, — сколько муки перенесла. Так пусть же сама выбирает, сама решает. И я не буду виновата, если плохо сложится ее жизнь! Так, ацан. Уж не взыщи… Да ты что же это? Прощаться собрался… За шапку берешься… Вон уж доложить идут, что завтрак на столе… Неужели не сделаешь нам удовольствия?
— Прошу извинения, пани, мне нездоровится что-то! — хмурый, потемнелый от двойной неудачи, решительно заявил Каблуков, прикоснулся, по обычаю, к протянутой ему руке старухи и быстро вышел, чтобы не встретиться с Эмилией, шаги которой уже слышались в соседней комнате.
В обширной прихожей замка, когда Каблуков в шинели готовился выйти на крыльцо, появился второй инженерный офицер, помоложе, капитан Дельвиг, почтительно отдавший честь начальнику.
— А… Вот где привел Бог встретиться! — едва ответив на отданную ему честь, делая кислую мину, процедил Каблуков. — А я полагал поговорить с вами еще нынче относительно работы, которую поручил на днях. Но где уж там!.. Свои дела у капитана… И уроки к тому же… Панна Эмилия мне говорила, что вы вместе высшей математикой занимаетесь… Ха-ха… Теперь это так называется. А когда мы были моложе, это называлось иначе. Ну, надеюсь, завтра капитан мне все-таки представит чертежи новых бастионов.
— Так точно, ваше превосходительство. Они уже готовы… И я бы мог нынче вечером…
— Уж не в полночь ли?.. Шутник капитан… Он будет по гостям ездить, а я не спи, поджидай его, как суженая ждет своего суженого. Уж хоть завтра пожалуйте с чертежами… Пораньше!..
Кивнул головой небрежно и вышел быстро на крыльцо Каблуков.
После завтрака старуха Зиберг пошла, как всегда, часок соснуть, а Эмилия обратилась к гостю по-французски, так как по-польски Дельвиг не говорил:
— Monsieur le baron, надеюсь, вы к нам на целый день…
— С вашего разрешения… если еще не надоел…
— Ай, как не стыдно, барон! Неужели за столько лет вы не успели убедиться, как вам здесь все рады… А я в особенности… Идемте, если желаете, ко мне… Из Варшавы, из Парижа я получила много интересных книг… Дядя Людвиг сейчас в Париже с генералом Княжевичем по делам нашей бедной отчизны… И не забывает меня… А может быть, и поработаем немного?.. Если вы не устали… Мы так давно уж не занимались! Ваша ученица успела перезабыть половину из того, что успела пройти. Что с вами было? Отчего вас не видно целых девятнадцать дней? Нет, даже двадцать! Так друзья не делают…
Быстро засыпая вопросами гостя, девушка прошла с ним несколько больших покоев, и они очутились в уютной, светлой комнатке Эмилии, служившей ей и кабинетом, и спальней.
Вся комната сверкала белизной. Узкая девичья кровать под белым легким пологом, подхваченным голубыми лентами, стояла в одной из двух глубоких ниш, темнеющих одна против другой в этом своеобразном, высоком покое, помещенном в угловой башне замка. Ниша против постели была обращена в маленькую молельную. Там под большим Распятием на стене раскинут был коврик и стоял аналой для молитвы. Обе ниши были задернуты светлыми занавесками в тон стенам комнаты; неплотно сходясь, занавески чуть приоткрывали все, что находилось за ними.
Стены были без малейших украшений. Только между высокими узкими окнами висели хорошие гравюры, изображающие Жанну д'Арк, Бобелину, героиню греческого восстания в Миссолунги, Костюшко, Понятовского и еще трех-четырех героев и героинь, боровшихся за вольность, мечтавших о ней, — в Польше и в других краях.
Простая полированная мебель, гладкие светлые гардины и портьеры, шкаф и две полки с книгами, больше научные, по математике, по истории на польском, французском и немецком языках, — все это делало комнату похожей скорее на келью, на кабинет прилежного студента, чем на спальню молодой, красивой девушки — невесты из богатой родовитой семьи.
Пистолет, брошенный на столе, между книг, рапиры и легкая шпага, висящие в одном из простенков вместе с небольшим охотничьим ружьем превосходной работы, — еще больше придавали комнате вид студенческого угла.
— Ну вот? вы снова здесь, у меня, изменник! — полная радостного оживления, продолжала Эмилия, не давая спутнику времени ответить на ее вопросы. — Садитесь. Так, на ваше любимое место у окна! Правда, отсюда — лучший вид на нашу милую Ликсну?.. Эта даль… Иногда в ясные дни мне кажется, что я даже вижу валы и бастионы вашей крепости… Вы улыбаетесь! Конечно, пустяки? Но мне это кажется так ясно… Вы знаете, я умею видеть все, что захочу! И вот когда некий коварный наставник забывает надолго свою прилежную ученицу, она садится здесь, на вашем месте… И видит крепость… Веселое собрание, где нет времени вспомнить о бедной графине Эми-* лии, пропадающей от ничегонеделания и тоски… Вижу других учеников, учениц, с которыми, конечно, веселее, чем со мною!.. И думаю: «Неужели совсем забыл? Не вспомнит?» Тогда учитель чувствует, что тут по нем скучают… и является после долгих двадцати дней… Ай-ай-ай!.. Извольте сейчас говорить, что случилось? Больны вы не были, я справлялась.
Смущенный чем-то, крепко сжимая руки, сложенные на коленях, как бы желая сдержать внутреннее волнение, Дельвиг не сразу ответил девушке.
Вопросы были обычные, и не раз уже она задавала их ему за последние полгода.
Он сперва заслушался музыкой этого голоса, такого ласкающего, проникающего в душу, будящего там восторг и трепет. Часами хотел бы он слушать милое щебетанье этой очаровательной девушки, которую знал еще малюткой и сажал на колени, ласкал, как это делается с детьми…
На его глазах из милой девочки развернулась очаровательная девушка с большими, вечно грустными синими глазами и вьющимся каскадом русых, мягких кудрей… Незаметно прежнее тихое, почти отцовское чувство перешло у Дельвига в глубокую, нежную, но тем более робкую, затаенную привязанность, в безграничную любовь…
А она?
Не видит, не понимает этого?.. Или, не сочувствуя, делает вид, что ничего не замечает?.. И по-прежнему держит себя с ним не как девушка 24 лет с добрым знакомым мужчиной, а по-старому, как балованная девочка со своим любимым другом-наставником.
Конечно, она совершенно чиста, не подозревает, что таким непринужденным обращением усиливает любовь и страсть в «наставнике», который обратился в ее самого горячего поклонника.
Но чувство, владеющее им, слишком сильно и чисто, чтобы она могла не замечать ничего, эта серьезная, умная девушка, слишком рано узнавшая разные стороны жизни, все людские отношения, и хорошие, и дурные….
От него не таится Эмилия, хотя она не таится ни от кого… Но с другими она пряма, откровенна проста из гордости… Чтобы не подумали, что она, Эмилия Платер, желает казаться иною, чем есть!
А Дельвигу?.. Ему она совсем иначе и по другим побуждениям открывала свою душу и девочкой, и теперь. Совета, участия, даже отцовской ласки, которой лишила Эмилию судьба, — приходила она искать именно у него… Много знает о жизни девушка и о том, какие чувства влекут мужчин и женщин друг к другу…
Но, скорей всего, что именно в нем, в Дельвиге, девушка не предполагала тех неизбежных переживаний: влюбленности, увлечения и страсти, какие обычны для остальных людей.
Потому, может быть, что Эмилия считала его «лучшим», чем остальные мужчины, — была она так ласкова, откровенна и мила со своим «наставником». И если ей открыть правду, — она испугается, отойдет от него, от Дельвига, как инстинктивно избегает других мужчин эта вдумчивая девушка в черном простом платье, без малейшего украшения.
Последнее соображение заставило Дельвига еще плотнее сжимать уста; еще крепче поэтому старается он держать в руках свое потревоженное сердце.
А сейчас обожаемая девушка стоит так близко, ее платье почти касается колен Дельвига; она глядит доверчиво, ласково и спрашивает: почему он не был так долго!
Причин много. Главная, конечно, — его желание проверить и себя и девушку, насколько ему будет трудно не видеться в течение двух-трех недель, насколько сильно она почувствует это отсутствие, если только заметит это…
Но такое объяснение равносильно признанию, а его не хочет делать Дельвиг, находит преждевременным, даже невозможным. И потому он ограничился другой, внешней причиной.
— Я полагал, графиня, вы угадываете причину! — после легкого молчания заговорил он. — Дела было столько, справиться не мог!.. Теперь перестройки в крепости… Ждем войны… А начальство мое прямо рвет и мечет… Все ему мало!..
— О, барон, не ожидала таких формальных отговорок… Бывало у вас и прежде немало дела… А находили же время, урывали часок-другой, чтобы прискакать в Ликсну… Это — все пустое, что вы изволите говорить…
— Право, нет, графиня… Позвольте досказать. Правда, бывали полосы довольно трудные… Но дело шло нормально… И я мог еще вырваться туда, где мне… так приятно бывать… Но с некоторого времени… Прямо скажу: с последнего моего визита в Ликсну, когда я здесь столкнулся с начальником…
— Как и сегодня?.. Вы видели его?
— При выходе… И взбешенным — выше меры… Откровенно скажу… Знай я, что он здесь, — я отложил бы свое посещение на завтра…
— Вы боитесь начальника, барон? Вас ли я слышу!..
— Я не боюсь никого… За себя, по крайней мере… Но…
Он остановился.
— Что такое? Извольте досказывать, если уж начали…
— Я вам скажу, графиня… Но сперва позвольте спросить, что значит поспешный отъезд Каблукова? И его вид… Прямо не узнать моего почтенного генерала… Что-нибудь здесь случилось?
— Ничего особенного! — просто отвечала Эмилия, садясь против Дельвига у окна, откуда свет падал прямо на ее бледное, нежное лицо. — Генерал сделал предложение…
— И вы?!
— Конечно, отклонила эту честь. Ну-с, теперь говорите… все, все, все до ниточки: что, как и почему?..
У Дельвига перехватило дыхание при новости, объявленной Эмилией, хотя неожиданного в ней не было ничего. Теперь, снова свободно передохнув, он заговорил живее прежнего:
— Вот по милости вашего отверженного… претендента, графиня, я и не мог до сих пор явиться… Как я уже сказал, ему почему-то не понравилось мое… мои поездки в Ликсну… Внимание, которое уделяет мне ваша тетушка… и вы, графиня… Оно, конечно, не могло нравиться… вы понимаете?..
— Понимаю! Теперь понимаю… Он приревновал!.. Он думал, что я променяю вас на него?.. Какой глупый генерал!..
Девушка даже рассмеялась негромко, но гармонично, заразительно.
Просиял и Дельвиг.
— Да, он приревновал… И столько навалил на меня работы, так строго требовал исполнения… Буквально не хватало времени для сна, для еды…
— Бедный мой барон! Вы, правда, сильно исхудали… Так вот отчего?.. А я думала…
Она недосказала.
— Продолжайте, продолжайте! — прежним веселым тоном кинула Эмилия.
— Пока — все, графиня!.. Конечно, вы могли бы мне возразить, и очень основательно… что я не должен был «пугаться» начальства, что следовало прямо ему сказать… или даже не выполнить почти невозможного, чего он требовал без всякого права. Но… вы не забыли, конечно, графиня… Служба — это для меня вопрос… серьезный!.. Наши родовые земли в Саксонии… Мы лишены их. Давно я не только сам содержу себя. Есть и еще обязанности…
Серьезно, веско проговорил все это Дельвиг, глядя прямо в синие глаза девушки… И пока слова слетали у него с губ, он думал:
«Вот еще один, и очень важный повод: молчать о своих чувствах перед нею, если бы даже была надежда на взаимность… Она и сейчас богата… Два или три наследства, еще более значительных, ждут ее впереди… И вдруг, когда я заговорю о моей любви… Она вспомнит об этой разнице между ее состоянием… и моим — жалким окладом!..»
Эмилия словно почуяла что-то особенное в словах Дельвига о его зависимости от службы. Как будто и не расслышав или не придавая им никакого значения, она снова весело рассмеялась.
— Значит, барон находился двадцать дней под… домашним арестом! Так это называется, если не ошибаюсь! Ну, причина уважительная! Мир полный и навсегда! — протянула она ему руку и нервным, крепким пожатием, какого нельзя было ожидать от этой хрупкой с виду девушки, ответила на теплое, долгое пожатие друга.
— Мир! — так же весело подтвердил он и вдруг остановился.
— А… могу я спросить еще у вас, графиня?.. Это меня интересует как человека, который много лет… Ну, словом…
— Боже мой! Я сегодня не узнаю вас, барон! Или арест и пост так подействовали на вашу всегдашнюю решительность?.. Спрашивайте прямо все, что хотите! Я отвечу вам… как… лучшему моему другу!
— Что именно было сказано?.. Чем объясняется… Вернее, как был выражен отказ? Простите, графиня, мою нескромность. Но верьте, не простое любопытство вынуждает меня.
— Вижу, верю, понимаю, и совершенно нечего вам извиняться, мой старый, добрый друг. Я сама даже только что хотела вам все рассказать подробно… Причины отказа! Слишком мы не пара, я и этот российский генерал с красной лентой через плечо! Мы чужие по вере, по крови и… по воспитанию, по привычкам. По всему, по всему! Коротко и просто я это выразила ему, когда мой генерал стал уж очень неотвязен. Сказала только ему: «Я же кровная полька, генерал!»
Сказала Эмилия и остановилась, пожалела, что повторяла перед Дельвигом эти гордые слова, сказанные отвергнутому жениху.
Побледнел смертельно Дельвиг, машинально как-то весь подобрался и ушел в кресло, на котором сидел, словно хотел исчезнуть в нем.
Правая рука даже непроизвольно коснулась яркой выпушки на левом рукаве мундира, словно желая прикрыть ее от сверкающих глаз Эмилии.
А у девушки глаза сразу потускнели, покрылись тенью сострадания, глубокой жалости; она мягко, нежно заговорила, быстрее обыкновенного.
— Конечно, это была только… крайняя отговорка… Последний барьер, которого, как мне казалось, не одолеть даже вашему решительному начальнику… И правда — помогло! Он умолк, надулся… и даже уехал до завтрака, хотя тетя обещала ему его любимые колдуны по-литовски.
Затем, сразу переходя от ласково-шутливого к серьезному, дружески задушевному тону, она продолжала:
— Само собой понятно: дело не в русском или польском мундире… а в том, кто и как носит свой мундир… Вы же должны понять меня, дорогой друг!
Сделав громадное усилие над собой, Дельвиг выпрямился, даже улыбнулся, чтобы не догадалась Эмилия, какую боль причинила своими словами. Глядя ей доверчиво в глаза, он заговорил:
— Понимаю, понимаю, графиня. Разве не знаю я вас, вашей души… вашего ясного ума… Но… позволите сказать еще пару слов на эту… очевидно, наскучившую вам тему? Да! Благодарю вас… Мне думается… Не слишком ли поспешили вы с отказом?.. Позвольте, дайте мне договорить! Повторяю… Я знаю мою серьезную, умную… ученицу… Видел несколько лет подряд, как она была окружена самым блестящим обществом… Знатнейшими, красивыми юношами и зрелыми людьми… одной религии с нею… одного воспитания… одной расы!.. Они влюбляются, тоскуют… Рады на все, только бы услышать короткое «да!» из уст графини… И этого «да!» не услыхал никто. Я и подумал, имел даже основания полагать, что графиня Эмилия не похожа на других… на лучших дочерей своего народа… Они склонны к женским мягким чувствам и веселью, к семейной жизни, ищут поклонения и сами хотят любить. Они полны этим влечением, свойственным женщине… И вы мне казались совсем иною… Лучше, выше… Но все же вы не могли уйти от своего назначения… семьянинки, матери… жены!.. Я думал, что вы ищете не увлечения, а чего-то иного… Не красота, не юность влечет вашу душу, а более положительные и неизменные качества…
— Отчасти вы правы… Но не вполне… И все-таки я не понимаю…
— Сейчас, сейчас… Теперь — перейду к… к генералу. Он не молод, но его положение при дворе…
— Вот-вот. Он мне то же самое говорил…
— И если ваше сердце свободно…
— Это я от него тоже сегодня слышала…
— Мне кажется… простите… Но лучшей партии… Звонкий, веселый смех Эмилии помешал ему договорить.
— О, барон, прошу вас… Не глядите на меня такими большими глазами. Мне стыдно! Но, право, удержаться я не могла. Ну, вот слово в слово! Знаете, можно бы думать… что «начальство» просило вас выступить ходатаем за него… Как ни чудовищно такое предположение!
— Графиня, право, я не хотел… не думал…
— Все я понимаю, что вы хотели, что думали…
— Все?!
— Ну да, почти все… Чего вы так встревожились?.. Словно испугались. Разве вам неприятно, что ваш друг, ваша ученица понимает своего наставника? Вы заботитесь обо мне… Об моей участи… Вот как и тетя…
— Да, да. Конечно. Это вы верно поняли…
— Ну, разумеется… Вы оба любите меня. И я люблю вас, двоих… Больше всех на свете… И можете все мне говорить, как тетя, как говорила мне моя дорогая покойная мама. Как… говорил бы мой отец… если бы он был со мною… Если бы я могла… — Смахнув невольную слезинку, блеснувшую на глазах, Эмилия опять живо начала: — Верно все, что говорили вы и ваше «начальство»… О чем вчера так же осторожно толковала мне тетя, когда пришла записка от генерала, что он собирается нынче в Ликсну… Я сразу догадалась, зачем он едет… Слишком уж красноречиво он поглядывал на меня… Просто словно съесть хотел глазами за последние его посещения… Я же не ребенок… И если бы я любила?.. Нет, даже не то… Если бы допускала, что могу когда-нибудь полюбить этого… — Легкая брезгливая гримаска докончила мысль, недосказанную словами. — Ну, теперь все в порядке… Точки поставлены над I… Успокоились, наконец, мой милый опекун?
— Н… не совсем… Еще не кончено даже с первым вопросом, — словно решившись не отступать, возразил Дельвиг. — Вы сказали «чужой вам человек»… Но это — теперь… А если он, действительно, оценил такую девушку… Простите, я должен немного похвалить вас… Если он искренне, глубоко… Если его чувство настоящее, решающее, какое можно испытать только раз в жизни? Так он легко отречется от прежнего… И веру, и службу в чуждом для вас войске — все бросит!.. Возродится, переродится… И сумеет заслужить любовь… Повторяю: вы другая!.. Вы не загораетесь легко, как подруги… Но — вы девушка… Вы узнаете любовь. Когда придет время… Когда станете женой…
— Нет, нет и нет! Во-первых, не мужское это дело — отрекаться от прежней веры, от своих близких… от дела, которому служил столько лет… Скорее мы, женщины, полюбив, способны на самоотречение, способны оставить старое, пойти за своим любимым по новым путям… Даже Библия это говорит… И Святое Евангелие… «Да оставит отца и мать!» А мужчине не следует так… Это было бы слабостью… способной уменьшить чувство, а не вызвать женскую любовь!..
— Понимаю… понимаю…
— Еще я недосказала… Правда, легко я полюбить не могла бы, вот как другие мои подруги… Зато они скоро и меняют эту привязанность… Если бы я полюбила… Но не в том дело. Поймите же меня: без любви я замуж никогда, ни за кого бы не пошла… Даже… за самого круля Станислава!..
— Вот как!..
— Да! А как же иначе! Без любви нельзя… не понимаю даже, как можно пойти за человеком, отдать себя ему на целую жизнь, не испытывая любви!.. Вы не улыбайтесь, барон! Я хорошо понимаю, что значит это слово… Что вмещает в себе это понятие… И признания подруг, и окружающая жизнь, и книги, романы, философские рассуждения —. до Шопенгауэра включительно… Вот они, лежат на полках… и тут, в моем мозгу… Я — без любви — не могла бы стать женой… войти в такую… законную брачную сделку, как поступают почти все. Особенно в нашем кругу… Бедные девушки из народа… Они счастливее… Они знают хотя очарование юной страсти, обман, который им, доверчивым, неопытным, непросвещенным, кажется настоящей, вечной любовью… Конечно, проходит первый пыл… у нее… или у него… Иди даже у обоих… И они на время страдают, пока не создадут себе новый обман, новое призрачное счастье. Я этого не могу… И жаль… и хорошо, что это так…
— О, не печальтесь об этом, графиня! — тронутый тоном девушки, ее бледностью, тоской в голосе и словах, живо заговорил Дельвиг, совершенно забыв о себе. — Уверяю вас, вы ошибаетесь… Вас любит каждый, кто только знает вас. Придет пора… и вы изберете лучшего… самого прекрасного… Забудете свои теперешние мысли, свою преждевременную мудрость… даже этого старого болтуна… Шопенгауэра… Забудете все и полюбите, как только вы сумеете… как…
— Никогда! Я больше не полюблю никого… никогда…
— Больше… Значит? — снова холодея, спросил Дельвиг.
— Да. Я уже сделала выбор… Вот тот же, что и она… И эта! — указывая на Жанну д'Арк, на Бобелину, — проговорила Эмилия. — Край родной, подавленный народ мой… Его свобода!.. Вот кто мне дороже жизни… Кому я поклялась в душе посвятить себя… до конца!
Молча, как зачарованный, глядел Дельвиг на девушку. Он давно ожидал и боялся этого. А она продолжала:
— Слушайте… Я должна сказать. Вы один поймете лучше всех… хотя вы и не наш!.. Те — чувствуют, как я… Но этого мало… Хочется, чтобы понял меня близкий по духу, дорогой мне человек… Именно такой, как вы, барон. Говорю прямо. Слушайте… Вам я так обязана… Вы научили меня мыслить строго, стройно… Помогли разобраться в том хаосе мыслей, чувств и стремлений, какие поднялись в моей душе при столкновении с родным, страдающим, подавленным народом… при знакомстве с историей Литвы, Белоруссии, Польши… Что надо делать — я чуяла сердцем, надо помочь своим! Как это сделать — этому научили вы, сами того не замечая; научили ваши уроки, эти стройные, строгие истины математики, ее непреложные законы соотношений и счета… Даже основы и тайны военного искусства, стратегические и тактические задачи, которых немало решали вы со мной… Теперь моя работа мне ясна… Честь и сердце не велят больше сносить угнетения. Разум и наука говорят, что есть надежда на удачу… Не так уж мал и бессилен наш народ, все племена, входящие в него, говорящие одним родственным говором, верующие в одну церковь святую католическую нашу… Не так уж нас мало, не так беззащитны наши родные углы: леса Литвы и Жмуди, пинские топи, холмы Волыни и раздолье приднепровское, чтобы не могли мы вернуть себе волю, если захотим… Правда, много уж лет, как мы покорены… Но тогда — совсем темный был народ… Разрозненные и слабые, одна за другой, подпали наши земли под власть Москвы… Крули-предатели, как Лещинский… Злоба соседей, разрывающих с трех сторон былую Речь Посполитую, — вот что привело к рабству нынешних дней. Помните, я вам читала как-то, барон…
Лежит дорога у Креста, Три Орла разрывают ей тело Без помех, неустанно и смело… Грудь клюют, не жалея! Российский — суров и тяжел… Австрийский — хитер он и зол… Прусский — всех беспощадней и злее!..— Да, я помню… Сильный образ…
— Для меня — это не «образ» поэта, а боль души!.. Давно, еще девочкой, я думала: чем бы помочь моему родному народу?.. Этим темным холопам, тихим белорусам с их вечной тоской и красивыми заунывными песнями… Что-то звало меня… Бродя по залам нашего замка, где стены увешаны старым оружием, слушая сказки моей няни о королевичах, громящих злых чародеев… Заставляя потом моего дядьку, Мураша, воина из полков Костюшки, в сотый раз повторять мне о славных боях «косиньеров» с врагом… наконец, перечитывая исторические хроники, где отмечены былые подвиги моих предков, крестоносцев и витязей старопольских, — я уже предчувствовала, куда должна направляться моя дорога в жизни…
— Я догадываюсь… Я давно видел, ожидал, опасался этого… Неужели же вы решились?..
— Бесповоротно! Это случилось недавно, двух лет еще нет… Когда мама повезла меня в Краков, к родным. Хотите, я вам расскажу?.. Если не надоела еще…
— О, графиня!..
— Ну, хорошо… Я никому не говорила до сих пор… Когда Ликсна осталась позади… и мелькнули печальные поля славной когда-то Литвы, — завидя берег светлой Вислы, я громко крикнула: «Прощай, задавленная Литва!» Я дрожала от мысли, что увижу столько нового!. Край лехов, сарматов и вольных доныне людей краковской земли… И я увидала! Каждый уголок на пути для меня был полон особого очарования, оживлялся тысячью былых образов, тенями людей, кости которых уже истлели в их славных могилах!.. На Рачинском поле под Варшавой — мне живо, до обмана, представился бой, в котором сорок тысяч швабов отступили под натиском героя Понятовского с его бессмертной дружиной из восьми тысяч храбрецов… Я, полная восторга и трепета, проходила по зале Вольного Сейма в крулевском замке Варшавы… Былым величием и славой веяло мне с этих стен… Тронный зал, где беломраморные, вечные стоят они, двадцать три героя Речи Посполитой… Где яркая кисть вдохновенного Баччиарели изобразила на стенах самые светлые и великие моменты из родной нашей истории… Величавый кафедральный костел, в котором пели хвалу Господу после побед Жолкевского над Москвой, Ходкевича под Кирхгольмом, Собеского над австрийцами и турками… Потом — Диканьская каплица, где покоился прах плененного Шуйского — царя… Пулавы на Висле, этот Пантеон родной земли… Там я поклонилась костям Владислава Великого… праху Коперника… Видела саблю победителя, Владислава Короткого… Жезл Чарнецкого, реликвии Замойского, Стефана Батория, заржавелые ключи Вены, павшей к ногам Собеского!.. Там стоит простой трон Казимира Великого, этого святого «круля холопов», как он зовется… Я увидела всю былую Польшу… И сравнила ее… с настоящей!.. Жгучие слезы обиды и стыда стояли здесь, в груди… но не катились из сухих моих глаз!..
— Вы и сейчас волнуетесь… Успокойтесь, графиня!..
— Нет… это — хорошо!.. Это — ничего… Теперь я вспоминаю с удовольствием… А что было тогда!.. Я металась, буквально как отравленная мыслью, что сделать, чем помочь, чтобы воскресить хотя тень былого… И не находила… Разум подсказывал, что я бессильна. А те, кто в силах… Кто мог бы?.. Те все сносят и молчат. И вот приехала я в Вавель… Там поклонилась темным гробницам наших славных крулей… Наконец, мы в Кракове… Здесь только случайно я поняла, куда зовут меня невнятные голоса, что мне надо делать…
— Случайно, графиня?
— Почти… Ведь тот же Рок… Так учит «теория случайностей». Конечно, я нашла то, что искала… но помимо своей воли. В крулевском замке, на краковской Песковой горе увидела я странный портрет девушки, красивой, с темными огненными глазами и высокой грудью… Но грудь эта была одета в броню воина… Блестящий рыцарский шлем покрывал черные кудри, подстриженные, как у юноши. Вот здесь — снимок с портрета, — указала Эмилия на одну гравюру. «Кто это?» — спросила я старика сторожа, водившего нас по замку. «Княжна Ве-лепольская! — ответил он. — Долгое время воевала она против неверных с мужиками заодно. Случайно открыли ее пол. Пришлось вернуться под отцовский кров и даже поступить в монастырь. Ксендзы нашли, что великий грех свершила княжна, одевши мужское одеяние, живя среди воинов и своей женской рукой проливая кровь. Только в келье недолго прожила бедная девушка. Захирела и скоро померла!» Он кончил, мы пошли дальше… А образ гордой девушки в одежде воина, с черными огненными глазами стоял передо мной. И… я решила пойти по ее следам… По следам другой еще защитницы родного края… Девы из Орлеана…
— Сражаться… убивать… хотя бы и врагов… но — людей!
— Убивать?.. Нет. Я слишком для этого слаба духом… Не то теперь время, чтобы девушки и жены поражали мечом… Но… помогать, воодушевлять братьев-воинов… Направлять их мечи, их удары… Это я сумею… и смогу!.. Родине, делу ее свободы и счастья посвятила я себя. И… если бы даже… привязалась к мужчине… поняла, что люблю его так, как надо любить, чтобы… стать подругой до смерти, женою?! Все равно я бы не дала воли моему сердцу! Укрыла бы это чувство… до той поры, пока не исполню свой долг… увижу вольными собратьев или… умру. А уж тогда… целый мир… и любовь — все станет далеко от моей успокоенной души.
— Но… ведь он… не забудет… Он… не утешится до конца своих дней, графиня. Он… не переживет! — словно против воли вырвалось у Дельвига шепотом. Но этот шепот потряс его самого и словно обжег слух и душу девушки.
Переведя с трудом дыхание, она так же негромко, с бесконечной грустью и лаской проговорила:
— Переживет… утешится… забудет!.. Человеческая любовь? Она стихийна, вечна, это правда… Но направляется часто к различным целям… Только не к могилам! А я?.. Я даже не имею права любить, как любят все здесь на земле… здоровые, радостные. Вы знаете, моя мама умерла отчего?.. Тот же недуг, он и у меня в груди. Врачи давно сказали… Вот я ездила лечиться на море. Все пустое! Долго мне не жить… Так надо короткий остаток дней посвятить тем, кто так нуждается в малейшем участии, в сострадании, в помощи!.. Своих детей я иметь не смею… не буду! Пусть же темные, слабые, задавленные увидят во мне помощницу и мать! Пусть гибнущие на моих руках перейдут в лучший мир… Вести борцов… облегчать их страдания, врачевать раны — это мой удел… Я ждала, когда пробьет час… И вот осенью минувшего года колокола варшавских храмов, гудевшие в грозную ночь двадцать девятого ноября, и мне прозвучали: «Эмилия, пора!»
При этих словах она поднялась со стула и стояла прекрасная, вдохновенная, словно неземная…
Затем, овладев собой, грустно-грустно, ласково, как бы желая кого-то утешить, повторила:
— А он… если бы он даже был?.. Переживет… утешится… забудет!..
Сделал движение Дельвиг, какое-то решительное слово рвалось из груди. Он задержался на минуту, на мгновение, чтобы еще обдумать… в последний раз… Он не решился сразу…
И в это мгновение раздался стук в дверь, прозвучал знакомый звонкий девичий голосок:
— Дорогая, это я. Можно?
— Входи, входи, Аннет! — как будто обрадовавшись этому голосу, приходу подруги, отозвалась Эмилия.
Дельвиг медленно поднялся, собираясь приветствовать входящую. Лицо его было хмуро и бледно. Какая-то неразрешенная мысль вызвала легкие складки на высоком, гладком лбу. Хмурились слегка брови, упорно в одну точку глядели светлые, мечтательные глаза.
— Сколько новостей я тебе навезла! И каких! — защебетала Аннета Прушинская, давнишняя подруга Эмилии, после первых приветствий с Дельвигом, поцелуев и объятий с графиней. — Ты и представить не можешь!.. Да вы куда же, барон? Вы нам не помешаете. Я верна пословице «друзья наших друзей»… От вас нет секретов…
— Очень признателен… Но… после завтрака, мадемуазель, перед обедом меня ждет баронесса с партией тарока. Неловко, если я заставлю ждать.
— О, тогда не смеем, конечно, задерживать рыцаря-барона!.. Выиграть вам не желаю… Догадываетесь почему?..
Звонко рассмеялась Прушинская. Барон сделал общий поклон и вышел, провожаемый печальным взором Эмилии.
Едва он скрылся за дверью, она подумала с тоской: «Зачем я отпустила его!..» — но сейчас же овладела собою и обратилась к подруге:
— Какие у тебя новости?! Выкладывай!
Дельвиг, переступив порог комнаты, остановился на мгновение, держа ручку дверей.
«Отчего я не сказал ей теперь последнего слова?!» Эта мысль загорелась у него в мозгу, отдалась в груди. Он готов был вернуться, тут же, при чужой девушке сказать это слово… И будь потом что будет!.. Но сейчас же заставил себя оторвать руку от дверей, повернулся, как во сне, и пошел по пустым, обширным покоям замка в гостиную, где обыкновенно сидела и ожидала его пани Зиберг.
А Прушинская уже сыпала своими «новостями». Ее обычно бледное незначительное и доброе личико порозовело, стало не таким детским, как всегда. Словно важность сообщаемых вестей и ей придавала большую серьезность и значительность.
— Да, да! Все-всешеньки верно, что я говорю… Из Вильны к отцу приехал кузен Стах… А он служит в канцелярии у этого… Храповицкого… И уж он за наверное узнал!.. Пять дней тому назад, тридцать первого марта, по-нашему, не по-москальски… была большая битва под Бельки Дембе… И от россиян ни клочка не осталось!.. Наши победили… Дибич ихний к самой Литве отступил… В свой край уходить собирается через наши места… Да наши не дадут… Примут его по-свойски… Потому что Скшинецкий все войско ведет сюда… То есть не в Ливонию, а в Литву и на Жмудь!.. Вот как маму люблю!.. Как Господа почитаю и Матерь Его Святую… Да что ты так смотришь на меня?..
— Не может быть?! Не верю… Такое счастье для меня… Для всех… Дальше, что дальше?..
— Что же ты еще хочешь?.. Комитет виленский, который всех прежде упрашивал: «Погодите да посмотрите!», — теперь, говорят, сам торопит… Отряды собираются… И у нас, и везде… Не сегодня-завтра поднимутся, как один человек… Стах говорил… Он все узнал дорогой… И, знаешь, он тоже пойдет… И, знаешь, я тоже хочу, если… Знаешь, мне будет не так страшно за себя… и за него, знаешь, если я буду поближе к Стаху. — Девушка вдруг заплакала и скрыла лицо на груди у Эмилии, продолжая сквозь слезы лепетать: — Ты возьмешь меня с собою, правда?.. Я не буду бояться. Я помогу тебе во всем. Мы теперь будем шить не одну чамарку, а две, для нас обеих. Да… да… правда?.. Ты возьмешь меня?
— Возьму, возьму, успокойся, милая, глупенькая моя. Так ради него — и ты хочешь идти?..
— Вовсе не ради него! С чего ты взяла? — отклоняя голову, еще не успокоясь, отирая глаза и покрасневший носик, обиженно возразила Прушинская. — Вот какая ты! Сказать тебе просто и словечка нельзя. Ты все поддеть готова! Я пойду… ради отчизны! А он?.. Конечно, и он мне брат, хоть и двоюродный. А мы должны любить своих близких! Так написано, даже… Разве ты не знаешь?
— Ну, уж если «написано»!.. Тогда извини! Я не права перед тобою. Ну, Анельца, утри еще свои мокрые глазки… Попудри носик… Так!.. И примемся за работу!
— Нет, постой! Какая я глупая, в самом деле! Знаешь, главное тебе я не сказала! Твой кузен Фред сказал моему кузену, чтобы ты была послезавтра же в Антуазове, если поспеешь… А не позже двадцать шестого… по здешнему счету, по-москальскому, знаешь!.. Через два дня, значит. Они с братом Люцианом возвращаются от родных в Динабург, в свою школу… Сюда, в Ликсну, говорят, им ехать неудобно. Зовут тебя в Антуазово…
— Конечно, я приеду. Я знаю, мы условились так… Чтобы тетя не тревожилась сама… и нам не помешала. Она меня любит… очень… Но мы не во всем сходимся с моей милой старушкой. Я буду! Что еще?
— Теперь больше ничего. Теперь — все! Как маму люблю! Давай работать, Эмильца, любовь моя!
Перед самым обедом, когда уже закат побагровел и золотом оделись края туч на западе, когда Дельвиг, большой любитель и знаток лошадей, с живым, румяным толстяком, управляющим и мажордомом замка паном Сональским, пошел взглянуть на венгерца — тяжеловоза, купленного недавно, способного легко катить в город ежедневно колымагу с маслом и сыром, которую вытягивали раньше две лошади, пани Зибергова, заглянув в девичью и даже на кухню, постучала в дверь Эмилии.
— Девчатки, живы ли вы?
— Здесь мы, здесь, — раздались два громких голоса, как будто взволнованных чем-то.
Удивленная тем, что племянница не сказала обычного: «Войди же, теточка!», старуха раскрыла дверь, вошла и остановилась в изумлении.
— Что это за маскарад?.. Как будто и не в пору! — вырвалось у нее.
Прушинская стояла на коленях перед подругой и оправляла, подкалывала на ней свободно сшитый чамар из простого синего солдатского сукна с амарантовыми выпушками. Конфедератка, опушенная барашком, с гранатовым верхом и темные шаровары лежали рядом на диванчике.
Прушинская смутилась при появлении старухи так, что даже не поднялась с колен. Эмилия, тоже взволнованная, но сохраняя наружное спокойствие, весело ответила:
— Это не маскарад, теточка! Это я для походов готовлю себе удобное платье, чтобы не отличаться от товарищей, не стеснять их и самой чувствовать себя лучше…
Замахала руками тетка:
— Святой Боже! Пресвятой Иисусе! Непорочная Дева Мария, Матерь Бога Распятого!.. Я уж думала, ты образумилась… Оставила свои безумные планы… А выходит…
— А выходит, тетя милая, что Господь все ведет к лучшему! Разбиты россияне в Польше, над Вислой… Сюда скоро их погонят наши, за российскую грань… Вся Литва, Жмудь, Волынь — готовы взяться за оружие.
— И тебя одной там недоставало, моей безумной племянницы, чтобы решить судьбу войны! Побойся Бога… Пожалей если не себя, так меня! Подумай: женское ли дело драться на войне?.. Резать людей! Что это, куры, что ли, или индюки, кормленные к празднику?.. Так и то ты не любишь видеть и думать, как их бьют… А тут!.. Эмильца, да что с тобой? Ты шутишь, да? Не пугай меня, старуху… Ты знаешь: одна у меня… И вдруг!.. И что задумала! Небывалое дело!..
— Бывалое, теточка… Уже в полку «кракусов» в Варшаве две краковянки-девушки служат… Дембинская и Дембицкая зовут их, тетуся! И первая даже так отличилась, что носит офицерские погоны… Командует целой ротой бравых жолнеров! Не все же девушки только замуж выходят, хозяйство смотрят и детей мужу рожают!
— Постыдись, Мильця! Что ты говоришь?
— Самое обычное дело, теточка. Неужто же я тебе не должна говорить того, что думаю, в чем убеждена? Неужто мне надо обманывать мою вторую маму?.. Мою милую…
— Но, но, лисичка, не лиси! Меня не умаслишь! Бог их знает, какие там краковянки-девицы. Может, им и место только в солдатской кошаре… Мало за какую храбрость чин им могли дать… те же их начальники? Есть и женщины такие, что хуже мужчин… А ты же — не Дембицкая никому не ведомая какая-то… Ты — графиня Эмилия Платер… Богатая невеста, первая в нашем краю… И вдруг! Вспомнить не могу! Подумать страшно! И зачем? И для чего? Все девичья дурь! Замуж давно пора, вот ты и чудишь… Больше ничего!
— А если и так, тетуся! Там я себе какого мужа найду! Героя! Прославленного во всей Польше!..
— Бунтовщика голоштанного… который позарится на твои монетки…
— Такого я не выберу, тетя! Ведь и я хочу славы добыть… вот как Жанна д'Арк… Вы же о ней хорошо знаете, тетя. Столько читали!
— Милочка, я считала тебя умнее! Это когда еще было! И не у нас! У французов у шальных! У них вон давно ли поручик — императором сделался… всей Европой помыкал, пока не послали на океан, на остров рыбу ловить!.. И она же была простая мужичка… да еще оверньятка, полоумная! И за короля воевала, а не против, как эти… варшавские сорвиголовы!.. И то — ее огнем сожгли, как ведьму! Подумай, Мильця… Какое сравнение…
— Правда, не совсем удачно для вас я выбрала, — ласково улыбаясь, согласилась Эмилия. — Ну, вот вспомним наших магнаток… Ту же княгиню Радзнвилл, которая, как верный паж, всюду за мужем на войну ходила… Александра-Катря Чернецкая, воевавшая рядом с отцом!.. А пани Хшановская, что отстояла Трембовлю от турок и мужа от них спасла?!
— Так то же с отцом… с мужем! Побойся Бога, Мильця… Не сведи меня раньше времени в могилу!
— Не хочу я этого, тетя… Видит Бог! Еще раз извиняюсь… Ты права! У меня — отец не идет защищать родину. Он… он и помнить не хочет о своей дочери, о своей отчизне! А мужа?.. Его тоже нет! Ну, тогда еще выше пойдем! Тебе больше, конечно, понравится, если я припомню славную Ядвигу, крулеву-красавицу, которая прогнала венгров, сама ведя войска!
— Милочка, побойся Бога! Это было полторы тысячи лет почти назад! Я же еще не забыла польской старины…
— Ну, а крулевы Елена, Лижбета?.. А… Да что перечислять! Я — полька. И чувствую, что надо идти… и пойду… И вернусь к вам счастливой… И умру вблизи вас… вы похороните меня около моей мамы… Но я не буду жалеть, что рано умерла. Что-нибудь для людей, для родины и я совершу за те дни, какие мне еще остались.
Просто говорит Эмилия, как будто не о себе. Но говорит правду. Чахотка, рано убившая ее мать, тронула и грудь девушки, высокую, нежную, — своей губительной рукой… Знает это хорошо старуха… Оттого больше и боится отпустить от себя племянницу, хотя не говорит ей о своих опасениях… Но теперь — она не выдержала…
Частые-частые слезы, как бывают у детей, тихо, беззвучно покатились у величественной пани шамбелянши, по щекам, еще полным, румяным, но уже покрытым частой сетью мелких старческих морщинок…
Ничего не говоря, она прижала к груди голову девушки, покрыла поцелуями ее лоб, щеки, шепнула:
— Разве мне сговорить с тобою, маленькая упрямица!
И медленно пошла из комнаты, тяжело вздыхая, отирая слезы тонким батистовым платком с крупной меткой под короной.
Почти у самого порога она остановилась и осторожно заговорила:
— Ты об одном еще не подумала, Эмилия… Если что случится?.. Знаешь, какие теперь законы!.. Осадное положение!.. И новые указы… Ты будешь лишена земель… И… я… тоже, на старости лет… могу остаться без крова… Я не в укор тебе… Напоминаю только… Мне много ли надо, старухе?.. Кто-нибудь из родни приютит и прокормит до смерти. А ты же знаешь, сколько бедных людей я поддерживаю. Даю и в костелы, и в монастыри… в память моего покойника и твоей мамы. И для спасения своей и твоей души… Кто им поможет тогда?.. Я не в укор… Только подумай, Эмильца, раньше, чем…
Недосказала, сдержав подступающие рыдания, вышла старуха.
Неподвижно, как изваяние, стояла несколько мгновений Эмилия, глядя вслед старухе, опершись напряженной рукой о плечо Прушинской, которая так и застыла, сидя на полу, у ног подруги, напуганная, даже притаившая дыхание.
Медленно сняв руку с плеча подруги, проведя по глазам, как делает это человек после сна, Эмилия, наконец, проговорила:
— Анельця… Поди утешь ее… Если я приду, она больше расплачется. Поди.
Как-то странно звучит голос Эмилии. Словно пустой он; словно не из живой груди он вышел, а прозвучал в воздухе без выражения какой-то инструмент, способный хорошо, до обмана, подражать человеческой речи. И конечно, этот странный звук, а не простые слова Эмилии так напугали Прушинскую, что она быстро вскочила и, ничего не сказав, выбежала из комнаты.
Этого ждала Эмилия.
Заперев дверь на ключ, она отдернула занавески молельни, опустилась на колени перед Распятием и стала тихо, почти беззвучно молить;
— Научи, Распятый за нас! Что делать?.. Как поступить?! Я опять сбилась с пути. Не знаю, что делать?! Жалеть ли близких, которые тут?.. Или — всех?.. И кто более несчастен?.. Кому я лучше помогу? Кому больше нужна?.. Научи… просвети… помоги! И ты, Пресвятая Дева, наша женская поборница и помощница!
Так молилась или, вернее, — мысленно обращалась Эмилия к Божеству. Потом ее губы стали шевелиться… шепот стал внятнее… Почти вслух стала она читать молитву, которую польки твердили в эти дни.
— Тебя молю, о Дева Пречистая! — шептала она. — Дай народу моему, родной земле пошли победу!.. Под охраной Святого Евангелия — да процветает снова Польша, так часто и отважно служившая опорой всему христианству долгий ряд веков! Да сбережет она миру мир и вольность народов!.. Дева Святая… Еще молю! Если за все былые и настоящие муки не ждет радость и награда мою отчизну… Если Творец Всемогущий присудил нашему бедному краю претерпеть муки, как Сын Твой их терпел на кресте… И должна отчизна умереть, поруганная… молю, Пресвятая! Сделай так, чтобы слава ее слилась со славою целого мира до скончания веков!.. И ныне… и присно… и вовеки!.. Аминь!..
Помолчала, снова зашептала девушка не то молитвы, не то жалобы на судьбу, на личную горькую долю и сиротство.
Все сильнее ударяет она по груди напряженной рукой… Поклоны делает все чаще… Наконец — упала на пол, припала телом и лицом к ковру, крестом раскинула руки и так замерла, продолжая шептать молитвы, часто содрогаясь всем юным телом… Жар молитвы и пламя вдруг вспыхнувшей лихорадки в крови слился в одно, вызывая яркие пятна большого румянца на бледное лицо, заставляя сохнуть нежные, розовые губы…
И вдруг показалось Эмилии, что стены молельной раздвинулись. Их не стало, как не стало и всей комнаты кругом…
Она видит поле битвы… Бой идет к концу… Враги бегут… Один из вождей, самый прекрасный, подъезжает к ней и говорит:
— Ты спасла Отчизну… едем… Теперь ты же должна быть при моем короновании…
Она видит древний храм Варшавы… Корону Пястов и Ягеллонов возлагает архипастырь на главу избранника народа… И он ее, Эмилию, ставит рядом с собою… тоже велит увенчать короной…
Потом исчезло все при восторженных кликах толпы, при звуках музыки и залпах орудий…
Все исчезло, все стихло… кроме пушечных залпов… Они уже не звучат торжественным салютом с бастионов Варшавы… Это — пушечная перестрелка в разгаре битвы…
Эмилия ведет свой полк… Ее знамя высоко реет над людьми… Крепко держит его знаменосец…
Вот мчится вдали им навстречу конница неприятельская.
— Залпами остановим их! — говорит Эмилия своим воинам. — Дружными залпами снимем с коней. Не дадим доскакать близко. Не тратьте, берегите, жалейте патроны! Ради отчизны! Если уж не двоих, так одного неприятеля должна уложить каждая пуля. Откуси патрон… Подсыпь пороху!.. Огонь… Не теряй ни минуты… Заряжай снова!..
Гремят залпы… падают всадники… Но часть их уцелела… Доскакала… Пики опущены… направлены на ее воинов… Те отбиваются, рубят саблями, колют штыками… И вдруг одно железное жало впилось ей в грудь… слева… над сосцом… Зажгло, заныло… Она почувствовала, что умирает… И в эту минуту увидала снова свою комнату… Распятие на стене… Оно стало большим… Изваянный на нем Спаситель, словно ожив, зашевелился, сошел с креста, по воздуху реет к ней!.. Как странно! Его скорбное лицо изменилось… стало похоже на лицо ее отца, который не захотел принять к себе Эмилию после смерти матери. И еще на одно лицо, на Дельвига походит Он, Кто приближается к ней… Кто склоняется тихо и дает ей долгий, нежный, блаженство дарующий поцелуй…
Боль в груди стала еще острее… Уже подошла к плечу… Кровь начинает подниматься из груди… наполняет рот…
Слегка застонав, лишилась чувств Эмилия… А тонкая струйка алой, пенистой крови на самом деле показалась изо рта, темным пятном сбежала на ковер…
Когда минут через десять Прушинская постучала в дверь и позвала обедать подругу, Эмилия только стала приходить в себя.
Медленно поднялась, добралась до двери, опираясь о стены, отперла и опустилась тут же на стул.
— Иезус-Мария! Что с тобою, Эмиличка! — вскрикнула напуганная Прушинская.
— Ничего… Молчи! Слышишь… Помоги переодеться… Молчи… Не спрашивай… помоги умыться… Скорее… Чтобы не заставить всех ждать. И помни: молчи. Это — так… У меня бывает кровь!.. Никому… ни тете… никому, молчи…
Опираясь на руку подруги, вышла к столу Эмилия.
Все заметили, как она выглядит, какие черные тени у нее залегли под глазами. Но никто не проронил ни звука. Да и другие выглядели тоже довольно плохо.
От слез нос и веки припухли у пани Зиберг. Бледен, угрюм Дельвиг… Совсем убитая, несчастная, сидит и ничего не ест панна Аннета, хотя и любит покушать, а стол пани Зиберг уставлен отборными деликатесами…
Почти в молчании проходит обед. Только мажордом в ливрее вполголоса отдает приказания лакеям, стоящим за каждым стулом и меняющим блюда. Обронит слово-другое хозяйка, ответит ей гость. И опять молчание.
После обеда скоро собрался домой Дельвиг. Эмилия, как всегда, провожала его…
Остановясь в одной из комнат перед самой прихожей, Дельвиг заговорил:
— Не провожайте дальше, графиня. Вы же… не совсем здоровы, как видно, сейчас… А все-таки… я должен вам кое-что сказать…
— Прошу вас… Говорите!
Усталым, чужим каким-то голосом сказала это Эмилия.
— Я… глубоко ценю откровенность, которою вы удостоили меня сегодня, графиня… И должен отплатить тем же… Я ведь должен проститься с вами… и с баронессой! Я уезжаю… перевожусь в Бобруйск… Постараюсь забыть все дурное и хорошее, что пережил здесь. Постараюсь даже утешиться, как, по вашим словам, неизбежно для людей. Так лучше!
— Да… так лучше, вероятно! — словно печальное, слабое эхо раздалось в ответ.
— Вот и вы говорите… Я, конечно, перед самым отъездом еще загляну… А сегодня… есть одна важная весть… Я не мог написать… не мог никому поручить… Вы не волнуйтесь… Еще ничего опасного нет… Но уже дали знать из Овсейевского бора… Что там собираются холопы… и люди из соседних местечек и хуторов… много людей… Что там слышна стрельба… Идет какое-то военное ученье… И что видели вас там… Вы приезжали… уезжали… Если можно, поберегите себя… и других… Власти собираются сделать наезд. Будьте готовы… Я узнал это не по службе. И считаю себя вправе… Ну, словом, все равно! Вы должны меня понять…
— О, конечно! Благодарю вас, барон. И по возможности постараюсь исполнить ваш… последний… дружеский совет…
— Последний? Кто знает… Но… может быть, и так! Простите! Прощайте.
Крепко прижались его сухие губы к пылающей руке девушки, и он вышел, даже не ощутив прикосновения губ девушки к его волосам, до того оно было легко и мимолетно…
«Зачем я отпустила его?» — снова мелькнуло в уме Эмилии, когда смолкнул шум твердых, быстрых шагов.
«Зачем… зачем я говорил так с нею?.. Зачем не сказал другого?.. Как я мог ее оставить?» — в сотый раз повторял себе Дельвиг, пока конь его ровной, размашистой рысью подвигался к Динабургу. Но каждый раз, не находя ответа, только давал шпоры коню, подбирал туже повода, и конь после порывистого скачка на некоторое время менял прежний ровный бег на быстрый, широкий галоп…
Радостные вести сообщили Эмилии ее двоюродные братья Фердинанд и Люциан Платер в Антуазове, у дяди Гаспара, куда она приехала к вечеру, 26 марта по старому стилю, а по новому 10 апреля, вместе с теткой, побоявшейся отпустить больную еще девушку одну.
После ужина целая маленькая сходка собралась в комнате, отведенной для Эмилии. Явились сюда ее кузены Фердинанд, Люциан и даже Владислав, мальчик 13 лет. С ними пришел еще один ученик школы подхорунжих в Динабурге, Александр Рыпиньский, не меньше всех трех кузенов давно и безнадежно влюбленный в Эмилию. Десятилетняя Магда Платер тоже, как мышка, притаилась в уголке большого турецкого дивана и с пылающим личиком жадно ловила каждое слово долгой оживленной беседы.
Братья, спеша, перебивая друг друга, сообщили, что уже вчера утром отважный молодой Юзеф Грушевский и Бенедикт Калиновский, не дождавшись из Либавы предводителя, Станевича, который поехал закупить оружие, опасаясь, что всех арестуют ввиду доноса, посланного Храповицкому, — подняли знамя восстания в Россиенах, по примеру шляхтича Борисовича и кмета Гидрима. 200 человек российских гусар, весь гарнизон города вместе с капитаном Бартоломеи перешел за прусскую границу, спасаясь от плена. Отряды и вожди везде готовы. Херубович и Шемиот в Шавлях, Яцевич в Тельшеве назначили общий сбор отрядам через два дня, на воскресенье… Вот и вся Самогития готова! В Тельшеве уже устраивается школа инструкторов, чтобы подготовить руководителей для народных легионов. В Ворнях будет пороховой завод и литейный — для пушек. Не хватит меди — ксендзы обещали отдать все колокола из костелов… Викарный, Петрулевич из Вильно, член Тайного Комитета, вместе с другими, с Пшедлавским, с Волловичем, Непокойчицким и Залесским — дают средства, сообщили также, что на днях в Полангене пристанет большое английское судно с оружием для «партизан». Юзеф Заливский перед отъездом к своим отрядам и эмиссар из Варшавы Ян Гротковский поручились, что шхуна уже вышла в путь.
При помощи банкира Гранмана полковник пан Жерминьский устроил все дело… Литва тоже не отстает. Виленские отряды собрались под знаменами капитана Гицевича, Парчевского и князя Огинского Гавриила, с которым идет на бой и его княгиня Габриэла… Они поднимут Троки и всю округу кругом!..
— Княгиня идет? — спросила только Эмилия, слушавшая рассказы братьев, снова умолкла и продолжала слушать, вся оживая, розовея от желанных вестей.
— Да, и княгиня!.. Ковно, Свенцяны, Видзь — все сразу запылает, как в огне! Полковник Пшездецкий поклялся: жив не будет или в тот же день овладеет Ошмянами… Там большие склады патронов и казна войсковая россиян. А в Поневеже — граф Потоцкий и Кароль Залусский соберут временное правление. У Залусского уже шесть тысяч людей наготове. Перед началом дела! Что же будет потом… Он собирается напасть на Безобразова в Вилькомире. Там их главная сила…
— А в Беловежье — пан Ронко уже образовал целую «лесную гвардию» из своих сторожей. Оружие у них отборное, от россиян! — перебил Фердинанд. — Как станет Дибич отступать из-под Варшавы, они ему испортят много крови… А из-за Немана скоро придет большой корпус коронных регулярных войск нам на помощь! Вильна, Ковно, Гродно, все магазины и склады россиян заберут… Тогда…
— А что же ваши товарищи? Как они решили? — спросила Эмилия, все время занятая одною мыслью. — Что вы сами, милые кузены, намерены теперь делать?
— Школа наша, как один, все сто восемьдесят человек, готовы… хоть завтра в бой! Конечно, следить за нами стали. Да мы тоже умеем обмануть начальство. И если только нас, как всех офицеров-поляков Литовского корпуса, не вывезут в Россию… Знаешь, более тысячи их услали.
— Не вывезут! — перебил Фердинанда младший брат. — Мы раньше сами уйдем… Для того и возвращаемся теперь в школу, чтобы собрать всех и вести к Залусскому…
— А не лучше ли, кузены, — вдруг решительно заговорила Эмилия, — завладеть Динабургом, взять в плен гарнизон и отдать крепость своим, как первый дар отчизне и свободе?
— Овладеть крепостью? Ты шутишь, кузина! Раньше еще, пожалуй! Но теперь, когда россияне начеку… Караулы давно усилены. А после истории в Россиенах… как только слух дойдет к Данилову, к коменданту нашему… Он сам станет везде караулить, не то…
— Вздор! Слухи не скоро дойдут. А караулы у вас уже не везде такие строгие. Вот ворота у цитадели, где пороховой погреб… При нем — всего один часовой! Арсенал деревянный — даже не в стенах крепостных, на воле… И у него тоже нет патрулей, а два часовых. С этого и начать…
— Сестричка, да ты знаешь лучше, чем мы сами. Если так? Конечно, надо попытаться. Но если будет удача… кому мы сдадим крепость?
— Цезарю с его отрядом. Я знаю, к нему придет душ пятьсот… Кстати, будет он здесь?
— Нет, сестричка, — своим женским голосом отозвался Владислав. — Цезарь меня нарочно прислал… В воскресенье мы в Дусятах начинаем тоже! Цезарь был в Лужках, у мамы. Оттуда прямо домой и поехал, чтобы приготовиться. И если ты хочешь, мы поедем вместе.
— Если хочу? Какой вопрос! Едем завтра. Я тоже буду помогать Цезарю. Только знамя мое еще не готово… Оружие мне надо.
— Оружие? А мы кой-что привезли для тебя, сестричка, — объявил Люциан, — сейчас принесу.
Он быстро вышел.
Рыпиньский, не сводивший влюбленных глаз с Эмилии и молчавший во все время беседы, сразу побледнел, потом стал пунцовым, сжал крепко свои полные, пухлые губы, словно стараясь удержать слова, готовые сорваться, и вдруг громче всех заговорил:
— Графиня Эмилия… тоже решила сама?.. То есть хочет самолично?.. Собственной особой… и даже… с оружием?..
— Нет, пане Рыпиньский! — ласково улыбаясь, ответила Эмилия. — Я возьму прялку, веретено и кудель, сяду верхом, буду следовать за вами и прясть ниткУ, пока вы будете сражаться и умирать. Хорошо?
— И… эт-то… не совсем!.. — заикаясь больше обыкновенного, очевидно теряясь, но так же громко возразил Рыпиньский. — Наше дело… мужчин — драться… и умирать! А для пани и паненок… Для особ женского, нежного пола — есть иное… Им нельзя умирать.
— Некому будет новое поколение давать Польше, кормить девочек и благонравных, смирных мальчиков? — с явной иронией уже бросила девушка.
Рыпиньский почувствовал укол, вспыхнул еще больше.
— Я не забочусь о «смирных… мальчиках»… и наше дело кончится нашей гибелью… Но я иду… готов пойти на явную гибель! И буду рад, если от э… этого хоть немножко легче… лучше будет моей родине!.. Но гибнуть молодым… о-оо-со-обам? Это зачем же! Да еще — зря!
— Вот как? Пан идет без веры в успех дела? Идет на бесплодную жертву и — оберегает меня! Благодарна пану! — совершенно серьезно заговорила Эмилия. — Но… я просила бы пана сказать, на чем он основал свое такое решение? Интересно.
— На… н-на-а че-ем?.. На том, на че-ем и многие, которые не увлекаются слишком сильно… а смо-отрят на вещи ясно! Польша… д-ааже со всеми старыми провинциями, с Волынью, Литвой и другими… Это с одной стороны… С другой — Россия! Надо ли объяснять!.. Сорок лет уже лежит на нас рука победителя… И мы ничего не могли поделать… Три раза разрывали, делили Речь Посполитую… И каждая ее попытка помочь себе — вела только к худшему… Почему же можно ду-умать, что теперь будет лучше?..
Одушевясь, Рыпиньский говорил убедительно, даже почти не заикаясь.
— Ах, вот о чем пан!.. Ну, тогда и я позволю себе порыться в учебниках истории… Пан помнит, что Италия больше тысячи лет была под властью мелких швабских династий, прежде чем вернула себе свободу. Десять веков мавры были господами в христианской Испании… Три века турки держали в ярме греков… И женщины наравне с мужчинами помогли ее освобождению… Столько же… почти больше двухсот лет торгаши-англичане хозяйничали в Америке… Да что тут? Даже наши теперешние господа, россияне!.. Разве они не были двести лет в самом тяжком рабстве, под игом нестройной татарской орды? А теперь — что мы видим?! Народы, которые верят, что они должны освободить себя от чужой власти, — всегда освобождаются… хотя бы и не скоро… Но и жизнь целых народов меряется не годами, как юная жизнь нетерпеливого пана Рыпиньского, как вообще человеческая жизнь! Тут счет идет на века!.. И никто никогда не знает, сейчас ли зазвучит благовест свободы или через двести — триста лет?.. И кто именно своей жизнью, своей жертвой может ускорить желанный, святой этот миг? Вот отчего я пойду — теперь… И пойду с полной верой в успех, а не как жертва под нож мясника!..
Рыпиньский молчал. Заговорили все другие, в том числе и Люциан, пришедший с небольшим, чудной работы ружьем в руках.
— Сестричка, милая! Как ты верно сказала… Умница наша…
— Мы то же самое думали… Вот выразить не умели…
— Сестричка, дай… я поцелую тебя! — робко, вся рдея, шепнула Магда, подобравшись к Эмилии из своего укромного уголка.
— Магдуся! — крепко целуя девочку, воскликнула Эмилия. — Ты ещё здесь?.. Напрасно. Спать пора, деточка…
— Нет, сестричка… Я еще немножко!.. Завтра же нет у меня ученья… Моя мисс нездорова…
И быстро спаслась опять девочка в свой укромный уголок.
— Вот, сестричка, — взяв ружье у брата, сказал Фердинанд. — Наш тебе подарок. Оно небольшое — но бьет далеко и верно!.. И так как ты твердо решила вступить в наши братские ряды, — мы посвятим тебя, как оно водилось встарь! Опояшем тебя, и ты будешь «рыцарь-девица», защитница отчизны и вольности!..
— Охотно принимаю посвящение! — опускаясь на колени, серьезно отозвалась Эмилия и, подняв правую руку, продолжала: — Принимаю обет служения отчизне и воле!.. Клянусь защищать слабых и права человеческие до последнего вздоха моего!
— И мы клянемся! — став рядом с нею, так же торжественно произнесли молодые люди, — И я… и я клянусь! — стоя на диване на коленях, как нежное эхо, отозвалась Магда. В ее голосе звенели слезы, личико было не по-детски строго и бледно…
В воскресенье 29 марта (10 апреля н.с.) в местечке Дусятах, лежащем при замке братьев Цезаря и Владислава Платеров, по случаю праздника рано началась служба в местном костеле.
Но еще задолго до этой службы костел, его ограда, весь луг перед ним были залиты народом: мещанами, селянами, мелкими шляхтичами, арендаторами и хуторянами, словом — всяким окрестным людом, пришедшим и съехавшимся сюда со всех околиц, лежащих верст на 40–50 вокруг.
Эмилия Платер явилась сюда в пятницу, 27 числа, вместе с Цезарем, с Юзефом Страшевичем и Прушинской, стала объезжать окрестные деревни и выселки, фольварки и хутора. Платеров все знали, любили… Но и без того сошелся бы этот люд, потому что дивные вести разнеслись по земле.
— Землю и волю нам дают сами паны! — говорили друг другу холопы. — А мы только должны помочь себе же и вместе со шляхтой воевать против россиян.
Гудела, колыхалась, как огромное озеро в бурю, площадь перед костелом, залитая людьми.
Началась, отошла служба… Невероятное усилие сделала толпа, наполняющая стены храма сплошным материком, и пропустила на паперть ксендза-пробоща в белом облачении, предшествуемого двумя служками, колокольчики которых, слабые, звонкие, словно чудом были слышны, прорезая гул и говор толпы. Распятие колебалось над головами в руках служки… Реял дым кадила, неслись звуки органа… Потом стихли.
Короткое задушевное слово сказал ксендз о том же, о чем шел раньше говор в толпе: о воле, об отчизне, о жертве, которая будет сторицей вознаграждена — вечным блаженством на небе для павших, свободой на земле для живых… Потому что сам Бог велит стоять за веру святую, за родной край…
Опять зазвучал орган. Все, кто был в церкви, запели священный гимн. На паперти, на площади подхватили торжественный напев — и он разнесся широко во все концы, трогательный и простой, как печаль рабов-холопов, как природа этого края неволи и нужды…
Словно отзываясь гимну, от дусятского леса послышался звук военных труб, рокот барабанов, бьющих поход.
Показался на опушке отряд человек в 200 конных и пеших. Ружья, кинжалы или тесаки и сабли были у всадников, одетых в чамары с желтыми газырями, в конфедератки с кокардами белого и золотистого цвета. Пистолеты блестели у иных за поясом. Несколько десятков пеших имели карабины или старые картечные ружья. А у остальных сверкали остро отточенные косы, прилаженные на довольно длинную рукоять, вроде рогатины. И у всех — кокарды цветов Литвы: белого с амарантовым.
Граф Цезарь и Эмилия, одетая по-мужски, ехали впереди отряда. Большую шелковую хоругвь с вышитым на ней шелками изображением Матери Божьей Остробрамской держал в руках всадник, следующий позади Эмилии. Тут же и Прушинская, одетая тоже по-мужски.
У костела шествие остановилось, миновав широкий проход, который быстро очистила толпа в своих тесных рядах.
Графиня, граф, весь отряд, стоящий кругом, преклонили колени. Ксендз взял ковчег с Дарами Святыми и осенил им крестообразно толпу, отдал Дары ключарю, приняв взамен кропило, погрузил его в сосуд со святой водой и окропил хоругвь, воинов, юных вождей, сестру и брата, и весь народ.
Снова зазвучал орган. Ксендз вернулся в храм. Отряд направился к замку, где расположился бивуаком во дворе и под деревьями парка.
Эмилия, поднявшись на ступени паперти, обратилась по-литовски к толпе:
— Люди добрые! Верные слуги Христовы! Мне ли, живущей в покое и холе, говорить вам о нужде и недоле?.. Мне ли сосчитать пролитые вами слезы, капли вашего жаркого пота, упавшие на чужие нивы от непосильного подневольного труда?.. Вы их знаете и сочли давно… Вы помните, вы слышали, что было еще при ваших отцах… Старики видели сами, как жилось раньше: не был прикован селянин к тощей, чужой земле, как убийца на каторге к стенам своей кельи… Он платил за нее хозяину, сам был хозяин в своем углу, а не в крепях, не раб… не быдло, которое годно лишь влачить барское тягдоК. Миллиона людей нет в наших краях селян и шляхты. А на каждую сотню людей одна школа приходилась… десять тысяч семьсот семьдесят семь школ принимали и детей пахаря, и шляхетских… А теперь что стало! Не буду говорить, чтобы не прибавить лишней горечи воспоминания к тому горькому житью, которое вы несете… Вы задавлены поборами, податями… Тьма вечная — удел крестьянских детей. Потому что дорога в школу закрыта для них навсегда! Малюток отрывают от материнской груди, делают кантонистами. Можно ли терпеть все это дольше, люди крещеные?!
— Нет, графинюшка наша!.. Нет, Эмиличка!.. — зарокотала площадь.
Особенно выделялись звонкие женские голоса, напря-: женные, трепетные, как боевой клич, тревожные и сверкающие на фоне низких, густых крестьянских голосов, сплетенных в один общий гул.
— Что делать, научи!.. Тебе поверим! — дрожат тоскливо и нервно женские выклики жен и матерей, которым напомнили о детях, отнятых у них навеки!
— Научи-и-и-и! — гудит крестьянская громада; расстилается звук по земле. Отзывается земля тоске детей своих… Гудит и она отзвучно.
— Мне ли учить! Уж нам даны примеры! Помог Иисус Польше… Поможет и нам… если мы сами захотим помочь общему делу…
— Хотим… Хоти-им!..
— Ну, так за дело! И да поможет нам Матерь Пресвятая!.. Честь вере! Отчизне слава!.. Да живет Литва!
— Виси вира эйкэм! Живи Лийтувай! Все заодно, — повторила ее клич целая громада люду крестьянского, мещане, арендаторы, даже несколько евреев, прибежавших издали поглядеть, что делают без них холопы с панами дусятскими?..
— Живи, Эвмилия! Антамжу ажженуйю! — снова загремело по рядам, отдалось в гулких, старых стенах костела… Народ слал привет своей заступнице, помощнице постоянной, утешительнице в горькие часы.
Девушки, бабы прорвались вперед, подхватили Эмилию и с кликами понесли ее к палацу. Пошел за ними Цезарь, говоривший с народом на другом конце луга. По пути зазвучала старинная стройная песня прежней вольной Литвы:
Лэхи, Жмудь, Литва — за дело! На врага ударим смело! Слава вере, слава Богу. Нам дадут они подмогу! Рек священных берега Мы очистим от врага. Неман, Висла, Днепр, Двина — Это все семья одна…Еще не затихла песня за широкими воротами замка, как целое местечко Дусяты обратилось в большой военный лагерь…
Кузнец, не глядя на праздник, открыл свою кузню. Десятки помощников даровых явились туда. Одни отбивали и точили косы, другие строгали рукоятки, насаживали готовые лезвия… А сам кузнец со своим подручным быстро готовил косы, прилаживая на широком их конце петли железные для насадки на древко…
Когда на следующее утро отряд Платеров выступил в поход, за ним шел второй, крестьянский… На триста кос еще увеличилась вчерашняя банда в 100 человек, пришедшая из леса дусятского…
Далеко за околицу провожали девушки, молодцы, старухи своих сыновей, своих мужей, братьев, женихов. Молча шли они, бледные, с горящими глазами…
Прижимали к себе детей, сидящих на руках… Посылали уходящим прощальные приветы рукой… Долго… долго…
И только когда скрылся отряд вдали, за крутым поворотом лесной дороги, горький протяжный плач, причитанья и стоны вырвались у всех, как из одной страдающей груди… Раньше не смели заплакать они, покинутые… Не смели издать ни звука, ни жалобы!..
Через неделю целый край, кроме Вильны, был захвачен повстанцами. Они очистили города от слабых гарнизонов, состоящих по большей части из инвалидных команд, но обычаю той поры.
Динабурга не удалось захватить тамошним подхорунжим и Эмилии, хотя она прямо направилась к этой крепости со своим небольшим, растущим по пути отрядом.
Из 180 учеников — всего 18 пришло под знамена повстанцев. Остальных успели вовремя под конвоем отправить в Вильну, где все-таки было около 6–7 тысяч гарнизона.
Убедясь, что Динабург ускользнул, Эмилия со своим отрядом двинулась в сторону Поневежа, на соединение с графом Каролем Залусским, главным вождем, вокруг которого, как говорили, уже собралось целое народное ополчение.
По пути пришлось столкнуться Эмилии с небольшим российским отрядом у Довгел и рассеять врага; но при второй схватке близ Иезьориц дело, сначала сулившее удачу повстанцам, принесло им полное поражение, когда не хватило свинца и пороха; пришлось спасаться в лесу от погони россиян…
Под Смильгой застала Эмилия Залусского, у которого, правда, собралось больше 7 тысяч ополчения, но из них 5000 «косиньеров», без ружей, с одними косами.
Рыхлый, слабовольный, далекий от малейшего понятия о войне, тем более — народной, граф принял Эмилию в тесной хате, как на паркетном полу своего роскошного палаца, рассыпался в любезностях и похвалах мужеству и решимости такой юной и прекрасной особы…
Сразу, решительно прервала его Эмилия.
— Забудем мой пол, и лета… и наружность, граф! Графу известно ли, что я надела этот простой наряд воина не ради светской причуды… И прошу принять меня простым рядовым в отряд графа.
— Что говорит графиня! — с неподдельным удивлением и ужасом произнес Залусский. — Рядовым в мой отряд!.. Еще я понимаю: офицером… Тем более что графиня Эмилия выказала и свое воинское дарование, и мужество… Да, да, повторяю: мы слышали…
— Все равно, как хотите. Постараюсь хорошо вести своих солдат… Граф может быть спокоен. Я знакома и с теорией войны… И с народными способами вести борьбу… И я…
— Боже мой! Панна графиня не так меня поняла, к сожалению… Я бы готов… но вакансий сейчас нет никаких… Офицеров, к сожалению, чуть ли не больше, чем жолнеров у меня… Да, да. Это первое… Второе…
— Ах, есть еще и второе? — уже начиная горячиться, спросила Эмилия.
— И очень важное. Я слыхал, как панна графиня делила с воинами труды и усталость походов… Я слыхал…
— Оставим, что слыхал граф Кароль. Что он мне хочет сказать по делу?
— Что панна графиня долго не выдержит… Это грубое сукно… — слегка коснулся он рукава чамары Эмилии. — Вот, оно еще влажно от сырости. Эти сапоги… Скачка верхом по целым часам… Не говоря об опасностях боя… Хрупкое здоровье панны графини… Я слышал о нем… Оно надорвется… не вынесет… Не правда ли, пане Страшевич? — обратился граф к Страшевичу, который и сюда, как повсюду, явился с Эмилией.
Молчит Страшевич, боится сказать «да»… Хотя каждое слово Залусского находило живейший отклик в его душе.
— Панна графиня улыбается, — с легкой досадой, не получив ответа, продолжал Залусский. — Но… есть еще одна опасность, о которой мне даже неловко говорить с такой молодой и прелестной особой… А приходится…
— Пожалуйста. Я не девочка… Мне уж почти двадцать пять лет…
— Тем более… Вы поймете легко… и… ужаснетесь… Казаки… Все знают, что они делают с хлопскими девчинами и бабами… А тут на поле битвы, если панна графиня попадет в плен…
— Этого никогда не будет, — вдруг серьезно, сильно заговорила Эмилия. — Пусть теперь граф Кароль разрешит и мне два слова…
— Слушаю… все внимание… Служу графине Эмилии… Слушаю. Но раньше позволю себе молить графиню: пусть она прислушается к моим словам… Пусть вернется к занятиям, ей пристойным, обычным для девиц ее воспитания и круга… Наконец, святое поприще сестры милосердия…
— Где-нибудь, в Ковно, в Гродно, за сто верст от мест, где гибнут мои братья за родину! Когда же, наконец, я могу сказать… Я слушаю терпеливо… И возражу немного… Правда, я слаба здоровьем и силами… Но усталь и нужду сумею переносить не хуже вас, мужчин, граф увидит… Оружие, которое на мне… Оно негодно для нападения, слишком легкое… Почти — ребяческое… Опасность, на которую намекал граф Кароль… она страшна, нестерпима… Особенно — для меня… Но этот кинжал — защитит меня… пригодится, чтобы живой не отдаться на поругание казакам, черкесам, все равно кому…
— Графиня Эмилия!..
— Дай досказать, граф!.. Пусть я мало помогу в битвах… Но… — слабая улыбка озарила лицо Эмилии. — Я все-таки женщина!.. Я — любопытна. Каюсь в своей слабости. Я хочу видеть, как воюют мужчины, хочу восхищаться вашей доблестью…
Пухлое маловыразительное лицо графа расплылось совершенно от самодовольной улыбки.
Находчивая девушка, видя, что стрела попала в цель, заговорила еще решительней.
— Быть сестрой милосердия?.. Довольно и без меня маленьких, робких пани и паненок повсюду… А я не для того приучилась скакать без устали верхом… Попадаю в гвоздь на двадцать шагов… Фехтую, как Maitre darme… Все это для того, чтобы киснуть у постели больных в лазаретах?! Я хочу помогать вам, воинам, там, где вас настигла вражеская пуля, удар копья, штыка… Неужели и это — не мое дело?..
Задумался Залусский. Нерешительный, понять он не может, как это вдруг у него будет под начальством офицер-девушка, хорошенькая, да еще из знатнейшей семьи Платеров!.. Желая отложить дело, смущающее его, он наконец сказал:
— Ну, хорошо. Я не гоню пока графиню Эмилию… и ее войско… Но — ничего обещать теперь не могу… Посмотрим, как покажут обстоятельства… Недели через три мы выступаем к Пшистовянам… Там — поговорим.
Эмилия поблагодарила за такую полууступку и вышла со Страшевичем.
— Видал ты такую пареную булку, Юзеф, когда-нибудь в жизни? — не то гневно, не то весело спросила Эмилия.
— Видал… то есть нет! — растерянно забормотал неизменный обожатель, думавший сейчас совершенно о другом. — А собственно говоря, Эмилия, с одной стороны, если взять… Немного правды было в его словах… А если с другой стороны взять…
— А тебя, если со всех сторон взять, Юзя, — ты не воин, а мокрая курица… Мягче этой булки — Залусского… И — прочь с глаз моих! — сердито кинула ему Эмилия и быстро ушла…
Постоял в нерешительности Страшевич, глядя вслед кузине восхищенными влажными глазами, вздохнул, махнул рукою и быстро, почти бегом зашагал за нею вслед, стараясь не потерять ее в толпе военных, снующих взад и вперед по улицам местечка…
В Пшистовяны пришли утром 4 мая. Здесь стоял на биваке небольшой отряд «партизан», «вольных стрелков Вилькомира».
Не поладив никак с Залусским, прямо к их палаткам подъехала Эмилия. Страшевич и Прушинская за нею неотступно.
Группа «стрелков» лежала на траве, готовясь позавтракать.
— Что это за компания? Шляхтич с двумя мальчиками направляются к нам, посмотрите! — крикнул один из «стрелков».
— Бог на помощь, товарищи! — обратилась к ним громко Эмилия.
— Милости просим вацпана к нашему… если не столу, так… ковру… Закусить чем Бог послал, выпить, что продал Гершко шинкарь за пятерную цену, Иуда треклятый!..
— Благодарствую… Вот мой товарищ Юзеф Страшевич. Панна Прушинская, отважная полька… А я…
— Товарищи… Да это ж Эмилия Платерувна, наша графиня-воин!.. Я ее узнал! — крикнул один из «стрелков».
Все вскочили на ноги, окружили Эмилию.
— Ну, конечно, она! Платерувна! Наша светлая Валькирия!.. Просим милости! Братьями, слугами будем мы для героини Литвы!..
— Но, но, но! Товарищи… Так не годится между братьями! Я вас не зову героями… хотя вся страна об этом говорит… Я щажу вашу скромность… Щадите мою!
— Пусть так… Виват, наш новый товарищ… Виват, Эмилия Платерувна!..
Живой разговор, обмен новостями служит чудной приправой к скромному завтраку «стрелков»… Но едва он начался, в лагере поднялась тревога. Запели трубы, словно выговаривают быстро, настойчиво:
— На ко-ней!.. На ко-ней… По-ско-рей!.. Затрещали барабаны… Забегали люди, пронеслись какие-то всадники.
Один из них задержался у палаток «стрелков».
— Москали из соснового бора выдвигаются… С вашей стороны, на левом крыле… Сулима… Малиновский… Двенадцать пушек… Целая бригада!
Кинул эту грозную весть — и поскакал дальше…
Мигом убрали завтрак свой «стрелки». Изготовились, приникли за деревьями, выглядывают на короткую прямую просеку, в конце которой — прогалина и затем синеет сосновый дальний бор… Из него показались колонны.
Держа ружье наготове, сосед Эмилии, смеясь, говорит ей:
— Невежи эти россияне! Испортили такую милую пирушку… не дали угостить милого нового товарища…
— Наоборот, они придали больший интерес нашей встрече… И дают нам случай доказать, что мы умеем делать в бою…
Вот уж 500 шагов отделяют россиян от «стрелков»… Молчит лес… Бегут со штыками наперевес ряды россиян… И вдруг, как один выстрел, грохнул широкий залп, стократным эхом отдаваясь и повторяясь в лесу… Пали первые ряды россиян… Другие надбегают…
Время надо, чтобы откусить патрон, забить пулю, надеть пистон свежий и стрелять… Но быстро делают свое дело стрелки. На смены разделились. Пока гремит половина ружей и пробивает просветы в рядах россиян, другие заряжают… Выстрелили первые, вторые уже готовы дать новый залп… И так идет дело колесом… За сто шагов заколебались набегающие ряды… Передние — припадают за прикрытиями… Задние — остановились… Тоже укрываются… Сломлена атака… Не будет рукопашной резни… Но… отчего же реже звучат залпы, которыми отвечают «стрелки» на выстрелы россиян?.. Правда, и вторая атака удачно отбита… Но можно ждать третью… Отчего же слабеет огонь из-за стволов, где укрылись меткие «стрелки»?.. Грозная весть перебежала от человека к человеку.
— Патроны на исходе… И взять негде… Так и во всех других отрядах… Надо скорее отступать…
Лучшие стрелки, бьющие без промаха, собрали к себе остаток патронов; одни забрались на деревья, другие — залегли в траве… Бьют на выбор надвигающихся россиян, офицеров выводят из строя, этим расстраивают ряды… Солдаты остаются без начальника, растерянные, отступают к тылу, своим же мешают подходящим свежим взводам… Этим воспользовались «стрелки», ушли, хотя и с большими потерями…
Хорошо еще, что пан Прозор сбоку ударил с уланами… Ушла вся польская пехота от плена, от истребления, рассеялась в лесу…
На лошадь почти силой посадили товарищи Эмилию… Скачет она… Проехала рощу… Страшевич с ней и двое еще товарищей…
А на поляне — заметили их казаки… Погоня началась…
Хороший скакун спас девушку… Уж настигали враги, но до леса раньше них домчалась она… Коня оставила, конь понесся дальше, ломая сучья по пути. Казаки кинулись на этот топот и треск, полагая, что там и поляки… А Эмилия, пройдя шагов двести в лесной тьме и глуши, вдруг зашаталась, как подкошенная свалилась на мягкий лесной ковер трав и старой листвы…
Очнулась она в избушке лесника, куда на руках отнесли ее Страшевич и товарищи…
После недолгого успеха плохо пришлось «партизанам».
Дибич в начале июня написал Николаю, что восстание в Литве лишило его подвоза провианта, грозит его складам и путям сообщения с Брест-Литовском. Поэтому он сам от Варшавы идет к границам Литвы, а туда посылает сильный корпус, чтобы задушить восстание.
Правда, генералы Пален, Ширман, князь Хилков, Сулима, Малиновский, Майер, Набоков, Отрощенко, Каховский и Опперман наводнили страну небольшими отрядами по две, три и до четырех тысяч человек в каждом… Бартоломеи — сжег Дусяты при реквизиции… Ренегат Вер-цуллин — со своими черкесами — вырезал в Ошмянах все, что там было живого: стариков, детей, женщин. Черкесы, надругавшись раньше над молодыми, после подвергали их пыткам. С кусками тела вырывали серьги из ушей, вырезывали груди девушкам и молодицам, пробивали черепа гвоздями, выжигали глаза беззащитным рассвирепелые азиаты…
Троки с древним замком Гедимина, Свенцяны, Видзь — все опять вернулось в распоряжение россиян. Начались следствия, розыски…
Только те, кто еще укрывался в лесах, терпели, правда, нужду, но были уверены, что их не схватят, не увезут Бог весть куда.
Этьен Гедройц, арцибискуп Самогитии, из Петербурга, где он жил у графа Палена, писал грозные послания своим духовным детям, призывая их смириться, принести повинную… Ксендзам он советовал влиять в том же духе на народ… Призывал кару Неба на бунтовщиков!
Стихло, на вид по крайней мере, опасное брожение.
В это время, как раз 26 мая, разыгралась битва под Остроленкой, имевшая большое значение для партизанских отрядов Литвы и Жмуди, которые еще укрывались кое-где, особенно около Вильны и в Беловежской девственной пуще.
Оборванные, голодающие порою, отряды эти выносили стойко лишения… Их поддерживали слухи, что идет на помощь из Мазовии целый корпус…
Отряд Парчевского в Виленской округе особенно хорошо держался… И туда двинулась Эмилия, когда ее товарищи «стрелки» вернулись под родные кровли Вилькомира…
Глава II ГЕЛГУД И ХЛАПОВСКИЙ
Gegen der Dummheit den Menschen!
Die Götter selbst kämpfen fergebens.
H. HeineДурак закинет камень –
десять мудрых не найдут
.
9/21 мая у Мени проскользнул на Литву небольшой отряд генерала Хлаповского, всего 750 человек и 100 офицеров-инструкторов с пятью легкими пушками, под командою князя Четвертинского и Каченовского.
А уже через неделю весь край наполнился громкими вестями о большом корпусе коронных войск с пушками и пехотой, который овладел Вельском, где ему сдалось в плен 1000 человек, Зельвой, Оранами, снова отбил Троки у россиян. Под Гайновщизной разбил генерала Линдена, отнял пушку и взял в плен 500 человек. В Лиде взял еще две пушки и заставил сдаться весь гарнизон.
Плодились и росли самые невероятные вести… Хлаповского с его «авангардом главной армии», как он называл свой отряд, видели чуть ли не в одно и то же время в разных местах, отстоящих одно от другого на десятки, на сотни верст.
Население снова зашевелилось. Отовсюду стали стекаться партизаны к польскому генералу в одиночку и целыми бандами.
Подходя к Слониму, Хлаповский узнал, что там стоит большой отряд гвардии с цесаревичем Константином.
Желая избежать боя, грозившего уничтожением его маленьким силам, Хлаповский решил взять хитростью. Княгине Ловицкой, сестре своей жены, он написал самое вежливое и почтительное письмо, в котором по-родственному предупреждал, что идет в авангарде целого польского корпуса и очень бы не желал причинить лично неприятность ей, княгине, и ее августейшему супругу. Почему предлагал принять меры, чтобы избежать кровавого столкновения.
Хитрость удалась. Цесаревич отвел гвардию к Минску, и Хлаповский со своею тысячью храбрецов быстро миновал это опасное место…
Когда россияне узнали об обмане, — он был уже далеко. При Узугоще одержал новую победу над небольшим отдельным отрядом россиян.
Склады снарядов, амуниции и съестных припасов, заготовленные россиянами в городах, «завоеванных» на ходу Хлопицким, он не уничтожал, а словно по секрету сообщал обывателям:
— Все это надо беречь для нашего корпуса в тридцать тысяч штыков, который идет за мною…
Конечно, его слова быстро переносились в русские ближайшие отряды, и начальники их не только не гнались за «легионом» Хлаповского, но еще быстрее уходили подальше от этих мест.
Вообще, Хлаповский старался, чтобы и свои, местные обыватели, точно не знали, сколько у него в отряде людей. Он шел лесами, ночью, делая быстрые переходы… Местные крестьяне водили его дорогами, не известными российским генералам, через болота и лесные заросли… Никто из русских не мог предвидеть, где покажется отряд «летучего генерала» Хлаповского… А он знал о каждом шаге неприятеля, мог перечесть количество людей, лошадей и фур в каждом отряде, стоящем на его пути или где-нибудь поблизости… Где не было сомнения в победе, там налетал, как ястреб, Хлаповский, отбивал обозы, брал оружие, патроны, уводил пленных. Но сомнительных стычек избегал…
Напрасно русские генералы, пересылаясь между собою, сливая отряды, строили планы окружить и уничтожить Хлаповского. Он шел, как при ясном свете, зная каждый шаг врагов. А россияне, даже за золото, которое сыпали щедро разведчикам-бурлакам, евреям и литвинам, не могли точного узнать ничего…
Уже до 3000 человек насчитывал у себя Хлаповский, когда у Китовишек, всего в 3–4 милях от Вильны, к нему пришел храбрец Яцевич, крывший в лесах с апреля, и пан Рунге со своими «лесными гвардейцами» из Беловежья, где их, благодаря предательству одного товарища, стали теснить войска. Явился сюда и сам князь Габриэль Огинский со своей отважной женой. Он привел кроме своих хорошо вооруженных пятисот партизан еще около двухсот человек студентов из Вильны под начальством профессора Горно-стайского… Артиллерия тоже пополнилась взятыми пушками и теми, какие имелись у Огинского, у Яцевича…
Как и везде, в Китовишках устроен был Хлаповскому восторженный прием. Звонили колокола. Ксендзы в пасхальном облачении кропили знамена, орудия, воинов… Говорили искренние, горячие речи.
— Привет тебе, храбрый генерал! — говорил оратор, не отрывая глаз от адреса, с которого читал свою речь. — Ты не побоялся ничего, рискнул жизнью своей и своих воинов, пришел к нам на помощь… Доверие твое к нам будет оправдано. Исполним все, что прикажешь, для освобождения родной земли. Напиши Народному правительству и гетману польских сил, если желаешь изобразить нашу преданность отчизне, — скажи, что наши силы и мужество, способности и самую жизнь мы принесем в жертву для общего блага и счастья, для сохранения польского имени своего. И не требуем ничего взамен, ни вознаграждения, ни чинов, ни самой славы!..
Принял адрес Хлаповский, благодарит, обнимает оратора и кланяется дамам, простым женщинам, которые осыпают цветами его и даже ряды воинов, которые гирляндами убрали орудия и древка знамен…
Потом обращается к представителям и властям города:
— Есть ли у вас партизаны, желающие примкнуть к отряду, и сколько человек?.. И какие средства может город уделить на общее дело?
Кончив деловые переговоры, устроив на ночь отряд, осмотрев стоянки, проверя караул, Хлаповский вечером принял приглашение Огинских, явился к ним в небольшой домик, занятый нераздельной отважной парой. Отсутствие блеска и роскоши в обстановке, в столе выкупали любезность молодой «партизанки» — княгини Габриэлы и радушие ее мужа, загоревшего, обветренного от частых походов и пребывания в лесах…
— Смешно и грустно! — говорит Хлаповский, когда ему пришлось поведать о своих «подвигах», как выразилась княгиня. — Мне, например, доносят, что генерал российский ищет меня. А как только я обнаружу свое пребывание вблизи от него, — он спешит скорее убраться с дороги, думает, что я уж очень силен, если так вызывающе себя веду… Вечная история. Если хочешь, чтобы тебя все боялись, не бойся никого и ничего!
— Верно, верно! — с восторгом лепечет княгиня. Она любит своего героя-мужа, пошла за ним на опасности, на нужду… Но женщина — остается всегда верна своей натуре: «искать сильнейшего».
И теперь, видя нового, более яркого героя, она обдает его лучами своих прекрасных, сверкающих очей, тянется к нему, как растение к теплу и свету… Невинно, без всякой дурной цели, но явно выказывает ему особое предпочтение, словом, кокетничает, как самая обыкновенная красивая пани, желающая иметь еще лишнего, интересного поклонника.
Конечно, Хлаповский, избалованный женщинами, видит, все. Но теперь не время для флирта. Да и настроение у него иное. Грустно засветились его глаза, когда он заговорил:
— А в деревнях!.. Там ужас что такое… Холеру занесли российские войска… Тут в городах умеют уберечься от нее. А там!.. Грязь, тьма… Нет помощи… Целые села, еще не выжженные, вымирают. Пришел я в одну деревню. Никого. Старик дряхлый сидит на завалинке. Я к нему по-польски: «Здравствуйте, дед! А где же люди?» «А тут! — говорит и указывает на небольшое кладбище, близко от хат. — Там их хоронили, когда было кому… А последних, которые лежали и помирали, я уж сам около хат хоронил… Вот!» Гляжу, у хат — холмики свежие, вроде могильных. А он шамкает: «Не хватает у меня, старого, силы на кладбище нести… Так я тут!» Оказалось, холерой всех унесло… Я говорю: «То москали, не наши вам смерть занесли!» А он: «Не наши! А какие же? Теперь не разберешь. Горе одно от жолнеров, какие сюда ни придут… Москали говорят: „Вы — наши, мы — ваши…“ И обижают, обирают… Я думал, и ты, пане, москалей привел. Очень у вас мундиры похожи… А другие, повстанцы, придут, тоже говорят: „Мы — ваши, вы — наши“. Голодные, оборванные, еду забирают, одежду… Только что хат не жгут. И уходят, как и те… А мы — остаемся, да холера… Кара Божия остается с нами… И не стало нас… Один я… Уж не знаю, зачем остался… Видно, для того Бог дал лишнего веку, чтобы было кому похоронить людей!»
Умолк Хлаповский. Молчат и другие. Даже княгиня, резвая раньше, словно кошечка, притихла, слезы на глазах.
— Война! — вырвалось с тихим вздохом у Огинского.
— Война! — повторил грустно Хлаповский и сразу переменил тон. — А что дальше делать будем? С кем воевать? Еще когда из Польши большие корпуса подойдут… Не сидеть же и ждать, сложа руки, от погони ускользая…
— Конечно! — живо отозвался Огинский. — Есть дело. Подумать надо. Вильна под рукой… Гарнизону в ней мало. Одно время совсем его не было, даже Храповицкий оставил свой палац губернаторский, убежал… Теперь — тысячи четыре наберется. Ну, это не сила! И люди в городе за нас. Стоит знак подать, кинутся на этот гарнизон с одной стороны, мы с другой… И… как думаешь, генерал?..
— Заманчивая штука, князь коханый… Слыхал я, запасы там богатейшие… И пушек немало, нам годных… Но ты верно сказал: подумать надо. И капитану Заливскому в Августово не мешает весть послать, пусть подходит сюда… Мы и потолкуем сообща. Тысячи полторы людей у него… отборных. Хвастун он, противный… А воин — славный! Умеет сам биться и других делу учить. Подумаем…
Долго длилась беседа. Уходя, целуя полную, теплую ручку княгини, ответившей ему крепким-крепким пожатием, Хлаповский подумал:
«Эх, будь ты не жена товарища-соратника!.. Не ушла бы…»
Еще раз отдал поклон хозяевам, провожающим дорогого гостя, и вышел.
А княгиня в эту ночь была со своим мужем особенно нежна и ласкова, охваченная давно забытым супругами пылом…
Константин Парчевский тоже пришел из виленских лесов к Хлаповскому. С ним явилась Эмилия Платер. Но кроме Страшевича еще одна, новая подруга-воин была у графини на этот раз.
Смуглая, темноволосая, румяная, с круглым, живым личиком, двадцатилетняя панна Мария Рачанович сначала, по слухам, увлеклась подвигами Эмилии Платерувны и добилась поступления в партизанский отряд. А потом, встре-тясь с Эмилией, стала уже с ней неразлучна, даже спала с ней часто на одной постели. И не только подражала ей слепо в одежде, в речах, но невольно переняла ее манеры, ее интонации. И только в одном не изменилась панна Ма-рыся. Молчаливая, грустная обычно, редко тихо улыбается Эмилия, как яркое осеннее солнце Литвы, глядящее порою из разорванных вечерних туч и озаряющее сразу все кругом.
А Марыся всегда смеется громко, заразительно. Шутит здорово. А уж если смеяться нельзя, или нечему, или некогда, как во время боевых схваток, — все-таки широкой улыбкой безотчетно раздвигаются ее пунцовые, полные губки, обнажая крупные, блестящие зубы девушки. А панна Прушинская, — она увезла своего раненого Стаха в Вильну, чтобы там вылечить и женить его на себе.
Хлаповский сначала холодно принял Эмилию.
— Теперь, панна графиня, как сама можешь видеть, «партизантка» прежняя берет конец. Ее не удалось разлить по целому краю, перекинуть к пинчукам, на Волынь, в Подолию… Начинается регулярная война. А панна графиня должна согласиться: довольно необычно будет видеть офицером в регулярных полках даже самую храбрую девушку. Позвольте мне, панна графиня, как другу, дать совет: вернись домой с верой, спокойно жди исхода дела.
— Я уже слыхала это, генерал. Не ожидала только и здесь слышать эти слова… Пусть же и генерал услышит, что я скажу. Поклялась я быть воином, защищать отчизну до смерти — и выполню мою клятву! А теперь — решай, как тебе подскажет твое отважное сердце, твоя душа, которую я вижу в твоих глазах, генерал…
Молча клонит голову Хлаповский.
— Ну… уж если в самом деле… изменить ничего нельзя… пусть графиня Эмилия остается. Я дам ей роту!
Сияя лицом, с глазами, которые от восторга, от расширенных зрачков стали совсем черные, поднялась Эмилия… Схватила руку вождя, сжала ее до боли — крепко… Первым движением ее было даже поднести эту руку к губам… Но природная застенчивость помешала… Да и слишком молодое лицо, красивое, с задорными усиками впилось в нее глазами в этот миг, белея над темным генеральским мундиром, над оранжевым воротником, над блестящими орденами и крестами героя-генерала…
Сдерживая слезы восторга, Эмилия только могла сказать:
— Благодарю!
И быстро вышла из палатки.
«Гм… Так вот она какая! — пронеслось в уме Хлаповского. — А мне болтали… Мерзавцы! Нет, с нею не позавтракаешь!»
Так реально и просто решив вопрос, генерал принялся разбирать бумаги, которыми был занят при появлении Эмилии.
Конечно, Хлаповский не знал, что делалось под Остроленкой, что случилось с Гелгудом. Но его слова о появлении «большого» корпуса скоро сбылись.
Дембинский со своими познанцами успел проскочить мимо отрядов Михаила Павловича, стоявших на его пути.
Уже 17/29 мая, то есть на третий день после разгрома поляков под Остроленкой, он подходил осторожно к Райгроду, где, он знал, стоит сильный отряд гренадер Остен-Сакена, конница, артиллерия, всего до двенадцати тысяч людей, — и вдруг услыхал вдали канонаду и частые залпы горячего боя…
Высланные на разведку люди быстро вернулись.
— Бой идет между Гелгудом и Сакеном! — задыхаясь от волнения и быстрой скачки, докладывает сам полковник Бжезанский, который нашел нужным лично сделать разведку. — Напирают россияне, обходят наших, стараются мостом овладеть, отрезать от речки, окружить… плохо Гел-гуду.
— Как же нам быть, полковник? Помочь — мало надежды!.. Но и отступить нельзя…
— Отчего же? Москали вон, я сам видел… Как заметят, что какому-нибудь отряду ихнему плохо, — торопятся уйти подобру-поздорову. Говорят: «Мы не можем помочь, так хоть сами целы останемся!»
Нахмурился Дембинский.
— Я тебя не о россиянах спрашиваю, полковник, а желал слышать твое мнение.
— У меня — мнения никакого… Мой палаш, моя грудь — да мои уланы-детки!.. Вот и все мое мнение… Поможем не поможем, а умирать вместе всегда веселее людям. Вон толкуют: «За компанию ксендз оженился, жид окрестился, цыган удавился».
Улыбнулся Дембинский.
— С тобою трудно говорить серьезно, полковник… Такая минута…
— Что ни минуты тратить нельзя, а коням шпоры дать… И гайда! «Бог и вера!» Вот весь разговор! Сзади на них налететь… Да вцепиться им в загривок так, чтобы отцепиться не могли. А там, что будет, увидим!.. Не наше это дело, Божья воля!
— Пожалуй, ты и прав, полковник. Вели трубить!
Бурей налетели познанцы, надеялись со славой умереть, помогая своим, и — одержали победу! Почти весь отряд, шестнадцать офицеров, подполковник Мелихов, пушки, знамена — все досталось в добычу полякам. Не ожидавшие сзади нападения россияне были поражены появлением всадников, которые врезались в их ряды, рубили, кололи, убивали из пистолетов… Ряды гренадер смешались…
Ободрились батальоны Гелгуда… Сам он, грузный, большой, на сильном коне, повел вперед поляков, полагая, как и россияне, что сильная помощь ждет из лесу, вслед за первым отрядом повстанцев.
Дергает себя за длинные седые усы Кейстутович — Гелгуд, потомок древних князей… Шпорит коня, поворачивает свой здоровый глаз то к своим, крича по-литовски:
— Виси вира! Вперед! Бог и вера!.. — то к полякам обращает вставной стеклянный неподвижный глаз, зрячим боком глядит на дрогнувшие, бегущие батальоны Сакена, грозит кулаком, кричит: — Стойте! Куда вы!.. Я вам покажу, как воевать с Кейстутовичем, с Гелгудом из Гелгудишек!..
И опьяненный боем не меньше, чем опьяняется часто столетней «старкой» — водкой и венгерским, — мчится, забывая личную безопасность, в самый пыл боя седой задорный литвин…
Недолго длилась стычка… Тут же в поле, под шатрами, шумно отпраздновал победу, доставленную ему Дембинским и «повстанцами», храбрый генерал.
Дорого обошлась эта победа. Но — «даром ничего не дается!» — возгласил Гелгуд, выслушав доклад, что не стало лучших бойцов, что ранены и выбыли из строя самые отважные: Мицельский, Шанецкий, Кочаровский, Потворовский…
Повезли лечить раненых… Хоронить убитых… Пирует, радостно справляет победу Гелгуд…
Поздно на другое утро поднялся он и все, кто пировал с вождем Кейстутовичем… Мрачен Гелгуд. Болит голова… Вспомнил он ссору, затеянную с пьяных глаз с квартирмейстером, храбрым полковником Коссом, тоже любящим спрыснуть победу… Смертельно обидел его в споре Косе. Сказал, что у них в Галиции таких Гелгудов три на грош дают, и то не берут!..
— Я ему покажу… Я ему!.. — грозит Гелгуд… Потом садится на коня, догоняет отряд, который уже успел сняться и тронуться в путь.
Гордо красуясь на коне, едет Кейстутович, Гелгуд, освобождать Литву, Жмудь Святую от россиян…
Глава III ВИЛЬНО И ШАВЛИ
— Ежегодно я могу посылать двести тысяч людей на смерть, как пушечное мясо. И в этом — кроется моя сила!
НаполеонI— Высшая Справедливость уничтожает все человеческие права и обязанности. Ее символ — острие штыка!
НаполеонIIIВперед, на Ковно послал Гелгуд Дембинского на помощь капитану Заливскому, давшему знать, что он хочет овладеть громадными запасами россиян, сложенными в этом городе. А сам пошел на свои ррдовые Гелгудишки.
— Непристойно Гелгуду, Кейстутовичу прирожденному, вступать в свой, Литовский край иначе как через свои дедовские земли.
И только 7 июня нового стиля, потеряв десять дней, вступил в свои Гелгудишки «круль самогитский», как полушутя, полусерьезно он сам называл себя и звали его другие. Оттуда дальше двинулся. Но к Вильне поспел только еще через неделю и 17 июня пришел в Зейны.
Тут, как и всюду, блестящую встречу устроили Кейстутовичу. А кстати, его день рождения подошел. Начал по-своему справлять праздник Гелгуд. Весь штаб, Зейны целые и отряд до последнего человека — не остались трезвы….
А на другое утро пушки загремели от Вильны.
За голову схватился сначала Гелгуд. Он и забыл, что на сегодняшний день назначил приступ к Вильне…
Все отговаривали, объясняли, что время ушло. В городе уже собралось 20 000 гарнизону вместо пяти, как было десять дней назад… Курута с большим корпусом торопился тоже на помощь своим…
— Ничего. Кейстутович не считает своих врагов, а спрашивает: «Где они?» — вспомнив уроки юности, выпалил Гелгуд…
Наступление началось по его приказу. На Поныри, на самое сильное место города, велел вождь направить главный удар… Все отряды, посланные в обход города, чтобы рассеять силы неприятеля нападением с разных концов, были уже на местах… По расписанию — начали на заре 18 июня нападение…
А Гелгуд поспел только 19-го!..
Напрасны были бешеные приступы польской пехоты и безумные атаки конницы…
Крепостные пушки, выставленные в самых опасных местах, косили нападающих, сметали их целыми рядами, дороги и поля устланы были поляками… Уланы польские успели побывать у самых стен и окопов города, заклепали несколько пушек… Но едва сорок человек их вернулось из целого полка…
Вдруг тревога, новый ужас разлился по рядам поляков… Пылит дорога, ведущая в Троки… Еще отряд большой подходит… Россияне, конечно. Они сбоку ударят, совсем размечут Кейстутовича со всем его корпусом… Уже отчаянные познанцы готовились ценою жизни отразить удар… Уже несколько польских пушек громыхнуло, выпустило снаряды в сторону «врага»… и вдруг появился оттуда всадник, мчится во весь опор, белым чем-то машет!
— Стойте! Свои идут! — кричит. — Мы из Ковно. За-ливского вольные партизаны из Плоцка и Августова!..
Радость охватила людей, недавно покрытых потом смертельного ужаса… Помощь знатная… Стали на позицию подошедшие войска. Опять идет бой… Но Курута подошел на помощь Вильне… Ударил на Гелгуда… Тот трезв был на этот раз; видит: слишком неравны силы! Отступать приказал… Быстрое отступление, почти бегство началось. Только всадники Хлаповского прикрывают отступающих, бьются, как обреченные… И успели уйти из-под Вильны легионы Гелгуда. Только потрепали их порядком россияне. Заливскому досталось сильнее других. Стоит он, залпы посылает в город, не знает ничего, не видит, что отступили уже главные силы поляков… И вдруг — повалили на его небольшой отряд почти все батальоны Куруты…
Едва по старой сноровке партизанской рассыпным строем, оставя обоз, в лесу спаслись люди Заливского от плена, от смерти…
Эмилия со всеми в огне была… И отступила со всеми… Но страдала, наверное, больше всех.
Силу свою почуяли россияне… Кольцом, понемногу, окружают корпус Гелгуда, силы которого теперь известны, ум которого теперь взвешен.
— Храбрый индюк! — так отозвался о нем хитрый грек Курута…
Правда, быстро, за неделю, пополнил повстанцами свои регулярные полки Гелгуд. Но тем только испортил хуже дело.
Первая стычка показала его ошибку. Вооруженные разным оружием, дальнобойными мушкетами и обывательскими карабинами, или пищалями, бьющими близко и слабо, стрелки потеряли силу залпа, линия огня «сломалась» во вред стреляющим.
На военном совете Заливский и Дембинский с Хлапов-ским предложили Гелгуду:
— Отпустим вольных людей в их леса. Там они станут хорошими партизанами, не будут портить своей компанией наших солдат, которые и без того распустились, забыли дисциплину и строй!
Вспыхнул Гелгуд.
— Забыли дисциплину… у меня! Мои войска!.. Да если я сейчас прикажу, — каждый один на пушку полезет… Тысячу дьяблов…
— Пьяный человек и на черта полезет, не то на пушку! — проворчал Косе, сам еще сидящий в угаре после ночной попойки. — А правду сказать, солдаты наши теперь больше пьют, чем врага бьют!..
Зверем поглядел Гелгуд, но сейчас же, будто и не слышал слов ненавистного капитана, обратился к Заливскому:
— Пан привык к «лесной войне»… А настоящему, регулярному жолнеру она не идет! Да и не шляхетское дело, по-моему, подобно трусам, крыться по лесам, стрелять из-за кустов… Вести эту «партизантку», как вы, панове, называете… То ли дело грудь с грудью, в открытом поле, в честном бою помериться силами… Отвечать на пулю пулей, ударом на удар…
— И быть битым на каждом шагу, и сигать, подобно зайцам, от российских хортов! Хорошее дело! — обозлясь в свою очередь, кинул желчный Заливский. — Пусть там кто как желает… Хоть на кулачки с медведями литовскими дерется, если умный человек… А я ухожу своей дорогой, в лес… где каждое дерево — пополняет мои жидкие ряды, где за неимением пуль я могу в ямы волчьи ловить врага!
— Я тоже ухожу «вести партизантку»! — подал голос Езекиил Станевич. — Хоть умру не от пушечного ядра, зная, что и я насолил тем, кто пошлет меня на свидание с моей бабушкой…
— Вольному воля, спасенному рай! — угрюмо отозвался Гелгуд.
— А у нас в Галиции еще прибавляют: «А дурневи — дудка!» — не вытерпел, съязвил Косе.
Запыхтел даже от ярости Гелгуд, но сдержался.
— Как кому мило! — повторил он. — А мы на Шавли идем…
— На Шавли? — раздался общий крик изумления.
— Зачем на Шавли? — не выдержал, спросил сдержанный, вечно холодный, чопорный Хлаповский. — Что нам там делать?
— Брать город, гнать россиян. А если пану генералу больше нравится оставаться здесь, пробовать, какая материя на лифе у местных красоток, — я не препятствую.
— Ни лифов у мещанок, ни полных рюмок, ни пустых слов я не люблю, храбрый пан генерал! — едко отозвался Хлаповский. — Уж все равно сидим в дегте, не отчистимся легко… Умирать, так умирать и в Шавлях можно… Чем плохой город?.. Пойдем в Шавли, если больше умных путей не видно!
— Вот люблю за отвагу генерала! — похвалил Гелгуд. — Разумного человека приятно и послушать. Пусть трубят выступление…
В Цитованах был этот военный совет, после поражения под Плембургом, там, где Гелгуд, позавтракав плотно, с вином, лег в поле под деревом отдыхать во время жаркого боя, а проснулся и ускакал, уж когда казаки показались из ближней рощи…
Много жертв унесла битва при Плембурге!
А по пути в Шавли еще немало дурных вестей дошло до польского отряда… Из Ковно выбили россияне Ролланда… Три больших отряда с трех сторон обходить стали самого Гелгуда…
— Ничего, засядем в Шавлях, покажем зубы этим… лайдакам! — ворчит Кейстутович…
— Но там и обороны нет… Палисад старый, пушек почти никаких!..
— Тем лучше. Легче нам теперь войти туда…
— Да зато сидеть потом будет плохо…
— Как кому! Меня Бог наградил телесами. На нож сяду — не почую! — шутит по-солдатски Гелгуд.
К Шавлям пришли. Там всего 3000 россиян. У Гелгуда и все 15 тысяч наберется. Кинуть бы сразу эту лавину со всех сторон на приступ… и через час сдался бы гарнизон…
Но Гелгуд потерял всякое соображение за последние дни, когда ночное пьянство сменялось тяжелыми дневными переходами и спешкой, к которой не привык важный генерал.
Как под Остроленкой его друг и застольник Скшинецкий, так и под Шавлями Гелгуд — батальон за батальоном, один эскадрон за другим, поодиночке шлет на приступ, на избиение, на гибель и верную смерть…
Всю силу свою сам разбил Гелгуд о старые палисады Шавель!..
Плоцкие пикинеры, словно завидуя славе братьев улан, погибших под Вильной, ворвались в город… Но полковник Крюков, старый кавказец, такой прием приготовил незваным гостям, что из полка только 20 человек на конях вернулись к своим!..
Ксендз Лога, капеллан познанцев, пополненных литвинами, недавно раненный в руку под Вильной, тут же шел со своими батальонами, впереди людей, с Распятием в руке… Поднимает раненых, относит к стороне, перевязывает — и снова в огонь!
И вдруг увидел, что один жолнер притворился раненым, лег на землю, отполз назад, уходить хочет… Ковыляет, будто в ногу ранен.
Остановил его ксендз-воитель:
— Стой! Ты куда? Не стыдно тебе, сын мой! Оставляешь братьев, предаешь родину, веру, святое дело свободы…
— Болен я, святой отец! — лепечет трус… — Нога вот…
— Душа больна у тебя, пронизана тлением и гнилью… Ты не достоин носить имени воина, солдата, если ложью ответил на мои слова. Дай ружье! Я заменю тебя в рядах… А ты — беги, презренный!
Молча, подавляя восклицание радости, отдал ружье солдат, быстро скрылся за кустами…
В ряды вошел ксендз Лога с ружьем наперевес, как все другие, как хаживал на врага его отец покойный, соратник Костюшки…
Пуля остановила отважного, ударила в грудь, где сердце… Он пал… И уже холодеющего — отнесли его солдаты, положили под деревом на густую, высокую траву.
Это было уже под вечер 8 июля, когда в бойне под Шавлями, устроенной ошалелым Кейстутовичем, выбыло больше 52 офицеров и треть людей польского отряда…
Офицеры, старые и молодые, подъезжают к вождю, кричат ему:
— Что делает генерал?.. Это безумие… Бойня, не сражение. Надо ударить разом, всею силой!..
— Я знаю, что надо делать с такими солдатами, которые не могут взять старой бани… С офицерами, которые смеют учить вождя! В Пруссию надо уходить — и конец! — вырвалось у Гелгуда в пылу спора. Затаенная мысль вышла наружу.
Поднял седую голову полковник калишан, храбрец Злотвинский, молчавший до тех пор, громко заговорил:
— В Пру-сси-ю!.. Сложить меч у немцев… Когда еще столько сильных, крепких рук держит ружья и палаши!.. Ге-ге!.. Хорошо говорит Кейстутович… Недостойно ведешь ты себя, генерал! Литву губишь, Польшу губишь, дело народное… Смертельный удар ему наносишь, глубже, чем до этих пор разили враги!.. Мараешь лучшие страницы нашей истории… Стыдись! Фуй!..
Багровый сидит в своей коляске, вращает здоровым глазом Гелгуд и вдруг хрипло выкрикнул:
— Сме…ешь мне! Под арест… Все под арест!.. Презрительно поглядел, кинул шпагу в коляску вождю и молча отъехал Злотвинский. Махнув безнадежно рукой, последовали за ним другие…
А бой идет… Солдаты громко кричат, проходя мимо Гелгуда на убой к стенам шавельской цитадели:
— Мясник! Убийца!
Устали россияне разить, их пушки даже словно охрипли от своего грохота и рева. Еще напор, и войдут поляки в город. Но кто-то сказал Гелгуду, что подходят россияне на помощь шавельскому гарнизону.
И затрещали барабаны, зазвенели тревожно трубы, заговорили:
— На-зад… на-зад… назад!
Отступать дан приказ… После таких жертв… почти перед победой.
Мрачные, озлобленные, отходят полки.
Ночью на бивуаке к Хлаповскому кинулись офицеры, все почти, кроме тех, кто сейчас с Гелгудом заливал горе вином.
— Генерал, побойся Бога! Уж после Вильны мы просили: возьми начальство над корпусом, избавь нас от этого безумца! Сгибнуть, так хоть со славой, а не с позором, как он нас принудит, этот…
Жгучие слова срываются с губ, самые позорные названия…
— Там ты говорил, что все устроится… что есть надежда на его просветление. Теперь — сам видишь: он безнадежен. Мы придем, скажем этому индюку, что ты избран вождем, а он может… отправляться! К дьяволу!.. Или в Гелгудишки свои прекрасные…
— Это значит военный переворот, бунт на поле битвы! Отнять власть у начальника! Что вы, панове! Что скажут на Литве, в Польше? Что Европа подумает об нас? — холодно отвечает Хлаповский. — Пусть лучше гибнет дело святое наше, чем целому миру показать разлад, подтачивающий польскую армию… Я иначе мыслю! Если даже настоящему восстанию суждено потерпеть неудачу, оно должно оставить след нашего единения и дружбы, а не розни и вражды! Предложения вашего я принять не могу!
Ушли офицеры, угрюмые, печальные. Молодежь восторженно повторяет между собою:
— Какой характер! Какая сила! Римлянин из бронзы наш генерал.
А Хлаповский думал в это самое время:
— Навязать себе на шею мешок с камнями, куда еще Гелгуд напустил скорпионов и змей! Слуга покорный. Он заварил пиво, пусть его и допивает сам…
И Гелгуд допил чашу до конца!
Глава IV ПО РАЗНЫМ ПУТЯМ
Налево пойдешь — сам пропадешь. Направо — коня потеряешь. Прямая дорога — обоим конец.
Народная сказкаОтступает к Куршанам корпус Гелгуда. Со всеми идет и Эмилия Платерувна. Но больше всех страдает хрупкая девушка.
Душа страдает от унижения, от разлада, который царит во всем отряде… Тело измучено походами, лишениями, непосильным трудом боевой жизни. Лихорадка сжигает ее. Тени не осталось от прежней высокогрудой графини-красавицы.
Кровь чаще и чаще показывается из горла.
Плачет Рачанович, видя, как тает любимая подруга, даже улыбаться стала меньше, не шутит, песенок не поес, которые певала раньше.
Страшевич — тоже извелся.
А Эмилия, тихая, бледная, утром, едва поднявшись на седло, ведет свою роту. А вечером сваливается на постель, и лежит, без еды, почти без сна, снова до зари…
Утром 9 июля в Куршанах остановился отряд. А отовсюду вести идут, что уж близко сильные российские корпуса. Окружить хотят поляков.
Опять совет собрался: пять генералов, шесть полковников.
Тут уж против воли они заставили Хлаповского принять начальство, отняли команду у Гелгуда. Потом стали совещаться о делах.
— Да что тут толковать? — заговорил решительно Дембинский. — Все ясно и просто, как латинская азбука! Военных припасов нет, запасов нет… Кони — хоть ночью могут брать на лугу. А солдата травой не покормишь! Такое войско, при огромном обозе офицерском, не может ни нападать скоро, ни уходить хорошо. Разойтись нам надо во все стороны, водою пролиться мимо врага… И на Польшу утечь! Там хоть поможем своим еще немного отбиваться от Дибича. Или — нет! Умер он. Холеру схватил, вместо очередной награды… Так сейчас же Паскевич через Пруссию явился к Висле, ему на смену. Этот — еще позабористей, чем покойник. Помочь надо нашим мазурам и Варшаве. Туда идем!..
— Дойдешь, как же! — хрипло отзывается весь отекший Гелгуд. Он даже свой глаз вставной потерял где-то и теперь морщит пустую впадину глазную, совсем стариком выглядит. — А не лучше ли попросить прусского короля вступиться за нас?.. Да поскорее самим…
— Туда, за прусский кордон броситься? — подхватил насмешливо Дембинский. — Славно будет! Честь нам великая! Э! Да что там о славе, о чести толковать. Слепой не видит солнца… Глухой не спляшет и под лучшую музыку… А кто решится войску сказать: «Идем к пруссакам!» И что будет из того? Знаете, паны генералы.
— Да, опасно, что и говорить! Заплюют… Кулаками заколотят…
— То-то… А моя мысль такая: избрать сейчас полного, неограниченного вождя для войска и для всей Литвы и Жмуди… Диктатора, проще говоря…
— Вот тебя, генерал! — буркнул Косе, завистливый и грубый.
— Кого? Об этом после речь поведем… И собрать еще народу побольше, пробиться из этого угла, облаву разорвать… Опять на Литве поднять пожар большой… Нас и сейчас немало: двенадцать тысяч. А тогда втрое…
— Двенадцать тысяч! — забрюзжал Гелгуд, весь негодующий после своего смещения и теперь ищущий, чем бы всем досадить.
— Двенадцать тысяч! Громкая цифра… Кого двенадцать тысяч? Солдат? Нет, сброду всякого! Дисциплины не стало… Измучены, напуганы все… Три сотни казаков пусть явятся, гикнут — и разбегутся все ваши двенадцать тысяч, пан генерал!
— Твои, генерал, не наши! — зазвучали негодующие голоса. — Ты их так починил… А они были как новые… еще перед Вильной, перед Шавлями! А ты нас корить смеешь? Кейстутович!..
— Стойте, паны генералы! Время ли! — остановил Дембинский загорающуюся опасную свару. — Спасать себя, людей надо! Честь свою выручить. Если не здесь воевать с врагом… Еще есть дорога, и не одна, несколько даже, как я раньше помянул: на Вислу, домой!.. Поделим громаду на части — ив путь!.. Кто каким путем желает, но к одной цели: на Варшаву!..
Странным молчанием, смущением ответили все на предложение Дембинского… Наконец подал голос Хлаповский:
— Не дойти нам туда, генерал… Людей загубим… и себя… а пользы никакой… Та же шавельская бойня повторится! — глядя в лицо Гелгуду, спокойно, холодно кинул обиду Хлаповский, словно по лицу ударил виноватого. И продолжает так же спокойно: — Насколько я выяснил себе настроение товарищей… Они больше за то, чтобы… сложить оружие за прусской границей и добираться потом домой. Разделить корпус надо… Хоть на три части… И…
— Опозорить оружие и славу польскую…
— А если нас окружат россияне и мы сдадим им, победителям, это оружие? Славе легче от этого? — холодно, четко возражает Хлаповский Дембинскому, у которого лицо пылает и глаза горят.
— Ну, кто как хочет, а я свое сделаю! — крикнул тогда Дембинский. — Если хоть десяток солдат останется со мною, в Польшу их поведу.
— И доведешь, генерал?..
— И доведу! Бог порукой… и моя честь!.. А вот я послушаю, что вы скажете младшим офицерам и своим солдатам? — Он указал на окно, за которым собрались поручики, подпоручики и больше половины отряда, желая скорее узнать, что теперь будет.
— Ничего им не скажем… И сами мы не знаем, что будет! — ответил Хлаповский уже не так уверенно, как раньше. — Скомандуем «вперед»! Пойдут… А там?.. Увидим… Что Бог даст!..
— Ну, пусть же Он вам, генералы, даст лучше, чем вы… сами того хотите! — со сдержанным негодованием вырвалось у Дембинского.
— Не собираешься ли ты, генерал, сказать этому стаду обо всем, что здесь говорилось и решалось? — с тревогой спросил Гелгуд.
Брезгливо поморщился, глядя на него, Дембинский.
— Нет, успокойся. Я — бойню не люблю. Мясником, даже для свиньи для жирной — не был и не буду, не то что для людей. Пусть Бог им поможет. А я им ничего не скажу!
Быстро столковались теперь генералы и полковники. Три отряда выйдет из целого корпуса. Один ведет Хлаповский, второй — Ролланд, третий — Дембинский. И каждый отвечает за себя. Даже отдельные офицеры могут брать команды и вести, куда хотят, если пойдут за ними люди…
— А я же с кем? А штаб куда? — задал тревожный вопрос Гелгуд.
— С кем хочешь, с тем иди! — ответили ему.
Не дослушав до конца всех толков и речей, первый вышел из хаты Хлаповский.
Восторженными кликами встретили его младшие офицеры и солдаты. Кто-то догадался пустить слух, что «домой», на Варшаву решено вести людей…
Молча сел на коня Хлаповский, стал во главе своей колонны, построенной уже по его приказанию в походный порядок, и дал знак в выступлению.
К вечеру Гелгуд в коляске со всеми своими собутыльниками, с «пьяным-собором», как называли его штаб, догнал Хлаповского и поехал за отрядом по мягким проселочным путям…
Утром на другой день пушки послышались в той стороне, куда ушел Ролланд со вторым отрядом, порученным ему. Россияне на него наткнулись — и пустились преследовать, думая, что это весь отряд Гелгуда… Такая ошибка позволила два дня спокойно идти отряду Хлаповского.
— На родину! В Польшу идем! — радостно толковали солдаты. — Уж лучше будем биться до последнего патрона, а не сдадимся и оружия у пруссаков не сложим, как изменники тут толковали иные!..
Слышит это Хлаповский, и все мрачнее становится он.
— Гелгуд — изменник! — открыто говорят и офицеры. Особенно волнуется поручик Яскульский, 7-го линейного полка.
— Мы все на жертву принесли… Я невесту бросил… мать-старуху… А он? Как вел он войну? Позорно. В Вильну — опоздал… Силы свои разбросал перед боем. Приступ начал от Каплицы, где и без боя ущельем легко не пройдешь. Прямо с умыслом губил нашу силу. А Шавли? Российский генерал хуже не посылал бы нас на убой, как свой. Кейстутович — предатель! Мясник! Судить его надо, когда вернемся домой… Изменник!
— Дурак просто! — отзывают иные.
— Нет! Так глуп не может быть даже одноглазый Гелгуд, круль самогитский. Это измена, а не глупость!
Другие, — не зная, куда ведет людей Хлаповский, — успокаивают недовольных:
— Потерпим еще немного!.. Столько вынесли, — снесем и эту последнюю муку. Дома зато отдохнем…
Бледнеет, хмурится Хлаповский и молчит! Ни слова и Гелгуд, которому в лицо кидают жгучие обиды даже солдаты!
На третий день, 12 июля нового стиля, от Полангена — к Юрбургу повернул Хлаповский, вдоль самой прусской границы. Не знают путей солдаты. Им — все дороги здесь чужие. Все — ведут домой…
А тут прискакали к Хлаповскому два офицера, которых он еще вчера посылал куда-то. Пошептались с генералом и заняли места в своих отрядах. Лесной дорогой идут. Канава какая-то вдоль.
Неглубокая, но конца ей нет…
В раздумье едет Хлаповский. От Повендена, слышно, — пушки бухают…
Ролланд там от нападений отбивается.
Час, другой едет молча, вдоль рокового пограничного рва Хлаповский. Наконец зазвучала команда.
— На отдых… Стой… Привал!..
Всадники спешились, пешие сняли с себя походную амуницию…
А Хлаповский неожиданно созывает всех офицеров. И солдаты, весь трехтысячный отряд, сбежались кругом, хотят слышать, что скажет генерал.
Четко, сильно звучит речь Хлаповского:
— Выхода нет, паны офицеры! И вы, солдаты! Позади — тридцать тысяч вражеских штыков, гибель и плен. Перед нами?.. Вон дорога, мост и орлы прусские! Там хоть стыда не узнаем… Решайте, сами скажите, что делать? Еще сказать вам должен. Десятого апреля издал эдикт прусский король: защиту нам обещал. В Европе назревает общая революция. Наше дело еще не потеряно. Мы еще воскреснем тогда. А… как быть теперь? Скажите!
— Ты — вождь! Веди нас, как вел! — глухо откликаются многие офицеры…
Молчат солдаты…
Перешел ров Хлаповский, огляделся, вынул шпагу свою — и далеко откинул ее, подал первый всем пример: что остается делать теперь?
Явился патруль прусских улан с майором Будденброком во главе.
— Что это значит? Почему польские войска перешли границу, бросают оружие? Гонятся россияне за вами? — спрашивает бравый пруссак.
— Нет, мы сами решили, — глухо отвечает Хлаповский. — Мы прекращаем борьбу. И вот…
Не может досказать. Умолк… Горло перехватило от стыда и горя.
— А кто в отряде старший? — спросил в недоумении Будденброк.
— Я, — подал голос Гелгуд. — Да, генерал en chef Гелгуд.
— А, так ты опять — старший? — неожиданно прозвучал голос поручика Яскульского. — Предал нас, привел к позору. Сдал было власть в тяжкую минуту! А когда опасность больше не грозит, снова — старший стал! Так получай же заслуженную награду, изменник отчизны!
Никто опомниться не успел. Грянул пистолетный выстрел, сделанный в упор.
Мешком рухнул Гелгуд на траву. Мозг и кровь брызнули из раздробленного черепа…
Убрали труп. В себя пришли все, кто стоял кругом… Оглянулись и увидели Яскульского, снова по той стороне пограничной канавы на коне скачущего вдаль по лесной дороге.
Никто не погнался за убийцей!..
— У вас там, в России и в Литве, холера… В карантин я должен вас отвести прежде всего, — заявил пруссак.
И под конвоем 200 прусских улан двинулся отряд в 2508 человек к Штуттенской крепости, где уже заранее было приготовлено и отведено им место для отбытия карантина.
Далеко не все, впрочем, люди, потянувшиеся за Хлаповским на запад от Куршан, перешли на чужую землю, ради спасения жизни оставляя борьбу.
Князь Четвертинский со своею пешей батареей повернул обратно, надеясь проскользнуть в Польшу, и цели этой достиг. У самой границы два подпоручика — пан Юльян Ясюк и Владек Скотшщкий — также кликнули клич:
— Кто не хочет покидать родной земли, просить милости у пруссаков, злодеев Польши? Кто желает за нами, на Литву, а там и на Варшаву? Выходи!..
Как один человек, выступил батальон беловежских «стрелков»; все стали за своим поручиком, за Ясюком. А к пану Скотницкому подъехало человек пятьдесят улан первого полка, все, что осталось после Вильны, после Шавель…
— Виси вира!.. — раздался клич. — Все заодно! Погибать, так хоть не на чужбине!..
Пока собирались в обратный поход от прусской границы оба маленьких отряда, пока вся остальная масса людей перешла пограничный ров и строилась там кое-как, партизаны Литвы из кметов, из «мещухов», или — мещан, и мелкой шляхты, — поодиночке, как тени, скользнули с поляны, где остановился на отдых отряд, — и скрылись под навесом литовских лесов в их свежем, зеленом сумраке.
Домой, по деревням, по местечкам и фольваркам — разошлись они и притихли, словно никогда не уходили из дома, не бродили по полям и лесам с ружьем и пикой, «с косою рогатиной». Как будто — сами не гибли и не губили врага!
Эмилия Платер тоже не пошла за Хлаповским.
— Прощай, пан генерал! — не скрывая презрения, сказала она ему. — Я и все эти бедняки верили тебе… Мы ждали, что ты поведешь нас на родину или на бой, на честную смерть! А ты избрал позорный путь… Ищешь спасение ценою унижения, стыда. Кара твоя — в твоей душе!.. Да простит тебя Бог.
Отошла, села на коня и примкнула к Скотницкому; мимо российских отрядов, лесными топями, окольными трудными путями пустилась с ними искать какой-нибудь партизанский отряд позначительнее, чтобы продолжать борьбу.
С ней в отряд пошла и Рачанович, здесь же, конечно, очутились Цезарь Платер и Страшевич. Они зорко оберегали девушку, которая совсем извелась…
— Оставьте меня… Все погибло! Я хочу умереть… Нет сил биться, так на что мне жизнь? — часто повторяла Эмилия своим друзьям.
— На Вислу, на Варшаву мы идем, сестричка! Там и ты воскреснешь… И борьба еще там длится… Крепись, любимая…
Крепилась, но не долго Эмилия. На третий день после утомительных быстрых переходов, после ночлегов на сырой земле, в глухом лесу, изнурительная лихорадка огнем наполнила жилы девушки, мутилось сознание порой и тело ныло, болело так, что едва сдерживала стоны Эмилия. Чтобы не упасть с коня, она ехала между обоими кузенами, которые тесно прижимали своих коней к скакуну Эмилии, тоже истощавшему, похудевшему…
Наконец выехали из бора, узнав от встречных людей, что россиян близко нет.
В маленькой лесной деревушке, затерянной у берега небольшого, чистого озера, сделали передышку беглецы.
Последнее, что нашлось у бедных селян, снесли они в те избы, где расположился небольшой отряд.
Жадно едят люди, из деревянных жбанов пьют слабое пиво, и оно кажется им, измученным, голодным, лучше старых венгерских вин. Ничего не ест, не пьет Эмилия. В забытьи лежит в одной из хат почище… Бредит порою… и опять забывается.
— Проспит ночь — легче ей станет! — шепчет Рачанович Страшевичу и Цезарю, желая успокоить их тревогу, облегчить муку.
А сама и не улыбается… Тоже исхудала, побледнели даже ее румяные, ярко рдеющие вечно щеки… Только глаза кажутся еще темнее и больше.
И этих глаз она почти не сводит с пана Страшевича. Сейчас бы, кажется, руку отрубить дала, чтобы поднялась Эмилия, улыбнулась своему верному рыцарю, чтобы и он повеселел… А если бы они поженились, — она бы совсем была рада. Плясала бы на их свадьбе. Весело, много! А потом?.. Потом ночью тихо подошла бы к глубокому озеру и — тихо, неслышно… утопилась бы!
Так думает печальная девушка, сидя у постели больной подруги.
Утро настало… Но Эмилии еще хуже. Нельзя брать с собою больную. Но и отряду дольше оставаться тут нельзя.
Сломя голову прибежал пастушок с дальних полян при дороге. Казаки ночью ехали мимо… Уж он едва успел, песню пьяную услыхавши, коней подальше в лес угнал, а то забрали бы последних.
Потолковали, погоревали в отряде. Каждый подошел к раскрытому оконцу избы, поклонился «поручику-девице», богатырке Эмилии, как часто называли ее солдаты. Сели на коней и уехали все, кроме Рачанович.
— Мы скоро вернемся, если… живы будем! — сказали оба кузена. — Тут оставлять ее нельзя.
— Возвращайтесь скорее. А Эмильця к тому времени поправится… и возьмете нас… здоровых, веселых…
Улыбнуться друзьям старается девушка.
Но отвернулись скорее… поскакали за отрядом оба… Слезы сдавили им горло от этой улыбки. А мужчинам — стыдно плакать, кто же не знает этого!
Свой походный наряд, доспехи и вещи Эмилии закопала ее подруга. Одела больную в простое платье и сама обрядилась селянкой… Ходит за больною, лечит ее, как умеет… Бабка-знахарка близко в лесу нашлась… Много лет живет на свете старуха, разные травы знает. Подняла на ноги и панну. Совсем оживила красавицу! Только крови унять не может, которая порою у нее из горла идет. Никакие наговоры не помогают…
А Эмилия совсем притихла. И говорит мало. Сидит у окошечка или на завалинке, глядит на дорогу… Порою спросит подругу:
— Как думаешь, Марысю, живы они?..
— Живы, живехоньки, кохане мое? Я нынче и сон про них такой чудесный видела! Как Бог на небе — все живы…
— А скоро они приедут за нами?
— О! Уж теперь — совсем скоро! Увидишь! — как ребенка уговаривает больную Маруся. — Сама знаешь, прямо сюда им вернуться нельзя. Колесить кругом надо. Оттого и время идет! Пять дней уже минуло. Теперь — скоро!
Слабо улыбнулась Эмилия и снова молчит. Не напрасны были утешения Маруси. Этою же ночью постучали в оконце избы, где проживали обе девушки…
— Панна Маруся, — слышен женский голос, — не пугайтесь… К вам гости… Хорошие…
Вскочила Маруся с широкой лавки, на которой лежала, а Эмилия уже рядом с нею, хотя и в другой светелке спала.
— Они… они приехали… Одеваться скорее… Где оружие, где мундир? Оденемся… за нами приехали… Зови, впусти их!..
Маруся уже успела накинуть на себя платье, двери пошла отворять, огонь раздула кой-как на шестке, каганец засветила, впустила желанных гостей…
Два молодых парубка вошли, совсем простые… И руки в дегте, в грязи, чтобы не видно было, что очень барские…
А Эмилия, в светелке своей тоже одеться успевши, так им навстречу кинулась… Слов даже нет у нее… Плачет и смеется…
— Сестричка, здорова! Панна Маруся, как живете? Вот и мы…
— За нами, опять за дело, да? Сейчас! Едем… Я готова. И Маруся! Да где же мое все? — нетерпеливо спрашивает Эмилия. Даже ногою топнула.
— На дело… на дело! — успокаивает ее Цезарь. — Только не сразу. Выбраться надо прежде нам отсюда. Россияне кругом. Мы на левый берег Немана переправимся. А там…
— Ночь переждем, утром и в путь! — заговорил Страшевич, осторожно касаясь исхудалой руки Эмилии, словно желая утушить огонь нетерпения, которым охвачена она.
А самому даже страшно стало: так исхудала девушка…
— У нас и телега тут… пара волов… Все, как надо. Лошадей отнимут еще. А волов, да таких плохих, как у нас, — и не тронут.
Но она умолкла, поняв, что иначе нельзя… Что все делается для ее же спасения…
Благополучно на левом берегу очутилась через два дня вся компания. Но Эмилия снова ослабела, бредить стала…
На двор панский, к пану Игнацию Абламовичу в Юль-янов заехал воз, на котором сидела больная, склонясь головой на грудь к своей верной Марусе.
Вышел пан узнать, что нужно добрым людям… Подошел к высокому крыльцу парень постарше и вдруг, озираясь, не слышит ли кто, спросил на чистом французском языке:
— Владельца Юльянова имею честь видеть? Граф Цезарь Броель-Платер… если слыхали.
Вздрогнул Абламович, но сдержался… Для виду о чем-то громко потолковал с холопом, позвал жену, сам ей что-то шепнул не по-польски, а потом громко и говорит:
— Вот в город везли больную… к лекарю… Да ей совсем стало плохо дорогой… Позволь где-нибудь приютиться у нас в доме.
Нашлась чистая комнатка под крышей. Там положили больную чужие парни, сами со второй дивчиной уехали…
А скоро не стало больной крестьянки в доме. Прислуга верная у пана Абламовича… Поняли люди, в чем дело. Да молчат! Кто в Литве не знает Эмилии Платерувны? Кто не молился горячо в тиши ночной за эту отважную поборницу свободы, за героиню Литвы!..
Все почти газеты Варшавы повестили своих читателей 17/29 июля, что Варшаву посетила для лечения «польская Жанна д'Арк, отважная Валькирия Литвы Эмилия Платерувна».
Взрыв энтузиазма, восторга народного, жадное любопытство, свойственное людям даже в самые трудные часы жизни, — широкие связи рода Платеров со всеми первыми родами Польши, — все это доставило Эмилии несколько первых минут потрясения и радости, когда она увидала себя окруженной людьми, ей чужими, но желающими выразить ей, как они чтут ее, как любили заглазно, как восторгаются, видя наконец перед собой «героиню Литвы». Люди сменялись ежечасно, одна толпа уступала место другой. Ее окружали в костеле, на улице, когда она выходила от врача, поджидали у дверей палаца… И во всех очах, которые устремлялись на девушку, не только мужских, даже детских и женских, — она читала одну любовь. В них светилось обожание, смешанное с любопытством. Но не того ждала, не за тем ехала сюда больная девушка. Врачи, правда, помогли ей, в союзе с молодым, сильным организмом Эмилии. Болезнь как будто уступила, затаилась, если не ушла.
Но духом осталась по-прежнему подавлена Эмилия. Восторги толпы быстро надоели, стали в тягость, и она уклонялась даже от свиданий с близкими людьми. А надежды на возрождение восстания в Литве — не было никакой. Варшава и целая Польша завислянская — готовилась сама к последней борьбе с полчищами Паскевича, который еще 25 июня прибыл к войскам, в Пултуск… С тоскою шепнула Страшевичу и Цезарю девушка:
— Едем на родину… Там умереть хочу… на Литве!.. И в конце июля пан Игнаций из Вильны привез в Юльяново бледную, тихую панну Квицинскую, гувернантку для старшей своей дочери, панны Зоей, и для сорванца — Пиотруся, мальчика лет десяти.
Комнатку ей отвели хорошенькую, светлую, окнами в сад. Панна Зося уступила наставнице свою спаленку.
Гостям и чужим людям говорили, покачивая головой:
— Неудача какая! Выписали из Вильны гувернантку, а она еще дорогой захворала, тут совсем свалилась. Лечить надо, а пользы от нее еще когда увидим…
Жалеют соседи добрых Абламовичей. Так кругом и знать стали, что-гувернантка новая в Юльянове, и больная…
А с этой гувернанткой лучше, чем с родной, обходятся все в доме до последнего конюха.
Дети в саду тише кричат, смех погашают, случайно очутясь под оконцами «гувернантки». Когда получше ей, хватает сил выйти к столу — первый кусок ей подают, самый лучший…
А если хворь свалит тихую, кроткую, молча страдающую девушку, весь дом на цыпочках ходит. Конюхи на коней в конюшне не кричат, в людских смутно становится… Пани, молодая и старая, все паненки и даже пан Абламович раза по два, по три на день к «гувернантке» заглянут, справляются: лучше ли ей?.. А пан доктор, старый, важный, который и к самому Огинскому не всегда едет, если непогода либо жара, — сюда к больной каждый день заглядывает, так лечит и заботится о ней, будто это особа крулевской крови!
Обрадовалась «гувернантка», когда «случайно», конечно, заехал к Абламовичам пан Страшевич по пути… И рассказал он много хорошего, отрадного для «гувернантки»… Ясюк и Скотницкий уже в Беловежье… Вести прислали оттуда… Скоро и до Вислы доберутся.
А борьба еще идет и на Литве… По лесам еще немало людей укрывается… Большими и малыми бандами бродяг они нападают на российские обозы, на маленькие отряды, с которыми могут справиться… Ждут еще чего-то…
— Поправляйся скорей! — шепчет гость. — И вместе опять туда…
Грустно качает головой «гувернантка».
— Нет, я уж не поправлюсь… Умираю, братику!..
— Пустое. Вон доктор говорит…
— Что доктор?.. Моя жизнь — для родины была… для воли людской, для счастья… А нет этого ничего, и мне умереть пора. Скорее бы только… И не лечили бы меня лучше… И…
Недоговорила. Увидала две слезы в глазах у пана Стра-шевича. Не сдержал он их, хотя и знает, что стыдно пла-* кать мужчине… да еще перед девушками…
Пока Хлаповский первый на восток повел людей — сложить оружие на прусской земле, а Ролланд двинулся с отрядом к западу с тою же благою целью, — Дембинский прямо на юг указал путь своим эскадронам и пехоте. Даже шесть пушек отдали ему. Только снарядов мало: около пятисот. Остальные Хлаповский с собою повез и все взорвал их при переходе границы…
— Ничего, и этим обойдемся! — шутит Дембинский, обходя солдат, осматривая их снаряжение, обувь, оглядывая орудия… — Не в силе Бог, в правде! Так Он нам и поможет добраться до Вислы либо куда там надо. Мы еще померекаем. Денег на путь тоже хватит. Сто злотых нам из войсковой казны уделили! Целая фортуна!..
Возмущаются офицеры Дембинского.
— Да мы же знаем: там и снарядов уйма, и денег много было… На что им столько?.. Особенно если правда, что не домой, а в Пруссию пойдут наши паны генералы?
— Увидите! А не увидите, так услышите! — отвечает генерал. — А деньги, конечно, им в Пруссии нужнее, чем нам в своем краю… Тут не выдаст «виси вира»… Прокормимся как-никак… Ну, а снаряды? Ничего! И этих хватит. В поход…
Двинулись. Больше четырех часов шли, только на отдых хотели остановиться, — выстрелы загремели на востоке.
Это разъезды россиян, надвигаясь от Шавлей, нащупали жмудскую конницу, оберегающую тыл Ролланда, завязали стычку, подзывая главный свой отряд…
— Плохое дело, — говорит Дембинский своим. — Так и нас они почуют. Тогда — не уйти! Вот что… Полковник! — обратился он к седому усачу, командиру 26-го полка. — Залечь тебе надо тут с людьми… Если захотят по нашему следу кинуться паны москали, не пускай. Понял? Одно слово: не пускай!
— Не пустим, хоть все тут ляжем! — басит полковник, посасывая свою неразлучную трубочку.
— Ну, этого бы не надо. Все — много чересчур! Жирно для этих… будет! Потери, конечно, не избежать… А к вечеру, когда мы уйдем подальше, можешь тоже отступление начать.
— А в какую сторону? Уж не в ту же ж, куда ты потянешь, генерал?
— Верно. Умно, старый кряж… А хоть туда… хоть сюда… Куда хочешь… А потом, ночью — нас догоняй. Путь наш знаешь. Россияне, как видно, из Шавель вышли, на Куршаны кинулись… А мы — на их место… Как во французской кадрили: местами меняются кавалеры.
Смеется Дембинский… Вторит ему усач-полковник…
Он со своими остался на позиции, а лагерь целый — дальше двинулся.
Трудно пришлось полковнику, но выполнил он слово. Далеко на восток отвел он генерала Завоина, отступая медленно с боем… Только когда россияне занялись отрядом Ролланда, бывшим на пути, — повернул в леса полковник и к вечеру другого дня под Мешкуцанами догнал Дембинского…
— Как потери? — спросил только генерал, пожимая руку полковнику.
— Порядочно… Только убитых мало… Больше раненые. Всех с собой привел, — угрюмо ответил старик и пошел к своему месту.
14 июля на заре неожиданно ударил Дембинский на Мешкуцаны, узнав от крестьян, что там рота солдат стоит, охраняя казну Завоина и запасы патронов.
Почти без выстрела богатая пожива досталась генералу. Около 10 000 патронов, 500 новеньких червонцев, много амуниции, обуви.
— Вот это денег дороже! — обрадовался Дембинский, увидя сапоги. — Гей, вира! — обратился он к своим литовцам-новобранцам, вооруженным косами, плохо одетым, обутым в лапти большею частью. — Гей, гайда сюды!.. Снимай лапти, сапоги обувайте!..
Весело, живо, с прибаутками, шутками, толкая дру] друга, шумно, как дети, исполнили люди приказ. Всем почти хватило обуви. Но некоторые, не получившие сапог, — отходили опечаленные, понурые…
— Но, не вешать головы! Еще обоз возьмем, — получите и вы сапоги. Не хочу голодранцев на Вислу веста Наряжу вас, как лялечек…
Улыбаются бородатые воины и огорчение забыли. Верят они: так и будет, как сказал их генерал — «батько»…
В Шавли пришли, но недолго там постоять пришлось. Узнал Завоин, за генералом погнался… А Дембинский — в Поневеж прошел, почти скрестились оба отряда на пути… Только россияне по битой дороге шли, по шоссе, а партизанский отряд — тихо подвигался лесными путями в противоположном направлении. Так и разминулись они… В Поневеже военный совет состоялся, как полагается.
— Что делать, товарищи? — задал вопрос Дембинский. — Здесь ли нам встретиться, «партизантку» дальше вести?.. Или — на Вислу пробиваться, соединиться с главной армией и, как следует солдатам, воевать!
Всех четырнадцать было на совете.
— На Вислу! — крикнуло восемь голосов.
— Здесь бить врага! — решили пятеро.
— Я тоже за Вислу! Девятеро против пяти! Толковать нечего. На Вислу идем!.. — решил Дембинский.
Опять пошли, быстро, лесами… Со всех сторон им вести дают, берегут их люди, россиян с толку сбивают…
Полковник Литвинов из Курляндии на помощь Завоину пришел. С двух концов россияне охоту повели. Кусок лакомый…
Но Дембинский спокоен, как у себя в поместье, где цветами занимался да лучших тиролек-коров разводил.
— Из-под Вильны я ушел, из-под Шавель ушел… Из Куршан ушел. А от этих панов и подавно уйду! — вспомня народную сказочку, шутит генерал.
И правда, ловко уходить стал.
Ночью, на первом привале, послал людей в лес. Набрали они жердей тонких, мастерить что-то стали. Амуниции много есть лишней у генерала: шинели, шапки… И коней тоже немало.
Чучел навязали люди, одели их в шинели, в конфедератки… На коней приладили этих-«всадников без головы»… При первой же стычке они службу сослужили.
Стал нагонять генерал Завоин. Под Малатами это случилось.
Двухсот стрелков оставил в тылу Дембинский да «безголовых» около трехсот.
Стреляют живые… А «безголовые» прикрытием служат для них. Лошадей связали по две, по три поляки, перед тем как «безголовых» на них сажать… И один настоящий всадник этой шеренгой управлял. Куда он лошадь направит, туда и остальные бегут…
Стреляют россияне и даже страх их берет: заколдованы поляки: ни один с коня не повалится, хотя залпы за залпами посылают они в повстанцев…
Отбившись в Малатах, ночью проселками лесными далеко ушел Дембинский… Под Интурками только перешли поляки мост и гать на непроходимом болоте. Длиною гать пятнадцать саженей, а сзади, на другом конце гати, россияне показались. Да уж догорал мост, зажженный генералом за собою… Так и спаслись поляки.
На Подбродзье кинулся Дембинский, там еще лучший приз захватил: обозы и склады богатые, 50 000 злотых серебряных, 40 000 патронов… Водки, сухарей, всего взял вдоволь и дальше пошел.
По пути к нему отряды примыкают новые. Всех принимает генерал. А «безголовых» почти тысячу кукол одел… Они разными путями, под управлением небольших команд разъезжают, чтобы видели люди.
Слухи разнеслись, что большой новый корпус откуда-то явился. Генерал Дохтуров в Свенцянах, даже гарнизон в Вильне — к обороне изготовляться стали… Храповицкий снова приказал уже дорожный свой дормез готовить…
А Дембинский теми же тропинками, проселками, лесами, по ночам, все ближе и ближе к Вилии, к Неману подбирается. Их стоит перейти, попасть в пущи Беловежские — и там спасенье…
Днем, словно напоказ, к Свенцянам направился отряд, а ночью свернул и 19 июля у Данишева уже Вилию перешел…
Еще через три дня Ольшаны миновал Дембинский… А Завоин на след успел напасть. У Ошмян показались его разъезды.
Когда прискакал к Дембинскому гайдук, посланный с этой вестью, нахмурился генерал. А потом рукой махнул.
— Ничего! Мы еще впереди панов москалей! Пусть погоняются. Не нагонят. Ночь всю идти будем… Уйдем!..
Наутро, миновав Трабы, Ивье, — у Збойска над Неманом привал уже делали поляки.
Всю ночь на плотах переправлялись на высокий левый берег.
Только половина отряда успела переправиться, пикеты прискакали:
— Россияне верстах в трех показались. Сильный отряд и быстро идут.
Бледный стоит Дембинский, торопит, сам на плоты людей сажает… Конные, у кого лошади получше, вплавь через Неман пустились… Но еще много народу здесь… под ударами врага…
Вдруг подошел седой холоп к Дембинскому, отдал низкий поклон, чинно заговорил:
— А не поспеют холопы панские на тот берег… Плотов мало… Люду много… Эка беда!
Некогда тут толковать; повел плечом генерал, но все же ответил:
— Не поспеют, твоя правда, диду! Да что им в нашей жалости! Не перенесем их словами на тот берег…
— Сами перейдут… Я тут восемь десятков лет живу… Каждый бугорок знаю… Брод есть тут… Мало кому и ведом… Повыше — где лесок… Пусти людей туда. Живо перейдут.
Просиял Дембинский. Послал первый отряд: быстро все перешли. Кинулись толпами люди за первыми… Мигом берег опустел.
Горсть серебра кинул деду генерал, кланяется ласково:
— Спасибо, диду!
И последним перешел брод… Строятся поляки на просторе, на левом высоком берегу… А на правом, на низком, россияне показались.
Грохнули пушки их легкие. Залпы затрещали… Да недалеко хватают!
А начать переправу, ближе подойти — боятся. Метко, на выбор бьют стрелки, оставленные генералом на берегу… И весь отряд быстро скрылся в ближнем лесу, на глазах россиян.
Сжигая мосты за собою, почти не давая людям роздых ради их же спасения, далеко опередил Дембинский погоню… Новогрудские повстанцы с паном Мержвинским, Слонимские с Кашицей явились, просят взять с собою… Взял, ведет людей Дембинский…
Узнав, что под Белицей генерал Станкевич стоит на пути, обошел Белицу Дембинский.
25 июля уже реку Шарую у местечка Воли миновали поляки… По бездонной топи, гатями, по пяти мостам прошли они, сжигая мосты за собой.
В Деречино еще патронов, белья, упряжи, денег — всего добыл Дембинский из магазинов, устроенных здесь россиянами и оставленных без сильной охраны.
Миновали Зельву и 27 июля уже леса Беловежья увидали впереди обрадованные повстанцы. Туда войти — и они спасены. Оттуда легко пробраться через польскую границу в Ломжинское воеводство.
И дома будут все!
Усталь забыли, чуть не бегом бежать готовы люди. Но вдруг остановку сделать приказал Дембинский, хотя и не время для отдыха.
Офицеров на совет позвали.
Загудел целый стан:
— Что случилось? Не беда ли какая?..
Окружили хату, где совет идет. Дрожат бородатые, седоусые жолнеры, как бабочки на ветру. Лихорадка их бьет. О чем генерал с капитанами совет так долго держит?
А Дембинский недобрую весть объявил:
— Плохо наше дело! Назад идти — значит Завоину в карман сядем. А вперед…
— Вперед надо! — вырвалось у многих.
— Вперед — тоже нельзя. В Рудне, в Наревце, россиян тьма. Сейчас мне знать дали верные люди. Один путь — на мост, на руднинский, и в Наревец потом. И на Польшу потом… А — нельзя… Раздавят нас россияне, если бой затеять. Пушки у них, войско свежее, не усталое, не заморенное, как наши «вярусы»! Что делать? Скажите! Я не придумаю!
— Чего думать! — среди общего тяжелого молчания резко вдруг прозвучал голос майора Лемпицкого. — Выходит, плыли-плыли… Славу добрую себе добыли… А теперь нас, как баранов, под нож подвели… Гибнуть остается… тонуть у самого берега! Все можно одолеть, только не измену.
— Какую измену? О какой измене говоришь, пан Лемпицкий? Кто мог изменить? До сих пор — миновал Господь! Россиянам давали ложные вести… А нас хранил народ по пути…
— Не о народе я говорю… О тех, кому выгодно предать такой большой отряд. И за это от россиян хорошую награду получить! — нагло глядя в глаза генералу, говорит Лемпицкий, давно невзлюбивший строгого начальника. А теперь как раз представился случай и его ранить побольнее.
Понял, побледнел Дембинский… Уже поднялся во весь рост… Уже к палашу потянулась рука… Но сдержался.
4000 жизней у него на ответственности. Не время думать о личной обиде. Окинул гадливым взором Леммпицкого генерал, обратился к остальным:
— Время не терпит. Как быть? Тут оставаться нельзя.
— А нельзя, так вперед пойдем. Что Бог даст! — бубнит по своей привычке полковник Бразинский…
— Так если вперед, надо охотников выслать, российский патруль у моста снять… Да потише…
— Мои «детки» справятся… Сами россияне не услышат, как будут связаны, на коней уложены, сюда привезены… — заявил Бразинский.
Так и случилось.
Перешли мост… А им навстречу парень в серой чамарке, в смушковой шапке белым чем-то машет.
— Дэ ваш анарал? Покажите мени! До него пысулька…
Подскакал Дембинский, вырвал, прочел… И сразу словно на десять лет помолодел, если не на все двадцать, каким был, когда в службу военную вступил девятнадцатилетним юношей.
— Хвала Господу! Ведет Он своих детей! Наши это в Наревце, не россияне… Туда идем…
Листья на деревьях дрогнули, птица зеленая вылетела из гнезда, таким криком восторга ответил отряд на слова вождя.
Все знали, что впереди предстоят бой и гибель. Шли бодро, но свинец был у людей в ногах, жгучий огонь тоски в груди…
Стоят тут, на рубеже родного края, пережив столько мук ради одной мечты — вернуться под свой кров…
И уж раньше вместо спасения найти гибель!..
Но судьба на этот раз не пожелала сшутить обычной шутки своей над этими затравленными людьми.
Весело, с говором двинулись ряды. В Наревец вошли с широкой песней, с музыкой…
А навстречу Дембинскому выехал со своими офицерами полковник Самуил Ружницкий, которому поручил Скшинецкий вести вспомогательный отряд в Литву, для Гелгуда…
Почти до утра не заснули и солдаты, и офицеры в обоих отрядах.
Слышались из шатров веселые возгласы, рассказы сыпались без конца.
Впервые за семнадцать дней в эту ночь Дембинский разделся и уснул спокойно.
Наутро отряд, уверенный, что никто уж не станет ему на пути, быстро двинулся дальше: на Вислу, на Варшаву.
Часть третья ВТОРАЯ ОСАДА
Глава I ОБРЕЧЕННЫЕ
Победителей не судят…
Laisser fair — laisser aller!— До третьего и до седьмого колена взыщу на детях Я — грехи отцов.
Книга БытияLaschiate ogni speranza voi qu'entrate.
ДантеНесмотря на все невзгоды, весело, шумно пролетел в Варшаве «веселый месяц май!»
Правда, сорокалетнюю годовщину Конституции 3 мая скромно, в своих домах, без шумных сборищ отпраздновали варшавяне, вопреки обыкновению. Но об этом настоятельно просил Ржонд и представители городского самоуправления. В прокламациях, расклеенных по углам улиц, на стенах домов, всюду, — приглашали обывателей воздержаться от больших уличных сборищ, ведущих к усилению страшной азиатской холеры, впервые пожаловавшей на Запад. Российские войска из Закавказья получили от турок страшный удар и привели его теперь в Польшу…
«И без того, — гласили афиши, — мор уносит много жертв.
Так не надо ради минутного веселья рисковать еще больше своею и чужою жизнью».
По домам сидели варшавяне в этот важный день. Но зато уж в «зеленый праздник», на Троицу — не утерпели, высыпали туда, на просторные луга и поляны, рассыпались толпами в тени ярко зеленеющих деревьев и кустов урочища Беляны, где еще так недавно был создан тайный союз «Народных масонов» отцами настоящей революции: Уминьским, Прондзиньским, Маевским, Плихтой, Крыжа-новским, Лукасиньским и другими. Пили их здоровье, поминали их муки… Поднимались чарки и за Скшинецкого, за «героя ольшинки», где полегло 3 000 польских воинов, отражая врага… Теперь особенно хорошо относилась столица к вождю, когда узнала, что он идет навстречу Дибичу, отведя его от Варшавы к самым граням Литвы, куда и сам войдет, разбив россиян…
— Там пускай разгорится война… С нас и холеры довольно! — мрачно подшучивали иные…
До темноты звучала музыка на полянах, в тени деревьев, где польки беззаветно веселились, лихо отплясывая народные танцы и со штатскими кавалерами, а уж с военными — так прямо не щадили ни сил, ни башмаков. Даже песенку такую сложили:
Танцуйте, вальсуйце, Чшевички папсуйте! Мам брата — камрат: Чшевички налата!То есть:
Гей! Танцуйте, вальсируйте, Разбивайте башмачки! У меня есть брат — камрад; Он их правит от руки!..Много дырок пришлось чинить после этих танцев в Троицын день на Белянах… Немало и свадеб сыграли скоро потом…
Дамы высшего общества, вместо того чтобы в светлых праздничных нарядах с утра наполнить аллеи над Вислой, — сперва, одетые во все темное, помолились в храмах, а потом все-таки увлекли своих отцов, мужей и братьев на лоно природы. А вечером — все сады и театры были переполнены.
Так и дальше шло, пока не прилетела первая черная весть: поход Дверницкого на Волынь кончился полной неудачей и отряд вынужден был даже перейти в Галицию, чтобы не попасть в плен.
Стихла столица, словно предчувствуя, что одна беда не ходит!
Но прилив сил, какой чувствовали люди с самого 29 ноября прошлого года, широкий размах жизни, установленной новою, желанною для людей свободою, — это кипение не могло сразу смириться и только приняло другие, более вредные и нежелательные, потаенные формы. Страсть к крупной карточной игре охватила все слои обывателей столицы. Появились явные и тайные игорные дома, увеличилось число сомнительных приютов веселья и… разврата. Даже в частых отношениях, особенно между мужчинами и женщинами, проявилась повышенная яркость, лихорадочная жажда смены ощущений. И чем чаще эта смена, чем острее ощущения, тем лучше, хотя бы они разрушали последние искры нравственности или условной морали, свойственной большинству.
Печальные предчувствия столицы сбылись так, как не ожидали самые мрачные предсказатели. 16/28 мая пришла в столицу ошеломляющая весть о полном поражении армии под Остроленкой, о бегстве ее остатков, о наступлении Дибича со своими полчищами на беззащитную столицу. Момент безумного страха, как в день Грохова, овладел Варшавой. Многие поспешно собрались, уехали. Те, кто не мог уйти, высыпали на улицу… Толковали, обсуждали… Иные, по чувству противоречия или желая успокоить себя, говорили, что бояться нечего. Поражения не было… Наоборот, поляки уничтожили россиян и даже Дибича взяли в плен. Эти «оптимисты» утверждали, что от самого Скшинецкого пришел подробный доклад о битве самого утешительного свойства.
Как ни нелепо было подобное сообщение, ему хотели верить, его сеяли вокруг, даже не веря. А вечером столица узнала, что Скшинецкий уже вернулся к себе в Прагу, где главная квартира его и армии…
Увидели, как проехали на Прагу некоторые члены Ржонда, затем — граф Ант. Островский, сенатор Глищинский…
Стали ждать появления отрядов, бывших под Остроленкой, чтобы от очевидцев узнать истину… Далеко вперед на дорогу выходили толпы.
Но войско так скоро не возвращается… Особенно — с полей поражения!..
Сейм как раз собрался на свое очередное заседание, когда явился посланный от вождя, передал графу Антонию и сенатору Глищинскому приглашение: пожаловать в главную квартиру.
— Мы едем, панове! Привезем вам новые вести от вождя! — объявил Островский, покидая замок…
В ожидании представителей Ржонда и Сейма Скшинецкий сидел вдвоем с депутатом Сейма от Эйджеева, с графом Ледуховским, своим другом и родным по жене, которому раньше всех дал знать, что он уже приехал и ждет графа Яна безотлагательно.
— Что, погубили меня здесь мои злодеи? — был первый вопрос вождя. — Предатель Круковецкий с компанией… И калишане, и якобинцы Патриотического Союза?! Вот поистине противоестественный союз коня с зеленой жабой! Кровные магнаты якшаются с подонками столицы, с журналистами-клеветниками, с этими жалкими писаками. Вот уж они меня потрепали и еще потреплют… Эти собаки цепные… Да что они! С жидами даже ради политики стали водиться такие люди, как Баржиковский, как наши сенаторы и генералы! Подлое время… Ну, выкладывай, Яню, не жалей. Я должен знать все, чтобы принять меры.
— Да, меры надо принимать, и поскорее, Янек! Тут — целая адская мина! Заговор идет против тебя. В замке у пана Циховского собирается их компания! Не один Круковецкий и Немоевские со своими конституционалистами, калшпанами… Уминьского они завербовали, многих сенаторов, членов Сейма из нашего круга… Работа кипела, пока тебя не было. А как случилась эта беда под Остроленкой…
— Какая беда? — перебил почти резко вождь. — Мало ли что почудится после боевого дня, когда нервы взвинчены до… до последнего… когда в глазах мутится, троится… Ну, и напишешь глупость. А я же второй, более подробный и правильный доклад прислал… Ты же знаешь… Поражения нет… Как не было и под Гроховым… Да, да! Не опускай глаза, старый друг. Можешь не краснеть за меня.
— Рад душой… Но слушай!.. Как бы ни было, этим воспользовались. Круковецкий получил большое письмо от Прондзиньского.
— Ага! Вот откуда буря… Не из тучи… Ну, дальше!..
— Генерал уверяет, что его план был превосходен и победа покрыла бы польское оружие, Дибич, разбитый, должен был бежать или сдаться.
— Ну, конечно!.. По планам пана Прондзиньского выходило, что Дибич уже восемь раз разбит, бежал — двенадцать, а пятнадцать раз сдавался в плен! Ха-ха-ха! Бездарная тупица… Трус, идиот…
— Он именно тебя обвиняет в… как бы сказать… в излишней опасливости перед врагом… в растерянности… Когда пошли на нас россияне, надо было выдержать, дать им зарваться — и потом сломить…
— Это он писал!.. Хорошо…
— Да. А ты будто… словом, он так пишет: от… неуверенности, от страха… Извини, Янек… Ты растерялся и стал кидать на железную стену россиян батальоны и полки по одному… и разбил сам своими руками всю нашу прекрасную армию… упустил победу… Сгубил дело, покрыл позором польское имя и войско…
— Он… так пишет? — побледневшими губами злобно переспросил вождь.
— Да, Круковецкому так он написал… Приложил планы, подробности, вычисления… Всю битву расписал по минутам… Круковецкий читал кой-кому из Сейма, из Сената… Мне и передали…
— Проклятая подкусная змея… Это пока он сидел и ехал в моей коляске… Делил со мной хлеб и соль… Утешал меня… У, гадина. Ну, я же…
— Слушай дальше! Круковецкий, имея в руках такое сообщение, подал Ржонду рапорт, в котором… Ну, словом, целый обвинительный акт против тебя за Остроленку… И просит, чтобы ему было дозволено устно, с документами в руках, доказать свои обвинения, пополнить их еще другими…
— Ага… Это ему тоже приготовил друг — Прондзиньский… То-то он спешил со мной вместе попасть сюда!.. Каналья…
— Слушай, Янек… Скоро явятся приглашенные тобою. Мне надо уйти до них. А есть еще кое-что… Когда я отправился сюда, так Прондзиньский подъехал к палацу Круковецкого. Они медлить не станут. Торопись и ты, братику… И скажи, что я могу сделать тебе в помощь.
— Вот истый друг и брат! — с трепетом и слезой в голосе воскликнул вождь, любящий всегда сыграть красивую роль. — Только с моею смертью я забуду подобную преданность!
— Нет, Янек! Должен тебе прямо сказать: тут не в одной дружбе дело! — заговорил поспешно откровенный, порывистый Ледуховский. — За тебя лично, конечно, я бы тоже заступился… Но уж не стал бы отвергать того, что для многих кажется истиной.
— Яню! И ты?
— Дай досказать. Время не терпит… Я ничего пока не знаю… Верю тебе. Но еще больше — не хочу верить этим… голоштанцам, которые забирают волю в Варшаве, во всей Польше!.. Эти — якобинцы, демократы, чертям браты, как их там еще зовут?.. «Конституция» ихняя и социальная республика… Это хорошо для других, а не для нас. Вон холопы и то уж зашевелились… На Подлясье, в Рыках, у нас, в Мазовии, в Ломже и повсюду!.. Не хотят, подлые, на панщину выходить. «Чинш, аренду будем платить панам!» — кричат. Это же разорение! И поджигают их те же руки, что тебе роют яму! Ты — наш. Что ни случится, ты с нами. А они хотят посадить «своего», заговорщика Уминьского или иного… Вот почему я и многие другие в Сейме и в Сенате будут стоять за тебя до последнего. Мы, старая шляхта, не уступим так скоро места революционистам, всяким прохвостам. Хотя и у них большая сила теперь… После переворота и благодаря войне… Приходится ладить как-нибудь. Вот и должен я знать: что мне им говорить в твое оправдание?
— Только правду! — принимая гордый вид, подхватил вождь. — Поражения не было. Поле осталось за нами. Если у нас выбыло из строя одиннадцать тысяч людей, так у Дибича потеря в пятнадцать тысяч, если не больше! Как Пан Бог в небе! Мне в пути отдали рапорт, перехваченный у русского курьера… Оттого и не кинулся Дибич за нами, что он разбит.
— Кинулся за вами… Значит?..
— Ничего не значит. Мы сочли нужным отступить. А он, если бы победил, должен был нас преследовать. Этого не было… Только вчера тронулся осторожно Витт за нами. У нас не хватило снарядов. Но и у них под конец орудия слабо уж палили… Парки их опустели, ящики зарядные — тоже… Словом, дело ясно…
— Хорошо… Но почему ты сам не остался при войске? Отчего оно идет в беспорядке, как тут говорят? Отчего?
— Отчего… Отчего!.. Конечно, я бы не оставил войско, сам собрал бы отсталых. Словом, не явился бы сюда, если бы уж и там ко мне не дошли вести об отчаянии в столице… о всех подлых кознях, которые тут затеяны против честного солдата, слуги родины и долга! О, я им отпою, пусть января… Успокоить столицу и защитить мое чистое имя поспешил я… Ясно, кажется!
— Довольно убедительно… Я теперь понял… Конечно, неприятно для меня, как для истинного патриота, что в такую грозную пору — и полный разлад в Сейме, в Ржонде, в войске, везде… Но, может быть, благодаря этой розни и удастся кое-что… Надо будет стравить между собою враждебные нам партии. И тогда поодиночке мы их…
— Стой! Другая, еще более хорошая мысль явилась у меня сейчас… А что, граф, если так повести игру… В последней битве я убедился, что дисциплина подорвана… Войско никуда не годно!
— Наше войско… Эти герои, которые так отважно идут на явную смерть?
— Да. Верь, если я говорю, вождь армии! Старые солдаты — еще ничего. Хотя и они, особенно ихнее офицерство, слишком занялись политикой и критикой моих распоряжений… Ослы! А новые батальоны. Это… Лучше бы не было этих мужиков… Тут, в столице, тоже, как ты сам признаешь, полная разруха. Европейские державы даже не знают, с кем им приходится иметь дело. И вот если бы нашелся человек, отмеченный боевыми успехами на протяжении десятков лет… И своими дипломатическими способностями… о которых ты мне сам говорил не раз, слушая мои письма разным министрам и государям… Вот если бы такому человеку в руки сдать власть, конечно, под надзором того же Сейма, а не безответственно, как требовал бурбон Хлопицкий… Как это и было сделано!.. Что, если повести такую линию? А, Янек?..
— Воскресить хочешь Наполеона… и день восемнадцатого Брюмера? Нет, — покачивая головой, ответил Ледуховский, — по-моему, ничего не выйдет… Лучше и не начинать. И то уже Чарторыский начал звать сюда Хлопицкого обратно! Берегись, не подводи себя.
— Под-во-дить се-бя?.. Это зачем же? Я — Скшинецкий! А не боевая лошадь Хлопицкий! Вот увидишь, так все будет, как я сказал. И ты — мой министр внутренних дел! Слово чести, Яню.
— Ну, там, что будет, увидим. Вон, кажется, уж подъезжают… Я партию нашу подготовлю… Пока — будь здоров!
Едва Ледуховский отъехал от дома вождя, туда подъехало несколько экипажей и, кроме званых — Островского и Глищинского, явилась к вождю целая депутация от Ржонда, желающего знать точно положение дел.
Лелевель, Баржиковский и Теофил Моравский составляли депутацию. Первый заговорил Баржиковский, когда все заняли места по приглашению хозяина:
— Извиняемся за беспокойство… Но присланные донесения были так неполны… и даже… слегка… противоречивы, что Сейм желал бы…
— Понимаю, готов все пояснить панам делегатам… И прошу так передать, как я скажу… Поражения никакого… Напротив, мы победили…
Разгорячаясь все более, вождь и этим слушателям, только еще ярче, повторил то, что слышал Ледуховский полчаса тому назад.
— Что же значит тогда, — пожимая плечами, осторожно начал Лелевель, — первая отчаянная депеша генерала?..
— Э, пан. профессор, вы же не военный! Что значит отчаянная? Поди, первая мысль, которую вы оглашаете на лекции, тоже не всегда бывает самая удачная, особенно если вы волнуетесь… А я — волновался, понятно… после такого дня! Это было сражение в стиле моего великого учителя Наполеона… Понимаете?.. Ну, и… естественно… двадцать пять тысяч людей с обеих сторон легло на поле, выбыло из строя… Тут уж трудно сохранить спокойствие, выдерживать стиль, подбирать слова. Пишешь, что под руку подвернется… Глупость сморозишь порою… Понимаете?
— Глупость! Понимаю! — мягче прежнего уронил Лелевель и умолк.
Кончив свой доклад о «победе» под Остроленкой, вождь огляделся кругом.
Почти все сидели, поникнув головой, никто не заговорил.
— Паны не возражают, значит, им все ясно и понятно! Так прошу передать и Ржонду. А теперь от себя — прошу еще кое-что… Конечно, я бы мог своей волей… Мог бы даже арестовать немедля… отнять шпагу и предать военному суду этого предателя… но я…
— Предателя?.. Шпагу!.. Под суд? Кого?.. У кого? За что? — раздался один общий возглас.
— Круковецкого и… Нет, впрочем, пока — одного Круковецкого… Уминьского прямо отрешу своей властью за низкое поведение под Сероцком. А Круковецкого, который нашел себе сильную защиту, — я отдам под суд… если Ржонд немедленно не сместит его с губернаторства… Не велит подать в отставку… И без пенсии… И без мундира! Обязательно без мундира… чтобы этот интриган, предатель, заговорщик не марал мундира польской армии!.. Да-с. Вот мое последнее слово!
Молчат, поражены члены Ржонда. Лелевель, вообще осторожный с военными, состроил страдальческую гримасу, словно у него неожиданно заныл зуб. Моравский, поэтический, мечтательный, изящный, широко раскрыл глаза… Баржиковский, постарше, сохранил больше всех хладнокровие и спокойствие духа. Только думает: «Что это с нашим „генералом-куклой“? Никогда он еще не был так зол и нагл…»
Но громко, очень вежливо обращаясь к генералу, Баржиковский спросил:
— Не позволено ли будет узнать, в чем обвиняет вождь генерал-губернатора Варшавы?..
— Во всем!.. Он ведет переговоры с россиянами… Это мне доподлинно известно… Здесь, в столице, он умышленно проявляет излишнюю строгость, чтобы вызвать взрыв и, устранив законное правительство, сделаться диктатором… Да только не вроде Хлопицкого, а вторым Кромвелем или Робеспьером!.. Да-с, панове! Конечно, у меня есть и доказательства… но я их пока не имею права огласить.
— Тогда, значит, надо предать его суду.
— Суду! — сразу меняя тон, в раздумье заговорил вождь. — Пожалуй, судить публично этого предателя теперь… не совсем подходящая пора… И в столице тревога… И холопы вон бунтуют… И холера. Нет, судить его не надо. Просто сместить! Отставить… Выгнать из края… как собаку…
— Но за что? Чем объяснить?
— О, причин довольно… И вы их знаете, панове… Он осмелился внести в Ржонд донос… лживый, конечно, на меня… На вождя народной силы, стоящего на страже, спасающего отечество! За это одно он достоин кары. Наконец, даже сегодня, когда я послал за ним, он ответил мне, что ему некогда… Что он «занят»! Такое непослушание… Забвение долга!
— Ах, вот что… Конечно, это должно быть неприятно пану генералу… Но что касается остального, — тверже заговорил Баржиковский, уяснивший себе, в чем дело, — в остальном — нельзя упрека ни малейшего послать губернатору… В один месяц он вернул спокойствие столице, где бурлил целый водоворот… Самого же пана генерала немало обливали грязью газетки дурного тона. Теперь этого не стало… Он вешает без пощады шпионов, где их ни откроет! Отставных военных, которые по трактирам и кофейням торчали целый день и осуждали каждый шаг армии и самого вождя, — он их выслал в отряды! Он снаряжает новые батальоны, высылает трусов и лентяев из города, очищая его от темного люда… Лазареты, базары, заговоры — все это не уходит от его взора… Он устали не знает, этот железный старик. Порою — не считается с самим Сеймом, не говоря уж о нас. Но делает это для блага общего. Его боятся, не любят, но слушают! И мы1 теперь его должны… Я не приятель Круковецкого. Он жесток, груб, зол и завистлив… Он интриган, это верно… Но — честный поляк и губернатор — образцовый. Таково мое мнение…
— И мое! — подтвердил Моравский. Лелевель промолчал.
— Ну, конечно! — едко рассмеялся Скишнецкий. — При такой защите предатель может спать спокойно. Но я скоро доставлю доказательства. Изменник через Львов, через Галицию относится с россиянами… Но пока я иначе ставлю вопрос. Пусть Ржонд выбирает: он или я. И если Ржонд изберет его… Что же, тогда еще остается Сейм, этот высший приют святой справедливости! — обращаясь к Глищинскому и Островскому, громко проговорил вождь.
— Уж если так, лучше Ржонду подать в отставку! — возразил Лелевель.
Смущенные, простились с генералом делегаты. Провожая затем Островского и Глищинского, вождь обратился к ним, поднимая руки к небу:
— Сам Бог привел вас ко мне в эту минуту. Вы были свидетелями… Вы слышали… Передайте Сейму… В ваши руки кладу я свое честное имя… свою жизнь! Сложите их к ногам избранников народа и скажите, что я не могу жить, если не будет с меня снято пятно… Если не уберут также этого… Круковецкого…
В тот же день, конечно, узнал Круковецкий все, что происходило у Скшинецкого. Узнал и то, что Ржонд не видит, кем бы успешно заменить Скшинецкого. И потому даже против воли, но придется уступить его требованию.
— Лжет негодяй! Он меня не отставит! Я сам уйду! Ни минуты не хочу служить с такой собакой! — прорычал старше и почти в тех же выражениях написал просьбу о немедленной отставке, которая была Ржондом принята. На место Круковецкого назначили бесцветного, ограниченного генерала Рутти.
На другой же день в Сейме Ледуховский и его партия добилась еще большей победы для вождя, пораженного под Остроленкой. Эту битву приравняли к несчастию, постигшему Варрона при Каннах и почтенному римским Сенатом, хотя он был и разбит.
Сейм поддался уговорам, натиску — и 31 мая постановил выразить доверие вождю, отрядив для того особую депутацию.
— Победа близка! — шепнул Скшинецкий Ледуховскому, провожая эту депутацию. И через три дня уже в Сейме начались споры между «реформистами»-демократами и «антиреформистами» партии Ледуховского о том, возможно ли сдать власть Скшинецкому, одному, без Ржонда…
— Поторопитесь! — крикнул Лелевель. — И как в Сен-Клу, штыками вас выпроводит отсюда новый «очень маленький» консул…
Это напоминание помогло. После долгих споров 9 июня предложение Ледуховского голосовалось и было отвергнуто 42 голосами против 35.
— А все-таки я до этой минуты не знал, сколько у нас в Сейме круглых дураков, — съязвил Лелевель. — Оказывается, число не круглое… 35… И это еще при неполном составе, когда половина депутатов разбежалась из столицы, напуганная «победами» нашего Варрона!
— Вернее, вороны! — подхватил Круковецкий, торжествующий при виде провала врага. — Он Иганы проворонил… Вельки Дембе проспал… Армию потерял, гвардию проворонил! А его хотели сделать диктатором! Обжегся, продажный человек, муж богатой жены, старый актер… комедиант!..
И залился довольным хохотом Круковецкий.
Раненые, привезенные в Варшаву, так обрисовали своего шального вождя, что враг его мог еще больше порадоваться.
Подоспел еще удар. 9 июня н.с. в Клечеве, под Витебском, где была главная квартира, фельдмаршал Дибич почувствовал первые приступы холеры, а на другой день его не стало…
В том же Витебске 14/26 июня заболел холерой цесаревич Константин и дожил только до утра 15/27 июня…
Обе эти смерти произвели большое впечатление на Литве, в Польше и особенно в Варшаве.
Очень многие жалели рано скончавшегося Константина… Но смерть фельдмаршала только придала бодрости и обывателям столицы, и Ржонду, и даже вождю.
Хотя в Польше знали, что новый генералиссимус граф Паскевич-Эриванский еще 17/29 мая выехал морем, чтобы через Пруссию явиться к российской армии, взамен Дибича, «слишком медлительного, чересчур осторожного», как полагал Николай, но все-таки этот момент, когда россияне остались без главнокомандующего, можно и должно было использовать польским силам. Ждали, что «сурок» — Скшинецкий — проспится наконец… Этого же опасались и в Петербурге, потому что 17/29 июня оттуда было послано письмо, в котором пресловутый Ружнецкий предлагал Скшинецкому войти в тайную переписку, повлиять на сдачу Варшавы и войска, за что его, конечно, ждут большие милости и награды.
Письмо это, полученное через надежные руки, Скшинецкий все-таки передал Ржонду, опасаясь ловушки. Но сам не проявлял готовности использовать момент. Только под давлением со всех сторон поручил он ограниченному генералу Янковскому ударить на генерала Рюдигера, по своей оплошности попавшего, как в мешок, между польскими войсками…
Толль на это ответил ложной попыткой переправиться на левый берег Наревы, будто бы желая идти на Прагу… Скшинецкий, испугавшись, отозвал назад Янковского, Рюдигер ушел, время было даром упущено. Вся экспедиция велась так вяло, небрежно, что даже солдаты видели ошибки своих начальников, и слово «измена» громко стало звучать в их рядах.
Отдалось оно еще громче в Варшаве.
Сам вождь, желая утопить Круковецкого и других своих врагов, при помощи выгнанного из польской армии проходимца Инес де Кастро затеял грязную проделку… И сам при этом пострадал.
Инее де Кастро, заподозренный в шпионстве, бежал из Польши в Галицию, где во Львове жила его родственница пани Цыбульская.
29 июня н.с. появился в Варшаве пан Жарчиньковский, член подольского революционного комитета. Он привез и отдал Скпшнецкому, минуя Ржонд, обширный донос от пани Цыбульской, в доме которой, по ее словам, происходили собрания и совещания российских эмиссаров-шпионов и представителей большого тайного заговора, существующего в Варшаве. Цель заговора: свергнуть Ржонд, арестовать Сейм, вождя… Подавив восстание, Польшу решили передать снова на милость императора Николая… Главами заговора названы были генерал Гуртиг, бывший командиром Замостья генерал Салацкий, дочь которого, живя в Кракове, служит посредницей в переговорах с россиянами. Затем упоминались Круковецкий, как будущий «наместник» Варшавы; Янковский и кондитер Лесли, казначей этого рискованного предприятия. Были названы и еще имена мужчин, даже женщин, заговорщиц…
Ничего не сообщив Ржонду, своею властью Скшинецкий дал приказ губернатору Рутти арестовать всех обвиненных в письме, кроме Круковецкого, тронуть которого поопасался.
Рутти точно исполнил приказ. 29 июня н. с, в день Петра и Павла, когда улицы были полны народом, показались арестованные, под конвоем сопровождаемые через весь город в замок, где им были уже приговорены кельи рядом с Янковским и Буковским, арестованными и отданными под суд еще раньше за неудачу с Рюдигером…
Толпа сначала с любопытством смотрела, следуя за странным шествием. Генерал Гуртиг, известный всем, шел как преступник, хотя и старался держать голову высоко. С ним рядом — престарелый генерал Салацкий и хорошо одетые дамы из общества — пани Мархоцка и Парисова, укутанные вуалями, россиянка Базанова, оставшаяся в Варшаве после удаления цесаревича, шла с ними. Затем шел кондитер Лесли, которого знала даже детвора столицы. Пан Слупецкий и еще несколько второстепенных «изменников» замыкали печальный ряд…
Толки начались без конца, росли, крепли… Явились какие-то подробно осведомленные люди и начали говорить о письме из Галиции, о предательстве.
Уже и перед этим столица затревожилась, зароилась, получив накануне известие, что Паскевич 25 июня прибыл к армии и двинулся в поход. Уже на углах улиц белели везде призывы правительства, созывающего Всенародное ополчение, зовущего на работу к окопам Праги и Воли… Потому что никто не знал наперед, откуда ударит Паскевич…
«К нашим чудо-богатырям, к защитникам родины, к населению прекрасного, обширного города, к целой Варшаве, стяжавшей себе всемирную, историческую славу мужеством, воинственным пылом и любовью к отчизне, к ней вынуждены мы обратиться в силу обстоятельств, известных всем!
За оружие, братья! На последнюю борьбу!
В течение трех дней должен каждый обыватель столицы, без различия возраста, чина, состояния, хотя бы уже был записан и в ряды Народной гвардии, словом, каждый истый, верный и добрый поляк, должен записаться и быть готовым по призыву своего начальства явиться на означенное место. Если своего оружия не будет, таким выдадут косу, пику, либо иное холодное оружие.
А если бы кто от настоящего призыва уклонился, то помимо пятна, какое падет на имя этого человека, не любящего своей отчизны, виновный будет также подвергнут каре, согласно постановлениям Ржонда».
Так гласило воззвание.
Один этот призыв наполнил гулом, говором и страхом Варшаву. А тут по улице ведут заведомых шпионов…
— Гуртиг! Мучитель Лукасиньского! — прокричал чей-то голос. — Чего там еще судить этого заведомого врага Отчизны? На виселицу его!.. Камнями побить!..
Полетел камень… Но в тесноте ударил в своих, а не в генерала, который еле шел, бледный, втянув голову в плечи, закрыв теперь руками лицо. Слезы пробивались сквозь пальцы и падали на мостовую.
Но толпе нет дела до слез предателя. Знак был дан… Протянулись руки мужчин, женщин, даже детей. Конвойных почти оттерли от арестованных. Гуртига стали толкать, бить… оборвали на нем мундир и уже хотели тащить к фонарю. Кто-то успел раздобыть и веревку, когда появился отряд Народной гвардии, с трудом отбил генерала и других, помог конвойным довести их до замка, разгоняя толпы, которые все ширились и росли, разливаясь до самых ворот замка, которые захлопнулись за арестованными.
Но и тут толпа не стихла.
— Письмо пришло! — раздались здесь и там голоса людей, посланных Круковецким, проведавшим об интригах врага. — Это хорошо, что дело открылось. Про это письмо вождь правду сказал Ржонду. А про другое молчит, которое сам от Иуды Ружецкого из Петербурга получил. В котором обещано десять миллионов золотых генералу Скшинецкому, если Польшу предаст Паскевичу. А так и будет… Паскевич к Висле идет. А вождь и не думает ему наперерез кинуться. Дорогу уступает. На Праге сидит, греет свой живот… Обещал Ржонду, что выступит еще позавчера… А сам и не думает! Вот кто главный предатель: генерал Скшинецкий!
— Скшинецкий предатель! Вешать Скшинецкого! — подхватили голоса.
— Повесить его среди сорока тысяч солдат!.. К суду его надо, а потом и повесить! Он Остроленку нарочно устроил. И еще устроит!
— Под суд вождя! — снова звучали голоса.
Но отряды Народной гвардии стали действовать решительней и рассеяли понемногу толпу.
Час спустя Чарторыский, узнав, что совершилось, поспешил на Прагу к вождю, у которого застал и генерала Рутти.
— На милость Бога! Что это такое? — вне себя заговорил князь Адам. — Почтенных людей хватают, сажают… Толпа собирается, чуть не убила Гуртига.
— Это — изменник, а не почтенный человек! — начал было вождь.
— Ну, пан генерал! Кого у нас теперь не зовут изменником? Вон и тебя сегодня… Хотели на фонарь… Орут, что ты предал Польшу. Что ты еще двадцать седьмого обещал выступить с войском на Паскевича, а уже ныне двадцать девятое и…
— Вот как! — с трудом оправясь от страха, который овладел им при словах князя, ответил вождь. — Я — изменник!.. Меня на суд! На виселицу! Ну, хорошо же… Я уж доказывал миру… и еще докажу… Князь! — принимая одну из своих самых величественных постатей, поднимая руку, громко заговорил вождь. — Иди, передай Ржонду, пусть прикажет звонить в колокола во всех храмах Божьих. Пусть люд на коленях воссылает к небу свои горячие мольбы. Пусть ксендзы повсюду служат молебны. А мы — я и мое войско — идем биться во славу отчизны и веры нашей святой!
Затем, спустив тон, вождь ознакомил президента Ржонда с письмом Цыбульской.
— Хорошо. Раз дело сделано, назначим суд, — вздохнув, сказал Чарторыский. — Завтра же начнем следствие…
Следствие ничего не открыло. Но заподозренных не выпускали из замка. И сами они просили держать их здесь, под охраной.
— Если мы вернемся теперь домой, все равно не поверят люди, что мы правы… Нас повесят!.. — говорили они. — Лучше здесь посидим, за крепкими стенами и под стражей.
Но даже стены не спасли этих невинно обреченных!
Скшинецкий, хотя и обещал торжественно «двинуться немедленно», однако лишь 2 августа покинул Прагу, перенес свою главную квартиру в Сохачев, после того как Паскевич со своей армией без малейших препятствий 21 июля перешел на левый берег Вислы и двинулся на Варшаву. Лишь после того, когда безвольный, мягкий Чарторыский вместе с Ржондом и целый Сейм послали вождю «напоминание», полное укоров, даже угроз.
— Они ничего не понимают! — заметил Скшинецкий, прочитав бумагу — У меня наполеоновская тактика! Смерть найдет Паскевича и его войска под стенами Варшавы!.. Тридцать тысяч людей похоронит он при первом же приступе! А остальных тридцать тысяч я с моими «вярусами» в пыль изотру. Нас все-таки останется пятьдесят тысяч. Ха-ха-ха!..
Грустно покачивает головой, печально улыбается генерал Колачковский, которому говорит все это вождь.
Старик вспомнил, что и Хлаповский перед Гроховым говорил почти то же самое…
Но ни о чем печальном не думает вождь. Он уверен, что протекция и случай вывезут его, как всегда вывозили.
Может быть, он бы и не ошибся. Но большая радость выпала в последние горькие часы на долю Варшавы… И эта народная радость действительно стала «могилой» для вождя Скшинецкого, свергнув его с незаслуженной высоты, на которой генерал находился около полугода.
Глава II БЕЗУМНЫЙ ПОРЫВ
Глас мирской — Божий!
Nequeo superos movere non possum Acherontem movebo!..Мир — велик человек, — да голова мала!
Разъяренная толпа — это бешеный тигр с тысячью смертоносных пастей!..
Мягко колыхаясь, катилась по шоссе утром, 3 августа, дорожная коляска, баюкая полулежащего в ней Скшинецкого, усталого, недовольного, почти не спавшего эту ночь, а теперь вынужденного объезжать свои отряды.
Глупы люди кругом, право!
Он только неделю тому назад получил хорошие вести из Парижа, вернее, из Версаля… Там намерены сделать представление российскому двору насчет Польши. Англия — тоже, наверное, не отстанет. И из Вены получено такое хорошее, многообещающее известие. Посол французский при австрийском дворе прислал очень любезный ответ на послание вождя и закончил его обещанием «обратить особенные старания и заняться вопросом о Польше прежде всего».
«Вот, может быть, все и кончится благополучно в две-три недели. А эти безумцы торопят ехать в армию, начинать бои, лить кровь. Не надоело еще… Им хорошо сидеть в Варшаве… А я должен тревожиться, подвергать себя опасности. И даже неизвестно, будет ли за это настоящая награда! А тут еще подагра проклятая начинает разыгрываться… Э, будь вы все про…»
Течение мыслей генерала остановилось. Он увидел впереди довольно длинный обоз, быстро приближающийся к Варшаве, или, вернее, к ее предместью Праге, которую вчера лишь покинул генерал-дипломат.
Сначала тревога охватила его. Похоже на телеги с ранеными, как это было после Остроленки… Но ведь битвы не было… Должно быть, просто крестьяне едут с продуктами в столицу. Или даже переселенцы из мест, занятых неприятелем. Немало теперь их и в Праге, и в самой Варшаве.
Но чем больше приближался поезд, тем больше убеждался генерал, что первое впечатление не обмануло. Это были повозки с больными, ранеными, слабосильными…
«Неужели Дембинский уже явился? — мелькнуло у Скшинецкого в мозгу. — Были слухи, что он подходит… Что вырвался благополучно из лесов и болот Литвы… Счастливчики! Да, это мундиры его полков… И российские… Странно. Почему бы это?..»
— Гей, «вярус»! — обратился вождь к усатому улану, сидящему на передке первой телеги, поравнявшейся с коляской. — Чьи вы? Откуда? С Литвы? Дембинского?
— Так есть, мосце генерале! — ответил улан, бросил вожжи, которые держал правой рукой, и откозырял по уставу. Левая рука у него висела на перевязке, окутанная чем-то, потерявшим цвет от пыли и засохшей крови…
По знаку вождя он тронул коней и покатил, а за ним — и весь длинный обоз, тоже остановившийся, когда стала передняя телега.
— Будь здрав, пане генерале! — бойко выкрикивали солдаты, мимо которых катилась коляска вождя. Те же, кто лежал на дне телег, тяжелобольные и раненые, поднимали голову, желая тоже посмотреть, какой первый генерал попался им навстречу так рано под Варшавой.
Скрылся в пыли обоз, разъехавшийся с коляской вождя, а уже впереди видно другое, еще более широкое облако пыли, долетает ржание коней, гул большого, медленно идущего людского табора.
Иначе нельзя было назвать то, что увидел вождь.
Впереди медленно подвигались всадники на разномастных конях, самой различной породы и величины. На конях пестрели фигуры всадников в мундирах польских и русских или в смешанной форме: мундир был русский, пехотный или гусарский, а конфедератка и рейтузы — польского образца… Были тут и паны в бекешах, в сюртуках, в чамарах. Причем городские, обывательские лица, носы, украшенные очками, щеки, поросшие длинной растительностью, совершенно не вязались с вооружением, надетым на каждом из всадников. Вооружение это тоже было сборное: карабины, мушкеты, охотничьи картечницы, дорогие ружья последнего выпуска английских мастеров и дедовские мушкетоны, чуть ли не кремневики… А у иных просто косы на ручке или охотничьи ножи и кинжалы.
Но вид у всех такой бодрый, молодцеватый… Ничего, что иной вставил в стремена босые ноги… Посадка — легкая, смелая — выкупает недостатки одежды и вооружения.
За «кавалерией» двигалась пехота, ни в чем не уступающая первой. Затем тянулся довольно внушительный обоз, за ним, как полагается, опять конный конвой, да еще толпа пленных россиян среди этого конвоя.
Презрительная гримаса показалась на губах у вождя при виде огромной «банды», как он окрестил идущий отряд. Но выражение встречных лиц проникло даже в ленивую душу Скшинецкого, и словно что-то зашевелилось там теплое, дружелюбное. Он охотно кивал головою на приветы «войска оборванцев». Даже улыбался им милостиво. Но вот показалась кучка офицеров и штатских всадников, одетых получше, человек двести… Появились и более европейские экипажи, в которых сидели жены и дети знатных литовских и жмудзинских панов, решивших оставить родину вместе с Дембинским.
Он сам, бронзовый от загара, обветренный, запыленный, ехал среди своего штаба в летнем кителе, заношенном, затрепанном, полурасстегнутом и теперь, несмотря на утреннюю свежесть.
— Дембинский! — крикнул радостно вождь.
— Друг, благодетель! — подскакивая на коне к дверцам коляски, отозвался генерал.
Он наклонился с седла, и оба приятеля крепко трижды расцеловались. Поезд, послав громкие приветствия вождю, двинулся своей дорогой, а оба генерала, не отрывая рук одна от другой, вели быструю, порывистую беседу.
— Вернулся! Слава Иисусу! Я уже ждал не дождался тебя, Генрих. Едем в армию… Будем воевать. Являйся скорее. Дела много. Я рассчитываю на тебя, генерал… Сердце радуется, как ты сумел выйти из беды и таких молодцов привел нам на помощь… Тысячи три их!
— С лишним четыре! — конфузливо улыбаясь, ответил Дембинский. — И денег есть в запасе тысяч пятьдесят! Насчет того… обмундировки, надо признаться, дело у нас швах… Но зато дух…
— Не говори, молчи! Хотел бы я, чтобы у меня хоть отборных два полка выглядели в целой армии, как эти твои молодцы. Я бы тогда с ними целый мир покорил… А то слыхал, как здешние сурки, офицеры, генералы и солдаты, проигрывают бои, срамят и отчизну, и польское войско, и меня, их вождя!..
— Слыхал кое-что, — хмурясь отвечает Дембинский. — Буковский, Янковский — под судом, арестованы… И Салацкий… и Гуртит…
— Ну, об этих изменниках и говорить нечего… Но я тебя не задерживаю… Мне надо к своей армии… А ты — догоняй свою! Слава храброму! Дай еще обниму от души!
— Да, поезжай, поезжай! — серьезно вдруг заговорил Дембинский. — Без тебя там плохо… Вот уж солнце как высоко… Я подъехал к Болимову… Был в лагере. Спит он как мертвый… Словно пани молодая после первой брачной ночи! Разве можно! Враг близко. А разъездов кругом нет… Можно внезапно ударить на заре — и взять весь лагерь, целый обоз. Нехорошо там без тебя! Поезжай с Богом.
От сердца, просто сказал это Дембинский. Но самолюбивый, мелочный вождь почувствовал умышленный укол, обиду. Он принял холодный вид и небрежно уронил:
— Благодарствую за донесение… Конечно, без вождя могут быть и недосмотры небольшие. Но у меня в армии все в порядке. Ты с налету поглядел. Приедешь на дело, сам увидишь… сам увидишь… А я постараюсь и вперед помогать тебе, генерал, и быть полезным, как раньше.
Теперь поморщился Дембинский. Напоминание о протекции, которую всегда вождь оказывал приятелю, прозвучало совсем некстати в такую минуту. Но, сдержав недовольство, генерал сердечным тоном ответил:
— Помню твою дружбу и помощь… Прошу Бога, чтобы он дал мне случай чем-нибудь отслужить… Прощай… До свиданья, вернее!..
Случай этот очень скоро представился…
Пол-Варшавы в лучших нарядах, миновав мост и Прагу, столпились за Шмулевской заставой около 7 часов вечера того же дня, когда сюда стали приближаться возы с ранеными отряда Дембинского.
Толпа рванулась навстречу поезду, особенно женщины.
Матери, невесты, сестры и жены солдат, которые ушли в Литву, опередили всех, держа в руках детей… Они перебегали от повозки к повозке, и потрясающие сцены разыгрывались в тот миг, когда среди раненых какая-нибудь женщина находила своего близкого человека, которого уж не чаяла и видеть.
Слезы жалости смешивались с выражениями радости, восторга, и это трогало самых холодных людей…
Такие же сцены повторялись, когда подошла «армия» Дембинского. Народ приветствовал воинов кликами… Женщины смеялись и плакали… Дети, узнавая отцов, радостно хлопали ручонками, выкрикивая:
— Тату!.. Тату!.. Иди ко мне! Где ты был? Много вас побито? Как добрались до дому?
Но, обняв ребенка, жену, поцеловавши руку старухи матери или отца, воины снова становились в ряды, готовясь идти дальше по приказу своего обожаемого генерала.
Наконец показался и он со своими офицерами.
Клики восторга, казалось, всколыхнут даже осеннее ясное небо, развернувшееся над головой толпы, окрашенное на западе пурпурными и золотистыми красками заката.
Генерала сняли с коня, понесли и поставили перед президентом Ржонда, который в сопровождении графа Антония Островского и губернатора явился почтить героя от имени Ржонда и целой Варшавы. Начались речи, взаимные приветы… Дальнейшее шествие генерала было сплошным народным торжеством.
Под Прагой, в укрепленном лагере, были отпущены воины Дембинского в казармы, а местные — по домам.
Варшавяне, варшавянки, стоя на окопах, слали приветствия, осыпали цветами генерала и его солдат.
Дальше, через мост, Дембинский двинулся только со своим штабом и важнейшими из вождей и выходцев с Литвы. Тут ехал храбрец и красавец Матушевич, отважный Пушет, Рущевский, Страшевич и многие другие.
Около восьми часов вечера прибыл поезд в Краковское предместье и остановился у дворца Радзивиллов, где заседало Народное правительство.
Ржонд в целом своем составе встретил генерала у входа с Винцентием Немоевским во главе.
— Генерал! — сказал Немоевский. — Приветствую тебя от имени Ржонда и всей земли польской! Счастье изменило вам, это правда. Но ты и твои воины не изменили святому делу народа! Вы честно послужили отчизне! Слава вам, храброе воинство! Да живет генерал Дембинский! Да живет его храброе воинство!..
Громом откликов ответила толпа на этот клич.
— Привет и вам, отцы отечества! — громко прозвучал голос Дембинского. — Вы бы так скоро не увидели нас дома, если бы не низкая, подлая измена…
— Измена! — глухим рокотом прокатилось кругом, словно отзвук дальнего грома.
— Среди многих опасностей я провел сюда моих храбрецов! Могли мы и готовы были все победить или умереть… Но измена связала нам руки, отняла силы. Там, в чужой земле, остались теперь три четверти армии, посланной народом польским для помощи и освобождения братии. А мы решили еще сберечь нашу жизнь и предложить ее вам и отчизне! Для нее готовы пролить последнюю каплю нашей крови!
Снова клики и восторг без конца!.. А у крулевского замка Сейм выслал делегатов для приветствия вождя и пригласил его на следующий день на торжественное заседание, устроенное в честь героя народного…
Тогда же Дембинский получил чин дивизионного генерала и Золотой крест… Имя его и солдат целого корпуса Сейм постановил вписать в особую книгу на поучение грядущим, поколениям, на память об этом втором Анабазисе, более блестящем, чем ксенофонтовский, потому что враг был сильнее и многочисленней, чем у греческого вождя.
Адреса, подарки со всей страны посыпались в тот же день! Кроме всего — Дембинского назначили генерал-губернатором столицы, сменив слишком усердного, не по разуму, Рутти.
А вечером, собравшись на заседание Ржонда, члены его радостно переглядывались, и даже сдержанный Чарторыский произнес:
— Ну, теперь у нас есть кем заменить неукротимого «победителя» Остроленки!..
И все ответили дружным, веселым смехом на шутку вечно серьезного президента своего…
Сейм тоже не стал долго ожидать.
9 августа н.с. уже было постановлено: избрать депутацию из 11 человек с неограниченными полномочиями и послать ее в лагерь при Болимове, чтобы узнать положение дела и поступить сообразно обстоятельствам.
Кроме семи депутатов и двух сенаторов в комиссию вошли Чарторыский и В. Немоевский.
Делегаты в тот же день выехали в Болямово, куда прибыли уже под вечер.
Тихая деревенька была неузнаваема. Между хатами, занятыми высшим начальством, теснились младшие офицеры и солдаты… Вся армия высыпала из своих шатров, как только пришла первая весть о «смене вождя»…
Заслуженные генералы старались собрать вокруг себя партию позначительней, предвидя голосование и выборы… Офицеры громко разбирали все промахи вождя и сравнивали шансы и достоинства новых претендентов на важный пост…
Скшинецкий, скрыв злобу и обиду, решил отомстить. Он с приветливым лицом ходил между толпами офицеров, солдат… Слушал толки, выносил самую суровую критику, отражал обвинения, незаметно и умно стараясь показать, что не его промахи, а интриги «будуарных политиков», бездельных аристократов и предателей приводили к ряду поражений, понесенных армией под управлением его, Скшинецкого…
Так, осторожно сея смуту, генерал приблизился к группе молодых офицеров, в которой находился поручик 10-го полка Гельтман, человек лет 32, преждевременно состарившийся в казармах Литовского батальона, где служил солдатом, сосланный туда за участие в заговоре еще в 1828 году; рядом стоял Мирославский, юный, полный огня подпрапорщик 18 лет, сын поляка и француженки, в прошлом году поступивший в 5-й линейный полк. Еще несколько офицеров 10-го полка дополняли кружок.
— Это — прямая измена! — желчно, горячо звучали слова Гельтмана. — Целый ряд непростительных промахов! Упустить столько счастливых моментов, когда можно было поймать врага на его ошибках!.. Самому испортить ряд великолепных планов! Лично я не люблю Прондзиньского: осторожная, трусливая, холодная лягушка. Но голова у него — гениальная. Планы он создавал превосходные. Поход на Михаила…
— Это план Хшановского! — спокойно поправил Мирославский.
— Гениально исправленный Прондзиньским! — парировал Гельтман. — Потом — Бельки Дембе… Иганы… Даже — Остроленка! Если бы вождь не испортил плана своей дотошливостью… А поход на Рюдигера? Знаете, что отвечал вождь, когда ему Каменский предложил послать туда Прондзиньского как автора плана? «Дать моему злейшему врагу возможность отличиться! За кого ты меня считаешь?..» Это разве ответ честного человека, хорошего вождя? А лень, а пропуск без боя россиян на левый берег Вислы? А их подступ к столице без помех?.. Что это такое? Измена…
— Нет, просто глупость человеческая! — так же спокойно начал снова Мирославский. — Чего захотели, чтобы важный генерал был и умный человек, и военный гений, и герой добродетели… Да ему бы тогда место в тюрьмах Сибири, как Крижановскому, как Лукасиньскому… А преуспевают только посредственности вроде нашего вождя!.. Он жалкая посредственность. А для спасения Польши нужен был гений вроде Наполеона. Да! Просто — умные и честные люди, они гибнут. Выживают и ведут за собою целый народ — только гении, даже такие «кровавые», как Корсиканец!..
— Ну, ты опять со своими гениями! — послышались голоса.
— И опять! Вы верите в Бога. Для меня — это слишком почтенный и большой образ старца, который не вмещается в моем человеческом мозгу. Я верю в то, что вижу… и понимаю… И вижу, что Наполеоны, даже погибая, спасают народы, дают им толчок: искать вольность. А благоденствующие Скшинецкие топят по свойству своей натуры, своего узкого умишка все, к чему прикоснутся. Так за что их винить? Виноват ли клоп, что он так дурно пахнет?.. Нет… Скорее виноваты те, кто клопа посадил на святыню народа, кто ему дал право поганить армию… Виноваты наши «отцы отечества»… Наш слепой, трусливый, близорукий Ржонд…
— Виновата вся история наша! — перебил Гельтман. — Мы — народ-шляхта, вместо того чтобы быть просто польским народом! Мы платим за ошибки наших отцов, за века угнетения и рабства, которому подчинены у нас хлеборобы… Мы платим за «роскошь» наших старых Сеймов, за неурядицу и развал в современном строе крулевства! Мир идет вперед! Знаете мой припев… А Польша стоит на месте, одетая в запыленные доспехи средних веков, поржавелые, избитые… Теперь любая пуля пробьет лучший шишак… А наши паны-магнаты, одетые в дедовские доспехи многовековых привилегий и прав, ныне всюду уничтоженных, желают жить, как жили их деды… И побеждать… Они не знают, что новая жизнь закипает в народе… Что новая Польша народилась и скоро заменит старую… Нет, они ничего знать не хотят ни о свободе, ни о равенстве, ни о братстве народов и сословий… И выбирают себе в вожди и слуги Скшинецких… Либо в лучшем случае — тупоголовых, но храбрых и прямых Хлопицких… О, если бы Константин не увел с собою в казематы Петропавловска нашего Лукасиньского. Этот был бы народным вождем… Мы были бы полными господами у себя давно… А россияне где-то там, далеко за Бугом, уходили бы восвояси… Рок или Провидение, которое ведает судьбу людей, не пожелало этого…
— Зачем же винить мошку Скшинецкого за ошибки самого Рока!..
Не выдержал вождь. Эта защита Мирославского показалась ему больнее самых резких нападок Гельтмана. Он выступил вперед из тени, в которой стоял раньше, позади всей толпы.
— Благодарен, пан подхорунжий, за защиту. Сквитаемся, надеюсь, еще когда-нибудь. Но от громких слов до дела — очень далеко…
— О, мы знаем: пан генерал не любит громких слов! — иронически откликнулся Мирославский. — Какого же дела ждет от меня пан генерал?
— Не угодно ли ясно, подробно указать мне мои ошибки, ну, хотя бы под Остроленкой… Где все было поставлено на карту, а враг неожиданно напал и развернул огромные силы… Ну, угодно ли? Я напомню положение…
Подробно изложил генерал диспозицию обоих войск, изобразил главнейшие моменты боя до самого его окончания.
— Вот теперь — прошу разобраться! — заранее предвкушая успех, вызывающе кинул заслуженный генерал, вождь армии, безусому юнцу.
И тут произошло нечто неожиданное.
Спокойно, словно решая задачу, Мирославский начал сыпать положениями, цифрами, отрывками из классических руководств по стратегии и тактике, цитировал Наполеона, Густава Адольфа, даже Тюренна и Морица Саксонского… Рисовал концом сломленной ветки точнейшие планы разных битв, приводил сравнения; от Остро-ленки перешел к Паскевичу, к его переправе через Вислу… Наглядно доказал, что всю армию неприятеля можно было разбить, рассеять двумя дивизиями, а не целой армией польской…
Юнец так загонял, обезоружил генерала, что тот уже собирался молча уйти или прибегнуть к резкому окрику на мальчишку, когда подошел его адъютант, полковник Дзялынский.
— Делегация от Сейма явилась и давно ищет пана генерала.
— Ну, мы еще поспорим, пан подхорунжий… Память у тебя крепкая! — радуясь своему избавлению от стыда, крикнул Скшинецкий и быстро пошел навстречу делегации.
Немало поразило делегатов то, что увидели и услышали они, очутившись среди болимовского стана.
— Да это собрание союза патриотов, сходка заговорщиков-якобинов, а не военный стан! — воскликнул Немоевский.
— О, успокойся, пан. Сегодня только вслух говорится то, что давно думает армия! — отозвался Уминьский, сопровождающий по лагерю делегатов в поисках за вождем.
Появился наконец и вождь. Сухо принял он посланников народа, недолог был их разговор.
— Повторяю: наступательная война против Паскевича, по-моему, безумие! Она немыслима… А подманив его под валы Варшавы, я там ручаюсь приготовить огромную могилу ему и всему войску россиян…
— Это не удовлетворяет Сейма, пан генерал! Сейм уже слышал это, обсудил, отверг и послал нас услышать что-либо новое.
— Я — стародавний человек… «Антиреформист», как называют нас молодые… петухи-горланы, разрушители всего святого… Я нового ни панам, ни Сейму сказать не могу… А если Сейм мною недоволен, готов сложить немедля власть в более достойные руки… по мнению Сейма, конечно, который берет на себя решать важнейшие вопросы войны и тактики… Ха-ха-ха!
Деланный смех покоробил делегатов.
— Сейм не берет на себя ничего, ему не свойственного! — почти резко возразил Немоевский. — Мы соберем большой Военный совет. Пусть армия сама решает. Все войско, конечно, кроме солдат.
— Отчего же? Их не мешает спросить! — с явной иронией откликнулся генерал, нервно кусая тонкие, побледневшие сразу губы.
Ответа он не получил. Делегаты простились с ним и вышли.
— Ну, мы еще сочтемся, панове! — задыхаясь от бессильной ярости, погрозил им вслед Скшинецкий.
На другое утро делегация призывала по группам генералов и штаб-офицеров армии, всего больше трехсот человек, и каждому предлагалось ответить на целый ряд заранее составленных вопросов, письменно, на особых листах.
Эти вопросы гласили: «Что думает вопрошаемый о настоящем положении войска и дел военных?», «Какого мнение о вожде?», «Есть ли необходимость заменить его другим?..» и т. д.
Общий голос был против Скшинецкого…
Пока здесь шла официальная работа, весь лагерь, офицеры и солдаты, как и вчера, поделились на кучки, устраивали малые сеймики, спорили, толковали о политике, выставляли своих кандидатов в гетманы, словом, творили полный «рокош», как во дни Речи Посполитой, благо случай и Сейм подали им для этого повод.
Последние остатки дисциплины, еще сохранявшиеся в войске, рухнули в этот день. В лагере, кроме делегатов, появились члены Патриотического Союза и других радикальных клубов.
Речи произносились самые бурные, и только надо было удивляться, что все кончилось сравнительно благополучно.
После учиненного «повального обыска» делегаты решили все-таки пойти избитым путем. Были созваны на Военный совет генералы, важнейшие начальники частей, всего 67 человек.
К общему изумлению, 22 голоса было подано здесь все-таки за Скшинецкого. Потом шли: Круковецкий, Уминьский, Малаховский, Любеньский, Прондзиньский, даже Бем и Владислав Замойский.
За Дембинского подали сравнительно немного голосов. Но его именно делегация объявила избранным, придав ему в товарищи Любенского и Прондзиньского.
Не особенно охотно на вид принял избрание Дембинский. Он прямо заявил:
— Не знаю, чего ждет от меня Сейм, правительство, паны делегаты и войско… Я видел это последнее нынче… И желал бы его видеть совсем иным… Но вперед говорю: намерен идти по следам моего предшественника… Его действия я считаю вполне правильными. И если, конечно, Сейму это не понравится, объявляю заранее: принимаю выбор всего на шестьдесят часов, пока паны делегаты успеют вернуться, доложить мои слова, пока Сейм изберет другого вождя, более согласного с его взглядами и волей!..
Признательным взглядом поблагодарил Скшинецкий товарища за эту минуту своего торжества. Но тот готовил ему еще кой-что лучшее.
По обычаю, они вдвоем объехали фронт армии. Старый вождь сдал булаву новому, который вместо обычной речи произнес самую горячую похвалу своему предшественнику.
Это уж было слишком. Даже солдаты поняли бестактность поступка и ответили гробовым молчанием, когда Скшинецкий крикнул:
— Виват вождю генералу Дембинскому!..
Это происходило 10 августа н. с, всего за четыре недели перед взятием столицы… Все немедленно разнеслось по Варшаве с прибавлениями, преувеличениями…
— Дело рушится! — крикнул в негодовании Гельтман после исторической комедии смотра 10 августа. — У нас нет Сейма, Ржонда, нет вождя и армии… Не станет скоро и народа, и нас!.. Терпение Божества истощилось! Кара близко… И Он, Непреклонный, рассеет нас по чужим краям, как рассеял племена строптивого Израиля!..
Многие слышали это пророчество, но только потом, тоскуя, влачась в изгнании на чуждых плитах парижской мостовой, вспоминали его…
Но еще одна ужасная очередная страница была вписана рукою Рока в кровавую летопись гибнущей Польши 3/15 и 4/15 августа 1831 года.
Злое семя, брошенное доносом Цыбульской, арестом Гуртига и его товарищей, росло и дало богатые, кровавые плоды!..
После «сеймика военного» в Болимове на короткое время настало затишье… Целые дни были открыты храмы, наполненные молящимися, особенно — женщинами… Религиозные процессии ходили по улицам, часто встречаясь с вереницами гробов, увозимых на простых дрогах поскорее прочь из города.
Это хоронили павших от холеры, начинающей намечать себе жертвы не только среди простого люда, живущего грязно и плохо питающегося… Умер от холеры редактор Жуковский, судья Ильницкий, прокурор Козловский и другие чиновники и зажиточные обыватели… Кладбища Варшавы так переполнились, что стали уже искать новых мест для этого города мертвых…
Рано по утрам город буквально пустел. Чернь, купечество, чиновники, министры, члены Сейма и Совета, войска, стоящие в столице, дети и прислуга, ксендзы и монахи — все шли к окопам на «Воле» или в Повонзках, спешно заканчивали их ввиду приближения россиян.
А по вечерам горели огни в ресторанах, кофейни наполнялись народом, театры давали веселье пьесы или патриотические спектакли для поднятия мужества в массах народа.
Студенты Варшавы братались со своими виленскими коллегами, пришедшими сюда с Дембинским, ходили на валы, отбывали службу, как и все. Университет был закрыт.
Газеты наполнялись самыми горячими призывами к мужеству, к жертвам. Все серебро, какое только имелось в обиходе у варшавян, было сдано на нужды войны…
Бурные, шумные сходки по-прежнему происходили в залах «Редутов», устраиваемые Патриотическим Союзом…
Его главари хотели довести переворот до логического конца, до оглашения социальной республики по заветам Франции 1789 года. Народ волновался… Темные личности, вроде консула Шмидта, Адама Гуровского, впоследствии попавшего в чиновники к Паскевичу, и пресловутый пан Александр Крысиньский с товарищами — они подлили масла в огонь, действуя ради своих особых целей…
Все спуталось в один роковой узел: доброе и злое. Народ слушал, волновался, и, наконец, прозвучал 15 августа н.с. последний аккорд. По улицам столицы пронеслась весть:
— Москали окружили Варшаву… На двадцать девятое августа назначен штурм.
— Погибли! Всех вырежут черкесы, старых и больных, как резали на Литве. Предали нас! Пустили россиян к городу! Измена…
— Месть предателям… Вешать изменников! На фонарь их!
Это было вечером, после сходки в «Редутах», где Ян-Болеслав Островский громил аристократов, Сейм, правительство и так закончил свою речь:
— Как же это, братья-поляки? Мы имели вождя, под властью которого пошли прахом все огромные жертвы, принесенные народом, вся пролитая в боях его кровь! Столько близких наших сгибло даже не славной смертью храбрых, а от ненужных походов, от болезни, от нужды!.. Миллионы народных денег развеяны по ветру, разворованы чиновниками… Не принесли нам пользы лавры, заслуженные на полях Вавра, Бельки Дембе и под Иганами… Литва, Волынь, Подолия, Украина несут тяжкую кару за желание слиться с нами. Неприятель мимо сильной крепости, мимо Модлина прошел к Висле, без выстрела переправился и теперь без сопротивления железным кольцом батарей охватил нашу столицу. От Праги тоже грозит обложение… голод, позор!.. Долго ли мы будем сносить бездействие Ржонда и Сейма, терпеть халатность и предательство генералов, аристократов, вельмож, живущих трудом и потом нашим? Идемте требовать ответа от Ржонда! Если не карать, так прочь должны мы прогнать всех предателей святого дела! Дембинский тоже с ними. На восемнадцатое число задумал он переворот. Сдает город россиянам…
— Ответ требовать от Ржонда! На веревку предателей! — заревели тысячи голосов.
Толпа кинулась к дворцу Радзивилла, где заседал Ржонд. На площади у Колонны Жигимонта еще толпа черни и военных присоединилась к первым толпам.
Едва успокоил Чарторыский делегатов, вломившихся в зал заседания, и поспешил к замку, предчувствуя недоброе. Но там толпа так бушевала, что князь велел кучеру скорее ехать домой.
А за его каретой следом кинулись к замку толпы, пришедшие с делегатами «судить» Ржонд…
— Смерть предателям! Вешать шпионов!
Этот крик разлился в толпе. Люди двинулись ломать ворота замка… Неожиданно на площади показался Круковецкий, верхом, в полном парадном мундире. Он один решился броситься в этот водоворот бунтующей черни.
— Поляки! — крикнул он. — Не стыдно ли вам? Враг у ворот! Мор губит нас… А вы что затеяли?.. Опомнитесь! Смиритесь! Не время теперь для бунта!
— Самое время, добрый генерал, наш коханый! Истый друг народа! — послышались из толпы громкие голоса его же приспешников, снующих в толпе. — Мы только решили извести шпионов! Они в эти страшные дни предают город, и Польшу… и нас! А судьи-предатели тоже закуплены врагами… потакают виновным… Не вешают собак! Так сам народ их рассудит! Виват, наш Круковецкий! Ты должен быть губернатором… Виват губернатор генерал Круковецкий!.. А народ — идет судить!..
И народ «рассудил»…
Ворвавшись в замок, чернь замучила, забила до смерти Гуртига, Буковского, Янковского, Салацкого, Базанову… Всех, здесь заключенных… Терзали, кололи, рубили как безумные…
Даже женщины из толпы рвали, терзали руками несчастных, как звери….
И при этом была еще проделана комедия «суда Линча».
— В Работном доме, за Вольской рогаткой сидят самые злые шпионы бельведерские! — крикнули коноводы, когда здесь работа была покончена. — Туда идем!..
Толпа бросилась за ними к Вольским рогаткам, где в древней Пороховой башне, снаружи обвешанной галереями и пристройками, были заперты шпионы Новосильцева…
Там повторилась прежняя сцена… Но по пути, опрокидывая рогатки, поставленные на всех улицах, расталкивая ряды Народной гвардии, заглянула чернь и на Банковскую площадь. Тронуть банк не дали все-таки народные гвардейцы… Здесь только повесили провокатора Кавецкого, переодетого женщиной, и мимоходом разгромили кондитерскую Лесли, уже замученного в замке.
Кинулись в палац графов Любенских, но здесь не нашли графа Генриха, которого искали… Круковецкий, как провозглашенный народом, затем утвержденный Ржондом, занял немеденно пост губернатора, взял отряд и поехал по городу… У самой кондитерской застал он нескольких саперов, которые соблазнились легкой добычей и, войдя в разгромленный магазин Лесли, стали шарить, подбирать остатки…
— Это «защита народная», славное воинство наше занимается грабежом! — возмутился Круковецкий. — К стене первого!.. Расстрелять!.. Остальных — в тюрьму.
Приказ немедленно был исполнен на глазах тысячной толпы, снующей по всем улицам. Впечатление было грозное. Здесь сразу все утихло. Но за заставой повторилась кровавая расправа. Несколько шпионов, сидящих по кельям тюрьмы, было повешено.
По пути убит барон Кетлер, пленный русский офицер, и пан Ганькевич, как заподозренные в шпионстве…
На другое утро разыскали двух самых ненавистных шпионов — Макрота и Бирнбаума… Их повесили… При этом после Макрота нашли 50 томиков, переплетенных в зеленый сафьян. Это были копии почти 13 000 «докладов», доносов и рапортов, которые пресловутый шпион и прокуратор берег с первого дня, с 1819 года!..
Убийство этих двух негодяев явилось последней вспышкой народного безумия. Все сразу стихло, словно по чьему-то властному приказу…
И только залп, данный через неделю, когда расстреляли у стены нескольких уличных коноводов этой страшной ночи, послужил ее последним, умирающим в пустоте отголоском…
Несколько трупов свалилось на грязную землю — и все было кончено.
Глава III «ВОЛЯ» ПАЛА!
Разве страж я брату моему Авелю?
Книга БытияБудет некогда день, –
И погибнет священная Троя.
ГоцерГнет неволи тяжек, но свобода — бессмертна!..
Кто в бою погиб отважно, — Слава вечная тому!
Забытое поражение — ведет за собою ряд новых потерь.
Много переполоха и в столице, и в рядах войск наделала кровавая ночь 3/15 августа.
В то самое время, когда, по приказу Дембинского, генерал Шнейде мчался от Праги по мосту, гремя колесами четырех пушек, сопровождаемых шестью эскадронами улан, чтобы остановить кровавую расправу, разогнать сборища хотя бы картечью, когда и Народная гвардия вышла из своего бездействия, стала хватать зачинщиков, угрожая оружием толпам, — паника царила среди магнатов, еще не покинувших Варшаву, в Сейме и особенно среди членов Ржонда. Ему особенно угрожали толпы, слали проклятия, и только военный отряд, подоспевший вовремя, спас от насилия представителей высшей власти.
Около полуночи, утвердив Круковецкого, как избранного народом, в должности генерал-губернатора, Ржонд подал в отставку. В ту же минуту пришло прошение Скшинецкого о полной его отставке из военной службы…
Он спрятался первый. Князь Чарторыский, надев мундир юного друга своего, полковника Владислава Замойского, верхом поскакал на Прагу, под защиту войска. Граф Густав Малаховский, Свидзиньский и многие другие магнаты последовали за ним.
А 23-го числа с отрядом Раморино они и совсем покинули столицу.
Наутро Сейм назначил Круковецкого президентом Ржонда и утвердил список остальных членов Народного правительства, представленный немедленно новым его главой. Безличный, недалекий Бонавентура Немоевский избран был вице-президентом. Журналист, профессор К. Гарбинский, каштелян Левиньский, генерал Моровский, Дембовский получили министерские портфели. Теодор Моравский остался министром иностранных дел. Все ответственные должности Круковецкий поручил членам Патриотического Союза, как бы в благодарность за совершенный ими переворот…
Вождем Сейма назначил ограниченного, но честного генерала графа Казимира Малаховского, вместо Дембинского, который, не стесняясь, готовился захватить верховную власть, распустить Сейм, Сенат, выйти с войском из Варшавы, сдав ее Паскевичу. А затем, перенеся войну в Литву или на Волынь, там собирался довести до конца неравную борьбу…
— Мы еще одолеем москалей! — горячо уверял членов Сейма этот безумный мечтатель, словно воскресший облик из времен «Барской Конфедерации». — Вы увидите! — говорил он депутатам. — Восстание разольется с новой силой в забранных провинциях… Россияне уступят… И дадут нам волю… А если нет… Двинемся на Краков, вступим в Галицию, подожжем пожар европейской войны. Все едино погибать…
Эти планы стали известны Сейму. И за Дембинского не было подано ни одного голоса из числа 100 лиц, присутствующих на собрании. Только 22 из них голосовали за президента Сейма графа Вл. Островского.
Генерал-губернатором назначен был Хшановский. Губернатором Ксаверий Бронниковский; начальником Народной гвардии — граф П. Лубеньский.
Из числа 30–40 зачинщиков, изловленных после «кровавой ночи», нескольких суд приговорил расстрелять… Двух-трех заключил в тюрьму… Два ксендза, ярый народный коновод Казимир-Александр Пулавский и отец Игнаций Шиньглярский, были отпущены «за неимением явных улик», равно как и остальные… Круковецкий всеми силами помогал этому мягкому приговору…
Казнь совершилась 22 августа… В этот же день казацкие разъезды были видны уже в Горцах, за Маримонтом, в Пирах, в Вилланове и под Вавром, на другом берегу Вислы.
Главную квартиру свою Паскевич расположил в Блоне. Ночью на Висле показались две большие барки, плывущие по течению, прямо на мост, соединяющий столицу с Прагой. Оба судна пылали, как два гигантских факела. Наполненные горючим материалом и подожженные россиянами, они должны были навалиться на мост, сжечь его и прервать сообщение между столицей и военным лагерем на Праге. Но оба трандера наткнулись на отмель, там стали и долго догорали, наполняя воздух багровым сверканием и светом, кидая мириады искр и клубы багрового дыма в тихую бездну осенней черной ночи…
А в это же время улицы столицы были еще освещены непотушенными фонарями, и публика, выходя гурьбою из театров, из кафе, кинулась к Висле полюбоваться красивым и грозным зрелищем…
Веселая Варшава, «Великая Сарматия» даже в тисках осады не сдавалась, не падала духом!
Газеты выходили, как и раньше. Только за недостатком запасов многие печатались на плохой бумаге. Внешних известий и новостей было мало. Столица почти отрезана от мира. А внутри все то же… Работа на окопах, молитва и… веселье по вечерам, кто еще мог веселиться…
1 сентября с башен столицы можно было уже разглядеть в зрительные трубки передвижения россиян в стороне Слу-жева и Рашина. Тяжелые орудия катились по направлению к Варшаве… Сверкали огни, взвивался дым выстрелов. Первые гранаты разорвались над городом без вреда. Мародеры появились за Прагой… Как гиены, чуящие близкую поживу…
Стычка, довольно крупная, разыгралась в Межиречье, под Рогозницей… Убито 1200 россиян, 800 взято в плен.
В столицу привезли самого главного пленника — генерала Верпаховского и около десяти офицеров россиян. Всколыхнулась немного жизнь и опять замерла на одном, напряженная, словно завороженная чернокнижною силой войны и осады…
Голод еще не показал над городом своего костлявого, темного лика, уносящего жизнь, но рука его, рука скелета, уже опускалась на лачуги бедняков, на безработный люд… Правда, зажиточная часть населения старалась помочь беде… Однако горя было гораздо больше, чем утешителей.
Чтобы отогнать от столицы этот страшный призрак с пустыми глазницами, чтобы отбросить Розена, мешающего подвозу припасов, необходимых для осажденных горожан и для войска, Круковецкий выслал на правый берег сильный корпус, свыше 20 000 человек, который легко мог разбить Головина и Рюдигера и освободить Сандомирское воеводство, принудив и полки россиян перейти на правый берег Вислы. Тогда подвоз припасов Варшаве был бы обест печен, а в тылу Розена стояла бы грозой сила в 20 000 штыков, отвлекая пол-армии Паскевича от осады и удара на Варшаву с запада.
Так посоветовал Прондзиньский, так решил Круковецкий…
Но Рок опрокинул все расчеты людские, такие стройные, незыблемые на взгляд…
Начальство над корпусом Круковецкий поручил генералу Раморино, тому самому, прибытие которого шумно справлял Скшинецкий 30 марта, в ночь выступления против Гейсмара к Вельки Дембе…
С опасностью жизни отважный француз миновал границу австрийской Галиции, вступил в ряды армии и все время выказывал незаурядную отвагу и преданность делу польского народа.
— Война, женщины и карты! Вот что я чту больше всего после чести! — так часто повторял Раморино.
Солдаты, хотя и плохо понимали польский лепет француза, но чтили храбрость иноземца и называли его не иначе как «наша кохана Марына».
За день до выхода отряда явился к генералу скромный человечек с бегающими глазками и на плохом французском языке заговорил:
— Имею честь представиться — Старанькевич. Мать моя — русская… И только поэтому я был заподозрен в шпионстве. Меня долго держали в тюрьме. Морили несчастного, невинного человека… Наконец Бог сжалился… Генерал Круковецкий внял моей мольбе. Вот приказ мне: оставить столицу. Но это можно сделать только при обозе вашего высокопревосходительства. И я припадаю к ногам…
Человечек в самом деле кинулся, обхватил своими тощими, цепкими руками колени Раморино.
Тот был очень не в духе. Вчера проигрался в пух… И уже хотел оттолкнуть, прогнать просителя… Но тот смотрел так жалобно и в то же время как-то особенно… словно в душу хотел проникнуть к генералу…
— Хорошо. Можешь… Скажи там — я позволил! — кинул генерал.
Человечек силой схватил руку француза, поцеловал, вторично облобызал плечо его, пошел к дверям и вдруг остановился.
— Прошу прощения… Я тут случайно от знакомого офицера слышал, что вчера была большая игра… И генерал проиграл немного. Конечно, ваше высокопревосходительств во имеете успех в ином. Я слышал. И потому немудрено… Прошу прощения, светлейший гетман. Я к тому, что у меня есть человек… Он охотно ссудит генералу… Сколько угодно…
Сказал и сверлит своими глазками нервное лицо француза, на котором можно читать каждую мимолетную мысль.
— Ты… что мне предлагаешь? А? — повышая тон, спросил Раморино.
— Денег… сколько угодно его светлости, — едва пролепетал человечек и весь съежился, как пес в ожидании удара.
— Прочь, пока я не приказал тебя повесить, дьявольская рожа! Ступай в обоз… и… не показывайся мне на глаза…
Еще не затихло последнее слово, как человечка уже не стало.
Едва вышли полки Раморино за Прагу, исчез куда-то на несколько часов Старанькевич… Очутился в грязной подорожной корчме… Пошептался с корчмарем и догнал обоз, медленно ползущий по дороге. Но не к Минску, где надо ударить на Головина с его слабыми силами, а правее, к Зелехову; туда двинулся Раморино. Сам едет задумчивый, угрюмый…
На другой день, 24 августа, Старанькевич, снова побывав в одной попутной деревеньке, там шептался с каким-то мазуром, который басил не по-польски, а совсем по-русски…
Вечером он явился к Раморино. Генерал сам позвал предателя.
— А… сколько же мог бы ты мне… достать денег? — не глядя на посредника, красный от внутреннего волнения и стыда, спросил генерал.
— Сколько угодно… Десять… Пятнадцать тысяч хороших, полных рублей… Сколько угодно…
— А если мне надо… пятьдесят тысяч? Мгновенное колебание пронеслось по лицу Старанькевича, но он сейчас же подхватил громко, уверенно:
— Можно и пятьдесят… Только я должен раньше поговорить с генера… То есть с тем, кто даст денег…
Он недоговорил, отскочил, увидя входящего адъютанта.
— Простите, генерал! — заговорил тот. — Я помешал… но особое обстоятельство. Полковник Ле Галлуа просит принять его немедленно. Ему удалось бежать из русского плена. Пан гетман дозволил полковнику догнать наш отряд… и полковник…
— Хорошо, пусть войдет! — досадливо произнес Раморино.
Адъютант вышел.
— Ваша светлость! Времени терять нельзя… Я просил бы… — начал шпион.
— Молчи… знаю без тебя… Я его не задержу… Войди туда!
Старанькевич исчез за занавеской двери, ведущей в спальню генерала.
Вошел Ле Галлуа.
Он был в штатском. Исхудал, казался измученным. Но встреча была живая, радостная.
— Бежал, дорогой друг? Лихо… Как? Когда? Ты ведь взят был семнадцатого…
— Да, милейшим генералом Виттом. Для поляков — я бежал. Для тебя — отпущен на волю… под известным условием.
Раморино сделал было невольное движение: удержать, остановить откровенность товарища-француза, сказать ему, что есть посторонний свидетель. Но тут же будто шепнул ему кто, что секреты Ле Галлуа имеют полную связь с предложениями Старанькевича. И он стал слушать.
— Что, удивлен, дорогой товарищ? А это так… И прямо скажу… Времени терять нельзя. Эти условия касаются тебя…
— Меня?
— Да. Паскевич узнал немедленно о твоем походе, оценил твою храбрость, ум… Взвесил опасность, которая грозит его армии от этой диверсии польских войск… и…
— И?..
— Мне предложили на выбор: немедленно помчаться в Россию и дальше за Урал, в Сибирь, на Камчатку… Или… дать честное слово, что я явлюсь и передам тебе…
— Что?.. Что?..
— Несколько слов… «Мы — втрое сильнее поляков сейчас. Через месяц наши силы еще удвоятся… Падение Варшавы и всего польского дела неизбежно».
— Верно… все верно! Вчера еще сам князь Чарторыский говорил то же о возможности возродить крулевство под властью великого князя Михаила Павловича… Но продолжай… Я слушаю!
— «И потому предложите генералу, — сказал Паскевич, — только не… не мешать нам! Пусть отойдет от столицы… нападает для вида на наши отряды. Этим ускорится весь грязный ход событий, уменьшится число невинных жертв и с нашей, и с польской стороны… Падет не шестьдесят тысяч… а только десять или пятнадцать… Француз-стратег, гуманный человек, каким все знают генерала, поймет меня!» Вот что сказал Паскевич.
— И за это? — вызывающе глядя в лицо товарищу, вдруг почти выкрикнул Раморино.
— Двадцать тысяч дукатов? — глухо ответил бывший сподвижник Лафайета Ле Галлуа. Потом живо добавил: — Конечно, я понимаю… Это обида для тебя. Но прости меня… Выбор слишком был тяжел. И я дал слово… Я сказал тебе. Теперь делай как хочешь. А я… извини, я должен уйти. Ты так глядишь… Мне стыдно… Лучше брани, ударь меня. Но не гляди так… презрительно… Я же не советую тебе… И я бы сам никогда на твоем месте… Нет… Я не могу! Прощай!
Быстро выбежал Ле Галлуа.
— Эй, ты… поди сюда! — крикнул Раморино спрятанному шпиону, набрасывая несколько слов на листке бумаги. — Вот тебе пропуск на все стороны. Уходи, возвращайся… Но — скорее… И помни — я не торгуюсь!.
— Пятьдесят тысяч… конечно… Это же еще мало для такого храброго генерала… И не за измену… за пустую услугу… Бегу… Лечу… К вечеру дам ответ!
Убегая, плут не удержался, глумливо захихикал и подумал: «Пятьдесят тысяч! Такому ослу! Рублевки ломаной, не получишь, когда отслужишь россиянам. Разве же я не знаю пана Паскевича?.. Хе-хе!»
Он не ошибся, многоопытный пан Старанькевич.
Раморино предал свое новое отечество, вопреки нескольким строжайшим приказаниям вождя и Круковецкого не явился к стенам Варшавы, когда было это нужно… Варшава пала…
Но ни единого гроша за свою «услугу» не получил Раморино.
К 18/30 августа около 90 000 людей и больше 300 орудий выставил Паскевич против осажденной столицы польской. Но приступа не было.
Граф еще медлил отчего-то…
Рано утром 4 сентября н.с. граф Эриванский сидел за своим рабочим столом, ожидая Толля и Нейдгардта, позванных на совет, и, как делал это нередко покойный Дибич, в десятый раз перечитывал письмо императора Николая, полученное вчера ночью. Как будто не все сразу сказал ему отчетливый, твердый узор букв, выведенных властной рукой… Словно иной, тайный смысл, еще более важный, чем явный, зримый, таили в себе заветные строки.
И чем больше он вглядывался, тем шире и глубже становился этот смысл, тем больше сомнение, тревога, предчувствие чего-то большого, непоправимого, грозного, росло в груди… И не знал граф: письмо ему говорит обо всем этом или взволнованная, чуящая веянье Рока, его смятенная душа?
Приступ… Штурм города с населением в 120 000 людей, окаймленного тройной линией окопов и валов, с ожерельем из 290 орудий, с гарнизоном в 30 с лишком тысяч штыков!..
А улицы этого города тоже минированы, как это давно стало известно графу. Баррикады возведены повсюду… Вторая Сарагоса ждет русских, если даже и войдут они в столицу Польши…
Есть о чем подумать! Опять начал в двадцатый раз перечитывать большой плотный листок, лежащий перед ним, граф Иван Федорович. Его хохлацкое умное, слегка полное лицо даже побледнело от усиленной мысли… Шевеля непроизвольно и равномерно пальцами выхоленной руки, словно выбивая такт своим мыслям и словам письма, почти заученным наизусть, — снова перечитывает их Паскевич…
Вошли оба генерала, поздоровались, заняли места.
— Ничего нового? — обратился он к обоим.
— Нет… все то же! — отозвались генералы в один голос.
— К штурму мы совершенно готовы… Не за этим ли вы нас призвали, ваше сиятельство? — не скрывая нервного нетерпения, спросил Толль.
— Пока — нет… Потолкуем прежде…
«Еще не столковались!» — подумал Толль, но удержался, не произнес этого вслух.
А Паскевич, коснувшись листка, лежащего перед ним, заговорил по-французски, но с легким южным говором, с растяжкой, несмотря на десятки лет, проведенных при дворе, под туманным пологом небес Ингерманландии.
— Письмо от государя… Вот я вам, господа, прочту главное.
Поправив очки, он медленно, отчетливо прочел: «Как мне выразить тебе мою тревогу, вызванную твоим письмом, и все, что я сейчас переживаю… Что еще переживу, ожидая добрых вестей, которые, по твоим словам, придут дня через 4–5… Бесконечными покажутся мне эти дни, когда с надеждой и боязнью я буду ждать рокового известия об исходе последней, решающей дело борьбы!»
Умолк, слегка отодвинул листок, глядит на обоих.
— Мне кажется, государь, по свойственной ему впечатлительности и не видя сам близко дела, слишком… мрачно глядит, и потому эти ненужные волнения, — решительно начал Толль. — Варшаву мы возьмем… Жаль, что с небольшим опозданием. Вчера исполнилось ровно пять лет со дня его коронования… Ну, все равно… Подарок заслуживает внимания, хотя бы поданный и не в срок! Силы наши и поляков слишком неравны. Мы — сильнее вдвое… Следовательно…
Молча покачивает только головой Паскевич. Заговорил более осторожный, даже боязливый Нейдгардт, генерал-квартирмейстер армии.
— Мне кажется, генерал слишком легко смотрит на наше положение, вообще недостаточно оценивает важность предстоящих событий, силы врага и, наконец, сводит все к простому штурму. Удастся — хорошо… Не удастся — тоже неплохо. Поляки существенно ослабеют, а мы наши ряды пополним снова и снова пойдем брать Варшаву…
— А если бы даже и так! Что же тут неверного, генерал? — задетый, спросил Толль.
— Многое, если не все! — уже решительней заговорил Нейдгардт, чуя, что Паскевич — с ним, а не со своим начальником штаба. — Первое: государь о положении нашем знает столько же, сколько и мы… Знает и то, какие резервы еще остались на родине, которые могут быстро явиться на помощь… Таких мало… Второе… Если там людей треплет лихорадка, вдали… Что же мы должны испытывать, стоя перед этим огромным городом, окруженным на протяжении двенадцати верст тройной защитой, сильными орудиями?.. Не считая пятидесяти тысяч отборного войска, силу которого уже мы испытали в стольких кровавых боях.
— Только тридцать тысяч сейчас в Варшаве, — отчеканил Толль. — Раморино там нет… Позвольте, дайте договорить… И он туда ко дню штурма… не вернется!
Последние слова были сказаны так многозначительно, что Нейдгардт вопросительно поглядел на графа.
— Продолжайте! — кивнув ему утвердительно, сказал только Паскевич.
— Пусть так. Дело меняется не намного. Нападающих должно быть, по крайней мере, в четыре, в пять раз больше, чем защищающих позицию. Это же азбука… Даже если бы не польские храбрецы, а заурядные трусы рядовые, вроде австрийцев, защищали город…
— Без настоящей линии укреплений, без…
— Дайте досказать, генерал… Положим, войско отступит перед нами… даст нам дорогу в город… Знаете ли для чего? Чтобы там похоронить всех до последнего солдата!.. Улицы изрыты подкопами, начинены порохом…
— Жиды и немцы, которых шестьдесят тысяч в городе, будут взрываться с нами на воздух?
— Нет! Они убегут. Взрывать будут остальные шестьдесят тысяч поляков. Но и это не все. Войско по мосту перейдет на этот берег. Отрежет нашей наполовину уничтоженной армии отступление на родину. Поляки окружат, может быть, запрут нас в той же Варшаве, как некогда их гетманы были заперты в Московском Кремле… В лучшем случае мы прорвемся домой без единой пушки… И придется России подписать унизительный мир… потерять уважение Европы, и так презирающей наше «варварское государство»… Ропот начнется в стране… Восстание посерьезнее здешнего… Вот что значит этот «неудачный штурм»… Отчего такой тревогой дышат строки, слышанные нами!
— Пустое! Сказки! Ваша… опасливость рисует вам такие темные картины. На войне решается все силой. А сила — за нами…
— Отвага — тоже огромная сила… А у поляков, защищающих свой родной угол, свой очаг, ее, конечно, будет больше. Мы здесь чужие. Мы нападаем… Защита — много легче. И еще не забывайте, генерал: случай чаще всего решал самые умно задуманные битвы. И решал их совершенно не так, как ожидали люди.
— Во многом вы правы… Почти во всем! — заговорил неожиданно Паскевич, даже помешав Толлю сказать что-то. — Но что же делать, если все так? Неужели?..
— Отступить! — решительно вырвалось у Нейдгардта. — Да! Все же лучше, чем погубить Россию неосторожным движением. Вернее: не отступить… а… уступить. Переговоры с Ржондом затеяны. Если государь не высказался против… если у вас, граф, есть полномочия… передайте их Данненбергу… так, слегка… И… кончим все почетным примирением…
— Я подумаю… — в нерешительности покачивая головой, отозвался граф. — Хотя нет! Надежды мало… Слишком заносчивы, неумеренны поляки… И если еще заметят в нас колебания… Они того потребуют, что… только и останется умирать! Или — взять Варшаву!
— Я тоже так думаю, — угрюмо, упорно прозвучало замечание Толля…
— А в таком случае… Как поведем приступ?! Ваше мнение, господа?
— Конечно, со стороны Мокотова, — доставая точный план варшавских укреплений, ответил первый Толль. — Работа нашего неизменного Шмидта! — разворачивая чертеж, улыбнулся бледный остзеец. — Вот, сюда надо направить всю силу орудий… Потом…
— Минутку! — остановил его Паскевич. — Правда, чертеж прекрасный. Но он «мертв». Его сняли, когда не было расставлено орудий… Не размещен был гарнизон… А вот у меня — есть другой…
Небольшой листок на руках графа со старательно выполненным планом пестрел мелкими цифрами и буквами.
Оба генерала переглянулись в недоумении, а граф, словно ничего не замечая, начал читать:
— «Воля». Начнем отсюда… «Редуты. Номера пятьдесят четыре и пятьдесят пять. Гарнизон — две роты пеших стрелков».
— Только!
— Да, да… Этому списку можно доверять. От человека надежного… Слишком надеются на крепость самой позиции. В польском штабе I говорили: «Не решится Паскевич брать быка за рога!» Ха-ха. Они правы. Этого я не решусь… Но ихнюю «Волю» — ухвачу за горло крепко!
Сам смеется, довольный своей шуткой! Улыбаются и генералы.
— Дальше, однако. «Редут „Воля“, у часовни двенадцать тысяч людей. Начальник генерал Совиньский».
— Старая рухлядь! Безногий инвалид. Знаю его! — презрительно заметил Толь.
Граф продолжал.
— «Орудия изношенные, среднего калибра… Редут номер пятьдесят семь. Майор Красиньский и двести пятьдесят людей восьмого полка…»
Долго еще читал граф, кончил, умолк.
— Что же, если ваше сиятельство так уверены, — начал менее решительным тоном Толль. — Начнем с «Воли»… А что делать с Уминьским, который, как видно, стоит со своими восемнадцатью тысячами людей на левом фланге? Он не позволит нам атаковать редутов…, — Ему, конечно, не будет времени. Надо послать на демонстрацию хороший отряд… Тысяч пять-шесть… Они отвлекут внимание Уминьского, пока мы прорвем их центр… То же и на правом их крыле, где Дембинский.
— Великолепно! — искренно вырвалось у Нейдгардта, словно позабывшего прежние опасения при виде спокойной уверенности Паскевича. — Все гениально… Но эти драгоценные сведения, граф…
— Откуда они у меня? Мой секрет. Могу только сказать, вы не ошиблись: они драгоценны!
Все рассмеялись новому каламбуру.
— Недаром говорят, граф, самые высокие стены возьмет осел с золотом! — сразу вырвалось у Толля. Но, поняв, что в его словах тоже кроется двойной смысл, обидный для начальника, умолк и даже покраснел.
Словно не расслышав ничего, граф продолжал излагать своим советникам планы предстоящего штурма, спрашивал советов, спорил или соглашался с ними, пока все не было обсуждено…
Вечером того же дня на Сохачевской дороге, в корчме, завязались первые переговоры между генералом Данненбергом и Прондзиньским, получившими полномочия от своих властей — выяснить только, возможно ли соглашение и приблизительно на каких общих основаниях?
Переговоры эти не привели ни к чему, только вызвали еще больший разлад в среде защитников Варшавы.
Но Ржонд, Сейм, вся столица успокоились все-таки.
— Если затеяли переговоры россияне, значит, чувствуют свою слабость, оттягивают время и штурмовать города скоро не начнут!
Они ошиблись. И не ошибся Паскевич в своих главнейших расчетах.
На заре 6 сентября варшавяне были разбужены громом канонады, которой совершенно не ожидали так скоро. Не ждали нападения и многие боевые начальники, как Бем и другие. Храбрец генерал веселился вечером, поздно лег, спал так крепко, что даже не проснулся при гуле 300 орудий, завывающих под Варшавой, при громе польских батарей, посылающих свой ответ на российский привет. Его с трудом разбудили, и он прибыл к своим пушкам уже слишком поздно!
Крыши, башни города зачернели от люда, желающего видеть, как решается судьба города. Настроение было бодрое, ждали победы… Но вот постепенно ужас стал охватывать сердца…
Черными рядами двигались российские батальоны, вдали окутанные утренней осенней мглой… И все больше их подходило, все ближе подвигались они…
Уминьский, опасаясь обхода слева, растянул свою пехоту далеко по Люблинской дороге. Справа — то же сделал Дембинский…
А «Воля» и весь центр остались почти беззащитны. Не было кому подумать о близкой опасности…
Два часа шла канонада. Россияне подготовляли для себя приступ. Главный огонь из 170 орудий сосредоточен был на укреплениях «Воли». Польские орудия, подбитые, лишенные прислуги и офицеров, постепенно стали замолкать.
Тогда зашевелились батальоны, мерно и быстро двинулись вперед!
Люди почти бежали, поеживаясь, вздрагивая от утренней свежести, стараясь согреться движением.
«Охотники-гвардейцы» шли на челе обеих штурмующих колонн.
Вот уже и редут № 55… Там не слышно никого… Без выстрела овладели ельцы и белозерцы оставленной позицией. Один батальон остался здесь. Остальные 16 кинулись влево, к № 54.
Две роты, конечно, не могли противиться такой лавине, которая свалилась на них, лезла на валы, заклепывала последние пушки, прикалывала последних защитников…
Бьются отчаянно храбрецы, ободряемые своим капитаном-поручиком Ордоном.
— Умрем со славой за Отчизну! — звучит его голос.
Бьются стрелки, защищаются как бешеные. Сгибаются штыки, ломаются в щепки приклады от ударов. Но — все меньше и меньше поляков. Россияне, как муравьи, набегают со всех сторон.
Идет последний бой… И никто не заметил, что поручик Новосельский, раненый, уже теряя силы, подполз к пороховому складу, с трудом взвел курок пистолета… Грянул выстрел, сверкнул огонек… Пронесся глухой гул, задрожала земля… Й вдруг все поднялось на воздух… Камни, пушки, куски человеческих тел, дым и пламя…
Чудом уцелел только один Ордон. Поляки и около 600 россиян взлетели на воздух… Тяжелую рану получил генерал Гейсмар и оставил битву.
Погибли офицеры, шедшие с батальонами на приступ… Смятение началось в рядах россиян…
А зрители боя в ужасе, с воплями и криками кинулись прочь, разбежались по своим углам, ожидая, что вот-вот и вся Варшава взлетит на воздух, погребет их под своими развалинами.
Много жертв унес редут No 55. Но у Паскевича еще немало жизней человеческих в запасе, чтобы продолжать игру и выиграть!
Новый отчаянный бой закипел вокруг невысокого холма, на котором расположен редут № 57, совсем недалеко стоящий впереди «Воли».
И здесь повторилась прежняя картина. 250 человек защитников было задавлено численностью россиян. Там в окопах остались почти все, глядя мертвыми стеклянными очами в небо, с глубокими штыковыми ранами на челе, на груди. Только десятка два успели уйти от гибели, унося с собою своего начальника, тяжело раненного майора Красиньского…
Теперь настал черед для «Воли». Не пришла вовремя помощь, собственными силами должен был защищаться маленький, одинокий форт. А его начали уже громить ядра восьмидесяти орудий Паскевича, подвезенные на самую близкую дистанцию.
Отвечает «Воля» из своих пушек. Гремят залпы тысячи двухсот ружей… Но что значит это против пудовых кар-течей и ядер!
Из первых окопов гарнизон перешел во вторые.
Смолкают орудия «Воли»… Выбита почти вся прислуга… Нет канониров… Сам седой, могучий еще генерал Совиньский ковыляет от орудия к орудию, при помощи ездовых — заряжает, палит…
Мало осталось снарядов… И патроны на исходе!
— Откуси патрон!.. Заряжай… Огонь! — только и слышен голос старого воина. Волосы его разметались… Кровь сочится из небольшой раны на лбу… Он ничего не замечает. Выбита половина гарнизона. «Есть ли время думать о себе!» Вдруг — радость! Грохнули 12 орудий легкой батареи, не впереди, сзади… Свои!
Это Бем наконец явился чуть ли не к концу боя!
Сразу легко стало на душе у старика. Да и вздохнуть хоть можно. Смутились неожиданным отпором россияне, отъезжают, прервали на время адский огонь…
А тут — вторая радость. Бегом взбежал на холм, бурей влетел к Совиньскому на помощь сам капитан Петр Высоцкий, отец всего переворота, осуществивший с товарищами давнишнюю мечту народа в морозную, мглистую ночь 29 ноября минувшего года. Целый батальон стрелков 10-го полка привел он за собою.
— О! И пан Петр у нас на «Воле»! Добрый знак! — крикнул старик, стараясь пересилить гром орудий, треск залпов. — Значит, «Воля» не падет! Да живет польская воля!
— Да живет! — нашли еще в себе бодрости выкрикнуть осужденные на смерть люди…
И излюбленная песнь зазвучала из тысячи грудей:
Еще Польска не згинела! Но конец был не далек!..Со всех сторон пошли на приступ россияне. Упорно защищаются осажденные. Но их так мало! Вот уж раненый Высоцкий опустился на землю… Перед ним — закраина люнета. Внизу — ров.
Туда, чтобы спастись от неволи, прыгнул он… Тяжело упал, нога заныла… Он лишился чувств и был взят в плен.
В Сибири умер Петр Высоцкий, душа того, что свершилось в ночь 29 ноября.
Спасая жизнь, бежал постыдно майор Доброгойский. Один седовласый старец на деревяшке установил свое последнее орудие у задней стены Каплицы, чтобы обеспечить себя от нападения с тыла. Сам заряжает, стреляет… Командует последним четырем ротам 1-го полка, оставшимся на бастионе:
— Заряжай! Огонь!.. До последнего патрона… А потом — в штыки! Не выдавай, ребята! Честь — дороже жизни! Один раз умирать! Одна Мать-Отчизна у поляка!
По трупам своих убитых товарищей рвутся вперед россияне.
Их уж довело до ярости такое упорное сопротивление.
— Сдайтесь! — кричит горсти храбрецов русский полковник, пораженный этим мужеством.
— Коли их… Вперед! — отвечает на предложение громкий голос старика генерала…
Он и сам бы кинулся вперед, да деревяшка мешает. Слишком много трупов навалено везде… И, прислонясь спиной к своей последней пушке, со штыком наперевес ждет смерти старик, глядит ей прямо в глаза.
Она пришла быстро… Двоих только нападающих успел заколоть штыком своим Совиньский, когда со всех сторон семь-восемь блестящих жал вонзилось в его грудь, в бока, и снова появились они на свет дневной, обагренные кровью…
Не дрогнул, откинулся на пушку свою старик, так и застыл. Пораженные силой этого духа, остановились на миг и нападающие. Глядят, словно зачарованные, в это побледнелое, красивое лицо, гордое и после смерти. Словно чаруют их тусклые глаза трупа.
И чудо совершилось в миг падения «Воли»…
Как один сняли шапку солдаты российские, возбужденные боем и обычной двойной «чаркой», отпускаемой перед сражением. Как один осенили себя все крестом, шепча заупокойную молитву.
А ближайший, бравый, седой, со многими нашивками, гренадер благоговейно смежил ресницы мертвецу и вполголоса обратился к своим:
— Храбрая душа… Настоящий был енерал! Мир праху его!..
Было уже два часа дня. Редуты пылали кругом… «Воля» очутилась в руках россиян. В Каплице, где укрылось около 300 женщин, стариков, детей, шла резня…
Главное было сделано. Осталось уже более легкое на череду… Уже Толль, дрожа от боевой лихорадки и нетерпения, стал молить Паскевича двинуться на последний приступ, обрушить на Варшаву все полки и взять ее нынче же…
Паскевич, осторожный, сдержанный, не теряющий головы даже от успехов, отказал решительно.
— Я не сошел еще с ума, генерал! — отрезал он, сидя в коляске у «Воли», куда приказал везти себя после взятия этого редута. — У нас истощились снаряды… Люди падают от усталости… А вы хотите… Завтра еще посмотрим…
Великий князь Михаил Павлович тоже согласен был с Паскевичем.
В это время новая схватка завязалась между гренадерами князя Шаховского и эскадронами кракусов, которых подкрепляла польская пехота — 4-й и 8-й полки.
Россияне опрокинули поляков, которые стали быстро отступать к Чистой. Российская конница всею массой, широко развернув эскадроны на Вольской равнине, кинулась было вослед, но почти носом к носу столкнулась с 36 орудиями Бема, решившего хоть чем-нибудь искупить свою ужасную вину этого дня…
Грянули пушки Бема… За ними — орудия Рыбиньского… Легкая батарея Яблоновского… Загудели крепостные громады на валах…
И нападающие, понеся большие потери, ринулись обратно, под защиту своих батарей.
Упала темнота… Стихло на полях под Варшавой…
Только тысячи лагерных костров сверкали в темноте. И догорали деревянные домики Чистой, зажженные гранатами.
Печально было заседание Сейма на другое утро, 7 сентября. Мало явилось депутатов и сенаторов. Растерянность царила полная. Спорили, горячились, одни настаивали, что нельзя ждать ни минуты и «для спасения жизни обывателей, чтобы избавить их от новых „ужасов Праги“, надо войти в соглашение с Паскевичем».
Другие, ударяя себя в грудь, выкрикивали громкие фразы о мужестве, о величии Древнего Рима…
Около 10 часов утра появился Прондзиньский и попросил слова.
— Целое утро нынче, — сказал он, — я был вместе с президентом Ржонда генералом Круковецким у Паскевича. Беседа велась в присутствии великого князя Михаила. Как очевидец всего, что происходило вчера, как военный, — говорю прямо: защищаться больше нельзя. Это — напрасное пролитие крови. Надо войти в соглашение, тем более что оно не будет для нас позорным. Вот приблизительно его основы: сохранение нашей конституции и прежних прав, полная амнистия всем участникам борьбы… А мы должны выйти из Варшавы, сдать ее Паскевичу и ожидать дальнейших соглашений с Петербургом. Для ответа — дано перемирие, которое окончится ровно в час дня. Теперь решайте!
Шум поднялся после этих слов… Сначала все восстали против соглашения вообще. Но стрелка близилась к роковой черте. Вот уже перешла ее… И, словно по ее воле, — загудели оружия россиян, им стали отвечать польские мортиры. Снова начался пир смерти… Первая граната разорвалась на площади перед Народным банком.
Эти отголоски боя изменили настроение Сейма. Он уполномочил Круковецкого вести и подписать переговоры, совершить капитуляцию. Затем была выбрана особая комиссия для наблюдения за этим важным делом, и Прондзиньский поехал снова среди кипящей битвы, рискуя собственной жизнью, туда, к «Воле», к Паскевичу, чтобы сообщить ему условия сдачи.
Вместо Паскевича его принял Михаил.
— Граф ранен в первые же минуты сражения! — объяснил он удивленному генералу. — Но я говорю с вами от его имени, со всеми его полномочиями. Что вы привезли?
Выслушав Прондзиньского, сделав кой-какие изменения, Михаил принял условия и послал с Прондзиньским генерала Берга.
В Варшаве неожиданная новость ждала обоих.
«Партия войны» взяла снова верх… Известия о ране, полученной Паскевичем, о великолепной артиллерийской атаке Бема, о поражении российской конницы подняли общий дух. Круковецкий был отставлен, заменен Бонавен-турой Немоевским.
Уже кончился день… Стихала вторая битва… Больше 20 000 убитых и раненых унесли оба кровавых дня, А Сейм все кипел рознью, враждой. Препирались и спорили депутаты…
Наконец, Дембинский, поставленный вождем вместо Круковецкого, предложил Паскевичу «военное, а не всенародное соглашение», помимо Сейма. Оно было принято.
Польская армия очистила свои позиции, перешла через мост в Прагу. Сейм последовал за ней. И Ржонд, и министры… И тысячи варшавян, не пожелавших оставаться в городе, занятом россиянами. Большинство из них кончило жизнь в изгнании, во Франции, на камнях парижской мостовой. К ним мы еще вернемся в одной из следующих книг.
Печальное зрелище представляло бесконечное шествие войск и народа, покидающего родную землю…
Еще по мосту тянулись отступающие войска и толпы людей с мешками на плечах, с посохами в руке…
А со стороны «Воли» — россияне с музыкой, с развернутыми знаменами вступали в покоренную столицу…
Трагедия была кончена!
Эпилог КОСТРЫ ГАСНУТ…
Сули пали, Кафа пала,
Всюду флаг турецкий вьется.
Только Деспо в Башне Смерти
Заперлась — и не сдается!
А. ПушкинДоля народа, счастье его –
Свет и свобода — прежде всего!
Н.НекрасовПобежден лишь тот,
Кто сам признал себя побежденным!
ЛассальТише! О жизни — покончен вопрос.
Больше не нужно ни песен, ни слез!..
Н.НикитинНочь настала и пронеслась… Сгустился мрак перед зарею.
Спят Варшава и Прага. Стихли два лагеря, вчера еще враждебные, нынче просто чуждые друг другу.
Там, за рогатками Вольскими, Мокотовскими и Маримонта, ярко еще сверкают огни российских лагерных костров…
Поляки в предрассветных сумерках выступили на Модлин, на Плоцк… на изгнание, на тоску и нужду…
Догорают оставленные ими у окопов Праги последние бивуачные костры…
Прошло еще около месяца.
Тихая, теплая осень стоит на Литве в этом печальном году… «Бабье лето», как называют крестьяне…
Уже 29 сентября по российскому стилю, т. е. 11 октября по-европейски, а окна почти все настежь в дому Абламовича в его Юльянове, в обширном дедовском поместье…
Большой праздничный день здесь нынче: день рождения самого пана Игнация. А ни один из торжественных дней в году не справляется так весело и широко в этом гостеприимном доме, как день рождения хозяина.
Так уж заведено в роду у Абламовичей. А почему? Никто не знает, даже старая бабушка пана Игнация, почти столетняя, но еще бодрая, чистенькая такая… А она чего-чего не помнит!
Полны комнаты гостей. Из своих усадеб, отстоящих за 80, за 100 верст, не поленились приехать добрые люди… И радостно принимают их хозяева… Всем есть место и почет…
— А вот ночлег… Не взыщите — амбары велел прибрать. Там придется уложить панов мужчин. А пани и паненки уж как-нибудь в доме поместятся. Кто — на постелях, на диванах… А кто — и на полу…
Довольны все… Весело бывать на именинах пана Игнация.
Но сам он что-то грустен… И пани, жена его, и дети…
— Больная у нас в доме, — говорят хозяева тем, кто замечает их расстройство… — Хоть и чужая, да лучше родной…
Иным они шепчут имя больной… Другим — нет…
Не все люди одинаковы. Дружба дружбой… А осторожность не мешает…
Полон смеха и веселья дом.
Только в комнатке, где лежит больная «гувернантка», Эмилия Платерувна, — тишь и покой…
Изредка лишь осторожно скрипнет дверь, появится пани Абламович или пан Игнаций, не то кто-нибудь из дочек подойдет к большому креслу у окна, в котором на подушках полусидя покоится больная, исхудалая, восковая…
Глаза у девушки закрыты, но сквозь истончалые веки как будто проблескивает синее пламя этих чудных, лихорадочно мерцающих глаз.
Вот хозяин дома заглянул в тихую комнатку.
— Что, как? — шепотом обращается посетитель к старухе няне, почти безотлучно теперь сидящей при больной.
— Вот спит… либо — в забытьи… А бредить перестала. Так бредила жалобно, слушать даже тяжело. То литовскую песенку запоет тихонько… то нашу, белорусскую… И откуда она их только знает! А просить кого-то о чем-то начнет… Не по-нашему, не понять мне! Вот… Вот…
Больная шевельнулась, слегка застонала, как раненая птица, и вдруг тихо, мелодично запела, вернее, запричитала по-белорусски жалобу девушки, потерявшей жениха, убитого на войне… Потом, передохнув, сделала усилие раскрыть глаза… Не смогла и снова тихо запела по-литовски:
Джурью тэн, джурью сэн… Ньер мано бернилэ!..— Ишь, по женихе тоскует! — заговорила снова старуха. По-польски это значит: «Сюда гляну, туда гляну: нет милого друга! И вовек не будет!»
Отирая слезы, вышел гость… А старуха снова стала дремать, ковыряя спицы вечного своего чулка.
Прошло около получаса…
Старушка совсем задремала, а больная открыла глаза.
Косые красноватые лучи заходящего солнца, пронизав стекла, золотили стены комнатки, рисуя на них узор гардин и тень занавески, висящей на окне.
Оглядевшись, девушка осторожно взяла со столика рядом питье, сделала глоток, посмотрела на дремлющую старушку и потом засмотрелась в сад, где уже деревья оделись в пурпур и золото осенней поры.
Ее внимание скоро привлек разговор двух мужчин, сидящих в саду на скамье, недалеко от ее окна.
Это был ксендз Гелльман, ее духовник, и еще какой-то приезжий пан. Говорил последний, и голос его, сильный, звучный, отчетливо доносился до обостренного слуха девушки.
— Да, надежды больше нет! — говорил приезжий. — Вы, конечно, знаете, как сдали Варшаву… Как пятнадцать тысяч россиян и десять тысяч наших полегло под стенами старой столицы… И все напрасно! Измена сгубила польское дело! В Модлин пошли войска, и Сейм, и Ржонд… Да и там неурядица не стихла… По городам, как слепец с поводырем, бродили они… На горе себе, на позор… На помех целому миру…
— И не было больше битв?! Наших — около сорока тысяч войска… И не пробовали вернуть себе волю и долю? — спросил ксендз.
— Где там! Магнаты наши прежде всех лагерь покинули. В Париже все почти теперь. А войско… Меняли, меняли начальников… И наконец, последний… Рыбиньский… перешел со всеми границу. Оружие сложил…
Легкий стон вырвался из груди Эмилии, которая, вся дрожа, ловила каждое слово.
Ей не говорили истины… Утешали… обманывали… А выходит?..
Слезы полились по исхудалым щекам.
А приезжий в то самое время, когда слабый печальный звук прорезал тишину, обратился к ксендзу:
— Не слыхал, святой отец, будто застонал кто близко?
— Нет, пане Феликс… Это просто шулик прокричал… Эта птица всегда так нежно и жалобно стонет, когда за добычей гонится… Когда жертва кровью истекает у нее в когтях…
— А… Это и люди такие бывают… Так вот какие дела, пан оТец! В Броднице грань перешел генерал. Там все сложили оружие! Тяжело было, говорят. Старые солдаты, как малые дети, плакали, рвали на себе волосы, одежду… А что поделаешь… Денег с ними было шесть миллионов! В Торне банку отдали, чтобы вернуть их в польскую казну. А сами…
Недосказал… вздохнул только…
Настало короткое молчание. Оба сморкались, словно и у них слезы подступили к горлу.
— Да, великую муку перетерпела Польша и наш край за эти девять месяцев. Правда, ошибок много сделано. Дурного было много! — заговорил, наконец, ксендз Гелльман. — Но и кара тяжела! Не по силам человеческим!.. Польша… Она ровно Мария Магдалина между другими народами… Все свои ошибки и грехи, все преступления искупила великим, безмерным страданием. Что ждет ее в будущем?
— То же, что и другие народы, жившие в неволе, пане ксендз, если сама не похоронит себя она… Страданием — она купит просветление… Прилив новых сил и возрождение ждут нашу милую родину!
— Дай Бог! Дай Бог! — повторил ксендз. Оба поднялись и пошли, продолжая беседу. Проснулась нянька, кинула взгляд на больную и обмерла.
Алая кровь заливала ей грудь, подол белого пеньюара, ноги, поставленные на высокую скамеечку… Лицо горело… Пересохшие губы с трудом шевелились… Одно и то же слетало с них, едва слышно:
— Сгибла… сгибла… сгибла Польша…
Кинулась старуха к пану Игнацию… Явился доктор, на счастье еще не уехавший домой…
Он посмотрел, велел дать льду и, опечаленный, отошел понуря голову.
Пришел черед ксендза Гелльмана.
Тихо прочел он отпускную молитву после немой исповеди, видя, что умирающая не приходит в себя.
— Absolvo te in Nominem Dei Patri et Filii et Spiriti Sancti! [22]
А Эмилия, смолкнув на минуту, пока творилось таинство, словно сознавая окружающее, — после исповеди снова зашептала:
— Сгибла Польша…
Семья Абламовичей, в слезах, стоит вдали по углам комнаты, чтобы не отнять воздуха у больной, окружая ее постель.
И вдруг прояснилось лицо умирающей, словно чудное что-то увидала она перед собой.
Раскрыла глаза, оглядела всех с ясной, сознательной улыбкой. Повернула голову, будто прислушиваясь к далекому-далекому голосу и так внятно проговорила:
— Воскреснет еще она!.. После этого наступила агония…
Тайно похоронили Эмилию Платер, героиню Литвы, на тихом кладбище в Копцеве… Хранит Литва память своей защитницы и поборницы воли и счастья людского — народного.
― ПОРЧА ―
Повесть
Часть первая ИЗ ТЕРЕМОВ НА ТРОН
Глава I СМЕНА ВЛАСТИ
Светлый морозный день занялся над престольной Москвой, над Кремлем великокняжеским.
Круглым багровым щитом из-за зубчатых далей заречного бора показалось зимнее солнце. В пурпур и золото одело оно шатры пушистого инея, покрывающего вершины деревьев и кустов.
Косые красноватые лучи, первые вестники короткого, безрадостного дня оставляют в сизом тумане, в густой тени, бегущей от векового бора по самой земле, все посады и пригороды, какими широко раскинулся на семи холмах этот огромный людской муравейник.
На самом высоком из холмов белеет Кремль. И легкие стрелы лучей раньше всего проникают в узкие бойницы его, словно пронизывая надежные стены и башни, охраняющие сон и покой московских храмов, палат и теремов великокняжеских.
Пробиваются алые лучи и в небольшие оконца великокняжеского дворца, хотя слюдяные оконницы в них наполовину затянуты льдистыми узорами, полузанесены снегом.
Только одно окно в самом обширном покое дворцовом совсем раскрыто настежь, несмотря на сильный мороз.
Невысокая, но большая горница полна народу. Людно и шумно в соседних покоях. Слышен говор и топот, и снуют челядинцы по всем лесенкам и переходам дворцовым. В женских теремах, несмотря на ранний час, тоже заметно особенное движение, словно переполох какой или ожидание чего-либо особенного, важного.
В обширном покое, полном людей, на постели под парчовым пологом умирает Василий Иваныч, великий князь и царь московский и всея Руси, как он стал себя величать по примеру отца, Иоанна III.
Месяца два с половиной тому назад, 22 сентября 1533 года, выехал Василий из Москвы на охоту к Волоку-Ламскому. Дней через пять появился у него на левом бедре небольшой нарыв, который стал быстро углубляться. Скоро открылся «антонов огонь». Ни разрезы, ни прижигания не могли остановить страшной «порчи». Наконец, врачи, день и ночь не отходившие от царя, увидели первые признаки заражения крови, первые знамения близкого конца.
С пути, конечно, Василий поспешил на Москву.
И вот лежит он исхудалый, потемнелый лицом, с пересохшими губами и ждет смерти. Настежь раскрыто одно из окон покоя, обращенного в опочивальню для больного. Сам Василий меховыми одеялами, периной и двумя шубами прикрыт. Но и под ними весь дрожит порою от внутреннего озноба, которым сменяются приступы горячечного жара.
Другие, сидящие и стоящие здесь, все — в шубах, в теплых охабнях и меховых кафтанах. Кто имеет право, тот не снимает горлатных шапок. Духовенство — в скуфьях и клобуках. На восточных царевичах и беках, которых немало проживает при московском князе, — их чалмы, тюбетейки и мурмолки. На стариках боярах тапочки, вроде ермолок, как они и дома ходят.
Тепло одета и молодая жена умирающего Василия, красавица литвинка Елена Глинская. Подавляя рыдания, прислонилась она к изголовью больного.
Старший сын, княжич Иван, хорошенький, темноглазый мальчик трех лет, в собольем кафтанчике, в шапочке с дорогим пером, — стоит позади матери, совсем прижавшись к коленам своей мамушки — Аграфены, Челядниной по мужу, а из роду князей Оболенских. Она — сестра родная тому самому князю Ивану Овчине-Телепню, которого дворцовая молва давно уже нарекла ближним любимцем и князя и княгини.
Этот молодой, высокий красавец князь стоит тут же, у самого ложа Василия, как его постельничий.
У ног князя в широком, удобном кресле сидит митрополит Даниил в мантии, в белом своем клобуке, во всем облачении, так как предстоит, может быть, тут же посхимить Василия в миг его кончины.
Хотя и довольно тесно в покое, но все же бояре, князья и воеводы, наполняющие его, разбились как бы на стаи. Оба брата Василия, Юрий Димитровский и Андрей Старицкий, удельные князья, Михаил Юрьев Захарьин, ближний советник Василия, затем печатник (канцлер) и наперсник великокняжеский, Иван Юрьич Поджогин, да Михаил Глинский, дядя Елены, — эти пятеро сгрудились у самой постели больного.
За ними, ближе к окнам, второй кучкой, видны князь Федор Мстиславский, князь Иван Кубенский, князь Вельский Иван, Вельский Димитрий Федорович, — все близкие по крови и по свойству Василию; за ними бояре, братья родные Василий и Даниил Воронцовы, князь Дорогобужский, боярин Владимир Головин, хранитель большой государевой казны Михаил Поджогин, брат Шигони, да еще два ближних дьяка царских, Потата и Рак Феодорик. У стены, за пологом, стоят в тени, хмурые, словно напуганные чем-то, два иноземца-лекаря, Феофил и Николка Люев. Третий, гетман Ян, с казацким чубом, покручивая длинный ус, — тоже закручинился и прислонился к резному столбу, который поддерживает полог над кроватью больного.
Все силы истощили лекари, испробовали все средства. Болезнь победила. Державный больной умирает. И, может статься, как в старину рабов на тризне, как раньше коней резали, зарежут после смерти Василия и его врачей, не сумевших доказать, что они — сильнее природы и смерти. Давно ли так был зарезан отцом Василия лекарь, не сумевший спасти приезжего принца, гостившего при московском дворе…
Два брата, князья Шуйские, Иван и Василий Васильич, сторонники князя, стоят за плечом княгини.
Отделясь от великокняжеской стаи, своим гнездом сгрудились других два брата Шуйских, Андрей и Иван Михайлович, строптивые, крамольные бояре, «бегавшие» на поклоны к Юрию в Дмитровск, недавно только вызванные на Москву, вместе с Михаилом Семеновичем Воронцовым, стоящим тут же. Теснятся к ним и бояре, князья из свиты обоих удельных князей, Юрия и Андрея: братья Вельские, Семен и Иван Федорович, князь Иван Михайлович Воротынский, князь Ляцкий, того же роду Кошкиных, что и первосоветник Василия, Михаил Юрьевич, но по духу не схожий с смирным, прямым стариком.
Князь Димитрий Палецкий, князь Пронский Федор Григорьевич, князь Юрий Андреевич Ленинский, роду Оболенских, только из Старицы, воевода удельного князя Андрея, с братом Иваном и еще несколько бояр и воевод не так знатных родом — стоят особой стаей, в глубине покоя, ближе к выходу, переговариваются негромким шепотом, поглядывают то на Василия, то на дверь, где в соседнем покое видны еще группы дворцовых ближних людей, боярыни, сопровождающие из терема на царскую мужскую половину княгиню Елену, мамки, няньки и мелкая челядь дворцовая, монахи-богомольцы из кремлевских обителей и попы.
Вот Василий, лежавший в легком забытьи, пришел в себя.
— Не изопьешь ли? Легче станет, — осторожно склоняясь к больному, предложил Люев, принимая чарку с лекарством от Феофила, державшего ее наготове.
— О-о-ох… все едино… Силы бы маненько… О-стан-ный… час… мой… Надоть еще… при… казы… дать, — невнятно пробормотал больной.
— Выпей, сил прибудет, государь!
Елена, уловив движение больного, осторожно приподняла ему голову, и с трудом, расплескав часть напитка, проглотил Василий лекарство Люева.
По всему покою прошел сильный запах индийского мускуса и еще каких-то пахучих снадобий. Неподвижный, слабо, но порывисто дыша, молча пролежал князь несколько мгновений. Наконец, дыхание стало ровнее. Глаза раскрылись. Полное сознание светило в них. Мощная, привычная к вечной работе мысль словно не мирилась с омертвением тела и властно и жадно хотела жить.
— Пить! — спокойнее и более внятно, чем раньше, потребовал больной. Жадно сделал несколько глотков из золотой чарки с освежающим питьем, которую тоже держал наготове лекарь. Затем с благодарностью и любовью перевел глаза на Елену, которая осторожно и ловко помогала ему оторвать голову с подушки, чтобы сделать несколько глотков.
— Все ли тута? — обратился затем Василий к Шигоне. Толстый, неуклюжий боярин весь как-то подобрался, мягко изогнулся и не резко, но очень внятно и покорливо заговорил:
— Как же не всем быть, коли ты приказывал, государь-милостливец! Почитай все опальные съехались… И Михалко Воронец, и княжич Вельский с братаном. Рази кто уж в больно дальних волостях заслан сидит. Да и те не нонче-завтра подоспеют.
— Нет уж… Ныне конец… Видение мне было…
— Видение? — эхом отозвалась первая Елена. И перекатилось по всей вдруг насторожившейся толпе одно это слово: «Видение…»
А Василий сразу, широко раскрыв глаза, устремил их перед собой, словно силился опять вызвать образы, созданные в мозгу игрой горячечного воображения и принятые суеверным князем за весть из другого мира.
— Какое видение, княже? Давно ли оно осенило тебя? — с живым интересом спросил митрополит, склоняясь к больному всем своим сухим, высоким и сильным, несмотря на года, станом.
— Не теперя… После… Дело надоть… А там доспею — скажу, — нетерпеливо ответил больной и, передохнув, позвал: — Аленушка!..
Княгиня поняла, осторожно, с помощью лекаря, приподняла больного и положила подушки так, что он принял подусидячее положение.
Передохнув от такого незначительного движения, Василий довольно внятно заговорил:
— Братья мои… Вы, Шуйские князья… И Вельские… Ляцкий… Все супротивники наши… ближе идите. Слово скажу…
Вся стая «супротивных» князей и бояр, нежданно-негаданно вызванная из разных городов, где они тосковали в ссылке и в опале, — все, собранные у постели умирающего господина, подошли с сильно бьющимися сердцами, желая отгадать: что скажет им этот властный, суровый и лукавый всю свою жизнь повелитель? Не для того ли привезены они сюда, чтобы можно было покончить с ними разом и обезопасить ребенка, будущего князя, от опаснейших врагов владычного московского дома?
— Слушайте все! — торжественно, голосом крепнущим, быстро обратился к ним Василий. — Вот, призвали мы вас… по своему изволению и по поводу молитвенника и заступника неустанного, владыки митрополита… Позабыть велим все старые прорухи наши, все затеи негожие. И шатанье ваше великое, и клятвы преступления, и измену крестному целованию. Последний час пришел нам. И пусть Господь простит нам так грехи многие наши, яко мы от чистого сердца прощаем всем врагам нашим.
Смолк и тяжело дышит от внутреннего напряжения Василий.
Легко вздохнули все опальные. Не смерть им грозит. Наоборот, мириться хочет перед смертью тиран. И опущенные за миг перед этим к земле глаза, рабски согнутые шеи — сразу поднялись, выпрямились.
— Вы же, бояре, и ты, брат Юраш… и Андрей… клятву на кресте святом, на мощах нетленных дать повинны, — передохнув, продолжал Василий. — Великое слово нам подайте и руку на листах приложите: после часа кончины нашей — волю мою господарскую поисполните.
— Волим, брате-господине! — первым отозвался князь Андрей Старицкий.
Моложавый лицом, сорокалетний, могучий и статный, он невольно располагает всех к себе ясным выражением больших голубых глаз и доброй улыбкой, в какую часто складываются его полные губы.
Князь Юрий Димитровский, средний брат, крупный по фигуре, как и все Рюриковичи, походит на обоих братьев лицом. Только очень тучный, обрюзглый, он кажется неповоротливым. Глаза недовольно-сонливо выглядывают из-под густых бровей, щеки и подбородок, покрытые кудреватой бородой, отвисают. Короткая жирная шея в складках мало выделяется из воротника кафтана и шубы. Общее впечатление не в пользу Юрия. А когда порою его полусонные глаза загораются и блестят каким-то хищным огнем от наплыва честолюбивых дум, в минуты злобной, затаенной зависти, князь Димитровский становится страшен.
И сейчас, словно бересту на огне, повело Юрия. Но он сдержался и продолжал стоять молча, как бы выжидая: что дальше будет?
Не сразу заговорили и опальные, только что прощенные князья и бояре.
Согласиться — выгода невелика для них. Воспротивиться?.. Так та же стража, те же пристава, которые явились за ними и свезли всех на Москву, мгновенно развезут по старым местам, а то и в такое место угодишь, откуда нет возврата.
Эта одна мысль пронеслась в голове и у опальных, и у всех остальных, кто слышал речь Василия.
И, ударив челом князю, степенно заговорил первым поводырь «крамольной» партии, Андрей Шуйский, вместе с князем Семеном Вельским давно отмеченный как запевала той кучки бояр и князей, которая всеми силами борется с новшествами на Москве, исходящими от дворца великокняжеского, особенно когда эти новшества ведут к умалению власти боярской в земле, к ослаблению силы перводружников при великокняжеском престоле, в земской и государевой думе.
— Поизволь слово молвить, великий княже-господине! И когда Василий утвердительно кивнул головой, князь Шуйский так же степенно продолжал: — Клятву долго ль дати? Попы на местах. Каноны на листах. Вон на налое и кресты заготовлены… Дадим, государь великий. Недуга твово ради — потешим твое сердце господарское. Дай Бог жити еще князю и господарю нашему, свет Василью Ивановичу, многая лета…
— Многая лета! — подхватили рядом стоявшие. И рокотом прокатилось пожелание по обширному покою.
— Вот, все со мной же одно мыслят! — продолжал князь. — Воедино дума моя такая. Не поизволишь ли объявить: о чем присяга буде? На что клятву давать, крест целовать с рукоприкладством указуешь, государь! Повести. Тогда — и клятва крепче будет. А мы — твои слуги, государь!
И, снова добив челом, Шуйский замолк и отступил на прежнее место.
«Лукавая лиса!» — это привычное название, которое Василий часто бросал в лицо обоим братьям Шуйским, Андрею и Ивану, сейчас тоже едва не сорвалось было с губ. Но больной нашел еще в себе самообладания настолько, что дал кончить князю, не прервав увертливой речи, и довольно спокойно заговорил:
— Али позабыты дела давние, печали лютые? Не при деде ли при нашем, при Василье [23], так же сродники жадные да бояровья, князевья буйные, непокорливые крамолу завели? А что вышло? Горе земли, разорение людям. Того ли снова видеть нам охота? Могу ли ждать, что дети мои, малолетки, не только на волостях своих наследных пребудут, а и живы станут ли? И вот ныне смерть над душой моей витающа, — говорю тебе, князь Михайло, слушай заповедь, смертное слово мое великое, душевное…
Князь Глинский, к которому внезапно обратился Василий, выступил вперед из-за племянницы, великой княгини, за плечом которой стоял.
— Видишь, княже, как на смертном одре рабы владыку своего исконного, Богом данного, пытают. Но ин так. Пусть нам помирать. Ты — жив и здоров. Рать наша присяжная, вся дворня и дружина нам покорствуют. Воеводы — не продали души своей ворогам нашим… Послушают, что моим именем сказано буде… А говорю я: ты бы, князь, за моего сына, великого князя Ивана, за мою великую княгиню Елену да за молодшего сына, княжича Юрия, кровь свою бы пролил и тело на раздробление дал? Клятву даешь ли?
— Пьять разов даю, не то цо еден раз! — с ясным литовским говором, поспешно и громко ответил князь, победоносно взглядывая на кучку коренных русских князей и бояр, которые этим приказанием умирающего повелителя как бы поступали к нему под начало.
Без звука переглянулись толькр все князья и бояре. Еще больше потемнело и насупилось лицо князя Юрия Димитровского. Даже открытое чело князя Андрея словно омрачилось легкой тенью.
— Вот, слыхали ль? А и сызнова я пытаю вас: присягу нам, на исполнение воли нашей, даете ли?
— Даем… Вестимо, даем!.. Как не дать?.. Все волим. Все крест целуем! — сначала отрывистыми возгласами, потом общим согласным звуком вырвалось у толпы, наполняющей покой.
— Ну, ин добро!.. На моих глазах пусть святое дело совершится… С вас починать! — обратился к обоим удельным князьям больной, видимо сразу успокоенный.
— Приступим, чада мои! — медленно подымаясь со своего места, заговорил митрополит Даниил.
По его знаку на середину покоя был выставлен небольшой аналой и выдвинут стол с письменным прибором.
Шигоня принял у Штаты небольшой ларец, раскрыл его и из трех-четырех свертков пергамента вынул один, поменьше, развернул его, уложил на столе, подведя верхние концы под тяжелый каламарь (чернильницу), а на нижние концы положил небольшой ножик с тяжелой ручкой, которым чинились гусиные перья.
Пергамент наполовину был исписан кудреватым, четким письмом, текстом присяги, остальная половина была оставлена для подписей.
Содержание присяги гласило, что оба дяди, удельные князья князь Юрий Димитровский на Яхроме и князь Андрей Старицкий, обещаются довольствоваться своими уделами, в пределы власти и владений племянника и великого князя своего в грядущем, Ивана Васильевича, не вступаться; до совершенных лет его оберегать землю и власть государя московского, порухи ему не чинить, от злых замыслов охранять, самим на него не умышлять и опекать до вступления в полный возраст, а именно до совершения ему пятнадцати лет; после — чтить и слушать, не глядя на молодые годы, как главу рода и владыку земли. Все же права удельных князей и их безопасность остаются неприкосновенны, за что отвечает и великий князь Василий, и наследник его Иван, и все, кому поручено будет, кроме дядей, блюсти детство и юность будущего государя московского.
Нового ничего не было в присяге. Давно уже, еще дедом Василия, был порушен старый уклад, прежний порядок престолонаследия на Москве, когда власть получал не старший сын умирающего князя, а старший во всем роде, то есть следующий из братьев государя.
Но до сих пор братья плохо мирились с таким новшеством. Обидно казалось дядьям присягать на верность и подданство родным племянникам.
Даниил прочел молитву, благословил предстоящих на великое дело: на присягу и креста целование.
Попы и монахи, окружившие во время молитвы владыку, отступили. Первым по старшинству подошел Юрий.
Он уже взялся было за перо, но Василий, который как будто оживал с каждой минутой, видя, как благополучно все идет, — приказал:
— Шигоня… чти вслух присягу.
Звонко, отчетливо прочел Шигоня текст, который самолюбивый Юрий предпочел бы подписать втемную, не оглашая.
Едва кончилось оглашение, торопливо, крупными, неровными буквами вывел он под текстом: «Юри, кнезь Димит…» и закончил резким росчерком. «Андрий, княжа на Старице», ровно, старательно вывел другой брат. Сложил перо на край каламаря и отошел к больному брату.
— Послухами Шуйские да Вельские руку приложить волят, — пожелал Василий.
Двое Вельских и четверо Шуйских один за другим расписались на листе как свидетели.
— Ну, ин ладно! — совсем довольный, почти радостно объявил Василий. — Памятуйте же, братове мои, что ныне творили. Ради смертного часу моего, ради спасения душ ваших не рушьте присяги… Сотворите по обету. И Господь Благой воздаст нам по делам вашим. Теперя крест целуйте! Митрополит поднял над головой крест, заключающий в себе частицу святого Древа Господня, осенил им всю толпу, упавшую на колени, и подал целовать обоим удельным.
— Во, и крест же святой, чудотворный вами поцелован. Памятуйте же! — еще раз не удержался и напомнил Василий. — Теперя дале!
Прочитан текст второй, общей присяги, где для «крамольных», а теперь возвращенных и прощенных бояр было сказано, что «все князья да боляре, на коих вины объявилися и измены или уходы ко удельным и всяким иным владыкам и потентатам крещеным, а наипаче — к некрещеным, — таковым прощенье являет государь за себя и за сына своего. Но таковые обещают и клятву дают вдругое не бегать, не изменивать присяге, верою и правдою служити осударю, великому князю московскому, хоша бы и малолетнему, до его совершенного возраста, как по старине. А по совершенных его летах, как он повелит. И лиха никакого не умышлять, сговора не делать, шатанья не творить».
Один за другим подписали лист Вельские, Шуйские, Ленинские, все Оболенские, и Васильевой, и Юрьевой свиты, словом, все главные князья и бояре, собранные здесь И крест на своем обещанье целовали.
Еще не затих гул голосов присяжников, еще тянулась вереница целующих крест, которые протискивались в тесноте, прикладывались, по вызову дьяка, и снова уходили в толпу, а Василий, видимо потрясенный, с глазами, полными слез, воскликнул:
— Слава тебе, Господи! Хвала и слава! Помру спокойно. Сыне, Ивасик… Ко мне его… Стань тута!
По знаку отца мамка Челяднина подняла и поставила трехлетнего царевича на край постели царской.
Головы ребенка и умирающего оказались почти на одном уровне, одна против другой.
Даниил перешел к изголовью больного и, не выпуская из руки, подал Василию чудотворный крест так, что худые, бессильные пальцы его охватили нижний край святыни.
И, трижды осенив крестом Ивана, Василий торжественно, внятно произнес:
— Во имя Отца и Сына и Духа Свята!.. Волим и приказуем, благословляем тя сим крестом Мономашьим… И вторым крестом, Петра-Чудотворца, заступника и строителя земли! — меняя первый крест на другой, такой же чтимый и принадлежавший митрополиту Петру, вторично, при помощи Даниила, благословил сына Василий. И продолжал: — Буди на тебе и на детях твоих милость Божия из роду в род! Святые два креста сии да принесут тебе на врагов одоление. И все кресты, и все царства, и державы мои тебе, сын мой и наследник мой, отдаю. А по статьям то в нашей духовной записи писано. И наше, и владыки митрополита, да иных с ним послухов, рукоприкладство дадено… Слышали ль, боярове и князи, и вси иные люди наши?
— Слышали… В добрый час! — зашумели голоса. И сразу гулко прорезало общий говор обычное приветствие новопоставленному князю:
— Здрав буди! Живи на многая лета, господин великий княже наш свет Иван Васильевич.
И, как колосья по ветру, преклонились все, на глазах умирающего отца, перед его преемником-малюткой.
Иван все время с живым вниманием приглядывался к тому, что творится в покое.
Никогда не видел он столько народу. И, бледный от бессознательного волнения, подавленный быстрой сменой впечатлений, молча глядит он на все, исполняет, что велят, слушает, что скажут. И сейчас, видя, как все склонились и провозглашают его имя, мальчик, радостно улыбаясь, с порозовевшими снова щечками, стал торопливо кланяться и, лепеча, повторять, как учила его мамушка:
— Спаси вас Бог… Благодарствуйте, бояре… Судорожным движением больной прильнул к головке сына и спрятал в кудрях его свое измученное, влажное от слез лицо.
В покое постепенно восстановилась тишина.
— Не увести ль младенца-то? — осторожно спросила Елена.
— Ладно, ведите… берите… — беспомощно откидываясь на подушке, словно окончательно истощенный этим порывом, согласился Василий.
Челяднина поманила Ваню.
Он сначала привычным движением потянулся к ней. Но, уже очутившись на руках мамушки, вдруг обернулся к отцу и залепетал:
— Худо тяте… Ваню к тяте… Не волю я, мамушка, в терем. К тяте пусти! Любый тятя… мой тятя… Худо ему… Больно, слышь, ему…
— Нишкни, нишкни, красавчик… Леденчика дам….забавку нову… лошадку, — стала негромко уговаривать птенца своего Челяднина.
— Слышь, Груша! — обратился к ней Василий. Челяднина, уже готовая уйти, остановилась и приблизилась к самой постели больного.
— Ты гляди! Богом клянись беречь наследника моего.
— Клянуся да крест на том целую, государь! — поспешно приложив правую руку к кресту, подтвердила кормилица, приложилась к распятию, отдала поклон и, что-то шепча, словно убаюкивая ребенка, вынесла его из покоя сквозь толпу, которая почтительно расступалась перед ними.
Среди сравнительной тишины, наставшей в это мгновение, раздался слабый детский плач.
Это по знаку Елены из соседнего покоя приближалась вторая мамка с младшим сыном Юрием на руках.
Пухлый, бледный ребенок с большой не по возрасту головой пищал тихо, жалобно.
Елена склонилась на колени перед мужем и негромко заговорила:
— Младшего сына своего поблагословить не поизво-лишь ли?.. Да и что ему в наследье идет, не поукажешь ли? Лучше, коли на людях. После не скажут, что воля твоя поиначена.
Поглядев на Юрия, великий князь сухо произнес:
— Доля ж его в записи поназначена. Не отымут, небось. Углич да Поле ему… Благослови Бог малого… и мое над ним благословение…
Торопливо унесла мамка Юрия.
— Да и всем молодшим людям повыйти бы! — распорядился Василий. — Ближние пусть поостанутся, да бояре старшие с князьями.
Исполняя приказ, дьяки прошли по покою, вытеснили, кого надо, заперли двери.
Осталось человек двадцать первых людей.
— О том скажу, как царству быть… Писано у нас, да и сказать не худо: тверже буде. Править боярам, и князьям и воеводам по старине. И думе нашей по земской пошлине быти… И боярам думским на доклад по делам по всяким государским ходить ко великой княгине, к Елене!
Все бояре ударили челом литвинке, назначаемой теперь, до совершеннолетия сына, опекуншей ему, правительницей царству.
— А доклады вести главнее всего трем боярам! — продолжал Василий, как будто торопясь использовать прилив сил и энергии, конечно, последний в этой земной жизни. — И те трое… князь Михайло Глинский… ты, Михаил Юрь-ич… да Шигоня с вами. Мастак он на все дела.
— С княжеской милостью! челом бьем! — отвешивая поклон трем счастливцам, проговорили остальные бояре, кланяясь Захарьину, Глинскому и Шигоне.
Оба удельных князя тоже отвесили им молча по поклону.
— Челом бьем государю на милости! — в один голос заговорили три правителя и кланялись до земли перед Василием. — По совести да по разуму послужим сыну твоему, господарю нашему, как и тебе служивали.
— Верю, знаю. Да буде, Аленушка, чего плакать-то. Кинь! — обратился он жене. — Слышь, что сказывать стану.
Княгиня, крепившаяся все время, наконец не осилила себя. Рыдания, давно подступавшие к горлу, прорвались, и она, закрыв лицо рукавом, громко стала всхлипывать.
Но, заслыша повелительный голос мужа, сразу отерла глаза, прикусила полные, пунцовые губы и смолкла снова.
— Вот и ладно. Дело скажу. На поминках успеешь наплакаться, наголоситься вдосталь. Ты бояр береги, советов слушай их доброхотных. И они тебя поберегут. И сама ума своего не теряй, что на пользу Ване да царству подойдет. Граде наше стольный укрепил я довольно. Почитай весь каменный он стал. Так и вершите. Ты ныне. Сын потом. Маните мастеров на Москву заморских, украшайте стольную. И посады. Особливо торговый. Церквами да торговыми рядами наша земля, московская вотчина, искони красна да сильна была. Торговыми людьми, как и ратными, земля тверже стоит. Э-эх, рано смерть подошла. Задумано-почато не малое дело у меня. Круг посадов не хуже, что и круг города, — стены каменные поставить… Шигоня, тебе ведомо… Митя, — обращаясь к казначею Головину, сказал Василий, — чай, у тебя столбцы все подсчитаны: много ль рублев серебра на дело надобно?.. Вот и разберете… И тогда уж, за четверной стеной, за каменной, за молитвами угодников Божиих, ни един враг граду Москве, царству нашему не страшен станет! Да звонницу ту великую, новую, что в прошлый год я закладал, — довершите… на помин души моей грешной. Знатные колокола для ней изготовлены. Хоть фрязинский в полтысячи пуд. Да в тысячу пуд евонный же… Фрязина Петра. Пусть недаром от всех народов православных наш стольный град, Москва, аки третий Рим наречется и почитается… яко непроходящий вовеки и царственный град христианский. Вырастет Ваня, все ему то поведайте, что ноне сказал… Да… на берег… на берег царства… на Оку [24]… добрых воевод туды… Тебя бы хоша, Симской… али Мстиславского… Да, сторожу до… брую… да…
Но тут внезапное забытье овладело больным. Он, тяжело дыша, умолк.
Елена вскрикнула, громко разрыдалась, и ее поспешили увести в другой покой, где ждали боярыни. Почти на руках унесли они княгиню на женскую половину.
Видно, пришла пора посхимить умирающего.
Удаленные было перед этим попы и монахи вошли опять в покой. Митрополит приступил к обряду.
День быстро угас. Свечи заколебались, засверкали тонкими красноватыми языками пламени.
Творит молебны священный клир. Принесли мантию, рясу, возложили на Василия. Звонко поют молодые голоса монахов и певчих митрополита. Вылетают из кадильниц и уносятся в окно с паром дыхания клубы дыму от ладана…
Посреди обряда пришел в себя Василий, очнулся. Чувствует, у него Евангелие и схима на груди. Рад государь. Умереть иноком — это последнее желание его. Протяжный, заунывный звон доносится в раскрытое окно.
— Что за звон? Кое время? — спросил он окружающих.
— К вечерням время близко.
— И мое время приспело… Последние звоны слышу… Утреннее видение… Владимир, сам Мономах явился… Произрек: последние звоны услышу ввечеру церковные… Святая Божья воля!
Перекреститься хочет обычным жестом умирающий. Рука отнялась, словно свинцовая лежит.
Шигоня понял желание царя, поднял руку, Василий перекрестился с его помощью.
Через полчаса, в ночь с 3 на 4 декабря 1533 года, не стало великого князя московского Василия Иоанновича, царя всея Руси.
Глава II ЦАРЬ-РЕБЕНОК
На своей теремной половине княгиня Елена ночью и не услыхала воплей, причитаний богомолок да плакальщиц, допущенных к покойнику, после того как сам митрополит омыл тело и монахи облачили усопшего в одежды великокняжеские.
Утром рано проснулась она, когда еще и не светало. Вскочила на ноги, стала прислушиваться.
Размеренный, заунывный благовест, мягкие, редкие удары тяжелого языка о стены «Бойца-колокола» возвестили вдове печальную весть.
— Почто не разбудили меня?.. Как могли? — напустилась было княгиня на свою постельницу.
Но вдруг зарыдала и умолкла. Новая мысль затем охватила ее.
— Где Ваня? Встал ли великий князь-государь? Телу отца кланяться ходил ли?
— Надо быть, нет… Тихо в опочивальне. И Аграфена Федоровна выходить не изволила. Покликать прикажешь?
— Кличь… А мне — наряд печальный подавайте.
Не успели прислужницы принести вдовий наряд княгине, заранее уже припасенный, как за дверью прозвучал голос Челядниной:
— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй ты!
— Аминь, аминь. Входи, Аграфенушка! — громко отозвалась Елена и даже поднялась навстречу боярыне.
Пока Челяднина отдала поклон княгине, та уже засыпала ее вопросами:
— Как спал Ванюшка? Добр-здоров ли? Встал ли? Отцу поклониться сбирается ль?
— Почитай и готов. Брат мой, князь Иван, у его. Слышь, ноне и на царство постанов творить положено. И ты, государыня, изготовляйся. Матушке твоей, княгине Анне, знать дадено.
— Почитай изготовилась, видишь, Аграфенушка… Горе горькое, какие часы приспели! — запричитала было княгиня. — На кого ты нас оставил, государь мой, князь милостивый, солнышко мое красное?.. Сиротами покинул…
— Поудержалась бы, княгинюшка, покуль. Дите встревожишь. Малое оно, неразумное у нас. Трудно будет в соборе на царство становиться. Негоже, коли там что прилучится. Уж потерпи. А после — наплачешься, нажало-бишься вволю.
— И то, правда твоя! — как-то сразу оборвав плач и причитанье, согласилась Елена и, опережая Челяднину, поспешила через сенцы в опочивальню княжича Вани. Юрий спал с кормилкой и мамушками в другой комнате, соседней с опочивальней самой Елены. О нем и не вспомнила сейчас княгиня-правительница, всецело охваченная заботой о первенце — великом князе.
— Матушка! — завидя княгиню, залепетал Ваня.
Он, еще полуодетый, сидел на коленях у Ивана Овчины-Телепня, который присел было на кровать к ребенку. Соскочив с колен своего пестуна и любимца, княжич хотел было бежать босыми ножками навстречу матери.
Но могучий красавец боярин осторожно и ловко подхватил ребенка и поднес к Елене.
— Милый! Дитятко мое! Хорошо ли почивал? Что плохо снаряжаешься? Гляди, скоро и бояре придут, звать тебя с отцом прощаться.
Низко наклонившись княгине, Овчина заговорил:
— Одет уж почитай был князенька наш… Да мыслю я: получше бы что надо. День больно значимый… Вот и ждем, пока принесут наряд самый нам отменный…
— Да! Какой поладнее! — вмешался Ваня. — Во, штанцы-кафтанцы… словно у Вани, у Овчинушки у моего. И мне… И мамину сыну, Ванюшке! — ласкаясь, словно котенок, к матери, объяснял ребенок, указывая на блестящий наряд молодого боярина.
— Ишь ты, твоя одёжа ему полюбилась! — приветливо обращаясь к Овчине, с невольной улыбкой заметила мать. — Ну наряжайте мне его не мешкая да к матушке приводите. Там я буду. Оттуда все и на поклон к государю нашему пойдем…
Крепко обняв и расцеловав ребенка, Елена пошла на половину матери своей, Анны Глинской, как обычно делала каждое утро, навещая болезненную старушку.
Между тем Челяднина, вышедшая из покоя на минуту, ввела в опочивальню княжича двух прислужниц с целым ворохом праздничных нарядов.
Брат и сестра выбрали наряд, где все подходило одно к другому: голубой с золотом да с белыми шнурами. Цветные сапожки с красными каблучками и шапочка с дорогим пером от райской птицы, укрепленным у тульи крупным изумрудом, довершали наряд.
С темными сверкающими глазками, со светлыми золотистыми кудерьками над высоким, красивым лбом, ребенок в этой слабоосвещенной сводчатой небольшой опочивальне казался ангелочком, слетевшим с небес.
— Гляди, Ваня! — заметила брату Челяднина. — Каков пригож наш князенька.
— А поглядишь на нас в соборе… Там, где осияет светом нашего юного князеньку! — ответил Овчина. — Вот и все скажут: «Хорош наш государь, живет на многие лета…» Правда, Ванечка?..
— Вестимо, вестимо, государь я… Всем государь… — принимая забавно-осанистый вид, ответил ребенок и от удовольствия, от радости стал шлепать ручонками по широкой груди сидящего Овчины, который совсем нагнулся к княжичу, смеясь, ловил его руки и целовал их.
— Ну, будет вам. Старый да малый связались. Слыхал, чай, княгинюшка вести куды приказать изволила? Ступай. Тебе негоже к старице. Я одна сведу, вот с Орефьевной! — указывая на одну из старых нянек, помогавших при обряжении княжича, заметила Челяднина.
— Ладно. Недолго вам еще моего государя на помочах водить. Пятый годочек пойдет, в наши, в мужские руки перейдет государь. Ладно ли, Ванюшка?
— Ладно, вестимо, ладно. Люблю тебя! — кивая Овчине, ответил княжич. И все кланялся, пока вместе с нянькой, взявшей его на руки, не скрылся за низенькой дверью, в которую ушла перед этим и княгиня Елена.
Между тем печальный перезвон колоколов продолжал разноситься над Кремлем, надо всей Москвой. И задолго еще до полного рассвета потянулся народ толпами без конца к собору Архангельскому, где на возвышении возлежало тело Василия, чтобы все могли проститься с усопшим и дать ему последнее целование.
Но, кроме народа, на той же кремлевской площади, рано утром 4 декабря 1533 года, как разноцветные волны, колебались ряды строевых дружин великокняжеских в разноцветных кафтанах, в блестящем вооружении.
Над «передовым» полком, одетым в белое, колыхались белые хоругвь и знамя.
А дальше — и зеленые, и ярко-малиновые, и лазоревого цвета кафтаны, знамена и хоругви, смотря по полку. И колпаки блестящие, и сверкающие полированными стволами тяжелые пищали.
На хоругвях разные изображения видны: вытканы святые иконы, чудно вышит византийский орел, перенесенный на Русь, в виде приданого, греческой царевной Софией Палеолог, родной бабушкой малолетнего царя Ивана [25].
И восточные огнистые драконы, всякие чудовища и страшила также скалят зубы с высоты, нарисованные на реющих по ветру знаменах.
Стройно подходят и равняются полки, занимая пространство перед соборным храмом во имя Пречистыя Богородицы, что в Кремле.
Установились полки. И сейчас же длинной двойной вереницей, с топориками на плече, прошли в собор рынды царские в высоких шапках, в белых парчовых кафтанах, словно снегом блестящим облитые.
Наконец, окруженный первыми боярами, всей блестящей свитой, показался из Архангельского собора малолетний великий князь московский, царь всей Руси, вместе с великой княгиней-правительницей. И князь Андрей Старицкий здесь же.
Вместе совершили они обряды последнего прощания с усопшим государем.
Бледен ребенок-царь, глаза его сильно расширились, потемнели. Целый ряд жгучих вопросов шевелится в его детском мозгу: отчего так крепко спит отец, что даже не ответил на поцелуй любимца сына? Отчего он такой холодный? Почему лежит не в опочивальне, а в соборе, в пышных бармах и в царской шапке? Никогда не спал так раньше отец. Почему все подходили и целовали руку ему или край ризы царской?
Многое хотел бы спросить Иван, впервые увидавший покойника, да еще — родного отца.
Но ребенок знает, что они «на выходе», на большом. Народу показываются. Идут в собор, где будут его, Ивана, нарекать царем. И не годится теперь обращаться с вопросами, даже самыми важными, хотя бы и к матери. Молча идет ребенок.
Вошли под своды храма. Митрополит поставил ребенка на царское место, на помост, покрытый пурпурным ковром. Один. Все, даже мать и мамка Челяднина, отступя от помоста, пониже стоят. И кивают любимцу своему, улыбаются, шепча:
— Гляди, не заплачь. Не можно. Гляди, стой чинно! Шепчут. А у самих — так слезы на глазах и дрожат.
В храме черно от народа. Митрополит в самом блестящем одеянии, окруженный всем соборным и кремлевским главным причтом в пасхальных ризах, правит службу.
Торжественно осеняет чудотворным крестом Даниил младенца-царя и громко, раздельно возглашает:
— Бог, Держатель мира, благословляет Своей милостью тебя, по воле усопшего родителя твоего, государь великий князь Иван Васильевич, володимирской, московской, новгородской, псковской, тверской, югорской, пермской, болгарской, смоленской и иных земель многих царь и государь всея Руси! Добр, здоров буди на великом княжении на столе отца своего.
И старец приложил холодный блестящий крест к горячим губам малютки.
В то же мгновение, подобно сонму ангелов, многоголосый, стройный хор митрополичьей стайки грянул «Многая лета!». К первым звукам звонких детских голосов присоединились гудящие октавы басов. Стекла дрогнули, огни замерцали в паникадилах и в многосвечниках…
Ребенок-царь окончательно растерялся.
А тут еще бесконечной вереницей потянулись перед ним разные люди, важные, нарядные, послы иностранные, царевичи и цари восточные, которые проживают на Москве, вельможи, бояре первые, в парче, в шелку, в соболях и в рытого бархата шубах. Первым подошел дядя, удельный князь Старицкий. Князя Юрия не видно. Он не явился под предлогом нездоровья, чтобы избежать участия в торжестве малолетнего племянника.
Приветствуют все его и «здравствуют на царстве», бьют челом, целуют руку. А к ногам то и дело складывают меха дорогие, кованые сосуды, оружие, ларцы изукрашенные, одежды богатые, сбрую, усаженную каменьями… Кто что может. Прислужники едва поспевают убирать груды дорогих даров. Все четыре казначея не поспевают все переписать да приглядеть, чтобы сохранно осталось царское добро и дошло до дворцовых кладовых.
Долго тянется церемония. Ребенок едва стоит. Княгиня-правительница рядом с ним. Аграфена — позади. И Овчина тут же. Он только и выручает царя. Стал перед Иваном боярин сбоку на одно колено, словно поддержать хочет ребенка. А сам просто-напросто усадил мальчика на другое колено. И легче, удобнее стало малютке. Только устал он. От массы впечатлений, лиц и красок голова кружится… От ярких огней рябит в глазах, и они слипаются сами собою.
— Не спи, постой, желанный. Недолго уж, — говорит ему мать.
— Подожди, касатик! Не спи. Вот леденчик знатный. Погрызи, — шепчет Челяднина и сует что-то в руку.
Но ребенок уж дремлет, припав головкой к широкой груди дяди Вани.
Торопливо проходят последние поздравители.
А из ворот первопрестольной Москвы во все стороны царства скачут гонцы, бирючи и вестовщики по городам, по селам; присягу отбирать надо и клич кликать, весть подать, что воцарился на Руси новый великий князь и царь, Иван, четвертый по ряду, Васильевич по отчеству. Грозный по прозванию в грядущих веках.
Все без помехи, своим чередом, чинно и торжественно прошло в этот великий для Ивана день.
Короток он был, холодный, зимний, хотя и озаренный лучами негреющего солнца. Быстро темнота развернулась и одела весь край.
После благословения в соборе и часу не дали подремать ребенку в постельке, куда отнес его все тот же Овчина. Разбудили, одели в новую рубашечку, шумящую, с рубинами вместо пуговиц, нарядили в другой, белоснежный кафтанчик из тяжелой среброкованой парчи, с высоким воротником. И повели на пир, на столованье великое царское. Там — опять поздравления, подарки. Сам Иван, по указанию матери и дяди Андрея, посылает блюда и кубки почетным гостям, послам, вельможам… Дарит шубами, мехами, кубками, и конями, и целыми вотчинами, кого надо.
Дьяк возглашает дар царя. Одаренный подходит, бьет челом и получает подарок в руки, если это кубок, блюдо серебряное или чара златокованая, насыпанная доверху рублями, а то и червонцами, глядя по значению гостя. На земли и вотчины вручаются тут же грамоты, наскоро приготовленные.
Без конца несут блюда с яствами, без остановки опорожняются и вновь наполняются фляги, сулеи и ендовы с винами заморскими, с медами, в своих погребах сыченными…
Полусонного, совсем побледневшего унесли Ивана с пира. А гости остались сидеть. И до утра тянется шумная тризна, пир и веселый, и печальный в одно и то же время: на помин души усопшего князя, за здравие да на многие лета новому царю и государю…
Крепко спит в своей кроватке Иван. Елена и старшие вельможи Глинский, Шигоня, князь Михаил Захарьин удалились из главных палат, где стоят столы. А гостям предоставлена полная свобода.
И они спешат воспользоваться ею. Шумно, безудержно веселится московская знать в палатах кремлевских. Еще шумнее и неудержнее веселятся простые люди, челядь боярская, во дворах и в сенях кремлевского двора, где им тоже приготовлено вдоволь вина, пива, хлеба и мяса. В монастырях и на дворах первых бояр, в пределах Кремля, в подворьях монастырских, на заезжих дворах и в кабаках городских и посадских — везде стоном стоит гул от веселых, нетрезвых голосов простого люда, который и за свой счет, и на подачку от царской казны тоже справляет этот особенный день.
Поздней ночью горит огонь на половине княгини-правительницы.
Только не весельем там заняты.
Кутаясь в соболью душегрею, хотя в низеньком покое и жарко натоплено, вся взволнованная, сидит на скамье за столом Елена и слушает, что ей говорит Шигоня — печатник (канцлер).
Михаил Юрьич Захарьин, поглаживая бороду, уселся чуть поодаль, на крестце, на стуле складном, выгнутом в виде буквы X. Князь Михаил Глинский, на правах дяди, ссылаясь на года и на усталость, а скорее — под влиянием нескольких лишних кубков мальвазии, осушенных на пиру, полуразлегся на скамье, поодаль от Елены, подложив под локоть свернутую шубу вместо подушки, опершись на руку отяжелелой головой.
Но и он внимательно слушает Шигоню. Отяжелелые веки порою сразу широко раскрываются, и тогда его нерусское лицо, весь горбоносый профиль напоминает насторожившегося ястреба или орла.
Все трое вельмож изредка поглядывают на князя Ивана Овчину-Телепня. Пришел было молодой боярин, как постельничий царский, доложить, что уснул молодой государь. Но Елена не отпустила его сейчас же. Велела остаться. Уселся князь Оболенский поодаль скромненько и тоже слушает очень внимательно.
— Не нынче ихняя, Шуйских, крамола пошла, — жирным, убедительным баском своим чеканит слово за словом Шигоня. — И вертать-то бы их на Москву не след. Жили бы подале, в сосланье. То бы и покойнее было. А вот вернули. Теперя не миновать свары да переполоху. Не мимо пословка молвится: «Не жди во Кремле добра от Шуйских от двора».
— Да как же было не вернуть, Шигонюшка? Княжая на то воля была, покойничка. И сам владыко митрополит молил о том, и брата оба, и бояре многие.
— Многие, ведаю, — бросая, словно мимоходом, взгляд на Захарьина, подтвердил Шигоня. — То же и я толкую. Зря оно, не след бы. Сами слыхали: что вышло? Еще тело царя землею не покрыто, а они уже свою песенку завели стародавнюю.
— Да так ли, Шигонюшка?
— Не селезень я дворовый, чтобы такать да перетаки-вать! — невольно не сдержав нетерпения, отозвался Шигоня. Он привык, чтобы сам великий князь московский доверял его словам и советам. А теперь надо с бабой советы держать, с литвинкой.
Почтителен в каждом движении и в каждом слове хитрый советник, искушенный «дьяк» — царедворец. Но не может вконец обезличить себя.
Понимает это и Елена. И очень осторожно, мягко спешит она успокоить умного, необходимого ей помощника, главного заправилу в делах правления:
— Верую, верую тебе, Шигонюшка. Ровно отцу родному. Зря спросилося. Как же быть теперя?
— Известно, корысти ради князек донос доносил. А сказ его таков: в ночи еще, бает Горбатый, как шея^де он, по успении государя, кремлевскими дворами до колымаги до своей, на площадь, — видит, и Шуйский, князь Андрей, давний приятель его, тут же. Толковать стали, по старому делу: как теперь, при новом, юном хозяине житье пойдет? А Андрей и поотвел-де Горбатого от остальных, кто поблизу шел, да и сказывает: «Едем вместе. Велико дело скажу, авось и тебе пригодное». Послушал Бориско Горбатый, Сели в колымагу в Шуйского вдвоем. И почала старая лиса блазнить князя. Слышь: немало народу ноне от Москвы в отъезде к удельному, на Дмитров, на Яхрому-реку плыть сбираются. «А почто?» — пытает Горбатый. «Да того дела ради, что здесь служить — ничего не выслужишь. Князь великий еще молод. Княгиня да дядевья литовские с иными блазнями волю возьмут. Своих тянуть на первые места станут. А ноне слух слывет: Юрий князь, по старине — как старшой в роду, — сам не прочь на столе сесть. За жим — не пропадешь». А Горбатый будто бы на ответ: «Как же это, князе: дня нет, как мы крест целовали и покойному государю, и новому князю великому, отроку. А ты на измену зовешь? Ладно ли?» На таки слова Борискины ни словечушка не отповедал Шуйский. Понахмурился только и бает: «Пытал я тебя, друга милого. Вижу: верный ты слуга государям своим. Так о тебе знать и молвить стану». Не доехал и до дворов Шуйского Бориска, из колымаги вышел, в свои сани сел да не домой, а ко мне завернул. Все и выложил мне. Отпустил я его. А чуть рано поутру новые вести пришли: пересылы от двора князя Юрия к Шуйским и наобратно были. Дьяк князь Юрия, Тишков, Третьяк, раз ли, два ли понаведался к Андрею. И от Вельского Семена в обе стороны посылы были. А ноне после наречения царского — из собора кучкой бояре на хлеб, на соль поехали ко князю Юрию, навестить недужного. В собинном покое беседа была. Одначе и послухи у меня сыскались… О том же речи шли: самому Юрию на стол сести, тебя, княгинюшка, со князем великим и со всей родней твоей заточивши… Нешто дело не видимое?
И Шигоня окинул всех взором, в котором ясно сквозила уверенность в своей правоте и непогрешимости.
— Ох, Господи! — всполошилась княгиня-правительница. — Денечка покойно не пробыть! Не остыл еще покойный, а тут тако дело. Что ж нам? Как же нам?
— Да постой, племянная. Не мучь себя попусту. Не все досказал Юрьевич. Как по его: можно ли крамолу осилить? Велика ль опаска нужна? Али неважное дело все? Вот что след нам разобрать теперь.
— Как сказать, княже? — в раздумье ответил на косвенный вопрос Шигоня. — Оно глядя: как и что? Выведать надоть бы наперед, велика ли сила за князем Юрием стоять собирается. Только к нему поболе людей перейдет, — и почнет он под нашим великим князем подыскивать, государства себе добывать на Москве. Не поять нам теперь князь Юрия Ивановича, не опутать руки, то и великого князя Ивана Васильича государству не быть, и нам всем целыми не стоять.
— Пожалуй, и так. Видимо дело: не в Шуйском вся беда.
— Что же дале? — опять спросил Глинский, с которого дремота совсем соскочила теперь.
— Что нам да как? Поведай, дай совета, Шигонюшка! — отозвалась и Елена.
— Да само дело кажет, как ему вестись. Сыск почнем. Доводчиков на допрос. А там — и всех, кого оговорят они. Прослышим, далеко ль наметка кинута? А там, как дело укажет. Лих, чтобы царство не шаталось, не грех и дядю государева присадить.
— Оно вестимо. Мне бы с Ванюшкой худа какого не было?! — опасливо перебила снова Елена.
— Будь покойна, государыня княгинюшка. Волосочка твоего не колыхнем. Еще у нас концы есть. Мастер твой золотошвейный, немчин Яганов, сильно дружен с единым из сыновей боярских князь Юрья Иваныча, с Мещериным с Яшкой. И тот Яшка к себе в Дмитровск Ягана позывал, там ему по тайности весть подал о сговоре злодейском между княж Юрьевых детей боярских многих: как бы им Юрия на стол навести, а нашего великого князя со свету сжить.
— Господи, сил! И ты ни слова не баял досель, Шигонюшка! — всплеснув руками, видимо совсем напуганная, воскликнула Елена.
— Не пора была — и не баял. А ноне — и Юрий сам, и дворня его на Москве. И тот Мещерин, Яшка, и наш Яган. Вот мы всех на очи поманеньку и поставим, великий клубок завьем. А как развивать станем, тут все и пооткроется.
— Добре! Добре, Шигонюшка! — не утерпел, похвалил ловкого царедворца Глинский.
Видимо, успокоясь, он снова развалился на лавке, принял прежнюю беспечную позу.
— А что ж ты все гласу не подаешь, вельможный боярин? — спросил он у Захарьина, по спокойному лицу которого трудно было угадать, согласен он со всем, что говорит первосоветник-печатник, или не согласен.
— Двум на едином коне не скакать, княже. А и то скажу, — степенно ответил боярин, — слышим мы покуль, что Ивану Юрьевичу нашему метится. Поглядим да послухаем, чего иного еще люди не поведают ли. Вот с разных концов дело и обглядим. Тогда стену городить станем. Тогда и я свое слово скажу, как мне совесть велит, как Бог на душу положит.
— Верное слово боярин сказывает! — поддержал сам Шигоня своего «встречника». Ловкий, угодливый, он с друзьями и с недругами старался быть одинаково податлив и согласен на вид, в то же время поджигая всех на вражду и свару, за что даже открыто был прозван Поджогиным. — Верное слово! Мы не по словам, по делам дело рассудим, обмерекаем. А еще…
Но дьяк не успел кончить.
— Во имя Отца и Сына и Духа Свята, — раздался за приоткрытой дверью голос придверницы, дежурящей по соседству с покоем, где происходил совет бояр с княгиней Еленой.
— Аминь! — торопливо отозвалась, невольно вздрогнув, правительница. — Входи, Федосьюшка. Что там? Кто там?
— Да князь, слышь, Андрей, слышно, сам Михайлыч Шуйских! — протирая глаза, неуверенно доложила придверница.
— Шуйский? Андрей сам?! Князь пожаловал?! — так и вырвалось у всех сидящих с Еленой.
Княгиня ничего не сказала. Она сильно побледнела, как будто ожидая большой беды.
— О… один он? Без народу? Без челяди? — наконец спросила она.
— Надо быть, что один. Савелыч наш, дворецкий, с им заявился в терему. Боярин князь и говорит: «Доложи княгине. Ежели спит, побудила бы. Дело больно спешное».
— Так он не сведал, что бояре у меня? Не сказала ты али Савелыч? — видимо ободряясь, допытывалась Елена.
— Его ли то дело, кто у тебя на совете, государыня княгинюшка? Откуда ему сведать, что в покоях твоих деется. Не мужское оно и дело.
— Так… постой… погоди… Мы… сейчас. Ну, как мыслите: допущать его али нет, бояре?
— Ну, известно, пущай, — угадав опасения племянницы, первый подал голос Глинский. — Когда б он с худом, — в тот час без доводу зашел бы до покою, не доложил бы… А мы… мы в тот покой пойдем. Послухаем, он тебе что скаже? Правда? — не то спросил, не то прямо решил князь, обращаясь к остальным.
— Так ладно будет! — отозвался Шигоня.
— Пойдем. Что ж, и я со всеми! — подымаясь, отозвался Захарьин.
И все четверо, с молчаливым, по-прежнему, Овчиной, перешли они в соседний покой, куда через приоткрытую дверь было слышно все, что говорится рядом, у княгини.
— Челом бью матушке-государыне, великой княгине и владычице нашей! — остановясь почти у самого порога, отдал поклон Елене Шуйский, немедленно введенный в покой тою же придверницей, Федосьей Цыплятевой.
— Храни тебя Господь, боярин, князь Андрей Михайлыч. Садиться прошу милости. Что поведаешь? Видно, великая спешка пришла, что в столь позднюю пору потревожил свою княжескую милость, сам заявился, никого не дослал! — указывая место князю, ласково спросила правительница, овладевая своею тревогой и невольным страхом.
— Спешно — не спешно, а потайность великая. Ты, лих, не пугайся, по женскому обычаю, княгинюшка. По-куль оно все еще так, брехня одна. Все же сказать надоть. Сама с ближними советниками со своими по-разберешь апосля! — оглядевшись, вкрадчиво, мягко произнес Шуйский.
— Вся на слуху, боярин! Что прилучилося?
— А вот попросту скажу, как оно и дело было. И пяти ден нет, как из опалы, из засылу вернулся я. Дня не завершилось, как я со всеми присягу принимал, креста целование совершил на верность малолетнему великому князю, царю и государю, и тебе, великой княгине. А уж люди блазнят, на измену подбивают, на худое дело зовут меня, князя Андрея Шуйского.
— Да что ты, князенька? Негоже. Стыда нет на людях. Да кто же? Поведай, коли за тем пришел.
— Кто?! Зовет-то малый никчемный: Бориско, Горбатый князек, роду Суздальских. Шалыган ведомый… Да на таковских, слышь, людей заметывает, что и сказать — жуть да оторопь берет!
— На кого? И невдомек мне, бабе глупой! Не обыкла я в делах ваших боярских. Уже не оставь ты меня, князь. Подмоги. Научи. Ближе всех почту тебя. Превыше всех станешь. Выручи, подсоби державу за Ванюшкой закрепить, князь-милостивец. Твоя сила и на Москве. Она же надо всем Новгородом. Уж повыручи!
И со смиренным видом Елена приподнялась и отвесила поклон князю Андрею.
Зорко поглядел на нее лукавый боярин. Потом еще раз огляделся, даже носом потянул воздух, словно в нем почуял что-то знакомое. Потом откашлялся слегка и снова заговорил в тон Елене, так же мягко и смиренно:
— Где же нам дела вершить… Прошли времена, миновали денечки красные. Покойный государь-царь всем крыла-то поотшиб. Да и поделом. Руси на пользу единого владыку ведать, единому хозяину под рукой лежать. Вот того дела ради и я к тебе со своей речью пришел. Вижу, верю: от сердца говоришь. Авось, хоша и небольшим, — а попомнишь слугу твоего верного, как царство за малолетним сыном да за собою добре закрепишь.
— Попомню, видит Бог, попомню! — как бы скрепляя именем Божиим осторожный торг, подтвердила Елена.
— Ну, слухай: от самого, от княж Юрия, от дяди государева… так Бориско баял, — позыв был ко мне.
— Ахти мнечушки?! Что ты? Да слыхано ль? Да еще авчерась…
— И я то же Бориске сказывал: не вчерась ли день мы крест целовали племяннику? Можно ль мне ныне за дядю стать?.. На это мне Горбатый: «Как сам знаешь! — молвил. — А, лих, у князя Юрия тебе бы за отца быть, коли поможешь ему. А при малогоднем царьке — евонные родичи тебя и со свету сживут, не то честей дождешься». Так, ехида, сказывал. Плюнул я и прогнал его!
— И добро сделал. Нешто я не знаю, что одной родней земли мне не склеить? А как мыслишь: направду от князя Юрия подсыл был? Али так, брехал Горбатый.
При этом простом, как казалось, и естественном вопросе Шуйский весь насторожился и на миг как бы задумался. Потом быстро, таинственным шепотом заговорил:
— Толковать-то можно ль без опаски? Уж я все. Уж куды ни шло… Уж пущай там после и голова долой.
— Говори… все говори! Безо всякой опаски!
— Уж как попу на духу… Как ты — люду всему и царству целому матерь родная. Слышь, не один Бориска. Еще мне подсыл был, уже явно от князь Юрья. Дьяк тута есть княжой, Тишков, сын Третьяк.
— Третьяк Тишков, баешь?
— Он, он самый. Лихой человечишка. И прихаживал он ко мне все с речами улестными: к князю Юрью бы на службу шел, на Дмитров бы с им сбирался. Покуль великий князь мал, — и сила-де мочь боярская старину поновить: старшого в роде на стол посадить. А зато и постановщикам всем, которые тому помочь явят, нехудо будет же. Многие старые вольготы князь Юрий своим пособникам и велькомочным людям подаст и новых добавит. А угодья, да земли, да поминки — то не в счет. Я сказываю Тишкову: «Вечор мы крест целовали, и с удельным твоим. А ноне на сговор на лихой идти? Гоже ли?» А Тишков на ответ: «Как князем крест целован? Нешто по своей воле? Все входы-выходы дворцовые стражей переняты были. Не присягни, так и жив не выйдешь. Такова присяга — не крепка слывет. И поп за такую невольну присягу разрешит. И Бог простит, коли не держать ее». Немало такого все прибирал улестник. Все к князю на совет звал.
— Ты же не пошел, вестимо? — опять с самым прямым взглядом, со спокойным выражением лица спросила, словно мимоходом, Елена.
Пытливым взором так и пронизал ее всю Шуйский.
«Дурой ли она прикинулась али взаправду еще не донесли ей покудова? Не ведает дела?»
Такая мысль мелькнула в мозгу у старого заговорщика.
Колебаться долго нельзя было. И он решил сыграть вовсю.
— Грешен, княгишошка-матушка! Не утерпел, пошел. Нынче же и был, словно недужного навестить собрался. В больных князь сказывается. Только бы к юному царю на поклон не пойти.
— Знаю. Сама догадалась. Что ж он тебе?..
— Да все то ж, что и послы его: к нему бы ехать. И все иное-прочее. Я и ему молвил: «Лепо ли?» А он уж на присягу на подневольную и наметывать не стал, одно говорит: «Брата Василия не стало, — и наш черед близко. Его извели. И нам за ним дорога обоим: мне да Юрию… Так неужто ждать смерти неминучей да шею под обух нести?» Я ему: «Что ты, княже? Нетто племянник государь на дядей на родных что помыслит?» А Юрий князь мне: «Не племянник, а те, кто и брата извел, и племянного изведет с маткой, со княгиней его. Сам потом на стол сядет… Землю поганым предаст».
— Кто же это да кто? — нетерпеливо спросила Елена, начиная ощущать безотчетное беспокойство. Хотя она и понимала, что Шуйский — враг ее и сына, что он лукавит, стращает ее… Но леденящий душу призрак «порчи» дворцовой слишком часто проходил здесь по всем переходам и покоям… Слишком много жертв унес он, чтобы не вздрогнуть даже при одном имени этого чудовища…
— Кто? Не чужой тебе человек… Кто и в других краях у людей ведуном слывет… На кого и в Литве поклеп был, словно он круля Лександра извел, сам короны домогаючись. Будто для того же он и Василия свет Ивановича испортил… боль огневую да гнилую навел… Уж не взыщи; на дядю на твоего, на Михаила Глинских, Юрий накидывал: он де сбирается…
— Врешь! Брехня то все! — не утерпев, крикнул старик Глинский, появляясь на пороге. — Брешет твой князь Юрий. И порчу сами на всех пущаете. Я докажу. Вы слыхали? — обращаясь к Захарьину, Шигоне и Овчине, тоже вошедшим в покой, сказал Глинский. — Злодейство они со своим князем Юрьем удумали против великого князя и государя. В тюрьму его… Зови, кто там есть, Овчина… Я скажу, куды вести крамольника…
И Шуйский, и Елена были поражены этим приказанием, нежданным появлением Глинского и бояр из соседней комнаты.
Но Шуйский скоро овладел собой.
Криво улыбаясь, он заговорил:
— То-то, как вошел я, словно мне в нос твоим тютюном знакомым так и ударило… Челом бью и тебе, князь, и вам, бояре первосоветники. Что ж, коли приказ ваш и воля княгини нашей, — берите меня, худого человечишку, князя Андрея, Шуйских роду, волостеля новгородского, ни за что ни про что в оковы, за колодки сажайте, киньте в мешок темничный… Всего я на веку видывал. А правое ли то дело, — Бог да совесть пускай вам скажут. А что я княгине толковал, вы же слышали.
— Слышали, слышали! — подтвердил Шигоня. — Что же, как прикажешь, матушка-княгиня? Пустить ли князя? Али, по слову князь Михаила, за заставы посадить, пока дело не прояснилось, пока за удельного Димитровского. и за самого Шуйского Андрея его пособники, нахлебники да доброхоты горой не встали?.. Гляди, в те поры — и не взять в руки никого. На Бога одна надежда будет.
Елена, нерешительно смотревшая то на бояр, то на Овчину, который у дверей ждал только приказа, медленно, как бы оправдываясь в чем-то, проговорила:
— Что уж, бояре… Где уж мне? Я и то — не москвичка. Нешто я знаю, как да что тут водится? Делайте, как надо лучше сыну бы моему, государю вашему поспокойнее было.
— А коли так, иди, Овчина! Зови сторожу! — подтвердил и Шигоня приказание Глинского.
Захарьин, опустя глаза, молчал.
Шуйский, услыша приказ Шигони, окинул взором молчащего Захарьина, поглядел на Глинского, на Шигоню и словно про себя пробормотал:
— Сам виною… Сам и казнись… И будь по-вашему, коли не бывать по-Божьему. Челом бью, великая княгиня, что ласкова была со мной, на правду показывала, обещала заступку сильную, говорил бы по душе, как мыслю.
— Я что же?! Я, как бояре, — не выдержав волнения, задетая укоризной князя, проговорила княгиня и, словно не желая дальше видеть, что тут произойдет, отдав всем поклон, вышла из покоя.
Прошло пять дней с этой ночи.
Сыск о «воровском изменном деле», затеянном князьями Шуйскими и Вельскими вместе еще со многими другими, рос и разрастался, как сказочное тысячерукое чудовище, захватывая в свои когти все больше и больше лиц. Конечно, привлекались те, кто когда-либо проявил себя недоброхотом Глинским, выскочке Шигоне и их приспешникам. Захарьин неизменно оставался в стороне, не мешая, но и не одобряя действий правительницы и двух своих сотоварищей.
Сначала захваты и аресты производились осторожно, оглядчиво. Хватали больше незначительных людей по оговорам наемных и добровольных доказчиков вроде Яганова, Яшки Мещерина и других.
Когда же выяснилось, что часть Шуйских, Вельских, Воронцовых, с самым крамольным Михаилом Семенычем во главе, Оболенские почти все и многие другие открыто стоят за малолетнего царя, надеясь если не захватить всю власть, то поделить ее с Еленой и тремя первосоветниками, тогда последние осмелели. Особенно придало им решимости вторичное торжественное обещание князя Андрея Старицкого в общую свару не мешаться и ни за кого не стоять.
Вот почему 11 декабря, вместе с главнейшими боярами, со всей ближней думой государевой сидит и князь Андрей в одной из более обширных палат нового кремлевского белокаменного дворца. Начатый при Иване III итальянскими мастерами, в 1499 году, он был достроен фрязином Алевизом Медиоланским (Миланским), только в 1508 году, уже при царе Василии [26].
Обделанная по наружным стенам на итальянский лад, «гранями», палата эта называлась Грановитою.
Расписанная, изукрашенная, очень высокая по тому времени, палата переполнена народом. В сенях и пристройках тоже с трудом можно пройти. Только тут не бояре, не дьяки, не обвиняемые с послухами видны, а стоят наготове рядами отряды ратных людей. Другие — сидят вокруг костров на внутренних небольших дворах кремлевских, держа наготове, в поводу, оседланных коней.
Сильные конные отряды гарцуют и по всем площадям кремлевским, хотя последние почти пусты, несмотря на праздничный воскресный день.
Ворота Кремля заперты не только для конных и проезжающих, как всегда, — даже пешеходов не пускают. На Ивановской площади, где обычно в праздник кипень кипит от людской толпы, пусто и тихо сейчас.
Кто зван на сегодня в Кремль, у кого повестки и пропуск, те, даже самые знатные, — не въезжают, как обычно, в первые ворота, а вынуждены выйти из саней, из каптанок и до самого дворца идти пешком, сквозь ряды ратной охраны, рассеянной внутри, новых крепких стен кремлевских.
Тихо, пусто внутри Кремля. Но вокруг, у ворот, у всех мостов, на всех откосах, по берегам оледенелой Москвы-реки и Неглинки, которые летом, сливаясь, как бы живым водяным кольцом огибают стены, — черно от народу.
Крыши ближайших посадских домов, колокольни церквей, близких к Кремлю, площадь у Фроловских (теперь Спасских) ворот с Лобным местом на ней — все это унизано людскими головами.
Проведала Москва, что затеяна новая измена боярская против государя московского. Опять мелкие уделы со своими князьями задумали тягаться с первопрестольным градом.
И нахлынула стотысячная толпа поближе к месту, где суд да ряда идет, где снова тяжба затеяна: кому на Руси первое место? Москве или иным городам: Новгороду, Пскову, Дмитрову и прочим?
Прорезывает морозный воздух ржание степных коней, которые целыми косяками приведены для продажи на рынок у Фроловских и Никольских ворот.
Но говор и гул толпы порою заглушает даже это протяжное звонкое ржание, как тонут в бурю, в лесу, тяжкие, гулкие удары топора по стволам, среди шелеста листьев, треска ветвей, в шуме и свисте ветра.
Гул и говор стоит также в Грановитой палате. Давно собрались там все, кто обязан был явиться на царский суд, на разбор мятежного дела.
И первосоветники тут, и митрополит, и архимандрит Крутицкого монастыря, первый по чину после Даниила на Москве.
Князь Андрей сидит вместе с думными боярами. Тут же, поодаль, угрюмый, совсем пожелтелый лицом от досады и обиды, занял место Юрий Димитровский. Шуйские, Андрей и Иван, хотя и под стражу были взяты, здесь, на виду, свободно сидят, в стороне лишь от других бояр.
Ближайшие из свиты обоих удельных князей толпятся у входа в палату, стоя, жмутся к стенам.
Вдоль стен палаты, как изваяния, расставлены пищальники, телохранители государевы. От входных дверей, почти до середины палаты, двойной стеной тоже выстроились ряды алебардщиков. У другой, почти незаметной дверки, откуда приходит в палату государь, — снова стража.
Наконец, раскрылась эта дверца, за которой, как узкое жерло, чернеет внутренность перехода крытого, ведущего из дворцовых покоев в Грановитую палату.
Пара за парой показались и прошли к царскому месту рынды молодые с топориками на плече. Полукругом встали они за царским местом, еще больше отделив его от остальной части покоя.
Показался оружейник царский, молодой Мстиславский.
Потом — Иван Овчина и наконец Елена с юным государем.
Отвечая поклоном на общий гул приветствий, заняли они два кресла, приготовленные для матери и сына на царском месте. Ближние боярыни Елены Анастасия Мстиславская, Аграфена Челяднина и золовка ее Елена, Феодосья Шигонина, Аграфена Шуйская, жена князя Василия, и многие другие, проводив правительницу до дверей, сами по небольшой лесенке поднялись в покой, пристроенный сбоку Грановитой палаты. Там уже сидела бабка Ивана, княгиня Анна. Довольно большое потаенное оконце, замаскированное из палаты витой решеткой, завешенное изнутри, позволяло видеть, что творится в палате. И два десятка глаз прильнуло к разным просветам в оконце, желая поглядеть, как идет суд.
Поднялся Шигоня, отдал поклон и спросил:
— Изволит ли царь-государь милостивый, Иван Васильевич, великий князь, и ты, матушка-государыня, великая княгиня Елена Юрьевна, повелите ли судному делу быти?
Елена медленно склонила голову в знак согласия.
Малютка Иван, все поглядывавший на мать, срывающимся своим детским голоском звонко и отчетливо подтвердил:
— Вчинай суд!
— Читай, Михайло! — обратился Поджогин к своему младшему брату, которому поручил в этом важном судбище видную роль дьяка-докладчика.
Голосом, сходным с голосом печатника, певучим, бархатистым, внушительным, стал читать Михаила Поджогин все, что выплыло по делу в речах и доносах князька Горбатого-Суздальского, в навете Андрея Шуйского. Огласил показания Яшки Мещерина, Тишки Третьяка, который, выгораживая господина, ото всего отрекся, даже на пытке выдержав и плети и дыбу.
«А что до оговору мастера-немчина Ягана, — то все речи его на боярских детей Димитровских — поклепом вышли и с его никем не сняты (не подтверждены). Поелику той Яган батожьем бит, виру донесть за бесчестие да за охулку, шестьнадесять рублев, повинен и ввержен за приставы, пока те рубли не взыщутся».
Так, между прочим, читал дьяк-докладчик. И этой чертой кажущегося беспристрастия как бы хотели придать в глазах людей большую силу и право суровому приговору над лицами, более видными, замешанными в деле, участь которых, конечно, была решена задолго до суда.
Едва закончилось чтение, как князь Юрий удельный поднялся с места, сильно взволнованный, теперь уже не желтый, а зеленовато-бледный от сдержанной бессильной ярости.
— Слово подозвольте молвить, племянник, великий князь, и великая княгиня-сестрица, и вся дума государева! — сдавленным шипящим звуком едва вырвалось у князя.
— Говори, князь-господарь, Юрья Васильич! — поспешно отозвался Глинский, которому негромко что-то сказала раньше Елена. — Великий князь, царь Иван Васильевич, господарыня княгиня великая и вся дума господарская слушают тебя…
— Короток будет мой сказ. Не подьячий я, не Шуйский — оборотень да пролазень. Мономахович, Рюрикович кровный. Малогоднему государю — дядя родной. И уж давече более трех разов пытался я княгиню видеть или кого из первосоветников: им бы сказать, что к делу надлежит. Да, слышь, все не поспевал. Ноне, почитай, силком объезд ко мне на двор вломился великий… Сюда, лих, что не волоком волокли за крепкою за сторожею. Ровно кабальный закуп, позван я на суд царский, приводом приведен, аки тать или колодник беглый. Пущай… И на то, видать, воля Божия да царская. Про навет слово скажу, ответ держать стану. Были подсылы ко мне. И не один, а многие. От кого, какие — не скажу. Не доводчик я. И боярски сынки, и бояре значные… Тем людям, добрым советникам, я ответ давал: «Приехал я по зову к государю, великому князю Василию. А государь болен прилучился, а там — и помер в одночасье. Я ему да сыну его, великому же князю Ивану, крест целовал. Как же мне то крестное целование рушить?» И ни единого не звал на свой удел, никого не улещивал, не сманивал… А многие мне на ответ: «Эй, беги! Пока ты на воле — бояре да сродники княгини, литовцы, смирные будут… А посадят тебя — и житья на Москве никому не станет. Хуже прежнего правителя бояре да воеводы руки порасправят…» Я и на то не внял. «Земля Божья, — толкую, — да государева. И воля в земле творится Божья да государская». Вот и вся крамола, все оговоры, вся измена моя. А по той моей правде я и смерть принять готов. Вот на ней и крест святой целую!
Достав из-за рубахи золотой нательный крест, осыпанный каменьями, Юрий перекрестился и набожно приложился к распятию.
Эта речь и жест, которым заключил ее злобный, раздражительный, но сметливый князь Юрий, видимо, повлияли на всех, кто был в палате. Глинский, в свою очередь задетый намеками Юрия на «литовскую родню» Елены, уже стремился встать и возразить что-то. Но его предупредил Шигоня:
— Чего бы лучше, коли так оно, княже. Честь тебе и спасибо великое от нас за князя великого, государя Ивана Васильича, за матерь его владычную. А слышал, что чли нам тута? Черным на бело писано есть. Да и сами послухи не отрекутся. Хоша ты — князь, высокой крови державной, цесарской, а придется тебе на очи послухов ставить.
— Что?! Мне?! Со смердами, с закупами моими и чужими становиться на очи! Мне? — вырвалось с неудержимым негодованием у Юрия. И бледное раньше лицо побагровело.
— Вот, бояре, до чего мы дожили! — неожиданно поднял голос Андрей Шуйский среди тяжелой воцарившейся в палате тишины. — Только землей покрыли господина, волостеля старого! Вижу, спета моя песенка. Чую, как суд правый рассудит… Так хоть правду реку напоследок. Нетто гоже первых князей да бояр — на очи со смердами ставить? Убейте нас, затопчите нас… пытайте… Да чести порухи не делайте! Над честью, над родом да именем, что веками строились, от прадеда к правнуку идут, — и Бог не волен, не то что великий князь. А как я правду сказал, — послухи мне наши, единые, несменные: София Святая да государь великий Новгород, что много раней Москвы на всей Руси ведом был!..
И, словно помолодевший, со сверкающим взором, с разлетевшейся от сильных движений окладистой бородой, князь челом ударил всей думе и, не опускаясь на место, вызывающе стал оглядывать всех, ожидая, что будет после его слов.
Искрой пробежали слова князя по всем сердцам.
Прямые сторонники удельного и Шуйских заволновались, так и забегали глазами, ища какого-нибудь оружия. Скрытые единомышленники, среди думцев и тех, кто был допущен в палату послушать суд, — эти все сразу заговорили:
— Правду молвит князь… Негоже… Что за новина нескладная да негожая? Слово княжое — ста холопей дороже, десятка бояр стоит. Не бывать тому, что и не слыхано досель!..
Прямые сторонники Елены, Ивана и Глинских, которых было раз в десять больше, чем первых, сначала молчали. Их ошеломила речь и вдохновенный вид Андрея Шуйского. Правда, храбрый он был воевода. Но на Москве, в палатах дворцовых всегда сдержанный, хотя на вид и суровый немного. И вдруг, на глазах, — переродился князь. Всем по душе ударили эти слова, этот голос.
Но расчетливые, уравновешенные московские царедворцы, княжие приспешники скоро овладели приливом добрых чувств, некстати нахлынувших на них, и громче кого-либо иного нагло заголосили:
— Молчать, крамольники! Али не дума здесь! Не суд государев?! Предатели, залетни! На словах — чисты, а на деле — Русь губите, крошите, врагам предаете сварой межусобной, непокорством государям своим!.. Нишкните, окаянные!
От окриков к взаимной перебранке перешли и те и другие. Вдруг, неизвестно откуда добытые, засверкали ножи поясные, кинжалы, а у воевод — и мечи зазвенели, выскакивая из коротких ножен… Вскочили с места, сгрудились среди палаты, смешались все.
Быстро поднялся тогда и митрополит, который до сих пор сидел бледный, нерешительный, с печальным лицом. Его обычно скользящий, уклончивый взор тоже загорелся внутренним огнем. Не мог вынести святитель московский, чтобы в самой думе государевой до свалки, до кровопролития между боярами дело дошло.
Забыв обычную осторожность, владыко очутился среди самой гущи, в толпе, громко восклицая:
— Христос среди вас, дети мои?! Почто распять хотите Его сызнова? Почто родную кровь христианскую пролить тщитеся!.. Стойте, чада! Христос с вами и среди вас!
И золотое нагрудное свое распятие, которое держал в протянутой руке, стал прямо подносить к губам тех, кто стоял, как враг, один против другого, только-только готовясь нанести удар.
— Ахти мне!.. Бунт… Кровопролитие! — закрыв лицо руками, вскрикнула Елена и хотела кинуться прочь [27].
Ребенок-царь при словах Шуйского уже начал сильно волноваться. Не столько смысл их, сколько звук самого голоса и вид боярина повлияли на чуткую душу младенца. Правда и скорбь глядели из глаз, звенели в этом голосе.
Когда же началась ругань и сверкнула сталь, Иван дико вскрикнул, кинулся на грудь Овчине-Телепню и забился в судорожном плаче.
Так и унес его быстро из палаты Овчина.
Елену переняли и остановили Глинский и Шигоня.
— Успокойся, государыня-матушка. Гляди, что буде. Все надумано! — внушительно, хотя и негромко заверил ее печатник.
Она оглянулась.
Бояре, готовые раньше кинуться друг на друга с ножами, безотчетно, по привычке целовали крест митрополичий, и прикосновение холодного металла к разгоряченным лицам словно отрезвляло их. Руки невольно опускались, пальцы разжимались, ножи укрывались в ножнах под полами кафтанов и шуб, откуда были добыты.
Но в то же время стража, руководимая Михайлой Шигоней, князьями Димитрием Вельским да Никитой Оболенским-хромым, втесалась в кучки противников, не успевших занять еще свои места. Ратники, сторожившие вход, тесным кольцом оцепили всю дворню, всех, кто пришел за удельными князьями и за Шуйскими и проник в палату.
По указанию москвичей были отделены и выхвачены, оттиснуты к выходу, в общую кучу и те из думцев, кто себя сейчас так неосторожно выказал сторонником князя Юрия и Шуйских.
Как затравленные волки, с понурыми головами, растрепанные, бледные стояли они, нежданно-негаданно из судей попав в подсудимые.
А «москвичи» снова заняли места на скамьях, где стало гораздо свободнее теперь.
И с нескрываемым злорадством глядели победители на побежденных, забывая, что завтра может прийти и их черед в той великой игре, которую давно задумали и повели против всей земли «собиратели земли», князья и государи московские.
При виде такой картины Елена совершенно успокоилась. Даже, против воли, глумливая, злорадная улыбка промелькнула у нее на губах. Она снова заняла свое место.
А Шигоня уже как ни в чем не бывало дальше «суд» повел.
— Вот, князья и бояре, дума ближняя государева! Сами видели: без огня пожар занимается, без ветру Русь шатается. А все — князь-болярин Шуйский со присными да князь Юрий удельный ни при чем. Ваша бы кровь пролилась, им на утеху, государям великим нашим, всей земле на скорбь да убыль. Того ли волим? Пока не взяты за поруки за крепкие, за приставы Шуйские со друзьями со своими и сам князь Юрий, то и тиху не быть по царству. Как же постановите, князья-боярове честные? Быть али не быть по сему?
— Быть! Быть! — зашумели, сливая голоса, все «москвичи», вскакивая даже с мест и махая руками.
— Так вот, господарыня великая княгиня, сама слышать думское порешение изволишь. Как твоя воля на то? — обратился по чину печатник и к великой княгине, в отсутствие Ивана получившей решающий голос.
Елена поднялась, отвесила поясной поклон советникам и громко, уверенно, хотя и в смиренном тоне, заговорила:
— Бояре, князья и вся дума ближняя государева. Не вчера ли вы крест целовали — сыну моему на том, что станете служить ему и во всем добра хотеть! Так вы по тому, как присягали, и делайте. Ежели зло какое является, в силу ему войти не давайте. Как вы постановили, так и мы волим: сын мой, великий князь московский да и прочих, царь всея Руси, и я, матерь его родная, на правление государское от покойного государя вашего ставленная…
Снова отдала поклон и медленно удалилась через те же небольшие двери, из которых пришла, окруженная рындами и ближними боярами.
А стража густыми рядами, как железной стеной, обошла теперь и князя Юрия, и Шуйских, и всех, кто из ближних к ним еще не схвачены были.
— Прости, брат! — смущенно отвесил поклон Юрию князь Андрей, не ушедший за Еленой, и тоже двинулся прочь.
— Прощевай, брате. Спаси тя Бог за заступку да за выручку, какую ноне брату родному явил. Так и тебя Господь не оставит! — вызывающе, глумливой насмешкой кинул вслед уходящему Юрий. — До свиданья… Гляди, скоро свидимся!
И пророчески прозвучали эти слова под сводами палаты, где жаркий воздух после борьбы был наполнен запахом тления и злобы…
Глава III СТАРОЕ И НОВОЕ
Месяцев пять прошло со времени ареста Шуйских и князя Димитровского, Юрия.
Стоит середина апреля 1534 года. Да такая веселая, дружная весна наступила после тяжелой, долгой зимы. Дни ясные, теплые, солнечные. На глазах трава из земли пробирается, зеленеет-кудрявится. Почки везде на деревьях еще к Страстной налились. А на Пасху — только-только не лопаются, последними усилиями сдерживая в своих коричневатых блестящих скорлупках бледно-зеленые клейкие первые листочки. Земля отдыхает после зимней стужи и нежится в лучах, в тепле солнечном, которое и отдает по зорям обратно воздуху.
Отстояла вечерню в своей дворцовой церковке княгиня Елена и засветло еще с великим князем, с ближними боярынями и прислужницами вышла в сад, разбитый затейливо при женских кремлевских теремах. Сквозь сеть безлистых еще ветвей темнеют и проглядывают высокие, толстые стены, немногим только уступающие наружным кремлевским стенам и охраняющие этот уголок царского нового дворца.
Прямо в любимую хмелевую беседку прошла правительница и государь-ребенок с нею. Боярыня и девушки сенные разбрелись кто куда по саду.
После затхлого воздуха душных темных покоев, где натоплено жарко, где пахнет травами да куреньем, приятно теремным затворницам погулять на просторе, подышать вешним прохладным и нежащим, истому наводящим воздухом.
Беседка стояла на искусственном холме. Сидя в ней, можно было видеть и Неглинку-реку, и верхи кремлевских соборов и дворцов. А Троицкое подворье, расположенное рядом, совсем хорошо было видно из беседки.
Только уселась Елена, окинула взглядом знакомую, любимую картину, как от сеней теремных показалась мужская стройная фигура, направляясь прямо к беседке.
— Матушка, дядя Ваня идет! — радостно объявил царь-ребенок и побежал навстречу своему пестуну, любимому боярину Овчине-Телепню, четко отбивая подковками по хрустящему крупному песку, которым заботливо усыпаны все дорожки.
Через две-три минуты Овчина появился на пороге беседки, держа на одном плече ребенка, который подпрыгивал и гарцевал, словно бы сидел на добром коньке-иноходце.
Осторожно придерживая царственную ношу, Овчина отдал низкий поклон княгине:
— Буди здрава на многая лета, государыня княгинюшка ласковая.
— Храни тя Христос! С тобою мир да лад навеки. Не взыщи, что в покоях твоего приходу на доклады не дождалася. С чем пришел? А ты, сынок, побегай, коли охота.
— Не, мамушка, Ваня про царские дела сдоложит. Кой же тут мне бег, коли слушать надо? Про царство я все ведать желаю. Сама ты сказывала: навыкать мне надоть, — с самым серьезным видом заявил ребенок и чинно уселся рядком с матерью; Овчина — против них.
— Ведаю я, — с обычной своей ласковой, чарующей улыбкой произнесла Елена, — многие косо глядят, как это я почитай с глазу на глаз с бояриным с молодым речи веду, да о делах о земских, не в палате особливой, а вот хоша бы тут беседую. И пускай. Дума моя — так довести, чтобы женки московские, не похуже чем в иных землях хороших, на полной воле своей жили, как и вы, мужики тутошние. Простой люд умен у вас, баб взаперти не томит, а бояре — те по-бусурмански жен кроют да томят в неволе. Ну, да те дела не в первый кон. Поважнее, чай, есть. Говори, что?
— Всякого жита по лопате наберется. Дурно и хорошо припас. С чего починать волишь, государыня?
— Да сыпь вперемежку. Одно одним и покроется, княже.
— И то. Так, в перву стать… хоша бы про новые кремли, про детинцы да стены крепостные поведаю. Слышь, немало их позарубано да позакладано из камня. Ино, слышь, и государю покойному не уступим. В Перьми-городке кремль муровать-кончать стали. В Устюге деревянна крепость срубана. Крепкий городок, Мурунзой звать, на Москве-реке нагородили. На Балахне — земляные стены повывели, поселье обнадежили. А там, сама видела, и в Москве-матушке каменные стены вкруг Китай-города повел-начал наш фрязин дошлый Петра Малый… Чуть из земли повыйдет — и молебны будем петь да рублевики с червонцами в первый угол закладывать, крепче бы дело было.
— Положим, положим, Иван Федорович. Не жаль. В старые годы, слышь, под городские углы и людей живых закладали. В народе слыло: так крепче стены стоят…
— Всего бывало, государыня… Далее слушай. К деньгам слово подошло. По воле усопшего государя да по твоему приказу [28], почитай по всей, земле, по всем местам-городам торговым старые, порченые, воровские рублевики, полтины с гривнами все отобраны. Перелито серебро. Новые, полновесные рубли да деньги чеканены. Году не минет — нигде, глядишь, дурного алтына не сыщется. Торговый люд тебе челом ударит, молить станет Бога за твое здравие. А то срам и молвить: пол на пол от порченой деньги люди убытку несли. Нечто можно? Москва торгом сильна да богата. Теперь и сладится все.
— Дай Господи, княже! И спаси тя Христос за подмогу. Благодарствуй, боярин.
— Не на чем, княгиня милостивая. Далей чего скажу, выслушай. Новые города, чу, зачинаются. На Проне-реке — Пронской, Буй-городок — в Костромском повете. В Нове-городе в Великом — нацелено кременец-детинец поновить. Притихли новоградчане. А для их шатости и стены досель там не поровнены. Случаем мятеж взметется, не было бы им за чем хорониться. А от Литвы, слышь, да от люторов вести больно худые идут. Вот и надо для опаски Нов-городок покрепить малость! И Вологодский городок тут же. Глядишь, с того краю, с северского, ни подступить к нам, ни подъехать, как известно бывало. А как еще Господь допоможет литовскую грань в повете по Себежу городками крепкими обставить, от других ворогов исконных, от ляхов да…
Но Овчина недоговорил, вспомнив, что сама Елена, дочь того «враждебного» народа, имя которого было у него на языке. И густой краской покрылось белое и румяное обычно лицо красивого боярина.
Но за него договорила Елена:
— От лях да от Литвы?! Твое слово правое. Толкуй начисто, боярин. Пусть я родом и литвинка, да веру приняла вашу же, русскую, православную. Дите мое — московский великий князь, царь всея Руси. Какая ж я теперь литвинка стала? Зла не могу своим желать. Да и от них зла для Руси, для наследья сына моего, не пожелаю… Говори, княже… не оговаривай себя, без оглядки безо всякой. За то и люб ты мне, что прямая, смелая душа твоя.
— Уж не повзыщи, государыня княгинюшка. Привычны мы так на Москве… Ляхи да Литва, хошь по крови и родня с Москвой, да горше чужих с нею сварятся, всякие нам зацепки чинили. А може, Бог подаст, не всегда оно так останется… И мир крепкий станет промеж всею Русью, и нашей, и тамошней, и Малая, и Белая, и Великая Русь воедино оберутся…
— Вот-вот… И покойный князь Василий о том же порою мне сказывал. Какие еще вести по царству?
— Да вот из той же из Литвы. По приказу по твоему писано стрыю твоему вельможному. И отписка от него пришла. Сговорил он, гляди, сто три добрых мастеров. Ладят они переехать на Москву надолго, со своим со всем гнездом: с чадью и домочадцами. Всею семьей… Едино теперь, насчет кормов да вольгот толки идут… да какое положить им жалованьишко.
— Торгуетесь? — с невольной улыбкой не удержалась от легкой иронии Елена. — Вестимо дело, Москва любит взять подороже, дать подешевле… Тем и стоит. Ну, торгуйтесь, лих, не тяни долго. Много тут надо чего поновить у нас и по домашнему, во дворцах, и по царству.
— Ладно уж. Не прижмем! А и кусков лишних кидать не след чужим людям. За гранью, слышь, так слывет: «На Москву ехать — золото лопатой грести». Так нешто оно можно? Людей нам надо навыкших, знающих. Да, слышь, и золото же у нас не куры клюют. На что надо, и не вечно есть. Первое дело. Второе: кому бережется все? Твоему же сыну, великому князю наследье. Сама ведаешь.
— Ведаю уж, ведаю… не ворчи. Далее. Пугал ты, что у тебя всяких вестей припасено. А пока одни добрые. Все, как быть, и ладно у нас?
— Ладно, да не больно. Акромя доброго и злое есть… Слышь, пожарами лютыми города попалило. Да города все значные: Ярославль, слышь, да Владимир Клязьменский, да Тверь ближнюю. Та, слышь, недавно и погорела совсем. А в иных городах по осени великие пожары были. Так вот города и сносит. А про деревнюшки и слов нет. Ровно языком слизнет, как найдет Божье попущение… И что поделать, не придумаешь. Людям — разорение. Казне — убытки великие. Вот оно, дело-то каково.
— Что же, пожоги? Али от себя? Как люди бают? Овчина в нерешительности развел руками.
— Разно, слышь, толкуют. Вот поместные дворяне, боярские сынки, коих в думу в государеву призвано для вестей всяких для совету [29], — те одно ладят: строено в ихних городах по-старому, тесно, опасно. Срубы деревянные. Стоят долго. По летам, по жарким, высыхают, словно трут. Где загорится, в людской ли избе, на сеновале ли… да ветер… вот и пойдет косить. С усадьбы на усадьбу, ровно кот прыгает, огонь перекидывает… Так селить бы всех, приказ дать, подале двор от двора. Да садами перемежать… вот…
— Конечно, так бы ладно. Да не везде можно. А не думские люди что? Как местные? Земские что толкуют?
— Те иное сказывают. Вражда да свара промеж бояр да земских людей. Иные за старый строй, иные за наше, за новое стоят. И палят друг дружку со злости. А потом от одного двора целые посады погорают.
— Гляди, что ихняя правда тоже: и так бывает! — в тяжелом раздумье отозвалась княгиня. — Что же? Как же быть? Гляди, за той пожогой бездомных да голодных сколько! Помочь им надо дать.
— Даем, княгиня милостивая. Поманеньку давать приказано. Из запасов, из казны. Зерна да мучицы. И леску на домишки из лесу из государского. Черным людям, пахотным да промышленным, грамоты уставны поновляются, вольготы новые даются, стародавние дачи подтверждаются. А и торговому люду, и местным служилым людям тоже поблажки чиним. Без того нельзя. Тем и земля стоит. Земле хорошо — ив казне гуще. Отколь же набрать казну, как не из кошеля из земского? Не можно тому кошелю пустовать давать.
— Так, так… Слушай, Ванечка! Запомни, что князь говорит. Охо-хо!.. А все, как ни кинь, плохо это, боярин.
— Ну, плохо, да не больно! — сразу повышая тон, словно желая отвлечь Елену от грустных мыслей, подхватил Овчина. — От Заболоцкого, слышь, от Тимошки добрые вести пришли.
— От посла от нашего? Из Литвы? Что там, сказывай, сказывай, боярин!
— Да, видно, Жигимонт взаправду мира ищет. Шлет опасну грамоту на наших послов, к себе их подзывает до Вильны… Напугали старого круля наши полки, которые на литовские грани посланы… Пригонил, слышь, гонцов при той же посольской грамоте, челядинец один, Андрюшка Горбач. У брата он, у Федора, давний слуга.
— Который в плену на Литве?
— У него у самого… И пишет мне Федор: «Сам-де князь Радзивилл, гетман крулевский, ему сказывал: круль престарелый от миру не прочь. И паны многие радные. А по той причине, что им думалось: не хватит у Москвы рати и на Литву наступать, и от крымцев боронитися. А как видят паны радные, что полки московские посланы и на Себеж супротив их, и на Коломну боронить берегов царства от татарской орды, — тут иначе зашумели. На мир клонятся». Так брат пишет.
— Ну, значит, можно и веру дать. Дай, Господи, миру! Земля поотдышится. Все тебе челом бить надо, боярин. Твои советы. И откуда столько ратных людей у нас приспело?
— Набрали, государыня княгиня. Немало и те полки пригодились, что Старицкий удельный по твоему слову на Коломну выслал.
— Значит, все ладно!
— Ну, ладно, да не очень…
Иван, несмотря на дремоту, которая одолевала его, внимательно слушал всю беседу. Тут вдруг он весело рассмеялся, и даже дрема слетела с блестящих темных глаз ребенка.
— Ванечка, ты что? — обратилась к нему Елена.
— Да, слышь, мамушка, у вас, словно в побасенке. Ты ему: «Ладно», — а он на ответ: «Ладно, да не очень!» Ты ему: «Худо»! А он свое ладит: «Худо, да не больно».
И ребенок, совсем было прикорнувший под локтем у матери, завернувшись в край ее телогреи, с улыбкой потянулся к Ивану Овчине.
— Верши, боярин, что почал. О чем дале речь будет?
— Да, слышь, о князе об удельном, об Андрее Старицком. От имени его тот же челядинец Горбач сказывал — князьки Ивашка Ляцкой Кошкиных да Сенька Вельской с литовским крулем переговоры ведут. Сами сбежать на Литву сбираются, там помочь собирать для Андрея супротив тебя и государя нашего.
— Да слыхать и я слыхивала. Князь Михайло день и ночь твердит: перехватать всех надо. Только, слышь, не верится. Андрей-то Иваныч неужто супротив родного племянника пойдет? Сколько раз уж он присягу давал?! Как же нам не верить ему да хватать людей?
— Вестимо, хватать зря не след. Только лишних недругов разводить по царству. Да поглядим. Мы тоже настороже. То я и сбирался сказать тебе, государыня княгинюшка. Дружок есть у нас при дворе княж-Андреевом. Звать его Петька, прозвищем Голубой, князек Ростовских роду. И прибежал он на рассвете нынче ко мне. Клянется-божится: удумал-де удельный князь во скорях на Литву бежать.
— Вот беда-то… Сызнова бои да свары пойдут. И спокою нам не знать с сыном моим с малым.
— Да не кручинься, государыня. Выслушай. На Литву не пустим удельного. На Волок на Ламский уж брата Никиту-хромого с полками я снарядил. Ворон не пролетит за литовский за рубеж, серый волк не проскочит! Не то что Старицкий князь с цельной дружиной протянет куды. А надо будет, — и сам выйду в поле. Знаешь: татар бивали, Литву громили. Князька захудалого удельного с его ратью малой — и голыми руками возьмем!
Смело звучит речь князя. Горят глаза. Удальски потряхивает он золотистыми кудрями.
У входа в беседку послышались шаги, голоса. Возник какой-то переполох.
— Что там? — поднимаясь, спросила Елена.
Ваня, совсем уж было задремавший, проснулся и, протирая глазки, тоже насторожился.
— Государыня княгиня! — с поклоном доложила, появляясь в дверях беседки, Феодосья Шуйская, — дяденька твой, князь Михайло, в горницах дожидает. Видеть очи твои волит, челом бьет. Спешка, бает, больно велика.
— Идем, идем! — двинувшись к выходу, отвечала княгиня. — Бери Ванюшку. Спать, чай, пора.
— Не, не хочу, — отмахиваясь от боярыни, заявил решительно Ваня. — Я с вами, к дедусе к Михайлушке. Что-то он принес мне? Он всегда носит. А еще и ты, Ваня, байку не сказал. Обещал ведь. Бери, неси меня. Там и скажешь.
— Изволь, изволь, князенька! — с глубокой лаской отозвался Овчина, взял ребенка и понес за княгиней.
— Федосьюшка! — на ходу приказала Елена. — Скажи вечерние столы крыть. Пора, чай, и за трапезу.
— Сказано, государыня. Все наготове! Провожатые Елены раньше, чтобы не мешать докладу боярина, держались поодаль от беседки. Старушки сидели, калякали. Молодые гуляли по саду или бегали по дальним аллейкам.
Теперь же все они чинно стали по парам, пропустив вперед княгиню с Овчиной, молча пошли следом, укутав фатами свои раскрасневшиеся, пылающие от жары и от движения лица.
В покое, где Глинский ожидал племянницу, вошли только Елена с Овчиной, который нес Ивана на руках.
После обмена первых приветствий княгиня спросила:
— Чем потчевать прикажешь, дядя?
— Э, не до того, княгинюшка племянная. Вот, послушай, чем нас потчуют из Старицы. Гляди, не поморщиться бы.
И из широкого своего кафтана, шитого на литовский лад, он стал доставать из кармана свернутый кусок пергамента за восковой печатью.
— От Старицкого? Писуля? Что пишет князь Андрей? Приедет ли, как мы писали ему? Надо бы совет держать с ним о походе о великом, как на. Казань идти. Будет ли?
— А вот послухай. С Пронским с Федькой ответ нам дан. На мое имя писано. Вот слушай.
Вполголоса пробежав вступительные фразы, князь Глинский стал громко читать:
— «А и кнезю великому московскому, государю, передать сам изволишь: бьет-де челом ему, государю, холоп и сродник его князь Андрей на Старице, его ж дядя родной».
— Ишь, как прихиляется. Холопом уж себя величает государю, сыну нашему. А сам ничего по государскому делу и не творит! — не вытерпев, сразу перебила княгиня. — Трижды ему знать дано. Трое послов за ним послано. От самого от владыки Даниила грамоты да увещанья были. Дана ему наша грамота опасная, — и все зря. Не едет на Москву. Глядь, и впрямь зло удумал. Сказывает: болен. А наши люди из Старицы весть дают: пустое все… Вон сам лекарь Феофилка ездил, глядел. Бает: болезнь не тяжкая. А он все не едет… Почему?!
— А вот послушай. «Да еще передай ему же от меня такое: „Вот ты, государь, приказывал нам с великим запрещением: быть бы нам непременно к тебе на Москву как ни на есть. Нам, государь, скорбь да кручина великая, что не веришь нашей болести, лекарей своих шлешь да за нами присылаешь неотложно, ровно бы за наемным слугою. А и прежние годы, по старине, николи, государь, того не бывало и не слыхано, чтобы нас, князей, к вам, государям, на носилках волочили. И я от болезни да от беды, от кручины, с немилости твоей — отбыл ума и мысли. Так ты бы, государь, на то взглянулся, пожаловал, показал милости наместо гнева. Согрел бы сердце и живот холопу своему, дяде родному, своим государским жалованьем, чтобы холопу твоему и впредь можно было и надежно жить твоим жалованьем бесскорбно, и быть без кручины, как тебе Бог положит на сердце, ворогов моих, советчиков твоих плохих государских не слухая…“» Чуете али нет, каково запел удельный?! Больно жалостливо. Только — брехня то все! — отбрасывая сверток на стол, решительно заявил Глинский, кончив чтение.
— Обман, мыслишь, все, дядя? — в раздумье спросила Елена, которую, как женщину, подкупил приниженный, жалобливый тон послания князя Старицкого.
— А как же инако? Сам же бежать до Жигимонта замыслил неотложно.
— Слыхала, дядя. Князь Иван Федорович в сей час тоже баял.
Узнав, что его весть уже не является неожиданной, что его предупредил молокосос князек, любимец правительницы и малолетнего государя, Глинский едва сдержался, чтобы не произнести какого-нибудь грубого словца или проклятия, какими в изобилии уснащалась речь и простых, и первых людей того времени. По усатому с бритым двойным подбородком лицу старика словно тень пробежала. Передохнув глубоко, он, ровно и не слышал замечания Елены, продолжал:
— Вот и треба помешать тому изменнику то робить, что он замыслил.
Овчина незаметно, но пристально наблюдавший за стариком, самым опасным соперником юного честолюбца при московском дворе, — видел, что делается с Глинским.
Вся сила была на стороне того, кто умел лучше наладить систему сыска, шпионства, предупреждая заговоры, открывая ходы всех людей, опасных для государя. Таким образом и внушалось повелителю доверие к тому, кто умел охранить особу и власть государя от малейшего покушения, и сама власть понемногу переходила обычным путем в руки охранителя, доставляя последнему и почет, и силу, и богатство.
Если б Овчина только пользовался симпатией князя и его матери, Глинский ничего не имел бы против этого. Но старый хитрец чуял, что юный, простоватый на вид Овчина, весельчак и балагур, понемногу сбивает с позиции его самого, испытанного дипломата, искусившегося при западных дворах.
И глухая, скрытая пока борьба, затаенная ненависть возникла между этими двумя князьями.
Находя, должно быть, что еще не время выступать на открытую борьбу, Овчина подхватил последнюю мысль Глинского и опередил Елену, опасаясь, что правительница снова скажет что-нибудь некстати.
— А как же вельможный князь мыслит? Что бы начать тут следовало? Прости, Бога для, что в дело государево путаюсь. Да чту тебя, аки отца родного. Вот и взял смелость спросить тебя.
— Гм… — покручивая ус, проговорил старик, с ясным недоверием поглядывая на князя. — Чтишь? То — добре. А что робить с тем князем? Переимать его. Послать ратных людей на Волок, да и…
Елена уже готовилась снова похвалить предусмотрительность Овчины, объявив, что войско послано, но князь успел предупредить ее быстрым вопросом:
— Войска? На Волок? Благой совет… Просто золотые слова! А кого же бы послать?.. Уж докончи мудрую речь… Укажи: кому бегуна ловить?..
Елена в недоумении сперва поглядела на Овчину, но, должно быть, сама сообразила, чем руководится Иван Федорович в своих вопросах, и поддержала любимца:
— Да уж, дядя… Дал добрый совет — укажи и на воеводу. Который раз ты выручаешь и меня, и землю. Чтобы мы без тебя, родимый, и делали, — сгадать боюся…
Старый хитрец был обманут такой прямой, грубой лестью. Самодовольно хмурясь, он небрежно проговорил:
— Ну, посылайте, кого хотите. Ратны люди — то ж до тебя, княже, надлежит. Вот хоть брата своего посылай! — очевидно, желая заплатить любезностью за любезность, сказал Глинский.
— Брата? Что ж, коли княгиня-государыня поволит да государь великий князь приказывает… Пошлю братана… — А, лих, и то, поизволь, выслушай, что на ум пришло мне, государыня княгиня, и ты, вельможный княже.
— Сказывай, Иван Федорыч! — разрешила Елена.
— Что, коли бы нынче ж на Старицу до князя Андрея дослать трех святителей, молитвенников иноков: Крутицкого владыку, отца протопопа Спасского погоста да архимандрита от Симоновой обители честной. Пускай-де князя поостановят… Пускай-де скажут ему: «Слух де прошел на Москве, собрался ты, княже, оставить землю свою исконную, покинуть благословение отца своего, гробы честные родительские, святое отечество кидаешь, жалованье да сбереженье великих князей. А молит тебя владыка митрополит, и княгиня Елена, и великий князь, отрок: жил бы вместе, по-родному с государем — племянным своим. Присягу бы соблюл без всякой хитрости. И ехал бы на Москву без всякого сумления. Государи да владыка тебе слово дают и поруки ручают: не тронут и живу тебе быти». Може, так бы ладнее дело вышло. Как мыслишь, государыня? И ты, вельможный княже?
— Гляди, правда твоя, — живо отозвалась Елена. И даже вся просветлела лицом. Ей очень не по душе пришлась необходимость начать междоусобицу с дядей родным ее сына.
— А коли так, — довольный поддержкой, быстро подхватил Овчина, не дожидаясь одобрения от Глинского, — коли государыня волит и государь прикажет, — нынче ж владыке Даниилу передано будет. В ночь и выедут старцы. Гляди, може, до крови дело и не дойдет! Неохота родную-то кровь проливать, хоша и крамолу они затеяли.
— Неохота? Кровь лить? — сразу вспыхнув, заворчал Глинский. Он как-то инстинктивно почуял, что сыграл дурака, что его перехитрил в чем-то этот молодой проныpa. — То у вас, у москалей, бараны в люди проходят! — грубо намекая на прозвище Овчины, отрезал Глинский. — Когда б у вас люди были. А то Бог знает что! У вас в Московии брат брата губит и не похмурится. Разве ж можно других жаловать, коли никто тебя не пожалует? Так, мол, думка. А не хотите, то и балакать мне с вами нечего. Спать пойду. Прощайте!
И грузный князь порывисто поднялся со скамьи.
— Дядя любый, не серчай. Что же сказал князь? Нетто…
— Челом бью, прошу: прости, Бога для, коли нехотя обидел чем тебя! — кланяясь, сказал и Овчина. — И на уме не было перечить али на спор идти с тобою, вельможный княже. Так сказалося…
— Э, что мне до того, что у тебя сказалося… В наши годы, в старые, таки хлопцы, як ты, княже, при старшем при ком и сесть не смели бы…
— Да будет, дядя любый! Не гневайся. Краше, пойдем, за стол милости прошу.
— Не хочу… Без меня тут ешьте, пейте да веселы будьте! — отрезал старик, поклонился внуку, племяннице и, окинув надменным взглядом Овчину, быстро вышел из горницы.
— И что он так не любит тебя? — после небольшого молчания спросила в раздумье Елена.
— Гм… Не любит? Надо быть, чует, что я его… больно люблю… — с вынужденной улыбкой ответил Овчина.
— Ну, Господь с ним. Авось все наладится… Хлеба-соли откушать прошу с нами, боярин.
— Да, да, с нами, Ванюшка! — опять, встрепенувшись, вмешался Ваня, притихший было совсем, когда дедушка Михайло рассердился да стал громко говорить, словно бранил и мать, и Овчину.
Мальчик кивнул милостиво головой князю, взял за руку мать, и все трое перешли в соседнюю комнату, где было накрыто три-четыре стола по стенам, у лавок.
В переднем углу небольшой стол на два прибора был накрыт для Елены и ребенка-государя.
За соседним столом сидели боярыни постарше да породовитей. Подальше за двумя столами разместились боярыни и боярышни помоложе, из «дворни» теремной.
Литвинка Елена и при покойном муже завела много новшеств в жизни теремных затворниц, походившей скорее на монастырскую, чем на светскую. А по смерти Василия правительница сразу круто изменила строгие распорядки, царившие в стенах московских теремов.
Фату почти и не носили теперь обитательницы терема царского. Появились здесь и мужчины. Да не старые монахи и бояре, как раньше, а всякий люд, кому было дело до княгини.
Раньше и близкие родичи не могли навещать женщин, попавших в свиту государыни. Теперь — братья, родные и двоюродные, дяди и другие близкие мужчины могли бывать у своих родственниц, когда те по службе дежурили целыми неделями в покоях великой княгини.
Овчину усадили за столом, соседним с тем, где сидела Елена и Ваня.
Трапеза длилась недолго. Очередная чтица не успела закончить чтение из рукописного сборника «Жития святых», главу, которая приходилась на этот день, как уже пришлось начать вечернюю молитву после трапезы.
После молитвы Елена простилась со всеми и в сопровождении боярынь Шуйской и Мстиславской пошла в свою опочивальню.
Княжича, которого мать поцеловала и благословила на ночь, Овчина и мамка Аграфена Челяднина повели в особую опочивальню.
В белой кроватке под легким пологом раскидался раздетый и уложенный ребенок. Овчина уселся тут же и, исполняя обещание, начал свою сказку…
Часть вторая БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ
Глава I ГРЕХ ИЛИ ПОДВИГ?
Минул причудливый, переменчивый апрель. Светлый май настал, веселый, любимый месяц у всех славянских племен и народностей, разбросанных от Балтики до Днепра-реки, от Каменного пояса до темных вершин Карпатского горного кряжа, отраженного в истоках Дуная-реки.
Песни хороводные звучат на всех зеленеющих свежей травой луговых просторах, на всех полянках лесных, под свежей, кудрявой листвою, где белеются тонкие стволы березок в свежей, ароматной мгле оживших с весною рощ и лесов.
Ой, Ладо, деда-Ладо! Ты, Ладо, Лель-лели!Так поют на заре вечерней звонкие девичьи голоса. И откликается им из прибрежных темных кустов переливчатая, томящая сердце трель соловьиная…
Веселье и радость принесла с собой весна-красна, любимица народная.
Только смутны люди на Москве, в столице великокняжеской. Печаль и горе в Старицком городке, во всех вотчинах и городах удельного князя Андрея.
Не успел миновать желанного западного рубежа Андрей Иванович. Перерезали ему дорогу московские полки.
Нерешительный князь не знал, что и делать. Людей ратных мало. Последних заслал на «берег царства», к Коломне да к Серпухову, как было из Москвы приказано.
А сам без полков остался. В бега князь уж пустился, на Москву не поехал по зову. Значит: повороту на мир быть не может. Прийти с повинной — так и жив не будешь: запытают враги на Москве, живого замучают!
Знает это хорошо Андрей и не решается: как ему тут быть?
— На Северские земли да на Новгород путь поверни! — советуют ему ближайшие его друзья и пособники, непримиримые враги Глинских: князья Воротынский Иван Федорович, и Вельский Иван Михайлович, и Пенинские оба брата, Иван и Юрий. Роду они Оболенских, только и слышать не могут об Овчине-Телепне, о родиче своем младшем, который им дорогу перешел и первым на Москве человеком стал. Пронский князь, Федор Григорьевич, старик боярин, советчик лучший Андрея, тоже говорит:
— Крутеньку кашу заварили мы, княже. Надоть и расхлебывать, как-никак. Айда на новгородские поветы, на северские волости. Люди там вольны живут. Гляди, к нам не пристанут ли супротив Москвы. Захватить бы Новгород нам посчастливило. Тогда бы…
— В те поры ладно бы, что и толковать! — воспрянув духом, согласился нерешительный от природы князь и 2 мая выступил в поход.
А за день до того вперед послал гонцов с грамотами ко всем окольным своим и новгородским людям на погосты, в усадьбы и по городкам по всяким по ближним.
Свободолюбивые, буйные обитатели новгородских пятин и волостей, помещики, дети боярские с погостов и из городов, из усадеб и выселков и тяглые люди побойчее — сразу тысячи народу откликнулись на зов князя и стали стекаться в сборные пункты, формируя отряды ратных людей, запасаясь оружием и боевым припасом.
Всем казалось, что нетрудно будет напасть на незащищенные изнутри области московские и крупно поживиться у ненавистной, гордой захватчицы, у этой недоброй соседки.
Однако расчеты не оправдались.
На Зерезне-реке, у самого Заячьего Яму, у перегона конского, недалеко от поселка Тухольского, две сильных рати сошлись: московская и удельного князя Старицкого.
На три полета стрелы стан от стана раскинулся. В тихие часы, ночью и по зорям, слышно из стана в стан, если голос погромче подать. И ржание коней, и крик вьючных осликов, и переклички часовых — все доносится.
Первыми явились андреевцы. А через день, к вечеру, и москвичи подвалили.
Шум, суета в обоих лагерях. Коней чистят, оружие в порядок приводят. Кто может — молится горячо. Минет ночь, и, может быть, бой завяжется. Передовые разъезды и то вступали уж в легкие схватки еще несколько дней тому назад и в самый вечер, когда подвалили москвичи, которых и на глаз много больше, чем андреевцев.
У Андрея Старицкого все силы с собою, какие он только мог собрать и привести на место встречи с врагом.
А к войскам московским, во главе которых стоит сам князь Овчина-Телепень, все время подваливают с разных сторон, с разных дорог все новые и новые отряды: пешие и конные. Есть у него и пищальники, иноземцы наемные, и свои пушкари. Единороги легкие в обозе у него тоже припасены на случай осады.
И так видно, что не устоять князю Андрею с его сборными, плохо вооруженными отрядами против стройных, выученных, испытанных московских ратей.
Но Москва любит добычу свою наверняка брать, без всякого риска. Ей мало — победить в бою. Еще лучше — раздавить без боя противника, не потеряв ни одного коня, не получив ни единой царапины.
И больше суток стоит московская рать, пополняясь и пополняясь, наводя тоску и уныние своей грозной неподвижностью на слабые андреевские дружины…
Третью ночь подряд проводит князь Андрей без сна. Погибло его дело, в том и сомнений не осталось ни у самого Андрея, ни у всех окружающих его давнишних друзей и случайных приверженцев. Немало народу пристало к старицкому князю в надежде поживиться в общей смуте или просто по внушению своего беспокойного духа, ищущего борьбы и победы.
И все видят, что игра проиграна, ставка бита наверняка.
Наступило утро третьего дня с той поры, как обе рати стали станом друг против друга.
В просторной, разубранной ставке, на зеленеющем обширном лугу сидит у походного стола князь Оболенский и читает письмо от Елены. Это ответ на его последнее донесение о встрече с войсками Андрея, о будущих планах и намерениях.
«А што пишешь ты нам, княже: не есть ли дело миром свару завершить, то и мы так же мыслим. Первое дело — худой мир — милей доброй свары. И убытков меньше. А коли князь Андрейко с оружием в поле встал да видит, что не устоять ему, — поди, более дивиться не станет, мирно да тихо на уделе поведет-си. А нам. и любо: не свершится христианской крови пролитие. В том, по делу, как лепо, тако и твори. Дана тебе власть воеводская не зря от нас и от великого князя, государя, сына нашего. А нам, коли по чести удельный мириться волит, не то любо с ним в ладу жить, а, гляди, и вотчины его повеличить, подаровать ему можем доброго дела земского, миру ради».
Так и в том же роде дальше писали Овчине из Москвы. Дочитав письмо, задумался глубоко молодой воевода.
С одной стороны, легкая победа манила его, уже испытанного в боях и с татарами, и с Литвой, как манит каждая чарка доброго пьяницу.
Но и хорошие человеческие чувства, еще не заглохшие окончательно в сердце честолюбивого князя, тревожили совесть, не давали с легким сердцем принять первое попавшееся, самое легкое решение вопроса: мириться с бессильным врагом или уничтожить его бесповоротно?
Живое воображение Овчины рисовало одну картину за другой.
Вот враги разбиты наголову, бегут. Конница московская их ловит целыми косяками и забирает в плен.
Сам князь Андрей, униженный, военнопленник, ждет от воеводы-победителя решения своей участи.
Князь проявляет великодушие, ведет Андрея к себе в шатер, везет на Москву. И там, при торжественном въезде победителя, родной дядя государя московского оттеняет своим униженным видом весь блеск выступающего с торжеством его, Ивана Федоровича Телепня-Овчины, спасателя земли от происков удельного честолюбца.
Восторженные клики толпы, встреча духовенства, благодарные взгляды Елены, княжич Иван целует… Поздравления надменных, завистливых бояр… Награды, неограниченная власть над землей и царством…
Все это должна принести за собою одна легкая победа над ничтожным врагом у этой незаметной речушки, которая также станет с той поры незабвенной в памяти всего народа…
Все это так ярко встало перед умственным взором воеводы, что он даже вскочил с места, словно собираясь дать знак к наступлению.
Но тут же и остановился.
Лагерь не готов. Надо созвать воевод от других полков, распределить всем места, назначить дело, решить вопрос о времени…
Князь уже готовился позвать кого-нибудь, чтобы послать к воеводам, звать их на совет.
В это время за тонкой стенкой шатра послышались знакомые голоса.
Страж, охраняющий вход, поднял полу шатра, и вошел пожилой боярин и воевода, князь Стригин-Оболенский, родич Овчины, стоящий во главе отрядов «левой руки» [30].
За ним виднелась знакомая высокая, сутуловатая фигура другого Оболенского, князя Ивана Андреевича Пенинского, думного боярина при удельном Старицком.
Эта линия рода Оболенских всегда стояла далеко от Москвы и от ее государей.
— Челом бью любезному князю-братцу! Вот, дорогого, гостя веду тебе, — обнимая и целуя Овчину, сказал Стригин.
Обменявшись поклонами, Овчина расцеловался и с Пенинским. Родовая связь, узы крови всегда чтились в старой Руси, хотя бы случайно отдельным представителям рода приходилось выступать в качестве врагов друг против друга.
— Чем потчевать прикажете, гости дорогие? Уж не взыщите, великих запасов не найти на поле. Что Бог послал…
Позвав челядинца, он велел подать вина, меду и перекусить чего-нибудь.
— Да ты не тревожь себя, княже Иване! — степенно поглаживая длинную, узкую, седеющую бороду, проговорил сиплым тенорком Ленинский. — Не надолго я… ответу попытаю. А там и назад вернуться надо.
— Всему время сыщется. А от хлеба-соли не отказываться же, княже Иване! — возразил Овчина. — Пока что толкуй, говори: с чем послан?
— Толк не велик, да молчать не велит. Охо-хо-хо… Сам, чу, знаешь: круто приспело моему князю Андрею. В то влетел, во что и не чаял. Словно супротив агарян неверных, стоим вот ратью друг супротив дружки, — все христиане православные. Свои родичи почитай все… Брат на брата…
— Да что ж виною, князь-боярин?
— Ну его, вины разбирать! Луканька бесхвостый — вот кто виновен. Вестимо, нудно ему, что мир в христианской земле. Вот он и замутил. А ты — не поддавайся! — вдруг внушительно обратился к Овчине Ленинский, словно желая сразу убедить его в своей правоте и подчинить своей воле.
Овчина невольно слегка улыбнулся.
— Не мое это дело и разбирать, правда: кто да что? Послан я от государей моих и привел рать. Бой начнем. А там, как Господь рассудит.
— Ну вот, Господь?! Все Его, Милостивца, поминают. А сами лихо робят люди, и правы нешто? А почему Господь нам свой разум дал? И порассудить самому надо. Вот… Оно что говорить, твоя рука сильнее. Быть нам битыми, как Бог свят. Так нешто иначе не может? Подумай то, княже Иване, кого громить собираешься, кого на поток-то берешь? Не грех ли?
— Оно, коли правду сказать, и то, ко греху близко! — раздумчиво, негромко заметил. Стригин, видя, что Овчина не отвечает, как бы поддаваясь убеждениям Ленинского.
А князь Иван между тем даже не особенно хорошо вслушивался в убедительные причитанья своего родича.
Одно выражение этой речи — «брат на брата!» — поразило почему-то Овчину.
И только что он его вспомнил, как Стригин, продолжая свою речь, тихо, грустно заговорил:
— То бы хоть помыслил… Ну, воинам вечная слава, кои пали в бою. А дети-сироты… жены… Матери-старухи… Тут крови столько не хлынет, сколь много слез прольет земля русская, все едино, ваша ли, наша ли одолеет.
Сказал Стригин и замолк.
Глубокое молчание ненадолго воцарилось в шатре.
— Ин, ладно… Может, я бы… Да ты напрямки скажи: с чем пришел? — вдруг, глядя в глаза Ленинскому, спросил Овчина.
— С чем пришел? Ежели б, княже Иване… Повидать бы тебе… Вам бы свидеться.
— С князем Андреем, что ли? — нетерпеливо докончил за нерешительного Ленинского Овчина.
— Во, во! Я только и мыслил про это сказать. А ты сам догадался. Не зря люди хвалят, что больно ты смышлен, княже.
— Ладно уж, княже… А как же нам свидеться? Думано ли? Ко мне, что ли, просим милости пожаловать, коли не брезгуете нами, худородными боярами? — не удержался, чтобы слегка не уязвить отсутствующего удельного Овчина.
— Ну, мыслимое ли дело, княже? Нешто в пасть ко льву — дорога ягненку слабому? Попади сюда удельный наш, гляди, и в свой лагерь пути бы не сыскать.
— Ягненок, видно, не из хоробрых… Ин, ладно: я к вам в лагерь явлюсь.
— И то негоже. Будет, не будет что из договору вашего… А вокруг князя тоже немало люду ненадежного. Тебе что опритчится там от злых людишек, а всем нам — и с головою, с чадью и домочадцами ответ держать придется перед Москвою…
— Это уж вестимо дело. За каждый мой волос по голове слетит, а то и по три… Ну, сам мерекай: как же нам? Где встречу иметь?
— А погостец тут, за нашим станом, невелик. Однодворец-старик проживает. И челяди всего двое, либо трое. Туда попозднее, как луна взойдет, с малой дружинкой не наедешь ли? И наш князь также с пятью-шестью провожатыми заявится. Вот и потолкуете на свободе.
— Ладно… И так живет! — согласился Овчина, очевидно, решивший пойти на всякие уступки. — А теперь милости прошу, пригубь медку, княже, да отведай чего Бог послал!
И хозяин сам напенил большой, тяжелый кубок медом.
— Что же, при добром конце беседы и хлеба-соли вкусить можно. Отказаться грех… Твое здоровье, хозяин ласковый! Дай Бог доброму делу, миру в русской земле стати!
— Аминь! — отозвались оба другие, чокаясь с Ленинским.
В назначенном месте, в небольшой избе однодворца-посельщика, в низенькой, темной горнице с новыми бревенчатыми стенами сошлись и толковали оба князя: Андрей Старицкий и Овчина-Оболенский.
После обмена первыми фразами стеснение и ледок, который чуялся между обоими собеседниками, понемногу растаял.
Доброжелательный, искренний Овчина слушал, что говорит ему торопливо, горячо, видимо волнуясь, этот крупный пожилой человек, первый по сану после великого князя.
Добрые, ясные глаза сейчас горят огнем негодования и скорби. Рот, привычный к ласковой, милостивой улыбке, которая очень красила лицо удельного, сейчас то и дело искривляется гримасой, похожей и на злую усмешку, и на попытку удержать рыдание.
— Нет, сам помысли, княже! — говорит Андрей. — Нешто моя одна вина? Хоть бы и так скажем: обидели меня после брата. Иным боярам захудалым, дьякам ближним лучше поминки выдали, нежели нам, князю удельному. Не корысть велика, память дорога… Так ежели и помянул я про то, а лихи людишки на Москву довели, — неужели и тащить нас на допросы по многу раз? Ровно бы не князь я, не Рюрикович, коего слово — жизни дороже. А чуть, и темница, горница крепкая готовится, нас со всем гнездом поукрыть, как и Юру, брата, замуровали… и других многих. Это ли правда московская?!
— Да что ты, княже-господине… Да николи…
— Нет, уж почал, так довершить дай. А тамо, слышь, и совсем добрые вести пришли: рать на нас, на Старицу, снаряжается великая, ровно барсука в норе изловить бы, в железах, гляди, на Москву пригонит, крещенному люду на погляденье, литовскому отродью, смутьянам набеглым — на потеху. Так нет, не бывать тому! В бою в открытом краше голову сложу.
Горькая правда и скорбь, которою дышали речи Андрея, очевидно, повлияли на Овчину. Он заговорил очень мягко и примирительно.
— Слышь, княже, господине, не тягаться мы сюда о правде да кривде твоей либо московской съехались. Надо дело вершить великое, да поскорее. Вот и писанье ко мне дошло ныне: сама княгиня великая со всеми боярами, да и не без Глинских же, на мир тянут. Давай же ладить: как бы миру быть? Городов тебе прибавится. Гнева на тебя иметь не будет ни княгиня с сыном-государем, ни кто иной. Словно бы и не было старой свары. Любо, по-соседски заживем, заново.
— Ты говоришь… А лучше покажь: не припасено ли нам грамоты охранной? Да чтобы митрополичья рука на ей была, окромя великой княгини и бояр-советников. Тогда поверю. А то, гляди, подайся на балачку на твою, загляни в Москву, в лисье логово, — оттуда и не выпустить.
— Да что ты, княже… Клятву дам тебе великую. Сам супротив всех стану, не дам тебя в обиду. Вот, святым распятием, ликом Христа, именем Божием свидетельствую. При людях клятву повторю. Нешто могу я до того довести, чтобы тут договор договорить, а на Москве бы порушили его?.. Сам ведаешь, княже: мало есть кто на Москве, кого бы государыня с государем, как моих советов, слушали, так…
Недоговорил Овчина. Спохватился, но поздно, что сказал лишнее.
Нахмурился князь Андрей. Тяжелое раздумье овладело им. Наконец он, подымаясь с места, сказал:
— Ин, добро. При людях — клятву нам дашь и за себя… и за тех, кто тебя больно слушает. Чтобы нам безопасными быть в Москве. Да семью бы мою не трогали, как она в Горицком монастыре кроется… Договор наш в Москве и решим вчистую. А теперь, в добрый час, мир людям дадим! Бог слышит! — крестясь на иконы, висящие в переднем углу, торжественно заявил Андрей.
— Мир да будет промеж нас и всем людям. Бог да слышит! — подтвердил клятву и Овчина.
— Зови моих и своих. При них кресты поцелуем.
— Изволь, княже… Челом тебе бью за твое слово доброе, за согласие! — кланяясь в пояс, сказал Овчина.
Андрей ответил поклоном, и оба поцеловались. По зову боярина свита его и удельного вошла в горницу.
Радостно всколыхнулись оба лагеря, когда разнеслась весть, что мир заключен и можно по домам без драки разойтись.
Утром оповестили десятники о мире, а к вечеру от всего лагеря удельного князя и пятой части не осталось. Земские люди, которых он под знамена кое-как собрал, так и хлынули прочь, растянулись по всем окрестным путям отрядами, обозами и конными ордами.
Домой все так и потянули, куда кому ближе.
Московский лагерь тоже понемногу таять стал. Только белели палатки постоянных полков московских, шатры рейтаров и пищальников и обозы торговых людей, которые целым табором тянулись за богатою ратью московской, словно шакалы, которые толпой за львом бегут, когда тот выходит на добычу.
На рассвете второго дня снялись рати московские, выступили на Москву обратно, с веющими знаменами, с песнями.
И князь Андрей, окруженный своей свитой, рядом с Овчиной, в богатом одеянии, как почетный гость, не как пленник, едет туда же, на Москву.
Но очень невесело выглядит «гость». Вздыхает да сумрачно оглядывает ратников, которые, помахивая щетиной копий, звеня оружием, тянутся длинными, запыленными рядами, конные и пешие, по извилистой дороге, ведущей туда, в могучую, недружелюбную Москву…
Что ждет там удельного?
Одна и та же неотвязная дума жжет душу князя Андрея.
А кругом говор, лязг оружия, ржание коней, песни разносятся залихватские, которые так любят распевать на походах московские ратники…
Темное предчувствие не обмануло князя Андрея.
В четверг, накануне Троицы, прибыл он в Москву. Приняли его не особенно торжественно и дружелюбно, но с почетом, какой приличен дяде государя.
А в субботу вечером, не допустив даже до свидания с Еленой, Глинский и другие бояре-первосоветники порешили, что надо обезопасить малолетнего Ивана от притязаний Андрея раз и навсегда.
Бесшумно, в глубокую полночь сильный отряд окружил избу, где остановился со всей свитой князь Андрей. Всех схватили, кинули в колымаги. Советники удельного князя и приверженцы его были посажены под стражу на Судном дворе, где приказы. Самого Андрея заперли в крепком покое, в отдельном кремлевском срубе, где до него сидели и Димитрий Углицкий, и другие узники.
Как ни тихо творилось дело, но сейчас же, ранним утром, разнеслась по Москве весть, какая участь постигла князя Старицкого.
Узнал тогда же обо всем и Овчина, которого умышленно не позвали на совет вчера, опасаясь, что он воспротивится такому решению.
И правда, как только услышал князь Иван, что схватили Андрея, которому он, Оболенский, с клятвой ручался в полной безопасности, бросился воевода к Елене.
Порывисто переступил он порог светлицы, где в этот ранний час правительница сидела со старушкой матерью и обоими сыновьями, Иваном и Юрием.
С сумрачным видом отвесил всем уставные поклоны воевода и, не распрямляя нахмуренных бровей, негодующим, хотя и сдержанным еще голосом заговорил:
— Государыня великая княгиня, потолковать бы с тобою надо. О делах государевых. Не улучишь ли часок, чтобы с глазу да на глаз…
Старуха сразу смекнула, что не с приятными разговорами пришел боярин. Елена тоже видела и знала, что творится с ее первым другом и помощником.
— Ладно, боярин! — спокойно и ласково, по обыкновению, ответила она. — Матушка, не прогневайся, возьми внучаток-то с собою. Ко мне в опочивальню пройдите на часок.
Кряхтя и ворча, поднялась бабушка, полная, живая, бодрая еще старушка, высокого роста и горбоносая, как все Глинские.
Едва успели они переступить порог, как гневно заговорил боярин:
— Ты… как же так смогла, княгиня…
— Потише, боярин… Нишкни. Все в сей час скажу… Узнаешь… Успокойся, лих…
И с этими словами Елена осторожно, ласково положила на плечо князю свою белую, мягкую руку, словно желая укротить бурю, разыгравшуюся в груди любимца воеводы.
Добряк Овчина сразу поддался дружескому внушению. Грозно нахмуренные брови распрямились. Кровь сразу прилила к лицу, от которого раньше отхлынула было целиком к сердцу.
— Да ты ведаешь ли, о чем я, государыня княгиня?
— Ну как не догадаться? О княж Андрее, поди…
— Ага, знаешь… Да не о нем одном. Слышь, и по княгиню его с детками ныне послано, чтобы их тоже заточить… Так как же ты могла?! Ведаешь: клятву я давал…
— Постой же, — холодным, властным тоном заговорила в свою очередь княгиня. — А ты сносился ль с нами раней, чем за меня да за государя великого князя ручаться, да клятвы великие с посулами давать? А?!
— Нет, не сносился. Время ли было? Бой не ждет. Писанье твое же у меня было. Ты же о мире мне писала. А не поклянись я — сотни, тысячи душ христианских смертную бы чашу испили. Братья на братьев бы. Не трус я, ведаешь, государыня, а тут — жаль великая в душу запала. На своих рука не поднялась… Так плохая ли то служба моя, коли без крови и брани врага я смирил, вам, государям, на верность крест его целовать заставил? При людях дело было, сама ведаешь… А ты…
Но он недоговорил.
Елена неожиданно разразилась долгим и звонким смехом.
Князь так и опешил от неожиданной выходки.
А Елена, пользуясь этим, вкрадчиво, мягко заговорила:
— Добрый ты, боярин. Прямая душа. Витязь отважный, лихой да жалостливый! Да больно доверчив. А скажи ты мне на милость, который это раз князь Андрей крест «на верность» нам целовал? Не попомнишь ли? Не то в третий, не то в четвертый раз. И с таким коренным крамольником, с таким-то злодеем ты по чести жить задумал?! Эээх, Овчина ты мой милый. Не мимо люди слово молвили. Метко у вас, у русских, прозванья да присловки дают.
— Подожди! — хотя уже и сбитый окончательно со своего пути, все-таки пытался боярин довести спор до конца. — Я, Телепнев, князь Оболенский, твой ближний воевода и боярин, клятву на деле дал. И должна та клятва свято блюстись. А ты со своими приспешниками потайно от меня, слова единого не сказавши, такое дело затеяла. На весь свет меня опозорили изменою. «Князь, — люди скажут, — конюший он царский, вождь полка большого! Как же! Вор и клятволомец он! Присягу порушил!» Русь вся скажет. В чужих краях и то загудет, ровно в вечевой большой колокол. Из рода в род покоры да стыд на мою голову падут. Как же ты того не помнила, государыня княгиня?
— Думала, княже, крепко думала. Оттого и творилось все от тебя потайно. Все это знают. Вот и можешь на голос кричать, меня бранить и всю думу государеву. К суду нас позывай, хошь к митрополичьему, хошь — самого великого князя нашего. Как хочешь обеляй себя. А и мы правы выйдем. Добрый ты, умный, да на государстве много не сиживал. Царства для малолетнего сына не оберегал, вот как мне сейчас приходится. У тебя своя правда: воеводская, боярская. У нас с думой с царской, — не с приспешниками моими, — своя правда оказалась, государская, всеземельная. Сотворили мы, как царю малолетнему, как всей земле получше, поспокойнее будет. И пускай судят нас, кто понять не может. Хвалишься ты: царя-младенца любишь. Да, видать, не очень. Кабы любил ты его, вот как я, литвинка, сына-государя люблю, и в мыслях бы у тебя не было, что там про тебя потом говорить станут. Усилится держава наша русская — и тебе почету прибавится от всех. Чужеземные послы к тебе же за войной и за миром придут, как и ныне хаживают. Толкуешь, боярин, жаль тебе стало, что за распрю за княжую тысячу христиан, братьев по крови и по вере, смерти друг дружке предадут. И мне их жаль. Так надлежит змею главу самую отсечь! Крамолу с корнем вырвать надо. Десяток коноводов казни предадим — тысячи спасем! Понял ли, боярин?
И, глядя ему прямо в глаза своими сверкающими, темными глазами, ждала ответа Елена Глинская.
Помолчал, подумал Овчина и негромко, но твердо ответил:
— Нет, что-то не то душа говорит.
Отвесил поклон и хотел уже уйти. Но дверь отворилась, и прислужница доложила о приходе Михаила Глинского и Михаила Юрьевича Захарьина.
— Милости прошу. И ты останься, Иван Федорович. Гляди, о княж Андрее толк пойдет. Вот и послушай, посоветуй…
Молча поклонился Овчина и отошел в сторону. Вошли первосоветники. После общих поклонов заняли места.
— Что поведаете, бояре? Какие вести, дядя?
— Пришли все про то же доложить. Как с удельным быть? В Москве ль его держать али за крепкими приставами послать на Белоозеро? Чтобы в Москве соблазну не сотворилось. Разный люд тута. Подбить на худое нетрудно. Вот и решим, племянница, как лучше? — Затем, обращаясь в сторону Овчины, Глинский продолжал: — Заодно и князя попытать хотелось: не больно ли серчает, что его не спросили, Андрея присадили? Смуту одним разом прикончили?
Явно глумливый тон сквозил в речах Глинского. Затаенное недоброжелательство к молодому воеводе то и дело прорывалось у старика. Он один хотел править делами царства. А Овчина стоял на дороге.
Теперь, когда удалось совершить такой смелый и выгодный ход, убрать с государственной шахматной доски опасного соперника, Андрея Старицкого, литвин-дипломат воспрянул духом, в нем усилилась надежда убрать прочь и второго соперника, князя Овчину.
Овчина собирался резко осадить старика. Но помешала Елена.
— Что боярина пытать? Он такой же слуга государев, как и мы все. А куда Андрея садить, это порассудим. Как мыслишь, Михаил Юрич?
— Да и моя дума такая: прочь из Москвы — оно бы и лучше, тревоги меньше. Там и сберечь можно удельного. А под боком живучи, все будет он тебя да государя тревожить… А и помрет ежели, — кабы не сказали люди: мы-де извели… Толки начнутся. Увезти-то и ладно.
— Так. А твоя дума как, Иван Федорович?
— Что моя дума? Мои думы неразумные все да непригодные, — напряженным, глухим голосом заговорил Овчина. — На врага в поле выступить — мое дело. Землю боронить — я же готов. А в твоих советах — наше дело малое: молчать да слушать, что* старики скажут. Правда, коли я не боялся князя Андрея на поле ратном, стану ль бояться князя в келье заточенного? Стану ли думать, что московские люди против государя своего, за врага государева встанут? По мне — пустить бы на волю князя Андрея страх не велик. Слышь, на Белоозеро удельного. А в народе и то слывет: кого на Белоозеро пошлют, ровно в воду канет. Живым уж не возвращаются ссыльники оттуда. И на царя-малолетка хула ляжет, что дядю родного обманом заманил в полон, да на смерть послал, на Белоозеро. По-божески, не засылаючи родича на край света, здесь его держать надо бы, где храмы Божий, где град стольный… Вот дума моя неразумная какова.
— Что же, ты прав! — вдруг решительно проговорила Елена, не обращая внимания на явный протест, который выразился на лицах у обоих советников-бояр.
Княгиня чувствовала, что виновата перед Овчиной, и решила всячески загладить вину, примириться со своим любимцем.
— Будет так, как говоришь. В Москве оставим удельного. И княгиню сюда же привезти скажите. И с детками. Что еще скажете, бояре?
Оба старика тоже успели сообразить, что руководит правительницей, и не стали настаивать на своем первом предложении.
— Еще надо бы одно дельце обсудить. От папежа из Риму посланец, легат рекомый, прибыть сбирается. Добро бы обе церкви воедино слить: вселенску и римску, державную… Единым бы разом государство Московское со всеми западными потентами в ряд стало, гляди, и обошло бы многих. И ученых, и мастеров в ту пору бы из Риму нам было послано, сколько ни спросим… Только волю бы дать вере римской у нас равно с православною…
— Да нам ли о том решать в первую голову? — уклончиво отозвалась Елена. — Владыку митрополита надо бы… А после и мы…
— Что владыка? — нетерпеливо перебил Глинский. — Стар. он. Нешто поймет, как земле процвести можно получше? Ты за сына правишь. Государи в земле — первые владыки… Тебе и властное слово надо сказать. А там — бояре, дума государева по концам все разберут: как да что?
— А там, — не утерпев, вмешался опять Овчина с кривой, злобной усмешкой, но сдержанно на вид, — там — народ прослышит, что в малолетие государя родичи его зарубежные замыслили в схизму православный люд повернуть… Да возьмутся, кто за что поспеет… Да учнется такая свара, что и нам всем не уцелеть; не то — разумникам-советчикам… Ну, не взыщи, государыня княгиня. Такие речи в твоем совете пошли, что мне и слушать не лепо… Челом бью!
И, отдав поклон, Овчина быстро вышел из покоя, чувствуя, что он теряет последнее самообладание и может наделать то, чего и не поправишь потом.
— Ого-го! — с явной злобой проговорил Глинский, едва скрылся за дверью боярин. — Каково заговорил князек. Разбаловала ты малого, племянная. В руках бы держала крепче, лучше бы было. И то в Москве толки идут, среди бояр и в народе: не ты, не мы правим, а конюший государев, князь Овчина Иван Федорович.
— Дела мне нет, кто что мелет! — оскорбленная, поднимаясь, отрезала Елена. — Коли прав человек, мне все едино, кто бы ни был. По его и скажу. Не время о том толковать, дядя, о чем почал. Да и неможется мне что-то. Как порешили, так и сотворите, бояре. А на том не взыщите… С Богом.
И, поклоном отпустив бояр, Елена быстро прошла в свою горницу, где Челяднина, старуха Глинская и две нянюшки калякали о чем-то, наблюдая, как тут же резвились оба княжича.
— Аграфенушка, в сад пойдем с детьми. Душно в горницах. Дворецкому сказала бы: на Воробьевы не пора ли, на летнее жилье собираться?
И Елена, взволнованная, с горящими глазами, перешла в сад. И там, все оглядываясь, словно ожидая чего-то, стала бегать по дорожкам с детьми, покрывая их беззаботный, звонкий смех своим грудным, веселым смехом, совсем напоминающим девичий. Его не отняли у Елены ни годы, ни горе и заботы по царству.
Больше двух месяцев томится и хиреет в неволе князь Андрей Старицкий.
В Покровском монастыре пострижена и заточена и жена его под именем старицы Евфросиньи.
Дети ко двору взяты: будут вместе с обоими царевичами воспитываться и жить. Это сблизит их и, может быть, помешает в будущем возникновению новой распри между царствующим кольцом и ближними сродниками великого князя московского.
За два месяца немало событий пронеслось над Русью. Война завязывается и на востоке, и на западной грани царства: с Крымом и с Литвою.
Елена, как умеет, справляется с делами, умеряя жадность и честолюбие князей и бояр, заносчивых и грубых порою; но, кроме Овчины, мало кто бескорыстно помогает ей в этом.
Чувствует Елена, что одна мысль у всех окружающих трон вельмож, воевод и служилых людей: ослабить за время малолетства великокняжескую власть и снова воскресить то время, когда ватага сильных людей рвала Русь на куски, себе на пользу, всему государству на погибель.
И поэтому, умея ладить со всеми, стараясь никого не раздражать, правительница больше всех слушает князя Телепня-Оболенского.
Не по душе это другим, особенно — старым боярам. Но, уступая им во многом, здесь Елена непреклонна. Не слушает наветов, открывает козни против князя ему самому. И многие уж поплатились опалой и ссылкой за попытки повалить с высоты, уничтожить как-нибудь влияние Овчины на дела царства.
Особенно старался об этом, конечно, Глинский.
И вот теперь, в середине августа, под вечер явился он, ликующий, словно помолодевший, к Елене:
— Ну, сердце Еленцю, дотанцевалась ты со своим Овчинкой. Як уж и беду сбыть, не ведаю.
— Беду? Что там еще за беда? Господи! Часу спокойного не можно пробыть… Не томи, скажи скорее.
— Перво дело: сговорились многие значные боярове вызволить с неволи удельного князя Андрея. Хотят его на твое место к хлопчику к нашему, к Ивасю приставить.
— Ни за что! Разрази меня Господь, умру — не позволю. Да нешто мыслимо? Двух дней не проживет мой сыночек, если под рукой у дяди будет… Какие бояре в сговоре?.. Скажи скорее… Пошлю Овчину, перехватить велю!
— Постой, подожди… Разве бы я такой веселый был, коли б тебе либо внучку беда настоящая грозила? Все мы знаем; кого треба, нынче захватим и сами, без твоего Овчинки. А тут иное дело. Старшие бояре все, князья да воеводы говорят, что помогать тебе и Ивасю станут, только б убрала ты Овчину. Очень он всем поперек горла стал. Не сдашь на то, не прогонишь Телепня — и мы все отшатнемся. Вот и челобитье у нас припасено…
В длинных мягких породистых пальцах Глинского забелел внушительный свиток, при котором на шнурах темнело много разных печатей.
— Добро, добро. Давай. Все сделаю по-вашему. Что ж, ежели правда! — лихорадочно хватая столбец, сказала Елена. — Ну, а теперь скажи, дядя: кто же задумал Андрея освободить? Какие бояре?
— Кому другому? Все Пенинских гнездо. Двоих мы присадили, которые с Андреем пойманы были. Так остальные за их и злобствуют… Да Палецкий Петька и брат его, Володька… Добре, что Дмитраш Палецкий мой дружок. Он и сказал мне. Да не бойся: всех перехватим… Только пока мал Иван, пока ты все дела ведешь да пока жив Андрей — все будет охота злыдням всяким смуту подымать. Вот коли б меня послушали… не дали жить удельному, — шепотом закончил старый честолюбец.
Елена поежилась, словно холод у нее пробежал по спине, но ничего не сказала.
— Ну, то после будет. Требуется в сей час перехватить сговорщиков и Овчину куда убрать. Не хочешь его в яму сажать, — пошли куда подале, хоть против Крыму…
— Овчину? Мы, дядя, это после. Челобитную я разберу… Теперь перехватать надо тех, кто за Андрея. Теперь…
Княгине не удалось окончить…
До молодого чуткого слуха Елены долетел какой-то особый гул. Не то — рокот подземный, отдаленный, не то — клич неистовый, изданный тысячегрудой, взволнованной народной толпой.
Вздрогнула Елена. Оборвала речь на полуслове.
Шум толпы никогда почти не достигал за высокие стены, которыми, словно тройным кольцом, обведены теремные здания. Только перезвон кремлевских колоколов или перекличка часовых на стенах по ночам доносятся, словно отголоски внешней кипучей жизни, до тихого обиталища московских государынь.
Пугающее предчувствие чего-то опасного овладело робкой женской душой.
Не подстроил ли дядя? Не науськал ли чернь против единственного ее верного друга, против Телепня? И, быть может, подвалили уже опьянелые, напоенные боярами, подкупленные толпы. Орут там, далеко, у наружных стен дворца? Наверно. Отголоски таких воплей, раскаты рева народного докатились сейчас до слуха правительницы, переплеснув через все стены, пронизав все запутанное, густое, зеленое кружево древесной заросли, наполняющее дворцовые сады…
Слышала Елена и сама видела, на что способна московская чернь, если расколыхать ее.
Вот почему в смертельном ужасе расширились темные зрачки княгини и перехватило у нее голос.
Но князь Михаил, кроме того что, по старости, туг на ухо, слишком занят своими мыслями. Чересчур твердо понадеялся, что приспела минута свергнуть в ничтожество ненавистного ему временщика. А Елена, конечно, не станет спорить, узнав, что все на Овчину. Дядя знал хорошо мягкую, робкую, податливую душу княгини.
И неожиданно его расчеты не оправдались. Смирная женщина, хотя и слабо, но посмела сопротивляться…
Пораженный, возмущенный этим неожиданным отпором, Глинский уже не слышал ничего вокруг. Громко, раздражительно заговорил он, спеша перебить племянницу.
— Теперь…. теперь… Ничего не теперь. В эту пору требуется Овчину прогнать. А ворогов других мы сами перехватим… А как не прогонишь Телепня, гляди!
Но Елена и не слышит, что говорит Глинский.
Шум растет. Все ближе. Неужели стрельцы, пищальники не встретили бунтарей? Не слышно было свалки, не гремели выстрелы. Значит, все погибло… И стража изменила. И его нет, Овчины… Он в такую минуту не поспешил на помощь ей, сыну — государю своему… Надо самой взять Ивана, скрыться, бежать куда-нибудь… Под Неглинкой-рекой, подводным ходом выйти вовсе из Кремля…
И, повинуясь безотчетному страху, Елена кинулась к дверям, ведущим в спальню сыновей.
— Куда ты? — пораженный, крикнул только Глинский. Но тут и до него долетел гул народной толпы, как раскаты далекого грома, который набегает все ближе и ближе.
Глинский тоже побледнел и вздрогнул. Неясное предчувствие беды сдавило и его старческую грудь.
Елена уже стояла у самых дверей, ведущих в детские покои, когда распахнулась противоположная дверца и без доклада появился князь Телепнев.
В пролете дверей, в тесном, полутемном коридорчике виднелись еще очертания людей, побрякивало оружие.
— Челом бью, великая княгиня-матушка!.. И тебе, князь вельможный, доброхот мой да милостивец, привет да почет! — как-то слишком раболепно, с явной глумливой улыбкой отвесил Глинскому Овчина земной поклон.
— Иван Федорович! Пришел-таки! — кидаясь навстречу воеводе, едва могла проговорить Елена.
Слезы неожиданно брызнули у нее из глаз. Схватив воеводу за рукав легкой шубы, словно ища защиты, она торопливо спросила:
— Что там? Бунт? На кого народ? Тебя ищут?.. Или на нас с сыном?
— Да что ты? Христос с тобою, государыня княгинюшка. Кто на вас, на государей? Вся земля, весь люд московский, целый народ русский за ваше здравие каждому горло перервет, — спокойно, уверенно, с улыбкой даже ответил Овчина. — Присесть изволь, государыня, да послушай меня.
Осторожно подводя Елену к скамье и усаживая, продолжал воевода:
— На неправду народ поднялся. Не терпят лукавства души крещеные. И черные люди, и торговый люд, и все. Слышь, говорят: измена на Москве проявилась. В царском тереме, в палатах великокняжеских гнездо вьет. Проведали люди. На суд лиходея позывают… и способников этих всех. Не то, грозятся, — сами расправу над ними учинят.
— Так кого же им надо? — теряясь, переспросила Елена.
— Уж не взыщи… Дело близко тебя касается… Глуп, темен народ… Дядю твоего вельможного, княж Михаила в измене винят. Он-де и покойного государя извел. И на Литве за то же не поддержали, слышь, князя, что слухи прошли, будто он круля Александра опоил, испортил зельем… И нашего словно государя Василия свет Иваныча также со свету сжил… Слышно, и тот лекарь повинился, который на иглу наговаривал, которой иглой поцарапано было тело покойному государю… В седло, слышь, игла была ткнута. Накололся на нее князь Василий и не почуял. А от той иглы огневица и смерть государю приключилась… Такие сказы в народе пошли…
— Брехня то! На что мне было Василия изводить? Чтобы тебя себе на шею взять?! — не сдерживая больше гнева, крикнул Глинский. — Ты мог в постель ему что сунуть. У его ж кровати спал. А я…
— А ты, княже, сам роду высокого. И лететь думал высоко, не то мы, люди малые. Недаром с Жигимонтом дружбу вел… Письма твои к нему, вот они… Бог допомог нам их выдать… Твоя ли рука? — Неожиданно доставая два письма, свернутых, запечатанных и надписанных рукою Глинского, глядя в упор на князя, спросил Телепнев.
Ничего не ответил старик. Из багрового лицо его побледнело. Судорожным движением разорвал он ворот рубахи, чтобы облегчить шею и грудь.
— Молчит князь. Ответу не дает. Сама можешь уразуметь, государыня, правду ли я толкую. Слышь, латинскую ересь сбирался князь на Руси заводить. А за это, коли бы государя Ивана Васильевича не стала, — обещано князю помочь подать, на московский стол бы сесть ему… Ловко, как скажешь, княгинюшка милостивая?
Елена молча слушала. Полные слез глаза ее выражали тоску и ужас.
Изменник — дядя!.. Враг младенцу-государю — его же дед двоюродный.
Елена очень уважала князя Михаила. Он приютил ее мать-вдову. Он сильно способствовал сближению покойного царя Василия с нею, с бедной литовской княжной. И теперь оказывается, что все это было сделано не по благородству, не по доброте сердечной, а из тонкого политического расчета.
Хитрая, уклончивая литвинка, попав в московский великокняжеский дворец, она нагляделась на всякое притворство и предательство, да и сама умела и гнуться и лицемерить, когда надо. Но игра старика Глинского даже ей показалась слишком недостойной и отталкивающей.
— Да мало того… С боярами с крамольными в дружбу вошел вельможный князь. Попытались бы удельного князя вызволить! И время уже приспело. Лиха беда: Шуйские два князя, Василь с Григорием, да Димитрий. Палецкий Бога вспомнили. Совести своей не сгубили. Все мне выдали. И людей всех указали, кого вельможный князь на то лихое дело подговаривал. Перехватал я их. А народ как взмятется. «Надо, — орут, — и зачинщика на суд!» Вот и сбежались ко дворцу. Приказа твоего ждут да государь великий князь бы соизволил, разрешил князя Михаилу Глинского к суду позывать… Как скажешь, государыня княгиня?
И совсем уничтожающим, глумливым взглядом окинул в последний раз Овчина старого князя смертельного врага своего.
Молча стоит Глинский, губы кусает чуть не до крови. Кулаки сжал так сильно, что ногти в тело впиваются.
Заговорить хочет — и ни звука не вылетает из горла.
В тяжелом мучительном раздумье сидит Елена, скорбная, как мраморное изваяние. Только высокая грудь судорожно вздымается и опадает под парчовой душегрейкой, опушенной темным соболем.
— Что же, государыня? Время не терпит. Слышь, народ уж и близко. Кабы сам не вломился за ограду. Хуже будет… Не то князю и другим многим по пути достанется. Решай, государыня…
— Мама, мамушка! — вдруг, вбегая в комнату, бледный, испуганный, крикнул ребенок-государь, кидаясь к матери. — Мамушка, что там делается? Смерды как орут… Лихо какое приключилось? Мятеж? Овчина, Ванюшка! Зови ратных! Разгони посадских-то… Чего им! Как смеют в нашем Кремле бушевать!
— Ничего, государь. Не со злом они. За твою милость посадские-то встали. Лиходея твоего открыли. Вот и галдят, на суд бы его.
— Лиходея? Кого же?
— Молчи, Овчина! — вмешалась Елена. — Не пытай, Ваня. Не боись. Нам лиха не будет. Иди к мамке… Аграфена! — обратилась она к Челядниной, которая, запыхавшись, тоже показалась вслед за княжичем. — Бери государя, уведи его…
— Не пойду. Да, не пойду. Сама сказываешь: государь я! Как же мне не узнать: каков на нас злодей объявился? Сказывай, Ваня! Я волю знать, слышь! — топнув даже ножкой, обратился княжич к Овчине.
— Дда… больно молод ты, государь, чтобы так все разом… А и то молвить, узнаешь, не от меня, от иных… Слышь, князя вельможного самого корят… Михаила Львовича… будто он…
— Дедушка?! Не… не… Быть того не может… Дедушка любит меня и мамушку. Правда, дедушка?
— Правда, правда, внучек любый! Бо, Сам Бог дитячими устами правду сказать хочет! — хрипло сорвалось у старика Глинского. Озираясь, как затравленный кабан, он быстро заговорил: — Кому веру даете — Шуйскому, врагам моим клятым? И ваши они враги. Только сперва хотят меня со свету сбыть. А после и за вас возьмутся. Палецкий — пьяница. А что там народ голосует?.. Выйду я, кину им кипу грошей — и станут меня хвалить, как клянут в сей час… Не слушай его, государь. Не давай деда в обиду. Не верь, что я против тебя иду. Гей, Еленцю, и ты не теряй разума! Я один близкий тебе. Литвинка ты между москалями… Меня не станет — и тебя скоренько не станет! Помяни мое? слово! — сильно, пророчески даже произнес Глинский и двинулся было к дверям, чтобы уйти, пользуясь тем впечатлением, которое его речь произвела на княгиню.
Но по знаку Овчины вооруженные люди, стоявшие за дверью, загородили дорогу князю.
— Гей, вы, хамы… я вас, — хватаясь за свою кривую саблю, крикнул Глинский.
Елена вскрикнула и, схватив на руки сына, кинулась из покоя.
Овчина тоже обнажил свой меч и приказал страже, быстро заполнившей почти половину покоя:
— Берите князя… Полегче, лих… Саблю отберите… Так… Теперь ведите за мною… Покажем народу, что ни один ворог государев, будь хоть самый ближний, не уйдет от Божьего суда и от людского не укроется.
Схваченный сильными руками, обезоруженный, тяжело дыша, вынужден был старый боец, как опутанный сетями медведь, идти за своим ненавистным соперником по царству на дворцовое крыльцо, где шумела и гремела, как море, взволнованная народная толпа, заливающая все площади и переулки перед дворцом.
Никто не знал, ни один человек не сумел бы сказать, откуда впервые пронесся слух, что надо идти в Кремль, требовать суда над изменником, над литовским еретиком князем Михаилом Глинским, который не только покойного государя Василия извел, но и сына его, и вдову-княгиню, родную племянницу, сгубить собрался, чтобы самому занять трон и обратить всех православных людей в католическую ересь.
Сразу, должно быть, во всех концах Москвы и на людных посадах, ее окружающих, зародилась эта весть, заронилась кем-нибудь в кружалах, на постоялых дворах, на монастырских подворьях… А там быстро выросла всенародная молва, прокатилась по площадям и улицам с переулками, докатилась до широкой кремлевской Ивановской площади, где столько всякого люду, — и тут загремела, застонала тысячами голосов.
Все эти голоса понемногу слились в один клич:
— На суд пускай поставят литвина, князя Михаила Глинского!
Немало в толпе шныряет людей из ближней челяди Ивана Овчины и его родственников, иных князей Оболенских. Решив повалить опасного, сильного врага, род Оболенских все средства пустил в ход. По кабакам собирали голытьбу всякую, подпаивали, еще угощенья сулили, только бы поддержали их, русских бояр, против литовского выходца. Закупам многим, кабальным людям свободу обещали, ручались, что внесут выкупы за них, дадут на подмогу, чтобы могли они торг или хозяйство повести.
Где были люди, обиженные самим Глинским или многочисленной надменной родней его, — всех постарались собрать к этому дню на дворцовую площадь.
А затем — дело само собой пошло. Народ, что волна. Поднимается первый вал, и на необозримое пространство вся гладь морская заколышется, заволнуется, грянет нежданной грозою.
В каких-нибудь три-четыре часа, стекаясь небольшими кучками, толпа в несколько десятков тысяч человек разлилась перед дворцовыми воротами великокняжескими и, то утихая, то горланя во весь дух, — одно вопит:
— На суд Глинского!
Вдруг за воротами, ведущими из дворцового двора на площадь, послышалось какое-то движение.
Часовые, стоящие снаружи у ворот, стали осаживать толпу, слишком тесно обступившую их.
Ворота распахнулись.
Впереди всех на коне показался Овчина-Телепень.
Конница и строй пеших воинов развернулись за ним, поблескивая оружием, шашками и латами.
Держа на палках шапки, два бирюча пронзительными, звонкими голосами, покрывая гул народный, завели по-обычному, нараспев:
— Слушайте, послушайте, люди государевы, христиане православные! Боярин главный, князь Иван Федорович Оболенский-Телепнев слово скажет, речь держать будет ко всему миру крещеному, люду московскому и посадскому, и к торговым наезжим гостям, и всякого звания людям!
— Слушайте… Тише вы, черти! Идолы, слушай, что боярин скажет! Пасть-то заткни! — утишая друг друга, сразу загалдела было толпа. Но понемногу восстановилась тишина.
Только не стихал гомон. И доносились отголоски народного гула от других концов Кремля, с других меньших площадей, с Житной улицы, с Никольской площади, отовсюду, где клубились волны народные.
Громко, внятно заговорил Овчина, и во время боя привыкший отдавать приказания, и не раз выступавший перед толпой.
— Люди государевы, христиане православные! Не зря по Москве весть прошла про измену великую, про лихость князя, первого боярина Михаила Львовича Глинских. Послухи нашлись, что доносы сняли с доносчиков (подтвердили донос). Да кроме того — и письма перехвачены, кои в улику измене и злодейству княжескому. А посему — сам государь великий князь Иван Васильевич и государыня великая княгиня Елена Юрьевна повелели и первые бояре приговорили: суд нарядить, то дело разобрать. А пока суд будет, — за крепкие заставы посадить того лиходея приказ был. Вот и ведем мы его! — указывая назад, закончил Овчина. — Того для ради смирненько по домам ступайте, люди добрые. Не будет зла государям нашим на многие лета!
— На многие лета! — подхватили ратники, стоящие за воеводой.
Тот же клич повторила и толпа и понемногу стала таять… расходиться во все стороны.
Только стоящие у самых ворот подымали головы, вытягивали шеи, чтобы посмотреть внутрь двора.
Там, на крыльце, против самых ворот, окруженный стражей, в шапке, низко надвинутой на глаза, понурив голову, стоял могучий раньше родной дядя княгини-правительницы, а теперь уличенный и схваченный преступник, князь Михаил Глинский, потомок Гедиминичей и Ольгердовичей, родной многих державных государей Запада.
Лица не видно было толпе. Прятал его князь.
Но от всей сгорбленной фигуры, от шубы с длинными откидными рукавами, теперь кое-как наброшенной на плечи старику, измятой, запачканной в борьбе, от этих рук, висящих, словно плети, вдоль тела, веяло безнадежным отчаянием и грустью.
Даже у тупой, жестокосердой толпы что-то зашевелилось в груди при виде этого опозоренного, раздавленного человека.
И с негромким клекотом, с невнятными переговорами стали расходиться все по своим делам.
Со скрипом захлопнулись снова дворцовые ворота.
А княгиня Елена в это время, уложив перепуганного Ивана-княжича в постельку, сидела около нее, стараясь убаюкать первенца.
Тихо мурлычет она любимую колыбельную песенку мальчика… песенку далекой родины Литвы…
Грустно звучит монотонный, усыпляющий напев. И тяжелая дума давит мозг княгине.
«Что я сделала? Согласие дала заточить родного дядю… Своего благодетеля… Говорят: для царства так надо, предатель он… А если неправда? Тогда нет мне прощения ни на этом, ни на том свете? Господи Боже! Научи, помоги, просвети, как быть?!»
Увидав, что княжич задремал, она знаком подозвала Челяднину, чтобы та заняла ее место, а сама быстро прошла на половину к старухе, Анне Глинской.
Та словно поджидала дочку. Ничего не сказала, ничего не спросила, только шепнула по-литовски, как это бывало, когда они оставались наедине:
— Может, помолиться хочешь?
Елена кивнула головой и одна прошла дальше, в самую заднюю комнатку, в опочивальню старухи, куда и не входил никто, кроме дочери и итальянца-врача, постоянно лечившего княгиню Анну.
Здесь на стене, обычно прикрытое шелковой занавесью, белело распятие слоновой кости с изображением Спасителя и был устроен род маленького католического жертвенника.
Распластавшись перед крестом, горячо стала молиться великая княгиня московская Елена, чтобы Господь ее просветил: грех сотворила она, предав родного дядю в руки недругов, или подвиг это, необходимый для блага земли, для спасения престола ее сыну, горячо любимому Ивану, государю московскому, повелителю всей Русской земли?..
Глава II ПОЛЕ ОЧИЩАЕТСЯ
Быстро мчится время. События набегают одно за другим.
И полугода не выжил в заточении князь Андрей Старицкий. Здоровый, сильный на вид, он носил в сердце задатки тяжелого недуга. Скорбь, лишение свободы, тоска душевная и старания враждебных удельному московских тюремщиков быстро сделали свое дело.
В ноябре того же 1535 года князя не стало.
В предсмертном бреду он срывал с себя всю одежду и все повторял хриплым, рвущимся голосом:
— Душно… на волю… На волю…
С этим воплем он и освободился от неволи — вместе с жизнью.
Без воплей и стонов, но тоже страшно страдая, угас вскоре после Андрея и князь Глинский.
Кроме Глинского, не стало в Москве еще многих иных недругов князя Овчины: одни — умерли, другие — были убраны с дороги разными способами. Третьи, спасаясь от удара ножом, от отравы на веселом пиру, бежали на Литву или даже к татарам, как князь Семен Федорович Вельский.
Правда, последний и там крамольничал против Москвы, науськивая Орду против нее, добивался для себя восстановления удела не только в прежних владениях князей Вельских, но и всю Рязанскую вотчину считал своею, так как родная мать князя, племянница Иоанна III, была владетельной рязанской княжной…
Но дальние враги мало тревожили Овчину.
А с ближними соперниками, с прежними недругами своими личными и родовыми, как, например, с Шуйскими, с Палецкими, с Суздальскими, — князь Телепнев умел поладить, уделив им часть неограниченной власти, предоставленной воеводе княгиней-правительницей.
Растет понемногу ребенок, великий князь. Но и он смотрит только из рук любимого своего Ванюшки-Овчинушки, который балует юного государя, как может, но в то же время держит в полном послушании.
Когда минуло пять лет мальчику и, по обычаю, настала пора приставить к нему дядьку, женский уход заменить мужским, в пестуны Ивану были выбраны и поставлены Овчиной или его же близкие родичи, или люди, преданные ему и вполне зависящие от наперсника великой княгини, от воспитателя и любимца будущего повелителя Московского великого княжества и всех иных земель.
А в эту пору явилась надежда поприбавить крупные куски к прежним русским коренным владениям.
Война с Литвой шла с переменным счастьем. Но все-таки чаша весов как будто бы клонилась в сторону войск великокняжеских, хотя у круля Жигимонта были и наемные западные рейтары, и пищальники, и довольно сильная артиллерия, осадная и полевая.
В Крыму, у царя Саине-Гирея, завязалась распря с новым охотником занять престол, с близким родичем царским, Ислам-Гиреем.
В Казани тоже закипела междоусобица.
Преданный Москве, закупленный ею царь Джан-Али, или Еналей, как выговаривали русские, был убит сторонниками крымских владык. Один из крымских царевичей, Сафа-Гирей, был призван на царство и уже успел войти в Казань, но московские сторонники не поддались. Они посоветовали Елене и боярам выпустить из заключения царевича казанского Ших-Алея, имевшего все права на корону.
Послушала Москва умного совета. Были посланы гонцы на Белоозеро, где сидел под охраной Ших-Алей.
В марте 1537 года большой прием назначен у великого князя, княгини-правительницы в самый канун Благовещенья; прием крымских послов, литовских посланцев и, наконец, самого Ших-Алея, будущего царя казанского.
Только утро рассвело, а уже вся почти дума великокняжеская, бояре, воеводы, боярские дети и приказные, дьяки, толмачи и посольские пристава собрались в Грановитой палате и в обширных сенях, примыкающих к ней с двух концов.
В обширной горнице, поближе к задней стене, поставлено два трона: для правительницы и для великого князя-ребенка.
Прямо, как изваяние, сидит Елена в парчовом блестящем одеянии, вся залитая драгоценными камнями. Кика ее просто унизана жемчугом и самоцветами. Сверкающие камни прикреплены на тонких пружинных ножках, и такие «переперы» колышутся, играют разными огнями над головным убором княгини. За креслом Елены стоят ближние боярыни, укрывая прозрачной фатой свои набеленные и резко нарумяненные лица. Брови у всех густо подведены, ресницы подкрашены, как велит обычай. Дорогие кики украшены каменьями. Кокошники на девушках тоже сверкают драгоценностями, а жемчужные сетки-поднизи ниспадают до самых бровей.
Сквозь легкие складки полупрозрачных покрывал, сквозь фату каждое такое женское лицо кажется не живым, а грубо намалеванным, словно у какой-нибудь куклы.
От этих застывших фигур женской свиты, стоящих как раскрашенные ряды буддийских изваяний, резко отличается мужская половина присутствующей здесь свиты.
У большинства из них темные, загорелые лица, прически примасленные, но бороды — не совсем приглаженные, как будто слегка взъерошенные у иных. Смирно сидят все бояре, дьяки, стоят, не шевельнутся пристава посольские, стража и другие, кто допущен в палату. Но, очевидно, напряжены они очень сильно, а не застыли бесстрастно, как женщины.
Великий князь, усевшись на широком сиденье прадедовского трона, так и потонул в нем.
Висят на воздухе крошечные ножки, обутые в сафьяновые, тисненные разными узорами сапожки на медных подковках. Поверх голубой шелковой косоворотки, застегнутой жемчугами и лалами вместо пуговок, надет богатый терлик, весь расшитый шелками, унизанный по борту самоцветами да шнурами золотыми с кистями украшенный.
Невысокая, опушенная соболем шапочка тоже ушита крупным жемчугом. А сбоку — дрожит и переливается бриллиантовыми искорками султанчик из тонких, упругих перьев райской птицы. Вместо пряжки прикреплен султан внизу редкой величины пурпурно-красным рубином, который особенно выделяется на темном собольем меху.
Два князя-воеводы с оружием в руках стоят по бокам малолетнего государя, оберегая его особу. А по бокам «стольного места» оба трона окружены стражей из молодых рынд, одетых в белоснежные парчовые кафтаны, с серебряными топориками на плечах, с высокими белыми шапками на голове.
По знаку Овчины — первым ввели родного пана, полоцкого воеводу Яна Глебовича, за которым следовала целая посольская свита, все стройные, загорелые литвины-паны, в блестящих кунтушах, с кривыми саблями на боку.
— Великий князь московский Иван Васильевич, государь всей Руси Великой, и Малой, и Белой, и иных, сын наш, шлет привет брату Жигимонту и велит слышать: чего от нас ждет круль Жигимонт? — обратилась к Клигговскому Елена.
— Да живет на многие лета великий князь московский Иван Васильевич с его вельможной яснейшей родительницей, великой княгиней и государыней Еленой Васильевной! — отдав поклон, заговорил Глебович. — Круль и повелитель мой, Жигимонт, на Литве и Жмуди и иных земель властитель, желая остановить пролитие крови христианской если не миром, то долголетним перемирием, — шлет великому князю Ивану Васильевичу и матери его, княгине Елене Васильевне, сию грамоту за своим великомочным рукоприкладством и волит: да встанет замиренье от завтра, марта месяца 25 дня, року 1537 и впредь на пять годов, до того же дня, року 1542-го. А на чем твои думные бояре и посольские люди с нами пристали, — тому запись дана! Свою державную руку к той записи да волят приложить державный государь и ты, великая княгиня.
— Волим. Да будет так! — произнесла княгиня.
— Мы волим. Да будет так! — повторил малютка государь и протянул крошечную ручонку, прикасаясь к мирной записи, которую, вынув из шелкового чехла, ему поднес дьяк Путята Меньшой.
— Да живет великий князь Иван Васильевич! — воскликнул Клиповский. — Да живет круль Жигимонт на многие лета.
Общий клич повторил пожелания Глебовича. Отдав еще раз поклон, он занял — место неподалеку от трона, слева от великого князя.
Ввели крымского посла Темешь-бея.
Татарин, посланный Ислам-Гиреем, не отличался знатностью рода и богатством. Московские бояре даже раздобыли у восточных царевичей, живущих в Кремле, наряд побогаче и дорогое оружие, чтобы посол в более пышном виде предстал перед князем и княгиней московскими, на глазах у всей думы, у послов иных государств, которые тоже явились на прием — поглядеть и послушать, что будет здесь происходить.
С этим послом церемония не затянулась.
После обычного челобитья Темешь объявил:
— Государь и повелитель мой Ислам-Гирей, царь Крымский и всех племен ногайских, шлет братский привет великому князю московскому. И сказать повелел: если волит Москва с Крымом в мире жить, пусть бы великий князь, как и покойный государь, его отец, делывал, добрые поминки послал бы. Не слал бы ворогу Ислама и недругу московскому Саину. Все бы Исламу слал. Тогда на многие годы пришлет царь Ислам шертную (мирную) грамоту Москве.
— Волим! Так и будет! — прислушиваясь к подсказу Елены, произнес Иван Васильевич.
Входя в роль, ребенок совсем серьезно исполнял все, что требуется от повелителя. Вот подал он знак. Поднесли стопу меду. Приняв ее, Иван протянул кубок Темешу и сказал:
— Откушай, посол, за наше здравие и для крепости, чтобы долго миру стоять между Москвой и Крымом. Пей и ешь в доме моем, Темешь-бей. Буду видеть, что другом пришел к нам, а не недругом. Так ваш закон гласит.
— Правда… правда! — качая головой, сказал Темешь, когда ему толмач передал слова ребенка. — Так у нас: к другу пришел — пить, есть надо…
Приняв чарку, татарин сделал «селям» и возгласил:
— За здравие московского государя и моего царя, милостью Аллаха!
Затем медленно, до дна осушил чарку.
— Стопку не вертай, себе бери, посол! — снова звонким голоском заговорил Иван. — На память о нас да о часе об этом.
— И на том — челом бью! — снимая колпак и становясь на колени, возгласил польщенный крымчак.
Своей бритой головой, на которой только темнела расшитая шелками тюбетейка, он коснулся ковра, покрывающего ступени тронного места.
Затем встал, отдал, поклон Елене, всей думе великокняжеской и отошел на указанное ему место.
За входными дверьми послышались голоса, движение.
Это приближался вызванный с Белоозера пленный царь казанский Ших-Алей, которого Москва снова думала возвести на престол в Казани, чтобы вытеснить ненавистного ей Сафа-Гирея.
Иван, предупрежденный заранее, сошел с трона, встретил Ших-Алея у дверей, довел до тронного места и, указав на кресло, стоящее рядом со своим, снова взобрался на чересчур высокое для него сиденье отцовского трона.
Прежде чем занять указанное ему место, Ших-Алей осторожно стал склоняться на колени, чтобы отдать земной поклон Ивану и княгине Елене. Непривычно, тяжело самовластному хану проделывать унизительный обряд, да ничего не поможет: сила и солому ломит.
С помощью своих двух провожатых только мог он подняться после земного поклона, отер вспотевшее лицо и, заняв указанное ему место, стал оглядываться понемногу.
Жарко в большой, хотя и невысокой палате. В касимоских и казанских дворцах нет таких больших покоев.
Медные чеканные люстры свесились с потолка. В них вставлены восковые разноцветные свечи, сверкающие сотнями огоньков, когда их зажгут.
Лампады и сейчас звездочками теплятся в переднем углу покоя, перед божницей, уставленной старинными иконами в драгоценных, златокованых, низанных жемчугами, украшенных самоцветами киотах.
«Богата Москва! — думается татарину. — Вон на своих богов сколько добра понавесили они! Сильна Москва! Я — хан, потомок царей Золотой Орды, вынужден перед молокососом-мальчишкой да перед нечистой гяурской бабой челом бить!.. Плохие времена пришли».
Думает так, а сам раскрывает свои толстые, слегка отвислые губы и начинает говорить заранее натверженное приветствие.
— Государыня великая княгиня! И ты, великий князь и государь Иван Васильевич московских и иных земель! Челом вам бью. Жаловал меня покойный государь Василий, великий князь. А я веры не сдержал, изменил его милости…
Говорит царевич-татарин. Толмач повторяет по-русски слова его. Пристав Посольского приказа, пристроясь с писцовой книгой на коленях, быстро вписывает в нее речь Шах-Алея.
Бесстрастным, тягучим голосом продолжает татарин:
— И покарал меня Аллах. С царства казанского ссадили меня мои люди. А великий князь Василий, прознав про измену про мою, — в заточение послал. И вы, государи мои, гнев на милость сменили, слугу своего простить позволили. На том я челом вторично бью и верным быть по гроб обещаю. Аллах меня слышит!
— Господь пусть слышит! — подтвердили княгиня и княжич.
Два советника Ших-Алеевых, стоящих поодаль, подали ему свиток Корана в парчовом футляре.
Положив руку на свиток, татарин произнес присягу на верность.
— Присягнул татарин, авось не соврет! — шепчет негромко Михаил Юрьевич Захарьин князю Суздальскому.
— А и соврет — корысти ему не будет! Стальными рублевиками разочтемся! — кладя руку на рукоять сабли, отвечает воевода.
Глядит и ребенок-государь на Ших-Алея да думает: «Какой же он царь?! Совсем баба! Толстый, пухлый. Губы распустил. Большой какой. А почитай и бороды не видать. И усы мочалкой. Я, когда вырасту, — борода у меня будет курчавая, как у Овчинки… И усы. И уж я челом бить не стану ни перед кем на свете! Все иные цари придут да предо мной на колени станут… Вон как перед Соломоном-царем становились».
Важно сидел ребенок, а при этой мысли совсем надменно откинул назад свою кудрявую головку. Даже брови нахмурил.
Но вот заговорила Елена. И личико Ивана просияло, смышленые глазки ребенка так и впились в красиво очерченные губы матери, ловя каждый звук ее приятного грудного голоса.
— Царь Ших-Алей! — говорит Елена, повторяя также ранее заученное приветствие. — Великий князь Василий Иванович на тебя опалу положил. А мы с сыном нашим, великим князем Иваном Васильевичем, тебя жалуем, на Касимовское царство ставим. Очи свои тебе видеть дали. И на казанский трон возвести велим. Так и ты бы прежнее свое забыл. По правде живи наперед. А мы будем великое жалованье и береженье к тебе держать. Аминь! Мир тебе в доме и в земле нашей. А поминки, какие, мы приказали, прими, не побрезгуй!
Еще раз ударил челом татарин, занял место, и ему стали подносить разные подарки, шубы, кубки и оружие, груду золотых монет на блюде и много другого.
— Ишь, тысячу алтын отсыпать пришлось татарину, — шепчет казначей Головин князю Шуйскому, — да всего прочего, гляди, рублев на два ста!
И бережливый боярин даже в затылке почесал.
— Ништо! — успокаивает его умный князь. — Не тужи, Петр. За нонешние поминки Казань вскорости много больше Москве отдарит, не охотой, так неволей… Здорового воробья пустим мы под застреху казанцам.
— Где — воробья! Индюка целого! — невольно улыбаясь, отвечает Головин.
Окончился прием. До передней горницы проводил снова Иван татарина.
До коляски до самой проводили его первые бояре. Грузно ввалился в нее будущий царь казанский. Застоявшиеся кони дернули, заскрипели колеса по песку…
Усталые, но довольные расходились бояре из дворца по домам. Много хорошего для земли свершилось сегодня.
Усталая Елена, уходя вечером на покой, крепко расцеловала княжича:
— Разумником ты был сегодня, Ванюшка! Настоящий царь.
Сдала его дядькам и к себе ушла.
— Настоящий царь я! — шептал все, засыпая, впечатлительный ребенок.
И чудесные сны грезились ему в эту ночь.
Ликовала и княгиня Елена.
Лежа в своей опочивальне, она мысленно перебирала все, что пришлось пережить за три года со дня смерти мужа.
Русь быстро крепла. В самой Москве весь Китай-город обведен каменной стеной в пять верст длины. На всех берегах (охранных) царства крепкие сторожевые города поставлены, рать послана. С прежними врагами, Литвой и Казанью, пока мир заключен. Крым — тоже не тревожит так сильно, как раньше. Народу в царстве прибавилось, не так много людей бежит в степи. Легче стало казну собирать и подати меньше на людей наложено.
Судебное дело, раньше совершенно неустроенное, приходит в порядок. Нет прежней поговорки, которая ходила из уст в уста: «Чем идти к судье, лучше лежать в земле». Денежные неурядицы, изобилие фальшивых и обрезанных рублей — тоже сократились. Торг лучше пошел. А от большого торга и держава крепнет.
Вспоминает все это Елена и думается ей: «Годик-другой еще побьемся… Овчина поможет нам с Ванюшкой. А там и в покое зажить можно будет… Ваня подрастет… Сам за державу возьмется… А все же нам, Овчине да мне, спасибо скажет… Скоро все наладится… Вот-то камень с груди спадет… Подышу легко…»
Так в полудреме гадает княгиня Елена.
И не чует, что гибель уже сторожит ее, молодую, прекрасную, полную сил и светлых надежд.
Глава III МЕСТЬ СОЗРЕЛА
Четыре года прошло уже со смерти князя Василия.
Последние противники, казалось, были устранены с пути Елены и ее любимца князя Овчины-Телепнева.
Пали Вельские, Воронцов Михаил, смирились Шуйские. Чисто стало вокруг трона московского, не видно мятежных, надменных стародавних боярских родов.
А если и остались старинные князья и бояре, так нравом посмирнее или очень гибкие, лукавые, умеющие прятать волчьи зубы и заметать следы лисьим хвостом.
И надо всем возвышался один любимый, вернейший слуга Елены и княжича — Овчина Иван Федорович.
Радуясь за себя, гордясь за друга, литвинка ликовала, упиваясь своей победой.
Но радость была преждевременной. Крамола не стихла. А личная ненависть в тишине и во тьме готовила свой смертельный удар.
Двенадцать лет тому назад Василий развелся со своей первой женой, бездетной княгиней Соломонией, чтобы жениться на красавице Елене.
Соломонию постригли и под именем старицы Софьи заточили в келье, за крепкими стенами Покровского девичьего монастыря в далекой Суздали.
Не то — как затворница, как схимница, не то — как почетная узница живет здесь бывшая великая княгиня.
Впрочем, при ней оставлены прислужницы, девки, бабы — работницы. В ее распоряжение отдал Василий все доходы с богатого села Вышеславского.
Изредка посещают опальную княгиню прежние друзья, знакомые и боярыни, кто посмелее, кто не боится также попасть в опалу за участие к постриженной Соломонии.
Двенадцать лет томится в неволе гордая княгиня, по крови происходящая от знатных татарских князей. Тоска и месть неустанно точат властную, сильную душу обиженной, поруганной женщины.
И вот весной 1538 года сидит насильно постриженная княгиня в своей полутемной келье. Постарела, изменилась былая красавица княгиня. Черные как вороново крыло косы поседели, лицо обрюзгло. От сидячей жизни вся она, когда-то стройная, сильная, одрябла, ослабела. Долгие годы бесконечной душевной пытки пронеслись над нею как разрушительный ураган. Только глаза ее, заплаканные, полуослепшие уже от слез, порою еще загораются прежним огнем. Сверкают мрачно эти выразительные большие глаза, едва припомнит княгиня о той хитрой, низкой литвинке, которая лишила ее и царства, и мужа, и воли, и всего-всего. Сколько казней, сколько мук мысленно заставляет старуха переносить эту ненавистную женщину. И с каждым днем только сильнее разгорается жажда мести в груди у затворницы-княгини.
Долго выжидала, жила одной своей ненавистью и надеждой на мщение Соломония. Жадно ловила она каждую дурную весть о делах царства, каждую худую молву о сопернице. Выжидала, искала случая… Сберегала каждый пенязь, попадающий к ней в руки. Все копила деньги для одной, никому не ведомой, заветной цели.
И наконец дождалась.
Ночь настала. Разошлись по кельям сестры. Уснули почти все. Душно в кельях. Оконца еще не раскрываются, хотя в саду зазеленели побеги.
И, разметавшись на жестком ложе, томятся от духоты, от весенних снов молодые послушницы и монахини.
Не спит одна Соломония.
Лицо у нее разгорелось, покрыто пятнами лихорадочного румянца. Глаза сверкают былым молодым огнем.
На своем ложе сидит она, простоволосая, полуодетая. И страшной кажется старуха в том припадке кровожадной радости, который охватил ее сейчас.
На низенькой, обитой кожей подножной скамеечке присела у кровати женщина лет сорока, тоже в монашеском одеянии. Полная, благообразная на вид, она только поражает каждого своим ласковым, но трусливо, бегающим взглядом маленьких, заплывших, маслянистых глаз.
Зовут ее сестрой Досифеей.
Приподняв голову, вытянув короткую шею, впиваясь взором в старицу, слушает она, что говорит ей полушепотом Соломония:
— Верно тебе сказываю: приспело мне время. Все супротив них. И Шуйские, и Вельские, и сам Захарьин… все! Молчат лишь. Помогает колдунье литовской сам дьявол, второй пособник ее после Овчины. Свою же родную Литву попустила чуть не дотла разорить… Теперь — на Крым, на Казань воевать собираются. Коли дело сладится, они что натворят с Овчиной! Глупого мальчонку, поди, со свету сживут! Обвенчаются. Овчина — царем, она — царицей станет. И всем еще горше придется от них! Только, слышь, не бывать тому… Клялась ты мне… Еще поклянись: ежели и пытать станут, — не выдать никогда!
— Матушка, княгинюшка! Да как же уж и клясться? Слышь, и на мощах на святых заклиналась… Вся твоя раба… Как не оставляешь ты меня… и дочку мою…
— Не оставлю. Много получила ты. В десять разов более дам. Все, что есть, отдам! Видела, сколь много припасла я за все годы? Сорочку продам, сниму с себя… Только послужи…
— Господи! Твоя раба! А и ты попомни. Ежели захватят меня, запытают, убьют ли… дочке моей все. Одна у меня дочка на свете. Для нее и грех на душу беру.
— Клялась и я тебе. Слово мной дадено. Только зелье-то твое не плохое ли?
— И, государыня! Десять лет пущай хоть в воде, хоть в огне пролежит… Дай человеку — и в день его не станет.
— Ладно. А ты не бойся ничего. Гляди: вот столбчики, цидулы тебе. Все к первым боярам писаны… Гляди… Доступ ко всем получишь. И от всего тебя укроют. Видишь? Бери, спрячь.
Бережно взяла Досифея три свитка, припечатанных восковой печатью.
Подойдя к большой неугасимой лампаде перед ликом Божьей Матери всех скорбящих, монахиня стала разбирать четко выведенные буквы, имена и прозвания тех, кому посылались письма.
— Ленинские… Свои против своих! Тоже, чай, Оболенских роду… Шуйские. Нда… люди все значные, — пробормотала Досифея, завертывая письма в платок и пряча их на груди.
— Видишь! Без опаски поезжай. Когда мыслишь в путь, с Божьей помощью?
— Да хошь завтра.
— Так, ладно… И не сказывай в пути, что в нашу обитель заезжала… С Богом, на покой иди… Гляди…
Ранняя Пасха приспела в этом году.
Радостно гудят колокола над державной Москвой. Подвешены они на новой колокольне, начатой Василием и только недавно достроенной.
Поют их медные зевы под ударами тяжких языков хвалу Светлому Празднику, хвалу Тому, Кто воскрес из мертвых.
Отошла пасхальная служба в соборах и церквах кремлевских. Опустели улицы и площади, где всю ночь черно было от народа. Только дозорные темнеют на стенах да звонко перекликаются от времени до времени.
Тихо на кремлевских площадях. Но необычное оживление царит в эту ночную пору в ярко освещенных новых каменных палатах дворцовых.
Великий князь Иван Васильевич разговляется, по обычаю, окруженный ближними боярами, дворней, стрельцами и прочей челядью, христосуется со всеми, дарами одаряет. И Елена тут же.
К концу уже приходит трапеза. Руки омыл княжич. Глазки сами слипаются у него.
— Мамушка, спать хочу больно… Устал, слышь. Можно ли? — негромко спрашивает он.
— С Господом, сынок! Можно. Прощайся да отпущай бояр!
Прощаться начал со всеми ребенок.
В это время подошла к Елене Челяднина.
— Пожалуй, государыня-матушка…
— Что надо? Сказывай.
— Богомолица одна тут… Старица Досифея. Из Вознесенского, из обители.
— Знаю, помню… видывала ее. Чего же ей? Послано будет в обитель, как водится…
— Не то, слышь, господарыня. На Сионе была она. До святого града, до Ерусалиму, добрести сподобилась… Памятку оттуда, говорит, принесла тебе. Просфора при гробе Господнем свячена. Да яичко красное… Не побрезгуй, дозволь ей челом ударить…
— Нешто можно такой святыней да брезговать? Подведи к нам. Где она?
— Недалечко… кликну в сей час… Плещеева боярина женка о ней и поведала мне. С ней и в покои прошла старица та благочестивая.
— Ну, веди, веди. Отдарю, чем есть, доброхотную.
И Челяднина сама, ничего не зная, подвела отравительницу к Елене.
Набожно, на чистую ширинку (платок) приняла святую дань обруселая уже княгиня московская.
А Досифея поклоны отбивает да сладенько приговаривает:
— Сподобил Господь… Вкуси, как оно подобает: натощак завтра рано. Краше да здоровей станешь, чем и есть, княгинюшка-красавица, господарыня моя милостивая.
— Спаси тя Бог. Уж вестимо… сама знаю. Отдарила Елена монахиню, чем пришлось, и та удалилась, исчезла из виду так же незаметно, как пришла.
Сдавши на руки боярину-приставнику ребенка-государя, ушла к себе Елена.
Под иконы, за киотный занавесь положила она дар Досифеи.
Челяднина стала на ночь расчесывать волосы княгине и вдруг заметила две одинокие слезинки, которые неожиданно выкатились из глаз и повисли на длинных ресницах Елены.
— Что с тобой, желанная? — участливо, без обычного раболепства спросила Челяднина.
— Сама не знаю. Что-то сердце давит… Может, оттого, что сон плохой видела этой ночью.
— Что за сон? Скажи! Может, и не так плох, как думаешь?
— Ох, нет. Вещий то, плохой сон, Грушенька.
— Все одно, скажи… Может, легче станет…
— Вот слушай… Снилось мне ночью, в саду я сижу. Вдруг засияло все небо. Гляжу: четыре солнца выкатилось, четыре луны под ними в ряд стало. Постояли малость и стали вниз катиться… А земля словно пасть раскрыла и в той пасти солнца все и четыре тех луны скрылись.
— Мудреный сон, — качая в раздумье головой, негромко произнесла Челяднина.
— Стой. Не все еще. Посидела я малость, гляжу: из глуби, из чащи садовой вышли четыре льва. И ко мне подошли, ровно кошки ластятся. А за ними — четыре девы вышли. За теми львами стали, ровно их вести хотят. И откуда взялся из травы черный, ядовитый змей. Подполз тихо-тихо и ужалил…
— Тебя, милая?
— Нет. Тех львов и девушек. И пали они мертвы. А я гляжу и плачу… И на меня змея та зашипела. Да тут и проснулась… Видишь, Грушенька, каков сон лихой…
— Э, милая! Грозен сон, да милостив Бог! Поела чего на ночь не в меру, вот и грезится. Ложись, родимая. Я тут лягу, близехонько. Постерегу… Христос с тобою…
И заботливо уложила, как ребенка, взволнованную Елену в кровать ее подруга и помощница, перекрестила и вышла в соседний покой, где тоже скоро улеглась.
На другой день, 31 марта, поздно поднялась Елена. Сейчас же оделась, стала бояр и боярынь принимать, которые на поклон сошлись.
И забыла она про вчерашнее подношение Досифеи.
Только на второй день Пасхи, утром 1 апреля, подойдя к божнице, развернула ширинку, увидала подарки, вспомнила.
«Грех какой. Уж поела я. Завтра не забыть бы с утра разговеться»! — про себя подумала княгиня.
И только во вторник рано, встав с первой утренней молитвы, бережно отделила Елена кусок просфоры, освященной самим Иерусалимским патриархом, съела часть с молитвой и запила святой водой, что стояла тут же, в киоте, в чеканной сулейке.
И яйцо освященное очистила, разрезала на части и съела вместо раннего завтрака.
В это самое время вбежал к Елене Ваня, ведя за руку Юрия.
— Мама, что ешь? Дай нам, — поцеловав мать, стал просить Ваня.
— Да уж нечего. Видишь, яичко доедаю… Досифеино! — обращаясь к Челядниной, заметила Елена. — А вот разве просфоры… Хочешь?
— Дай, дай… И Юре… и мне…
— А натощак ли вы, деточки?
— Не, матушка-княгиня. Молочком уж, вестимо, теплым поены у меня, и с калачиком, — отозвалась Челяднина.
— Ну, так не можно. Другой раз. Вот это лучше берите! — И, подойдя к небольшой укладке, вынула и подала обоим мальчикам по писаному прянику.
Обрадованные дети шумно двинулись обратно в свои покои.
Здесь принялись разбирать игрушки, литые фигурки, да кораблики со снастями, да яйца раскрывные. Солдатиками занялся один Ваня. Юрий, опустясь у печки на ковер, сосредоточенно сосал свой пряник.
Оставшись с Челядниной, Елена присела к зеркалу и предоставила свои волосы искусным ее рукам.
Вдруг княгиня поморщилась и подумала:
«Что за притча… Какая горечь особенно у меня во рту? Не хворь ли какая пришла? Надо у матушки лекаря ее спросить».
Челяднина между тем мягко, осторожно перебирала и расчесывала густые, блестящие пряди волос Елены.
Неожиданно княгиня вскрикнула.
— Что с тобой, княгинюшка? — задрожав от неожиданности, спросила Челяднина. — Али дернула за волоски? Так уж не взыщи. Бога ради.
И отвесила поклон.
Но, поднимая голову и заглянув в лицо Елены, она и сама вскрикнула.
— Государыня, матушка… Да что с тобою?..
Елена сидела, откинувшись, бледная, с неестественно расширенными зрачками горящих глаз…
Губы ее вздрагивали, словно она силилась что-то сказать, но не могла.
Наконец княгиня еле пролепетала:
— Матушку… лекаря… За Овчиной, скорее… Челяднина стрелой кинулась. Минут трех не прошло, как покой княгини наполнился встревоженным, бледным, напуганным людом, все больше женской дворцовой прислугой.
Явилась и Анна Глинская, взглянула на дочку и вся затряслась.
— Что с ней? Говори скорее! Не мучь! — обратилась она к своему итальянцу-лекарю, успевшему поверхностно осмотреть больную.
— Сейчас скажу. Прикажите всем уйти. Надо раздеть княгиню.
Все вышли по приказу старухи.
Челяднина кинулась к детям, чуя недоброе и желая охранить их от неведомой еще беды. Бурей ворвался в покои Овчина.
— Что приключилось? Кто сгубил ее? — позабыв этикет и всякую осторожность, подбегая к постели, вскричал воевода.
— Сгубили — верно. А кто — не знаю! — пожимая плечами, отозвался итальянец. — Что ела она сегодня?
Пока звали постельницу Елены, чтобы разузнать, князь Овчина, склонясь к изголовью Елены, лежавшей словно в столбняке, обливал ее руки слезами и тихо уговаривал:
— Очнись, княгиня… Приди в себя… Скажи, что с тобой? Хоть глазком укажи: кто злодей?! На части разорву своими руками!
И словно услыхала его больная, узнала верного слугу своего.
Еле вздрогнули веки. Слезы сверкнули в углах глаз и остановились, застыли там, как и вся, застывшая, лежала Елена.
— Не иначе, как индийский яд тут один! — тихо произнес, ни к кому не обращаясь, итальянец. — В чем только дали?
Случайно взор его упал на небольшой поддон, покрытый белым платочком. На нем лежала просфора, освященная не в Иерусалиме, а в келье Соломонии. Краснела и скорлупа яйца, пропитанного тем же ядом, что и просфора.
Приказав делать припарки горячие и класть их к ногам княгини, да обложить ее всю нагретыми кирпичами, обернув их сукном, чтобы не жгли тела, он кинулся к себе в лабораторию.
Ясно как день стало там лекарю, что в просфоре и в яйце заключался сильнейший яд, так называемый «столбняковый».
— Не дожить княгине и до вечера! — объявил он боярам и Овчине.
Малолетнего государя не пустили ни к матери, ни на совет боярский, который собрался сейчас же, как только пронеслась весть о болезни княгини.
Порывался княжич к матери, но ему сказали, что мать больна, просит не тревожить ее.
Когда Челяднина узнала, что сама же подводила отравительницу к своей любимой княгине, — чуть с ума не сошла. Волосы на себе рвала, в ноги брату и всем боярам кинулась.
— Моя вина!.. Я виновата, окаянная! — заголосила. И рассказала, как было дело.
Стали искать Досифею, но той и не видели нигде от самой Светлой заутрени. Словно сквозь землю баба провалилась, хотя Овчина и другие бояре Москву вверх дном поставили.
На другой же день, как сказал врач, 3 апреля, почти не приходя в сознание, скончалась Елена Глинская, полонянка-литвинка, умевшая полюбить Русь и охранять ее около пяти тревожных, долгих лет, хотя и при помощи боярской.
Чутье матери помогало правительнице.
Но порча, мстительная и беспощадная, вечный гость московских царских теремов, настигла ее в тот миг, когда уже, казалось, все было так хорошо и настает время пожать плоды неустанной, тяжелой работы, неусыпных забот.
Когда привели сыновей прощаться к умирающей матери, впервые за сутки шевельнула она рукой, словно желая благословить малюток.
Юрий тупо глядел на мать, на всех стоящих вокруг и не выпускал конца телогреи Челядниной, которая привела детей.
Иван, сильно побледневший, напуганный видом больной матери, поцеловал ей руку, как ему сказали, прижался лицом к Аграфене, которая, припав у постели, целовала ноги у княгини, и стоял.
Смутно вспоминалась ему иная пора: зимний день, бояре. На постели его отец. И тоже лицо страшное у него. И что-то силились сказать глаза больного. Рука тяжелая, холодная, вот как у матери сейчас, касается волос.
И вдруг, в непонятном ему самому ужасе, ребенок вскрикнул и затрепетал.
Быстро схватила Челяднина на руки выкормыша и помчалась прочь, уложила его в кроватку, прикрыла черным платом, все лампадки у образов зажгла. Крест с мощами поставила в изголовье кроватки.
И сама кинулась к иконам и, до крови ударяя лбом о помост, громко стала взывать:
— Прости, Господи! Помилуй, Господи! Отпусти все прегрешения мои вольные и невольные!.. Спаси, защити и помилуй!
А над телом усопшей княгини черный клир собирался петь отходную…
Только колокола кремлевские не отозвались сейчас же на печаль в царском доме.
Ликующий пасхальный перезвон, дрожа в весеннем воздухе, словно твердил:
«Нет смерти в мире! Только жизнь вечная под разными видами. И сама смерть ведет к жизни вечной…»
Порча властна над телом, но бессильна над душой, если страдала и любила на земле эта бессмертная душа.
Примечания
1
Помилуй мя, Боже! (лат.).
(обратно)2
«День гнева, этот день» (лат.) — начальные слова католического песнопения, исполняемого во время обряда отпевания.
(обратно)3
Списковые — заговорщики.
(обратно)4
Князь Адам Чарторыский занимал «Олейный Палац» на Новом Свете, бывший княгини Анны Сапежанки, теперь — казармы.
(обратно)5
Простодушно, доверчиво (лат.).
(обратно)6
Когда двое дерутся, третий радуется (лат.).
(обратно)7
Хочешь мира, готовься к войне (лат.).
(обратно)8
Кавярня — кофейня.
(обратно)9
Подробности нападения на Бельведер — в романе того же автора «Цесаревич Константин (В стенах Варшавы)».
(обратно)10
Нелюбимого бургомистра пана Войду побили на улице толстой палкой-дубинкой, и потом такие палки получили название «войдувки».
(обратно)11
Вот его полный текст: 1) Генералу Хлопицкому вверяется Сеймом высшая диктаторская власть без всякой ответственности перед кем-либо. 2) Депутация Сейма, избранная одновременно с ним, имеет право в исключительных случаях полномочия от него отобрать и перенести их на другое лицо. 3) Депутация эта, или Верховный Совет, состоит из мар-шалков (президентов) Сената и Посольской Избы, из 5 сенаторов и 8 депутатов. 4) Сейм сбирается лишь в случае смерти Диктатора или сложения с себя данной ему власти. 5) Членов правительства назначает Диктатор. 6) По оглашении настоящего декрета Сейм расходится и может собираться вновь лишь по призыву Диктатора.
(обратно)12
Подробно эти события описаны во 2-й книге, в историческом романе того же автора: «Сгибла Польша! (Finis Poloniae)».
(обратно)13
Ходоки — кожаные лапти, постолы.
(обратно)14
Bonaventura — удача, Mesaventura — неудача.
(обратно)15
Тьфу, черт возьми! (нем.).
(обратно)16
Тьфу, пропасть, сто чертей! (нем.).
(обратно)17
Гром и молния! (нем.).
(обратно)18
Черт! (нем.).
(обратно)19
Дух противоречия (лат.).
(обратно)20
Католическое церковное песнопение (лат.).
(обратно)21
Ацан, вацпан — господин.
(обратно)22
Прощаю тебя во имя Господа, отца и сына и духа святого! (лат.).
(обратно)23
Василий Темный.
(обратно)24
Ока составляла границу между кочевой Степью и владениями Москвы, почему и звалась «берегом» Русского царства.
(обратно)25
В 1497 году, четверть века спустя после женитьбы на Софии, Иван III впервые употребляет печать с византийским двуглавым орлом на договоре с племянниками, наследниками удельного князя Бориса Волоцкого.
(обратно)26
На самом деле Грановитую палату построил Марк Фрязин (Примеч. сост.).
(обратно)27
По донесению литовского посланца Клиновского королю Сигизмунду.
(обратно)28
В марте 1535 г. издан Еленой указ, который запрещал принимать и платить за товары маловесную или порченую монету. Обращение урезанных и поддельных гривен возбранялось под угрозой пыток и казней. Были выпущены новые деньги весом 3 рублевика из гривенки, а не 2 1 /2, как было раньше по новгородскому счету. Это была уступка торговым людям, которым раньше за гривенку серебра приходилось платить до 500 копеек испорченной, обрезанной монетою.
(обратно)29
Еще при великом князе Василии «местные люди, боярские дети» избирались на местах, приезжали в Москву и сидели в государевой думе для совета. А в правление Елены, которая, как литвинка, особенно старалась сблизиться с землею русской, — деятельность этих «земских представителей» проявляется особенно сильно, как видно из актов и летописей того времени.
(обратно)30
Московская рать делилась так: ертаул — авангарды; головной, или передовой, полк; большой полк (боевые резервы); правой руки и левой руки (два крыла).
(обратно)



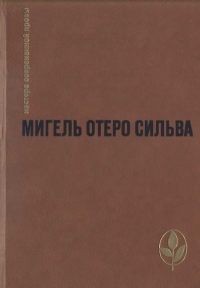
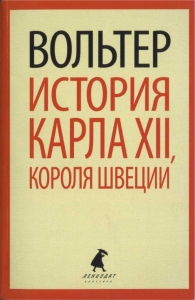

Комментарии к книге «Том 6. Осажденная Варшава. Сгибла Польша. Порча», Лев Григорьевич Жданов
Всего 0 комментариев