Елизавета Дворецкая Наследница Вещего Олега
© Дворецкая Е., 2017
© Нартов В., иллюстрация на переплете, 2017
© ООО «Издательство «Э», 2017
* * *
Предисловие автора
Об одной потерянной династии
Легенда о призвании варягов появилась в русской летописной традиции не сразу. Существование князя Рюрика как исторического лица довольно сомнительно, зато ясна цель включения этого сюжета в летопись: придать легитимности роду Рюриковичей, который к тому времени (к эпохе Ярослава) уже остался единственным владетельным родом на Руси. Но возможна у него и другая цель: заслонить от глаз потомков существование вполне определенной династии, которая им предшествовала на Руси в качестве верховной власти. Я сейчас говорю не о племенной славянской знати и не про те два десятка «архонтов», представлявших Русь в договорах и делегациях. Я говорю о тех, кто все это возглавлял поначалу, в период сложения Руси как надплеменного государства, то есть в конце IX – первой половине X века. И ничего неожиданного не будет – это династия «Олеговичей». И если «Рюриковичей» я беру в кавычки, поскольку не верю в реальность «русского князя Рюрика» как ее основателя, то «Олеговичей» – поскольку не имею предположений, как они себя называли.
Реальность существования как минимум двоих представителей этой династии несомненна, просто нужно увидеть их как связанных друг с другом членов одной семьи, которые ввиду этой связи имели общую судьбу не только в жизни, но и в источниках. Первый, разумеется, Олег Вещий. Рассказывать о его значении нет нужды, но Новгородская первая летопись представила его воеводой Игоря. Он стал родственником, дядей, воспитателем, который-де на руках принес младенца-сироту принимать власть на Киевщине, где его «отец» Рюрик никогда не правил и куда даже не был приглашен. И если Рюрику легенда дала двоих братьев и жену (отсутствующих в каких-либо иных источниках), то у Олега, согласно этой версии, семьи нет никакой. Кроме сестры Ефанды, благодаря браку которой с Рюриком он «примазался» к правящему роду.
Версия о родстве Олега и княгини Ольги известна очень давно. На это указывает само сходство их имен, и действительно бывали в древности примеры (вроде исландки Хельги, дочери Хельги, Х век), когда родичи носили похожие имена. Однако «Повесть временных лет» о происхождении Ольги, как мы все знаем, не говорит ничего, указав лишь «Плесков» как место, откуда ее привезли. Житие утверждает, что она была «незнатного рода». То есть аутентичные источники просто лишили ее какого-либо родства и происхождения. И если ранее я считала (как написала в предисловии к роману «Ольга, лесная княгиня»), что ее происхождение ко времени создания летописи просто было забыто, потому что при жизни никто еще не знал, какую роль эта женщина сыграет в истории, то позднее появилось иное соображение: ее происхождение было замолчено летописью сознательно. И тогда же были пущены слухи о том, что она якобы незнатных кровей. По тому же принципу, по которому князь Олег был объявлен воеводой. Просто скрыть существование этих двоих – победителя Царьграда и первой христианки на престоле – было невозможно, но можно было лишить их рода, а с ним и законных прав. Что и было проделано. Таким образом, и Олег, и Ольга оказались почти случайными людьми вблизи русского престола, хотя им-то он и принадлежал по праву.
Не нова и мысль о том, что Ольга, молодая женщина, после смерти Игоря удержалась у власти именно потому, что именно ей, а не мужу, принадлежали наследственные права на эту землю. Но ее считают единственной наследницей Олега – пребывание у власти женщины можно объяснить только отсутствием родственников-мужчин. Я же предлагаю дополнить эту концепцию соображением, которое подсказывает сама летопись, выводящая происхождение Игоря из Северной Руси. Если Игорь был наследником власти в Руси Северной, а Ольга – наследницей Олега Вещего, то заключение их брака объединило власть над всеми этими землями в руках одной семьи. Вокняжение вместо Ольги кого-то из ее родичей по линии Вещего вновь разорвало бы объединенную державу на северную и южную части. Объединительные тенденции возобладали, дав ей возможность одолеть соперников-мужчин, а Святослав, ее сын от Игоря, получил наследство уже обеих династий.
В пользу той концепции, что Ольга не была сиротой с точки зрения кровного родства, говорят некоторые обстоятельства. В источниках мелькают еще несколько предполагаемых членов этого рода, но опознать их мы можем тоже лишь по наличию династических имен. Это пресловутый Хлгу, воевавший с хазарами, и Олег Моравский. Хлгу, «правитель Руси», около 940 года возглавлял набег на Таманский полуостров, а в 943 году (вероятно, тоже он) пытался захватить власть в городе Бердаа (современный Азербайджан), но погиб в сражении. Этого Хлгу пытались отождествить со всеми исторически известными русскими князьями того периода (Олегом Вещим, Игорем, Олегом Моравским и даже Ольгой!), чему мешают обстоятельства (в основном несовпадение даты и места смерти). Куда логичнее предположить, что это был член княжеского рода, не упомянутый русскими источниками, получивший династическое имя в честь прославленного предшественника. А его попытка утвердиться на пути «в сарацины» вызвана тем, что Игорь так или иначе вытеснил его из Киева и вынудил искать счастья за теплыми морями.
Олег Моравский – сомнительной историчности персонаж, ибо упомянут источниками лишь XVII века. Но судьба его почти совпадает с судьбой Хлгу: он тоже носил имя Вещего и искал себе счастья в других местах (в остатках захваченной уграми Моравии). В то время как в Киеве правили Игорь и Ольга.
Еще один довод: имя Олег было первым, которое и стало в правящем роду собственно династическим. До появления второго сына Святослава каждый известный нам член этого рода носил новое имя. И лишь Олег Святославич, погибший в Овруче, первым был наречен именем, уже встречавшимся в роду. И это имя Вещего! Не Рюрика и даже не Игоря, хотя тот погиб давным-давно и ничто не мешало дать его имя внуку. Но Игорем назвал сына не сын его (Святослав), а только правнук – Ярослав. Во второй половине X века связь именно с сакральной фигурой Вещего подкрепляла права на власть, а потомки Ольги одновременно были потомками Вещего, что давало право на его имя.
Каковы же будут выводы? Первым «великим и светлым князем Руси» был Олег Вещий. Ольга была какой-то его родственницей (по моей художественной версии – племянницей), и ее выдали замуж за Игоря, представителя другой, соперничающей династии. Имелись ли у Олега на момент смерти живые наследники мужского пола – неизвестно, но в этом случае право на власть в Киеве Игорю дал брак с Ольгой как родственницей Вещего. Вероятно, там шла какая-то борьба, о которой мы не знаем, но ни Хлгу, ни Олег Моравский (или их реальные прототипы) этой борьбы не выдержали. В Святославе соединились обе владельческие линии, и на этом их борьба (вероятно) прекратилась. А уже позднее была сочинена «Легенда о призвании варягов», рисовавшая выгодную для победившей стороны картину. И не случайно, что именно Новгородская летопись, созданная на родине северной династии, поставила Олега в подчиненное положение по отношению к Рюрику и Рюриковичам, наделив «княжьим родом» только младенца Игоря, – это последний отголосок борьбы.
В общем, примерно так я это представляла и раньше, но мне стало ясно, почему в источниках отсутствуют сведения о происхождении Ольги, а вместо них предлагается история «девушки с перевоза». А рассуждения, почему «Плесков» должен означать болгарскую Плиску, и вовсе теряют смысл. Ибо законное место архонтиссы русов, которое она смогла удержать без мужа, Ольге обеспечило именно родство с Олегом, а не с болгарами. Упоминания о родстве летописцы просто удалили из своих источников, приписав Ольге неведомого незнатного варяга в качестве отца. И заодно необычайные ум и красоту, благодаря которым она-де одолела прочих претенденток на должность жены киевского князя и его наследников. В каком законе сказано, что наследство получает тот, кто красивее и умнее?
Привыкнув к летописным версиям, мы воспринимаем их содержание как нечто само собой разумеющееся. Как будто и в исторической действительности существовал один-единственный путь развития, очевидный современникам так же, как он теперь известен нам. Но давайте пока забудем о том, что знаем, и взглянем на ситуацию 940-х годов глазами людей того времени, которые очень удивились, узнав, что в Киеве заняли княжий стол Ингвар и Эльга, рожденные в дальних землях словен и кривичей. И к тому же вовсе не единственные наследники Олега Вещего…
Глава 1
Хольмгард, 1-й год
по смерти Ульва конунга
Королеве Сванхейд предстояло сделать нелегкий выбор. В начале минувшей зимы она овдовела и вот уже почти полгода сама с помощью дружины и двоих младших сыновей правила в Хольмгарде – так на северном языке назывался городок на острове между Волховом и его двумя рукавами. Окрестные славяне называли его Волховцом.
Из одиннадцати детей Сванхейд и Ульва к этому времени в живых оставались лишь пятеро. Старшая из дочерей, Мальфрид, была киевской княгиней, а сын Ингвар уже пятнадцать лет жил там же, в Киеве. Но на совсем ином положении – как заложник. Того требовал договор, когда-то заключенный меж ныне покойным Ульвом волховецким и Хельги киевским – на юге его звали Олег Вещий. Послав в Киев весть о смерти мужа, королева Сванхейд стала ждать возвращения Ингвара. Пришла пора ему занять место отца.
Наследнику досталась держава пусть не очень обширная, но способная сделать своего владельца богатым и влиятельным человеком. Все торговые гости, идущие из Восточного моря на южные реки и обратно, платили хольмгардским владыкам десятину. Город, расположенный на холме и мысу под ним, населяли ремесленники, торговцы и хирдманы конунга. Славяне и выходцы из Северных Стран ковали железо, плавили бронзу, резали кость, продавая свои изделия в округе, а для богатой знати делали украшения из серебра и даже золота. Вокруг лежали густонаселенные земли, удобные для обработки; пашни подступали к самым окраинам Хольмгарда, и с многочисленных земледельческих общин конунги брали дань.
Мудрая, опытная и решительная женщина, королева Сванхейд успешно поддерживала заведенный порядок, но все с большим нетерпением ждала, что старший из ее сыновей вернется и возьмет управление державой над Волховом в свои крепкие мужские руки. И как еще она, мать, уживется с его женой, молодой королевой…
Однако на исходе весны к Сванхейд вместо сына приехал совсем другой человек – Мистина, сын Свенельда, старого Ингварова воспитателя. И сообщил, что Ингвар провозглашен князем в Киеве и в Хольмгард вернуться не может.
– Провозглашен князем в Кенугарде? Ингвар, ты сказал? – Сванхейд подумала, что ослышалась. Ей прекрасно было известно, кто княжит в Киеве и каковы права ее сына на эту землю. – Но как такое возможно?
Прожив здесь всю жизнь, она знала язык славян, но дома у нее говорили на северном.
– Так пожелала дружина, – коротко ответил посланец – теперь уже, пожалуй, посол.
– Но что случилось… – Сванхейд в тревоге уцепилась за подлокотники резного высокого сиденья и приподнялась, – с моим зятем? И где Мальфрид?
Того, кто еще недавно звался киевским князем, она знала очень хорошо. Олег Предславич, внук Вещего, сам много лет провел в Хольмгарде заложником, присланным сюда в обмен на Ингвара. Сванхейд не просто воспитала его – они с Ульвом отдали за него замуж свою среднюю дочь.
– Он жив, и госпожа Мальфрид тоже цела и невредима, – успокоил ее Мистина. – Они покинули Киев и уехали на запад, в наследственные владения Олега на Мораве. Между ними и Ингваром был заключен… ну, полюбовный уговор, – он выразительно двинул бровями, намекая, что к этой «любви» одну из сторон склонили обстоятельства. – Они увезли все собственное имущество, а также половину наследства Олега Вещего. Половина осталась княгине Эльге: ведь она – племянница Вещего и на поколение старше Олега-младшего. И поэтому ее муж имеет не меньше прав на киевский стол, чем внук покойного по женской ветви. Дружина предпочла вручить власть Ингвару, поскольку Олег не оправдал надежды людей. Он не желал вести русь на поиски добычи и славы. Теперь Ингвар с его женой Эльгой владеют Киевом и всеми землями ее дяди на юге. Но Ингвар надеется, что ты, его мать, не отнимешь у него права наследовать также и за отцом.
– Так он желает… – Сванхейд привыкла к власти, но даже у нее захватило дух от мысли о том, на какую ширь простерлись притязания сына, – …желает один владеть наследством и своего отца на севере, и дяди своей жены на юге?
– Именно так! – с торжествующей дерзостью ответил молодой посол.
По глазам его было видно: он вполне осознавал риск затеянного весной дела и теперь заслуженно гордится успехом. Внешне оставаясь спокойной, Сванхейд смотрела на него во все глаза. В лице этого очень высокого, сильного и хорошо сложенного мужчины перед ней стояла та самая дружина, что привела бывшего заложника к власти в Киеве.
Хозяйка Хольмгарда знала Мистину всю его жизнь: он родился здесь. Свенельд, его отец, в те времена был хирдманом молодого Ульва конунга. Витислава, младшая дочь ободритского князя Драговита, досталась ему как пленница, но он послал ее родным выкуп – десятка два других пленников, – и добился, чтобы Драговит признал брак законным. Мистина был единственным плодом этого союза. Семнадцать лет назад Свенельд увез обоих мальчиков, сына и воспитанника, в Киев. Три года назад Мистина уже навещал Ульва и Сванхейд, когда старался устроить брак Ингвара и Эльги – племянницы Вещего и родственницы плесковских князей. И он его устроил! Будто посланец Фрейра в саге о сватовстве к прекрасной дочери великана, сочетанием силы и хитрости парень раздобыл невесту для побратима, и благодаря ей Ингвар получил права на киевский стол.
То был первый их шаг к власти и славе. Теперь они совершили второй. И, судя по твердому взгляду посланца, уже устремленному к новой цели, не собирались на этом останавливаться.
Мистина был хорош собой, довольно правильные черты лица портил только нос: сломанный еще в отрочестве, тот был отмечен горбинкой и немного свернут на сторону. Длинные русые волосы Свенельдич зачесывал назад и связывал в хвост, чтобы открыть красиво обрисованный лоб. Маленькая русая бородка не скрывала твердых очертаний челюсти. В серых глазах светились дерзость и вызов, яркие губы были сложены так, будто вот-вот на них расцветет торжествующая усмешка.
В грид вбежала Альдис, младшая из двух дочерей Сванхейд. Ей было восемнадцать лет, и отец-славянин мог бы уж года три-четыре как выдать ее замуж, но Ульв не спешил с этим. В таких знатных родах любой брак – это союз куда большего количества людей, чем двоих. Как и мать, Альдис была высока, худощава, с очень светлыми волосами и бровями.
– Говорят, кто-то приехал от Инге… – начала она на ходу, устремляясь к матери, но тут увидела гостя. – Мисти! – взвизгнула она. – Это ты!
Мистина, обернувшись, с улыбкой шагнул к ней и протянул руки. Альдис радостно обняла его. Когда отец увез шестилетнего Мистину в Киев, она была младенцем и его не запомнила, но три года назад, приехав сюда по делу к Ульву конунгу, он за несколько дней успел завоевать ее дружбу. Видя, как они обнимаются, Сванхейд слегка переменилась в лице и вонзила в эту пару заострившийся взор. В прошлый свой приезд Мистина намекал, что в награду за удачное сватовство к Эльге Ингвар обещал ему в жены собственную сестру. Ульв тогда не сказал ни да, ни нет: сын Свенельда был хорошего рода, но Альдис могла рассчитывать на брак, который сделает ее госпожой над целым краем.
– Как ты похорошела! – Мистина нежно поцеловал девушку в щеку. – Но, Альди, не будем давать повода к сплетням: я женат.
Он сказал это с шутливым сожалением, но Сванхейд заметила, как вмиг погасло оживление дочери. Однако Мистина правильно сделал: чем дольше он тянул бы с этим признанием, тем больнее оно ударило бы потом.
– Вот как! – Королева засмеялась, отвлекая внимание на себя. – Любопытная новость. А на ком же?
– На сестре княгини Эльги. Это хорошая женщина, и она ждет уже третьего ребенка.
– А сама Эльга? Чем меня порадует моя невестка?
– У нее прекрасный сын, очень крепкий мальчик, да хранят его боги.
«По-прежнему один?» – подумала Сванхейд, уже знавшая о первенце Ингвара, но не стала упоминать вслух об этом досадном обстоятельстве.
Альдис отошла к своему обычному месту и села, с невозмутимым видом сложив руки на коленях. Сванхейд с одобрением проводила ее глазами: едва ли кто, кроме матери, угадает ее разочарование.
– Значит, Мальфрид с мужем и детьми уехала из Кенугарда? – Сванхейд вновь перевела взгляд на посланца.
– С мужем и сыном. Дочь их осталась в Кенугарде. Если помнишь, она обручена с древлянским князем, и они поженятся лет через семь, как подрастут.
– Мальфрид оставила ее? – удивилась Сванхейд. – Маленькую девочку?
– Ингвар и Эльга пожелали оставить свою племянницу у себя, – уточнил Мистина. – Но и Олег с Мальфрид согласились, что будущее родство с древлянским князем им тоже пойдет на пользу.
Сванхейд покачала головой. Она сама когда-то отослала четырехлетнего сына в чужие края, ибо того требовало благо ее северной державы, но он тогда был лишь одним из шести ее отпрысков. У Мальфрид же всего двое детей. Королева не знала, что и думать: ее сын отнял у родной сестры и власть, и ребенка, а раздор в семье навлекает гнев богов и губит весь род.
– Зато, как мы надеемся, благодаря этому подтверждение договора с Деревлянью не будет стоить большого труда, – добавил Мистина. – Мы займемся этим осенью, когда поедем туда за данью. Можно лишь сожалеть, что Олег-младший не завел десять детей и не обручил их с наследниками всех русских князей. Ведь теперь нам… то есть Ингвару конунгу нужно возобновить все договоры, которые были у прежних киевских князей с предводителями руси и правителями славян, а также с греками, хазарами, уграми, печенегами! Чуть ли не всех доверенных людей ему пришлось разослать по городам и землям. До Сюрнеса я ехал вместе с братьями Гордезоровичами, а оттуда один из них отправился в Плесков – к родичам Эльги, а другой к Анунду конунгу.
– А как же Сверкер из Сюрнеса?
– С ним я поговорил сам. И так понял, что его решение будет зависеть от тех вестей, что я привезу на обратном пути.
Мистина помолчал, давая Сванхейд возможность осмыслить сказанное, и продолжил:
– Сейчас судьба всех русских владений, от Восточного моря до Греческого, зависит от тебя, королева. Вся твоя мудрость понадобится, чтобы принять единственно правильное решение. Если ты поддержишь Ингвара и сохранишь за ним права наследования, то впервые все земли между этими двумя морями окажутся объединены в одних руках. Пока у власти находились Олег и Мальфрид, это было невозможно. Твой сын станет могуч, как ваш предок Харальд Боезуб, и положит начало могущественнейшему роду в этой части света. Или же ты предпочтешь, чтобы несколько твоих сыновей носили звание конунгов одновременно, и отдашь северные владения Ульва твоим другим сыновьям. Но ты сама знаешь, что бывает, если несколько могущественных людей начинают делить наследство общих предков. От этого торжествуют только их враги.
– Вижу, что моего сына в Кенугарде плохо кормили, – обронила Сванхейд. Чем лучше она осознавала все значение случившегося, тем холоднее становилось ее лицо. Кроме победы, у этих событий имелась и оборотная сторона. – Он вырос голодным и жадным. Отнял власть у родной сестры, изгнал ее на чужбину, разлучил с дочерью…
– Он сам схожим образом в детстве был разлучен с тобой, королева, его матерью! – быстро вставил Мистина. – И могу заверить: ему очень не хватало тебя все эти годы. У меня ведь тоже не было матери, и мы с ним росли среди одних только хирдманов.
Сванхейд заметила, как Альдис при этом бросила на него сочувствующий взгляд, и подосадовала про себя: и этот наглец смеет намекать, будто его было некому любить?
– Ингвар был лишен материнской заботы, но потом судьба послала ему сестру, – со сдержанным негодованием напомнила королева. – Он мог бы жить в любви с Мальфрид, как и положено родичам, но вместо этого оскорбил и ограбил ее и ее семью! А завладев этим наследством на юге, не хочет поделиться отцовским наследием с братьями. Что за чудовище я выкормила своей грудью, скажи мне! – Сванхейд подалась вперед и вонзила в посланца пристальный взгляд голубых глаз. – Ты вырос с ним вместе, а я, оказывается, совсем его не знаю! Я привыкла жалеть его, своим унижением и неволей вынужденного оплачивать наш мир с Кенугардом, а оказывается, что жалеть надо всех тех, кто оказался у него на дороге!
– И все же он остается твоим сыном, госпожа, и может сделать для славы вашего рода куда больше всех прочих. Имея в руке меч, отважный человек добьется многого. А разрубив его на десять маленьких частей и одарив всю родню, мы получим десять бесполезных кусочков железа. Владея и Хольмгардом, и Кенугардом, Ингвар сможет крепко держать в руках все то, что между ними. Все пути, ведущие на Греческое и Хазарское море. Управляя этой страной от имени брата, Тородд и Хакон получат больше, чем если бы это было их собственное владение. Что вы думаете об этом? – Мистина повернулся к братьям Ингвара.
Тородду было уже почти двадцать лет, а Хакону – четырнадцать. Достаточно взрослые, чтобы решать за себя, оба тем не менее обратили вопросительные взгляды к матери. На лицах их было смятение: они не знали, чью сторону в семейном раздоре следует принять.
– Однажды вступив на путь обогащения за счет родных, человек становится опасен, как медведь, испробовавший человеческой крови, – сурово ответила Сванхейд. – Что Ингвар предложит нам, чтобы я могла быть спокойна за будущее младших моих сыновей?
– Мы обсудим условия, которые Ингвар предлагает братьям, как только они пожелают меня выслушать.
– Это мы сделаем завтра. – Сванхейд встала. – Я должна обдумать все, что узнала. Может быть, спросить богов. Дурную весть ты принес мне, – она бросила на Мистину холодный взгляд, в котором сквозила боль, как вода под слоем голубого льда. – Мой сын вырос драконом, готовым пожирать своих!
Она вышла, и все в гриде проводили ее тревожными взглядами.
– О, Мисти! – Альдис смотрела на посланца со слезами испуга на глазах. Лицом она так походила на старшую сестру, что Мистине стало неловко, будто перед ним вдруг очутилась сама Мальфрид. – Она…
– Она же не проклянет его, нет? – хриплым ломающимся голосом докончил Хакон, самый младший из братьев.
* * *
Вероятно, королева Сванхейд раскидывала руны в уединении, но никому не сказала, что они открыли ей. Однако на следующий день она согласилась выслушать, что Ингвар предлагает братьям: третью долю дани и пошлин, собираемых в Хольмгарде, с правом беспошлинной продажи всего этого в Киеве или в самом Царьграде, когда новый князь восстановит договоры с греческими кейсарами. К тому же Ингвар брался поспособствовать тому, чтобы все братья получили невест самых знатных родов, а сестра – жениха.
– Для Тородда у нас припасено кое-что особенное, – рассказывал Мистина. – Одна родная сестра Эльги обручена с сыном воеводы Чернигостя, но вторая еще свободна. Ей пятнадцать лет, и по славянским обычаям она уже годится в жены. Я видел ее три года назад и могу сказать тебе, Тородд, что красотой она почти не уступает Эльге. Что скажешь? – Он подмигнул парню. – Такая невеста достойна твоего рода, и Эльга сама устроит этот брак. Тебе останется лишь послать за девушкой, чтобы ее доставили сюда.
– Кстати, о Плескове, – вспомнила Сванхейд. – Возможно, вы в Кенугарде еще не знаете, что у нас больше родичей, чем мы думали.
– Так всегда оказывается, стоит кому-то добиться успеха! – Мистина засмеялся. – Когда человек становится конунгом, у него обычно находится куда больше родни, чем он раньше думал!
– Нет, этот человек появился еще зимой, пока Ингвар не был конунгом. Это брат его жены.
– У нее, сколько я знаю, два родных брата и два двоюродных…
– Это ее сводный брат. Старший сын ее отца, он родился в Хейдабьюре и лишь осенью впервые приехал в Гарды. Его имя Хельги Красный.
Мистина изменился в лице: непринужденная любезность слетела с него, сменившись недоверием.
– Что? – обронил он, и в этом коротком слове отчетливо слышалось многое: от недоумения до угрозы.
– Он провел здесь у нас месяца два, и мне известны все его обстоятельства из первых рук. Это весьма отважный и предприимчивый мужчина, я бы сказала.
– Мужчина?
– Он на пару лет старше тебя, как мне показалось. Так что, похоже, до наследства Хельги киевского есть больше охотников, чем думает Ингвар.
Мистина помолчал, но Сванхейд по этому молчанию поняла едва ли не больше, чем за весь предыдущий разговор. Лицо его стало замкнутым, в чертах отразилось легкое пренебрежение, а серые глаза вдруг сделались непрозрачными, будто окна в душу закрыли две стальные заслонки. Это выражение не обещало ровно ничего хорошего тому, о ком он думал в эти мгновения.
Сванхейд постучала пальцами по подлокотнику сиденья. Она была еще недурна собой: ей оставалось два-три года до пятидесяти, но черты худощавого лица – продолговатого, с высокими скулами, – даже при морщинах остались четкими, и в них ум и решимость вполне заменяли красоту. Произведя на свет одиннадцать детей, она раздалась в бедрах, но не располнела; в прямом платье синей шерсти с золочеными наплечными застежками, с покрывалом белого шелка на голове, немолодая королева выглядела величавой и даже способной восхищать.
– Надеюсь, в мои преклонные годы никто не подумает обо мне дурно, даже если я позову молодого мужчину побеседовать со мной наедине! – улыбнулась она, но голубые глаза ее оставались прохладны. – Идем, – она встала с высокого сиденья с резной спинкой и сделала Мистине знак следовать за ней.
Закрыв за собой дверь спального чулана, она села на лежанку и указала Мистине на большой ларь.
– Ну а теперь, – тихим голосом произнесла она, – расскажи мне, что произошло в Кенугарде на самом деле. Руны открыли мне, что ты выложил лишь внешнюю сторону событий. Внутренняя осталась скрыта. И пока я не узнаю ее, я не смогу решить, сын мой стал конунгом в Кенугарде или жадный дракон.
Мистина взглянул ей в глаза – более пристально, чем дозволено мужчине перед женщиной, молодому перед той, что годится ему в матери, хирдману – перед королевой. Он без затруднений умел и утаивать правду, и искажать ее, но также понимал, что иной раз правда полезнее самой красивой лжи. Опытная женщина королевского рода могла оценить и те преимущества, которые теперь получил ее сын, и тех людей, которые ему это обеспечили.
Ингвар не хуже других понимал, как провинился перед собственным родом – хоть и пришло это понимание уже тогда, когда дело было сделано. Но не желал усугублять вину ложью перед матерью. Если бы Сванхейд простила его и приняла его сторону, это в немалой степени сгладило бы дурные последствия; но попытайся он ее обмануть, и эта новая вина легла бы тяжким грузом на прежнюю.
И Мистина рассказал ей все: про старого князя Предслава и священника отца Килана, про исчезновения кур и нападения на людей. А также о том, откуда эти пугающие чудеса взялись[1].
Сванхейд молчала, внимательно разглядывая его. Расчет оправдался: по мере рассказа в глазах ее проступало не столько негодование, сколько понимание и любопытство. Причем не только к событиям, но и к тому, кто рассказывал. Своим доверием к ее уму и опыту Мистина добился больше, чем мог бы добиться похвалами ее якобы неувядающей красе, на которые так падки обычные женщины.
– О боги! – Сванхейд приложила руку к груди. – Ты… допустил, чтобы оборотень напал на твою жену! Скажу прямо, тебе не видать было бы моей дочери, даже если бы ты еще не женился.
– Требиня знал, что, если он хоть поцарапает мою жену, я сверну ему шею.
– А если бы у нее сердце от страха разорвалось?
– Это едва ли. Она еще до приезда в Киев пережила такое, что ее сердце могло десять раз разорваться. А раз выдержало, значит, его выковали из самого крепкого железа. Я надеюсь, она родит много сыновей и это будут храбрые парни. Ведь известно, что силу духа сыновья наследуют от матери.
Пока он говорил, взгляд королевы не раз соскальзывал с его лица на середину груди; замечая это, Мистина стал не спеша расстегивать кафтан. Сванхейд внимательно следила за его рукой, не пропуская между тем ни одного слова.
– Кто бы мог подумать… – пробормотала она, когда он закончил. – Когда ты родился, я приняла тебя и обмыла. Сколько же лет прошло – двадцать пять? Или двадцать три?
– Я на два года старше Ингвара, а сколько ему лет, ты уж верно помнишь, госпожа.
– Тогда ты был вопящим красным младенцем, правда, крупным и тяжелым для новорожденного. Нелегко ты дался твоей бедной матери.
– Но легче, чем тот, что хотел пройти за мной следом.
– Да, второго раза она не пережила. И вот теперь… – Сванхейд еще раз окинула его взглядом с головы до ног, – ты стал мужчиной, способным свергать одних конунгов и сажать на престол других.
– С тех пор, как ты сама видишь, я заметно подрос… Все, что мне дали боги, теперь куда больше прежнего, – непринужденно добавил он.
– Всего я еще не видела… – задумчиво заметила Сванхейд.
– Если госпожа моя королева пожелает… – понизив голос, ответил Мистина с неповторимой смесью достоинства и мягкой вкрадчивости.
– Человек на том пути, на какой ты вступил, должен уметь молчать, – намекнула Сванхейд.
– Ты, госпожа, уже знаешь об этом деле больше, чем моя жена. И то потому, что так пожелал Ингвар конунг. Но я хорошо понимаю: бывают вещи, которых не нужно знать ни жене, ни Ингвару.
– Тогда пересядь поближе, – хозяйка подвинулась и приглашающе коснулась ладонью ложа, – и расскажи мне, что это за вещи…
Глава 2
Плесковская земля,
Варягино, 9-е лето Воиславово
– Не собирать нам росы нынче – дождит. – Воеводша Кресава Доброзоровна вошла со двора и скинула большой верхний платок. На грубой серой шерсти блестели капли. – А в лес все одно идти надо.
– Я схожу, – Пестрянка пересадила ребенка с колен на лавку. – Только вы за мальцом приглядите, не хочу его в такую мокрядь с собой тащить.
– Да я пригляжу… Хочешь пойти? – Свекровь немного замялась. – Может, парней пошлем?
– Парни пусть венки себе вьют, – нахмурилась Пестрянка. – Чего им туда ходить, только тоску разводить.
У Торлейва уже подросли племянники – Эймунду сравнялось пятнадцать, Олейву – четырнадцать, и втроем с Кетькой, двенадцатилетним младшим сыном самого воеводы, они легко справились бы с таким делом, как доставка припасов «к ручью». Но Пестрянка даже обрадовалась случаю на целый день уйти подальше от людей. Хоть и дождь, а Купалии есть Купалии – сейчас начнется беготня, явятся девки и молодухи из-за реки, из Люботиной веси, притащат березовых веток, охапки зелени и цветов, будут вить венки и развешивать по окнам, стенам и дверям. Хохотать и поддразнивать друг друга будущими женихами. И ее, Пестрянки, сестры – чернобудинские девки – тоже набегут. И ей опять стыдиться перед ними, хотя они здесь, на воеводском дворе, гостьи, а она – хозяйка, младшая из двух, но уважаемая и даже любимая. Свекром-воеводой и свекровью.
Сама Пестрянка в последние годы невзлюбила Купалии. Самый веселый день годового круга, полный смеха, пения и плясания, ей причинял лишь досаду, напоминая про обманутые надежды и загубленную молодость. Ровно три года назад она внезапно вышла замуж… и пробыла замужем неделю. И без недели три года уже живет не пойми кем. Свекор ее, воевода Торлейв, говорил, что в нурманском языке есть название для женщины, у которой муж ушел в поход надолго и не возвращается, но Пестрянка его забыла. Дома родители мужа говорили по-славянски, и ей не требовалось учить язык варягов. Только в последнюю весну она поневоле запомнила с десяток слов, но это отдельный разговор.
Пестрянка часто думала: видать, порвалась нить ее судьбы, и вот она сидит на месте, держа оборванный конец и не зная, как двигаться дальше. На девятнадцатом году, здоровая, красивая, с двухлетним ребенком – живет в чужом доме, без мужа и без надежды найти нового, потому что прежний жив… слава богам. Пестрянка знала, что не виновата в своем одиночестве – и свекор со свекровью то же говорили, – но не могла избавиться от потаенного стыда. Может, если бы она была лучше – покрасивее, поумнее, посильнее родом, – муж вернулся бы или взял бы ее к себе. Правда, он и разглядеть ее едва успел. Помнит ли теперь в лицо свою жену молодую?
– Не тяжело тебе будет? – Доброзоровна выволокла из голбца и поставила на лавку короб, уложенный еще с вечера. – Я тут всего им насобирала…
Пестрянка заглянула в короб: хлеб печеный, крупа, мука ржаная и овсяная, сухой горох, горшочек масла. Получилось увесисто, но Пестрянка, взяв за лямку, прикинула и усмехнулась: разве это тяжесть?
Женщина она была крепкая, хоть и не выше среднего роста, но крупнее своей щуплой свекрови. И дочь Кресавы, Ута, что те же три года назад уехала в Киев, пошла в мать, а вот старший сын воеводы уродился в отца. Глядя на своего сынка, Пестрянка видела в нем отцовскую породу. В семье его звали просто Пестренец – другое имя дед, Торлейв, отказался давать без родителя. А тот, хоть и знает о сыне, ни слова о нем за эти два года не передал.
– Возьми мой платок! – Когда Пестрянка уже вскинула лямки на плечи, Кресава сама покрыла ей голову своим серым платком. – Он не скоро еще промокнет.
– В лес войду – там меньше капает, – Пестрянка отмахнулась.
Во дворе лишь слегка моросило, однако небо было затянуто ровной серой пеленой, не темной и хмурой, но плотной – такая может висеть много дней подряд, особенно здесь, в краю северных кривичей, где ясные дни нечасты. Не очень-то сегодня погуляешь, если к вечеру не развиднеется! Костры, конечно, будут, народ соберется, но под дождем сделают только самое нужное – похоронят Ярилу, пустят венки да и разбегутся. Был бы такой же хмурый вечер три года назад – может, не встретила бы Пестрянка свою судьбу дурацкую и года два была бы замужем за кем-нибудь другим, жила бы теперь, как все бабы…
Она была не из тех, кто вечно ноет и жалуется. Но сейчас, когда наступили уже третьи Купалии с того злосчастного дня, когда Пестрянка так глупо решила свою судьбу, она больше не могла отмахиваться: дескать, все наладится, однажды муж вернется, и станут они жить-поживать… Три года – срок, после какого сгинувшего мужа можно считать мертвым и подыскивать нового. Но ее муж был жив, это Пестрянка знала точно, и оттого мысли ходили по кругу. И сейчас досада на собственную беспомощность достигла такого накала, что стало ясно: дальше так нельзя. Надо что-то делать.
– Фастрид! – раздался окрик неподалеку. – Хейлльду![2] Что еси такая хмурайя?
Пестрянка обернулась. Она уже миновала двор и вышла к реке – впереди над белыми камнями брода бурлила вода, высокая из-за дождей. У воды стоял молодой мужчина в прилипших к телу мокрых портках. Довольно рослый, крепкий, плечистый, с широкой грудью, он был бы недурен собой, если бы не красновато-розовое, заметное родимое пятно на левой стороне лица и шеи: оно шло через левое ухо, щеку, рот, подбородок и горло. К счастью, не поднималось выше скулы, на лице лишь отчасти просвечивало сквозь светло-русую бороду и бросалось в глаза только на ухе и шее слева. Сейчас, когда он стоял без сорочки, было видно, что пятно спускается по горлу и кончается на два-три пальца ниже ключиц. При виде него Пестрянка поначалу содрогалась: было уж очень похоже на кровавый поток из перерезанного горла. Глупые девки, впервые увидев Хельги Красного, взвизгивали. А он держался так, будто ни о каких недостатках своей наружности даже не подозревает.
– Будь с-це-ела, – старательно выговорил Хельги. Он жил здесь с зимы и уже заметно улучшил свой славянский язык, начатки коего принес из родного Хейдабьюра сюда, на реку Великую. Только имя Пестрянки он выговорить не мог и придумал ей другое, похожее. По его словам, имя Фастрид означает «красавица». – Я правильно говорю?
– Нет! – Пестрянка ухмыльнулась. – Цела, а не села!
– Но все время по-разному! – с отчаянием воскликнул Хельги.
– Ничего не по-разному! Просто ты не помнишь!
– Будь ц-ела, – на этот раз у него получилось немного ближе к нужному. – Теперь да?
Он быстро запомнил, что слова «целый» и «целовать» состоят в близком родстве, и при пожелании целости можно поцеловаться. Пестрянка увернулась, невольно смеясь, и он лишь успел скользнуть губами по ее лбу под повоем, но тоже засмеялся.
– Ты чего так рано встал? – удивилась Пестрянка.
– Я йэсщо не спал.
– Где же ты был?
– А! – Хельги махнул рукой за реку. – Там.
Вчерашний вечер выдался пасмурным, но без дождя, поэтому девки на той стороне допоздна пели и резвились в березняке. И визжали с таким задором, что сразу становилось ясно: парни там тоже есть. Пестрянка поджала губы: она сильно подозревала, что ночами, когда пятна не видно, веселость и разговорчивость Хельги приносят ему больший успех у люботинских девок, чем при свете дня.
– Эх, догуляешься! – вздохнула она, снова подумав о себе.
Хельги был старше ее на семь лет – давно уже не отрок. Но она порой смотрела на него почти материнским взглядом – таким беззаботным и легкомысленным он ей казался.
– Куда ты идешь с этим большим… колобок? – Хельги взял с травы свою сорочку и стал вытираться.
– Коробок! – поправила Пестрянка. – В лес к ужасной ведьме-колдунье.
– Виедьма? Хэкс? – Хельги сделал страшное лицо.
– Вот именно. Надо ей припасы отнести, – Пестрянка двинула плечом под лямкой короба.
– Это опаска?
– Опасно? Нет, пожалуй. Это Бура-баба. Тебе разве про нее не рассказывали?
– Ней. А мочно я пойду с тобой?
– Ну… – Пестрянка заколебалась. – Чего тебе там делать? Иди спать, а то потом Купалии проспишь.
– Нет, подощди менья.
Хельги сел на траву и принялся разбирать свои обмотки. Это было дело небыстрое, тем более что он их не свернул, когда снимал, а просто бросил, и теперь тканые шерстяные полосы длиной в семь локтей сперва надо было смотать. Пестрянка вздохнула, опустила короб к ногам. Вот навязался! Зачем ей брать его с собой? Да и можно ли, все-таки он чужой… Ну, не совсем чужой – он сын Вальгарда, а Вальгард приходился старшим братом Пестрянкиному свекру – Торлейву. То есть, по человеческому счету рассуждая, Хельги мог считать Буру-бабу своей мачехой. В ее прежней, человеческой жизни, где она звалась Домолюбой, старшей дочерью давно умершего плесковского князя Судогостя, и была женой воеводы Вальгарда. Однако три года назад уйдя в лес, Домолюба оборвала все свои человеческие связи. Даже родные дочери, Володея и Берислава, навещая ее, не имели права называть ее матерью и видеть лицо – только птичью личину. Поэтому они и не любили к ней ходить – уж очень было жутко и тоскливо смотреть на свою мать, которая больше вам не мать, не мертвая, но и не живая.
В глазах же Хельги, когда он наконец встал, застегнул пояс поверх сорочки и объявил, что готов, блестело лишь любопытство. Веки его припухли, волосы спутались, да и весь вид был помятый, но тем не менее он улыбался, ничуть не огорченный тем, что бессонная ночь прямо сразу переходит в новый день – к тому же хмурый и дождливый.
– Сходи хоть свиту надень, – предложила Пестрянка, глядя, как мелкие капли падают на серый холст его сорочки. – То есть это… капу[3] свою.
Но Хельги только махнул рукой и взял ее короб. Он был удивительно неприхотлив и, кажется, совсем не обращал внимания, что есть, во что одеваться и где спать.
– Йа слышал, сегодня будет самый большой… мидсоммар ден? – спросил он, когда они вдвоем направились по тропе вдоль реки.
– Купалии.
– Купаться?
– Сегодня весна кончается, лето начинается. Ярила Лелю в жены берет, а сам умирает.
– Вот печаль! И как… зачем брать в жены, если умирать? – Хельги взглянул на нее, намекая, что можно придумать и получше.
– Судьба такая! – Пестрянка вздохнула, снова подумав о себе. – Я вот тоже, как Леля: замуж вышла и сразу одна осталась.
Мысль об этом сходстве пришла ей сейчас впервые и так ее поразила, что она даже остановилась. Леля и Ярила лишь мимолетно соединяются на эту ночь и вновь расходятся, но земля начинает приносить плоды. Так и они с Асмундом: встретились и разошлись, но теперь у них растет сын… Неужели это все? В который уже раз она задала себе этот вопрос, но сейчас поняла, что больше не может слышать в ответ тишину.
– Ты давно одна? – Хельги внимательно наблюдал за ее лицом, пытаясь разобрать, где она говорит о судьбе богов, а где – о своей собственной.
– Три года! – Пестрянка пустилась дальше по тропе, которая здесь отходила от реки и выгона и углублялась в лес. – На Купалиях многие женятся, хотя свадеб не гуляют.
– Как? – Хельги поднял брови.
– Ну, встречается парень с девкой, и если хочет ее в жены, то ведет вокруг озера или ключа… У нас вон, ключ Русалий, – Пестрянка махнула рукой к берегу реки, где на обрыве по белым известковым выходам журчали многочисленные струи. – Туда все ходят. Три раза обойдут кругом – тогда муж и жена. Потом парень девку домой к себе ведет, родителям показывает. Утром свекровь ей две косы плетет и повой надевает – теперь молодуха. И живут. А если не сами парень с девкой, а родичи их сговариваются и невесту привозят, тогда свадьбу осенью играют.
– Сколько у вас разных обычаев!
– А у вас не так?
– У нас свадьба без пира, свадебного пива, даров и пляски с огнями – это не свадьба, а без-дели-ца… – Он покрутил рукой. – От этого родятся побочные дети.
– Мой сын – не побочный! – Пестрянка остановилась и в возмущении повернулась к нему. – Мне Доброзоровна сама повой надевала!
– Да-да! – Хельги успокаивающе прикоснулся к ее плечу. – Побочный сын – это я. И если бы твой тоже был побочным, я не тот, кто станет тебя не… нечестить.
Он опять улыбнулся, будто все их сложности не стоили разговора. Пестрянка вздохнула и тронулась дальше по тропе. Они уже вступили в ельник; на ярко-зеленых от влаги лапах висели крупные, прозрачные капли, но морось поунялась, и воздух был почти чист. Остро пахло лесной землей и травами; насыщенный свежестью воздух распирал грудь, побуждая и человека расти вслед за прочими детьми земли.
– Его мать заставила жениться, – стала рассказывать Пестрянка, хотя Хельги больше не задавал вопросов. Но он всегда охотно слушал, а его смешной славянский язык создавал впечатление, что он половину не поймет и поэтому ему можно открыть то, чего открывать никому не хочется – почти как доброй собаке. – У них тогда тяжелое лето выдалось: твой отец как раз перед этим погиб, а сестра Елька в Киев сбежала. Домолюба осталась с четырьмя младшими детьми вдовой. А вскоре после того прежняя Бура-баба умерла, а еще Князя-Медведя убили… – Пестрянка понизила голос до шепота, сообразив, что в лесу не стоит говорить об этом. – Князя-Медведя нашли убитым, его в спину ударили чем-то, ножом или вроде того, а потом еще лоб разрубили.
– Кто се есть? – Хельги напряженно смотрел ей в лицо, стараясь понять, в чем дело. – Конунг медведей?
– Князь-Медведь – это наш самый старший ведун, он в лесу обитает и мертвым путь на тот свет отворяет, а живым – на этот. В нем все чуры наши и деды живут, а тут его взяли и убили! У нас такой страх был по всей волости, думали, погибель нам всем придет. Ждали, что теперь все нави и кудесы на нас так и набросятся, а остановить их некому. Еще толковали, будто ни одна баба теперь чад не родит, пока вину не искупим, а как искупать – и спросить не у кого.
– Кто его убил? – серьезно спросил Хельги.
– Невесть кто! Тут киевляне тогда были, варяги, они Ельку увезли от него, они, значит, и убили. Да их не сыскали. Ну вот, а вместо старой Буры-бабы, князь сказал, теперь будет Домолюба. А прежняя Бура-баба, которая умерла, была их мать, Домолюбы и Воислава. Домолюба и пошла в лес вместо матери. А Доброзоровна в доме одна хозяйничать осталась, у нее на руках деверя четверо детей да свой Кетька. При ней тогда еще своя дочь была, Ута, но ее в Киев с Елькиным приданым снарядили, она и уехала. И уже Доброзоровна знала, что дочери уезжать, не хотела одна оставаться в доме, вот и велела Аське: ступай, дескать, на Купалии, ищи себе жену. Он и пошел.
Пестрянка помолчала и глубоко вздохнула:
– Я его раньше видела. Года за два даже. Он мне нравился. Приглядный такой парень. Не разговорчивый, зато основательный. И собой хорош. Я едва заневестилась, все на него посматривала, да думала: где уж нам? И тут вижу: он тоже все на меня поглядывает… и еще на Утрянку, сестру мою, стрыя Чистухи дочку. А потом говорит: пойдешь за меня? Я аж не поверила. Чтобы такой парень, да воеводы старший сын, ко мне посватался? Говорили, что на этот год никто жениться не будет, потому что Князь-Медведь… А я уже взрослая была, ждать не хотела. И парень такой хороший, семья богатая. Я и пошла с ним. А там недели не прошло, собрались они в Киев, Уту замуж везти, Аська с ними поехал. Я думала, жалко, теперь, может, только зимой воротится, но что делать – он у них, Уты и Ельки, один был взрослый брат. Уехал… и все. И не возвращается больше. Я уж думаю: может, он и не хочет возвращаться? Может, забыл про меня? Такая я незадачливая…
Судя по глазам Хельги, он почти с самого начала утратил нить повествования и совсем не понял, кто куда уехал и кто кому кем приходился. Но главное он разобрал: Пестрянке грустно.
– Глэди мин[4]… – Хельги взял ее за плечи и бережно прислонил к себе. – Не надо много печаль иметь. Ты такая красивая. Тебе будет счастье.
Пестрянка уткнулась носом во влажный холст его сорочки, сквозь нее ощущая тепло тела. Хельги был лучше собаки: он мог ответить, пусть не слишком складно, зато именно то, что хотелось услышать. Но разве она не слышала таких же утешений? Ей говорила это и своя родня, и Аськина. Его родители тоже были недовольны тем, как сын поступил с молодой женой: привел, а сам пропал. Пестрянка даже слышала, как свекор упрекал свою хозяйку: ты, дескать, парня вытолкала на игрища и велела без жены не возвращаться, а у него сердце не лежало… Пестрянка даже испугалась тогда: не из-за нее ли Аська не вернулся из Киева? Может, не заставь его мать жениться, он бы приехал той же зимой и теперь жил дома? Иначе зачем пропадает на чужбине? Кто его там в неволе держит?
– Слушай… – сказал Хельги у нее над ухом. – Твой муж нет три лета. Когда нет три лета, он сказывается мертвый.
– Считается?
– Да. Когда муж ушел в море и три года нет, считает-ся, он мертвый. И жена найти другого мужа имеет право.
– Но Аська же не умер! – Пестрянка подняла глаза.
– Где видок, что не умер? – Хельги огляделся. – Ты имеешь право сказать его родичам: его нет, я вольна в себе… – Он отчаянно старался обойтись тем набором славянских слов, который знал. – И взять другой муж.
И пока Пестрянка соображала, о чем таком он говорит, Хельги снова привлек ее к себе и обнял крепче, уже так, как обнимают не просто из доброты.
– Хочешь, я буду твой муж? – шепнул ей в ухо.
От звука его низкого мягкого голоса с ней делалось что-то такое, будто нечто теплое тает в животе. Этот голос был будто пушистая лапа, что гладит прямо изнутри… Его губы прильнули к ее виску; у Пестрянки вдруг так сильно застучало сердце, что она испугалась и отшатнулась.
– Ты что это задумал? – возмутилась она. – Ты меня за кого принимаешь? За вдову гулящую? А ну давай мой короб и ступай домой!
– Фастрид, будь спокойный! – Хельги выставил вперед ладони, будто показывая, что в них нет оружия. – Не надо сердитый… ся. Я могу любить тебе вместо твой муж. Если ты хочешь. Если ты не хочешь… пойдем в лес.
Он кивнул на тропу, предлагая следовать прежним путем. Пестрянка с подозрением покосилась на него, подумав вдруг: не слишком ли беспечно было отправиться в безлюдное место с мужчиной вдвоем? Хельги жил у них уже почти полгода и считался ее близким родичем, поскольку приходился пропавшему мужу двоюродным братом. И был самым старшим из варягинских мужчин в поколении сыновей – племянников знаменитого киевского князя Олега Вещего.
Появление его оказалось большой неожиданностью для всех. С маленькой дружиной из десятка датских бродяг он прибыл в Варягино из Хольмгарда в поисках родни своего отца – Вальгарда. Тот был мертв уже два с половиной года, но, разумеется, послать об этом весть в далекий Хейдабьюр никому и в голову не приходило. Даже Торлейв давно позабыл о том, что много лет назад, еще когда они с братом служили в дружине ютландского конунга Кнута, Вальгард водил дружбу с девушкой по имени Льювини. Отец ее торговал железом и по полгода проводил в Свеаланде, а мать любила задавать пиры и слушать рассказы о дальних странствиях. Но в Хейдабьюре младшие братья Одда Стрелы прожили всего пару лет и отправились вслед за ним: в то время Одд прославился благодаря удачному походу на Константинополь.
О том, что у Льювини уже после их отъезда родился мальчик, Вальгард так никогда и не узнал. А Торлейв узнал о существовании племянника, когда двадцать пять лет спустя перед ним однажды предстал мужчина – и впрямь удивительно похожий на Вальгарда. Надеясь, что сын когда-нибудь найдет свой род, Льювини дала ему имя в честь старшего брата отца – того, о котором Вальгард так много и восторженно говорил в тот год[5].
– Пять лет назад Кнут конунг потерпел поражение от саксонца Генриха и даже согласился креститься, и жизнь стала скучной, – рассказывал Хельги. – Ни походов, ни сражений, ни добычи. Я хотел пойти во Францию с одним человеком, но мы не поладили. Тогда мне уже пришлось уезжать очень быстро, и я хотел отправиться в Бьёрко, но мой отчим – Гейрфинн Шишка, муж матери, – сказал, что лучше бы мне ехать туда, где мой родной отец. Ты представь, как я удивился! Я думал, моя мать вышла за него вдовой. А оказалось, мой отец ее пережил – но об этом я узнал, когда его уже не было, а я не знал…
О смерти Вальгарда Хельги услышал еще в Ладоге – именно там ему указали путь к последним живым родичам, о которых он знал только, что они «где-то в Гардах».
– Это было как в саге! – увлеченно рассказывал он Торлейву и тем из домочадцев, кто понимал северный язык. – Я сказал королеве Сванхейд, жене Ульва, кто я такой, и она сразу ответила: да ты наш родич! Оказывается, моя сводная сестра Эльга замужем за старшим сыном Сванхейд! Представьте, как я обрадовался! Королева так хорошо меня принимала и даже не хотела отпускать. Но я подумал, что мне стоит познакомиться и с более близкой родней, иначе остался бы там до конца зимы.
Торлейв понимал, почему Сванхейд, у которой тогда был тяжело болен старый муж – весть о смерти Ульва пришла уже после приезда Хельги, – хорошо принимала любезного молодого мужчину. И даже почти красивого – если смотреть на него с правой стороны или в полутьме: продолговатое лицо, высокий и широкий лоб, прямые густые брови. Несколько тяжеловесные черты смягчала дружелюбная, открытая улыбка. Хорошего роста и сложения, умный, наблюдательный, разговорчивый, уверенный, но не заносчивый, Хельги легко внушал людям привязанность и уважение.
И сам Торлейв, когда прошло первое удивление, обрадовался. С гибели Вальгарда шел третий год, но Торлейв все еще тосковал по брату. Родной сын Вальграда, пусть побочный, плод давно забытого увлечения, однако так похожий на него лицом, показался подарком богов. А к тому же его собственный сын Асмунд уехал в Киев и даже не обещал пока вернуться. Двое младших племянников, Эймунд и Олейв, были еще отроками. В усадьбе казалось пустовато, в делах дружины Торлейву требовался помощник, на которого можно положиться. Поэтому он охотно принял новоявленного родича в семью.
– Здесь у нас славных битв и богатой добычи не будет, – сразу сказал он, – но со временем ты заведешь свой двор, женишься на девушке хорошего рода с приданым, как мы с Вальгардом, и заживешь как состоятельный хёвдинг и уважаемый человек. Боюсь только, после Хейдабьюра не будет ли тебе скучно?
– Нет, не думаю, – Хельги не сводил глаз с Пестрянки, которая, не понимая их разговора, подавала на стол. – А кто эта милая женщина – твоя младшая жена?
Вид ее ясно говорил о принадлежности не к челяди, а к хозяйской семье, но Хельги не видел в доме никого похожего на ее мужа. Пестрянка была не так чтобы красива, но приятна на вид: довольно правильные черты скуластого лица, пушистые на внутреннем конце темно-русые брови, яркие губы, ровные, белые зубы. Высокий и широкий лоб придавал чертам внушительности, и нрава она была скорее сурового, чем резвого. Но, видя, что свекор гостю рад, приветливо улыбалась ему, отчего ее лицо становилось светлым и милым.
Домочадцев у Торлейва осталось не так много, чтобы в них трудно было разобраться, и очень быстро Хельги понял: эта молодая женщина – жена его двоюродного брата Асмунда, который уже давно не показывается в родных краях. Иная уже нашла бы, как утешиться, но Пестрянка не подавала ни малейшего повода в ней усомниться. Даже на Купалии со времени отъезда мужа она выходила с его родителями, смотрела за детьми и отправлялась домой, когда наставала пора класть их спать. На ней лежала половина обширного варягинского хозяйства, и она так хорошо справлялась, будто родилась воеводшей. И все же Хельги видел, что ее гнетет тоска. Ну не дурак ли его незнакомый брат Асмунд?
* * *
К обиталищу Буры-бабы дорога была неблизкая. Уже давным-давно перевалило за полдень, а двое путников все пробирались через болотистую местность, где Пестрянка находила дорогу по тайным приметам. Эту тропу ей когда-то показала Кресава – на случай, что сама не сможет отлучиться из дома, где кроме них почти не осталось взрослых. Сменяли одна другую болотины, где между кочками блестела вода, поросшие вереском сосновые поляны, ельники. На более высоких открытых местах в траве краснели листья земляники и горели искрами созревшие ягоды; от дождей они стали водянистыми, несладкими и почти расползались в пальцах, тем не менее Хельги накидывался на них с радостной жадностью, будто мальчишка. Пестрянка смеялась, глядя, как он стоит на коленях, кидая ягоды в рот одну за другой, и поневоле завидовала: как же немного иной раз человеку надо! И когда Хельги протянул горсть помятых ягод ей, она взяла их с таким чувством, будто он делится с ней счастьем.
Два раза присаживались отдохнуть, съели напополам горбушку хлеба с куском сала, что Пестрянка взяла из дома себе на дорогу. Два раза принимался дождь, и один раз такой сильный, что пришлось забиться под еловые лапы и переждать. Чтобы не скучать, Хельги рассказывал разные повести о Хейдабьюре и своих товарищах – этого добра у него был бесконечный запас.
– Миннир мик…[6] – начинал он по привычке, но потом начинал подбирать славянские слова.
Кое-что из этого Пестрянка уже слышала, но поскольку она тоже не всегда его понимала, то не возражала послушать еще.
Да и лучше пусть он говорит. Стоило ему замолчать, как его мысли начинали просто бить в уши – мысли о том самом, о чем Пестрянка не желала знать. Стоило им замолчать хоть на миг, как она невольно начинала ждать, что вот сейчас рука Хельги сдвинется с места, поднимется и обовьется вокруг ее стана. От этого ожидания теснило в груди. И что ей тогда делать?
Наконец они вышли на берег ручья. В этом месте у Пестрянки всегда замирало сердце: здесь пролегала известная ей грань того света, и ручей служил ее зримым обозначением. На том берегу темнел ельник. Подлеска почти не было, бурые стволы стояли на ровной земле, усыпанной рыжей хвоей, лишь кое-где торчали пышные хвосты перун-травы. Если приглядеться, вдали за деревьями серело плохо различимое нечто, похожее на бревенчатый тын.
– Давай короб. – Пестрянка остановилась. – Дальше не пойдем, здесь оставим.
Хельги поставил поклажу наземь, и она стала вынимать мешки, туеса и хлебы.
– А где хэксен?
– Там ее двор, отсюда не видно. – Пестрянка кивнула за ручей и понизила голос: – Ближе подходить нельзя, если особого дела нет. Там – Навь. Страна мертвых. У нее вокруг тына на кольях все лбы коровьи и лошадиные. Я сама не видела, мне Ута рассказывала. Постучи по дереву.
Она кивнула на палку, валявшуюся на земле, и показала на поваленное бревно, знаками изобразив, будто бьет одним об другое. Хельги сделал, как она велела: по лесу разнесся глухой стук.
– Она услышит и придет забрать припас. Пойдем.
Хельги медлил, вглядываясь в ельник и явно надеясь повидать загадочную ведьму. Пестрянка взяла его за рукав и потянула:
– Нечего тебе на нее смотреть. Через нее Навь глядит. Зазеваешься – утащит.
Сегодня Пестрянке особенно хотелось уйти отсюда поскорее. Ей вдруг пришло в голову, что если нынешняя Бура-баба умрет, то взамен в избушку с черепами вполне могут отправить ее. Она, конечно, не самая старая в волости и волхованием не занимается, но положение ее как раз подходящее. Ни девка, ни жена, ни вдова – сидит уже три года на меже, ни туда ни сюда.
– А ведь ты правду сказал! – Отойдя шагов на двадцать от ручья, она вдруг обернулась к удивленному Хельги. – Три года! И в сказаниях жена три года ждет, потом опять замуж идет! Пойду на Купалии и другого мужа себе найду!
– А как сделать, чтобы ты нашла меня? – Хельги улыбнулся и посмотрел на нее с ожиданием.
– Никак! – отрезала Пестрянка. – Ты – той же породы, варяжской! Никто из вас не умирает, где родился. Всякого за море будто кто за ворот волочет! Стрый их старший, Хельги тоже, и в Киев уехал, и до Царьграда добрался, теперь всех их туда тянет! Аська уехал, обе сестры его уехали – уж им бы, казалось, куда? А нет, тоже в Киев надо! Придет срок – и ты уедешь! А я опять сиди? Нет, больше я уж такой дурой не буду!
– Фастрид, я…
– Можешь мне клятву дать, что не уедешь отсюда? – Пестрянка приставила палец к его груди под влажной рубахой, точно клинок.
Хельги улыбнулся, потом покачал головой:
– Нет, не думаю так. Говорят, из Киева многие люди ездят за теплые моря и привозят много добычи. Я тоже хочу туда.
Пестрянка отмахнулась: дескать, иного я и не ждала, – но он перехватил ее руку и прижал к своей груди.
– Но если я поеду в Киев, я тот час возьму тебя с собой. В этом могу тебе поклясться!
– А ты потом за теплые моря соберешься, и я уже в Киеве буду ждать – на другом краю света от дома родного!
– Поедем за теплые моря! – Хельги не видел трудностей. – Если ты не боишься.
Но Пестрянка только отвернулась. Хватит с нее этой породы варяжской!
* * *
Домой они добрели под вечер, но было еще совсем светло: нынешней ночью темнота придет ненадолго. Вдоль реки на высоких местах уже виднелись костры. Сколько ни хмурилась Пестрянка, а и ею против воли овладевал дух свободы и веселья, присущих юности. Даже ударилась в мечты по дороге: вот была бы она девка с косой, а не баба с дитем… Как весело было бы плясать, поглядывая на нарядных парней и ожидая счастливых перемен уже вот-вот, прямо сейчас…
Вот, как эти, люботинские девки, что гурьбой валят навстречу – в беленых сорочках с красными поясками, с пышными венками. Горлица, Ярогина дочь, со смехом надела венок на голову Хельги, для чего ей пришлось подпрыгнуть; он тут же поймал ее, оторвал от земли и поцеловал, будто бы в благодарность. Девки со смехом убежали, а Пестрянка нахмурилась было, но одернула себя и постаралась разгладить нахмуренные брови. Ей-то какое дело? На то они и девки, им воля.
– Смотри, там чужая скута. – Хельги, уже не улыбаясь, вглядывался вперед и держал венок в руке, чтобы не заслонял глаза.
– Лодка? – Пестрянка тоже посмотрела на реку.
У причала Варягина и впрямь стояла большая лодья, незнакомая. Парус был свернут, весла сложены, внутри никакой поклажи – хозяева явно не собирались дальше вниз по реке, в сам Плесков, путь куда прикрывала варяжская застава. Чужие лодьи здесь были не редкость: воеводская дружина тем и занималась, что переправляла суда и грузы через брод. Но кого это понесло под самую купальскую ночь?
– На гулянье, что ли? – удивилась Пестрянка. – Кому бы?
Окрестные жители на игрища прибывали в челнах и оставляли их на отмели, где они никому не мешали.
Но большого значения она этому не придала: мало ли тут ездит всяких? Для того и река.
– Пойдем в дом, – Пестрянка остановила Хельги, который хотел вручить ей пустой короб и свернуть к дружинной избе. – Ваши уже поели, а ты весь день голодный ходишь, я тебе найду что-нибудь.
– Ты такая добрая! – с искренним чувством ответил Хельги.
Пестрянка толкнула дверь, прошла в избу, разогнулась… и обнаружила, что внутри полно народу. Но не похоже, чтобы здесь плели купальские венки: собрались все самые старшие и важные из домочадцев и даже люботинской родни. Сам воевода Торлейв, его жена, отец Кресавы – дед Доброзор с двумя сыновьями, старшие оружники. А у стола напротив хозяина сидел какой-то русобородый мужчина средних лет, одетый в непривычную свиту, совсем не славянского покроя – с широкими полами, с отворотами яркого красного шелка и с тонкими полосками такого же шелка, нашитыми поперек груди. На скрип двери все обернулись; Пестрянка вспомнила чужую лодью.
– Идите скорее! – воскликнула Доброзоровна. – Тут новости у нас! Из Киева люди приехали!
Пестрянку бросило в жар; от неожиданности она пошатнулась, Хельги сзади придержал ее за пояс.
– Из Киева! – Она справилась с собой и прошла вперед, во все глаза глядя на русобородого в чудном кафтане.
На опечаленную свекровь никак не походила, скорее, была взбудоражена; лица остальных тоже отражали волнение, хотя и не без оттенка тревоги. Значит, никто не умер… Асмунд… Это от него! Ради чего он прислал отдельного гонца, когда поклоны и подарки ежегодно передает с купцами?
Неужели вспомнил о ней?
– Это сноха моя, Асмунда жена, – пояснил русобородому Торлейв. – А вон тот молодец – братанич мой из Хейдабьюра, Хельги.
Он говорил по-славянски, значит, гость их не был варягом.
– Стало быть, и их тоже поздравим! – Русобородый встал и учтиво поклонился. – От мужей киевских и дружины родичам князя русского Ингвара и княгини Ольги наше уважение приносим!
– Зять Ингвар теперь князь в Киеве! – пояснил изумленной Пестрянке Торлейв. – А Эльга наша – княгиня русская. Кто бы подумать мог…
– Во сне не увидеть… – подхватила Кресава и отчего-то заплакала.
– Как это? – выговорила Пестрянка, знавшая, что ее золовка живет в Киеве всего лишь женой заложника, отданного князю Олегу Предславичу ради мира между киевской русью и волховской. – Там что… все умерли?
Но сообразила, что и это не объяснение.
– Русь… назвала Ингвара князем своим, – Торлейв развел руками. – И Эльгу с ним – племянницу Одда…
– Где же князь тамошний?
– Восвояси уехал, в Мораву, – ответил гость. – И жену с сыном увез.
– А что же… с мужем моим? – Пестрянка вопросительно глянула на свекра.
– Теперь наш Асмунд – брат княгини киевской! – Судя по ошарашенному виду, Торлейв и сам с трудом верил своим словам. – Воеводой, глядишь, станет. И во сне такого не снилось!
– Отчего? – подал голос Хельги. – Отчего не снилось? Ты, Торлейв, половину жизни был родным братом киевского князя, почему теперь удивляешься? Мы – родичи Одда Стрелы, знаменитого от Йотунхейма до Серкланда своей доблестью и мудростью. Моя сестра Эльга, мой брат Асмунд, я, младшие братья – мы все того же славного рода. И нет дива, если наша кровь несет нам удачу, честь и славу.
– Да уж, ты… как будто знал! – с недоумением рассмеялся Торлейв. – Ехал – был никому неведом, а теперь киевской княгини брат!
– Нет дива! – Хельги вновь покачал головой. – У нашего рода есть удача. А удача ведет человека туда, где ему надо быть, и всегда знает это место раньше, чем он сам!
– Погодите! – Пестрянка протянула к свекру сжатые руки. – У меня голова кругом… простите бабу, не пойму я никак… Значит, мой муж… Он приедет? Вы говорили, он должен сестер оберегать, раз их в залоге держат. А теперь, когда Ольга – княгиня, ее же оберегать больше не надо? Он вернется теперь?
Киевлянин ухмыльнулся. Торлейв через голову Пестрянки переглянулся с Хельги у нее за спиной. Им-то было ясно, как она ошибается. Даже Кресава горестно покачала головой.
– Нет? – прошептала Пестрянка.
И сама сообразила, что все прочие смотрят на дело совсем с другой стороны. Какой дурак покинет сестру, которая стала княгиней руси в Киеве?
* * *
Купальский вечер для Пестрянки прошел как в тумане. Она отправилась со всеми – как не пойти, нельзя! – но заботило ее лишь то, чтобы не заплакать у всех на глазах.
Когда бабы, оплакав покойника Ярилу, с визгом кинулись драть свитое из травяных жгутов тело, Пестрянка устремилась вперед и растолкала даже тех, кто крупнее. Не боясь порезать руки, она дергала и рвала пучки травы и визжала, будто оскорбленная навка. Она сама не знала, кого ненавидит: того светловолосого парня, который выбрал ее три года назад, или судьбу свою злосчастную, но ярость и гнев требовали выхода. А когда пучки растерзанного чучела полетели в реку, она разрыдалась, прижав к лицу саднящие ладони, и никак не могла перестать.
– Глэди мин… – Кто-то обнял ее за плечи и настойчиво потащил прочь от реки. – Хварт грэтр ту ну? Гакк мед мер[7].
Хельги еще что-то говорил, перейдя от волнения на родной язык, но Пестрянка все равно не слушала. Чужие голоса отодвинулись: он увел ее на дальний край луга, к зарослям.
– Да если бы он и правда умер… – бормотала Пестрянка, икая от слез, – я бы отплакала и за другого… пошла. А так… я только плачу и плачу… а идти не могу… куда я пойду? Не отпустят… дите у меня…
– Грата икке… не надо плачь… – Краем ладони Хельги со всей осторожностью стирал слезы с ее щек.
Пестрянка села на влажную траву, собрав под себя толстые полотнища поневы, сбросила с головы помятый венок и стала сердито вытирать лицо рукавом вершника. Нынешний день разбил все ее и без того уже почти исчахшие надежды: став братом княгини, муж не вернется из Киева, но и глупые мечты найти другого развеялись дымом. Торлейв не отпустит невестку из дома и уж тем более не отдаст в чужие люди внука – единственного, кто появился на свет в родных краях. Киевлянин Добылют рассказал, что Ута за эти три года родила двоих – сынка и дочку, – но их Торлейв никогда не видел. Пестренец же был первенцем его первенца по мужской ветви, будущим главой рода, прямым наследником – куда же он его отпустит? А уйти без ребенка Пестрянке даже в голову не пришло бы. И сейчас, пока она глядела из тьмы на пламя костров и движение белых сорочек, сердце ее разрывалось от тоски и безысходности. Мелькала мысль – да пусть бы муж умер! – но она с усилием гнала ее прочь. Накличешь еще, в эту ночь боги даже мысли слышат.
Хельги прилег рядом на траву и положил голову ей на колени. Не выспавшись прошлой ночью, он уже едва стоял на ногах. Почувствовав тяжесть там, где привыкла ощущать ребенка, Пестрянка опустила руки и стала почти безотчетно поглаживать его по длинным спутанным волосам, выбирая застрявшие травинки. И ей стало чуть легче – некая глубинная память всегда говорит нам, что пока рядом есть другое теплое тело, все не может быть совсем уж худо. Только когда Хельги поймал ее ладонь и просунул к себе на грудь под ворот сорочки, она опомнилась и отняла руку.
– Вставай! – вздохнула она. – Ишь, разлегся. Пойду я домой, там дитя с одной Прострелихой…
– Не надо домой? – удерживая ее руку, Хельги посмотрел на нее снизу вверх. – Сдесь хорошо…
Пестрянка только вздохнула. Не то чтобы ей хотелось домой – там не станет легче. Но и здесь, среди общего веселья, утешиться нечем.
Унылое будущее громоздилось перед ней огромным черным камнем. Ни справа его не обойти, ни слева, ни через верх перелезть.
* * *
Послезавтра, когда все отоспались и пришли в себя, Торлейв с самого утра велел спускать собственную лодью и вместе с Добылютом отправился в Плесков. Князю северных кривичей Воиславу Судогостичу пора было узнать, что его родная племянница Ольга стала княгиней руси в полянском стольном городе Киеве. Хельги отправился с ним – на этот раз с расчесанными и заплетенными в косу волосами, одетый в хорошую чистую одежду: льняную сорочку и синий шерстяной кюртиль, привезенный из Хейдабьюра. Весь дом не отпускало лихорадочное оживление. Киев был настолько далеко, что никто толком не знал, какие выгоды принесет внезапное обретение власти там близкой родней, но всем казалось, что жизнь уже очень скоро должна измениться к лучшему. До этого киевским князем был внучатый племянник Торлейва, Олег Предславич, но его здесь совсем не знали. А теперь у власти оказалась Ольга – та, что родилась и выросла здесь; та, с которой сама Пестрянка не раз весной ходила в девичьих кругах, а зимой сидела на павечерницах в Люботиной веси.
Но Пестрянка-то никакого счастья себе от этого события не ждала, а напротив, досадовала. «Прямо им теперь счастье с неба повалится! – сердито думала она, пока месила тесто. – Скатерть-самобранку привезут!»
Особенно волновались женщины.
– Я поеду в Киев! – стонала Володея, старшая из двух золовок. – Правда поеду!
Еще год назад князю Воиславу и воеводе Торлейву привезли предложение тогдашнего киевского князя Олега Предславича – посватать одну из младших сестер Эльги за Грозничара, сына заднепровского воеводы Чернигостя. Дочери покойного Вальгарда, хоть и жили в далеком лесном краю, тем не менее состояли в ближайшем родстве с Олегом Вещим и потому считались очень ценными невестами. Добылют, которого Эльга и Ингвар отрядили с важной новостью к плесковской родне, передал их уверение, что сговор остается в силе и Чернигость готовит свадьбу сына нынешней осенью. И вот Володее, миловидной девушке с круглым лицом и широко расставленными голубыми глазами, пришла пора собираться в дорогу.
Ее сестра Берислава, на год младше, сидела рядом и волновалась не менее. За всю жизнь они не разлучались ни разу и теперь с трудом могли уложить в головах, что с этого лета их дороги расходятся, чтобы никогда более не сойтись вновь. Володея уезжала слишком далеко, чтобы можно было хоть иногда навещать родню.
– Поедешь… – ворчала Пестрянка и сама себе казалась старой злонравной бабкой. – Там вон вупыри по дворам шастают, заедят еще совсем!
Вчера Добылют и его дружина весь день развлекали хозяев рассказами о киевских делах. Звучало это как сказка для посиделок: как объявился в Киеве вупырь – чужеземный волхв, – сперва кур воровал и им головы откусывал, потом заел челядина одного, а потом на саму воеводшу Уту напал на собственном же ее дворе! Кресава едва себя помнила от жути – родную ее дочь едва не заели! Киевляне уверяли, что с Утой ничего худого не случилось, ее спасли вовремя. Зато на другой день в Киеве разыгрались весьма устрашающие события: вупыря убили, его покровитель, старый моравский князь Предслав, тоже едва не погиб, а сына Предслава, киевского князя Олега, народ сверг со стола.
С трудом верилось, что в сказке этой говорится не о каких-то неведомых молодцах и девицах, что в самой сердцевине событий находятся свои же ближайшие родичи: Ута, Эльга и их мужья. Но все кончилось, как и положено, хорошо: чудовище погибло, княжий стол освободился и его заняли победители. Возясь с тестом, Пестрянка поглядывала на сына, ползающего по полу с берестяной погремушкой и деревянным петушком, и думала: теперь и он – родич киевского князя. Двоюродный племянник русской княгини. Случившееся в далеком Киеве многое изменило и для ее ребенка. Главное, чего ей теперь следует добиваться, чтобы ее сын не остался сидеть у порога в чужом пиру.
Мужчины вернулись только поздно вечером, очень усталые. Но совсем не пьяные, вопреки ожиданиям хозяек.
– Что вы там, упировались на радостях? – воскликнула Кресава, когда наконец отворилась дверь и Торлейв вошел в избу.
– Какое! – Тот махнул рукой. Вслед за ним вошел Хельги и сел у двери. – Сидели толковали. С люботинскими и с плесковскими.
– О чем толковали-то весь день?
– У нас был договор с князем Олегом, – стал объяснять Торлейв, сев у стола, но от еды и питья отказавшись. – Князь Олег был внук Одду, нам с Вальгардом – внучатый племянник. А плесковским князьям – сватом. А теперь что?
– Власть в Кенугарде ушла от нашего рода к роду Ульва из Хольмгарда! – подал голос Хельги.
Привычная улыбка с его лица исчезла, оно стало настолько жестким, что Пестрянка раскрыла глаза: так непохож он стал на того человека, которого она привыкла считать кем-то вроде огромного, добродушного и к тому же говорящего пса. Сейчас он рассуждал на северном языке, и она почти ничего не понимала, и от этого еще сильнее казалось, что перед ней какой-то другой мужчина.
– Мой дядя Одд Хельги завоевал ту страну, где Кенугард, и много других стран, а теперь его владения попали в руки сыну Ульва. Мы не должны этого так оставлять!
– Ты что же это – воевать предлагаешь? – недоверчиво спросила Кресава: дескать, вот еще не хватало. Она за двадцать лет замужества выучилась разбирать северную речь.
– И об этом был разговор, – кивнул Торлейв. – Будь Ингвар на ком другом женат – пришлось бы воевать.
– Сначала захватить Хольмгард и другие владения их родни на севере, а оттуда уже вести переговоры с Ингваром в Кенугарде, – уверенно подхватил Хельги. – Мы нашли бы союзников среди конунгов, живущих между Хольмгардом и Кенугардом, и тогда Ингвар не смог бы соединить все свои силы.
– Да не пугай баб! – махнул на него рукой Торлейв. – Добылют же сказал: Ингвара потому люди киевские признали, что у него жена – племянница Олега Вещего. То есть наша Эльга. Его право на ней одной держится. А стало быть, воевать с ним ни к чему, а вот новый уговор заключить, чтобы нашего рода чести не уронить, – это дело доброе и нужное. Плесковские-то ведь тоже рады! – Он подался ближе к замершим женщинам, что изо всех сил пытались уложить в голове все эти вещи, о которых им никогда не приходилось думать. – Теперь плесковские князья с киевскими – одна семья, не на словах, а на деле! Вот и толковали, как своего не упустить.
– И до чего дотолковались? – спросила Пестрянка, видя, что Кресава молчит.
– Будем в Киев посольство снаряжать. С князем Ингваром ряд заключать новый, чтобы нашего рода права не пострадали. И Володею отвезем заодно.
– Кто же поедет? – спросила Доброзоровна.
– Мне не миновать ехать, – вздохнул Торлейв. – Я Эльге ближайший старший родич, без меня никак.
– Ох, отец! – Кресава, которой не хотелось отпускать мужа на полгода, покачала головой. – Может, вон… – Она кивнула на Хельги.
И не успела Пестрянка огорчиться, как тот сказал:
– Я и так поеду. Кенугард – то место, где можно делать большие дела, и глупо было бы упустить случай, если вдруг я стал братом тамошней королевы! И я не позволю ее мужу утеснить в правах наследников нашего рода!
Он как будто проснулся – или увидел дело, на котором стоило сосредоточиться. Куда девалась размытая, лениво-доброжелательная улыбка? Пестрянка очень плохо помнила воеводу Вальгарда и вовсе никогда не видела Олега Вещего, но сейчас Хельги выглядел достойным родичем таких прославленных людей.
– А чадо мое! – Этого Пестрянка уже не снесла и выскочила от печи к столу. – Он теперь тоже княгине братанич! Что же, вы все уедете, а нас здесь бросите?
– Отец, заберите ее с собой! – вдруг воскликнула Кресава. – И неохота мне одной в доме оставаться, без помощницы толковой, но нет сил больше смотреть, как молодая баба мается! Поезжайте, отвезите ее к Аське! Жена ведь! Коли не думает возвращаться, пусть уж и они с дитем при нем будут!
Ошеломленная Пестрянка застыла с открытым ртом. Не знала даже, что подумать. Мысль самой поехать в Киев едва ли когда приходила ей в голову – а если и приходила, то была изгнана как несбыточная.
Подумать только! Киев, Полянская земля – это же другой край света! Что за народы там живут? Иное дело – мужчины, они ездят и дальше, даже за море… Хотя и до моря отсюда ближе, чем до Киева. А женщины пускаются в такой путь один раз в жизни – как Эльга и Ута, чтобы выйти замуж. И то лишь самые знатные, чей брак важен для мира меж племенами и безопасности дальних торговых путей. Куда ей-то, внучке деда Чернобуда, дочери Пестряка? Таким, как она, судьба недалекий путь кажет – только реку переехать.
Но ведь там, в Киеве, живет ее муж. Вместе с мужьями женщины порой отправляются в очень дальние путешествия. Приехала же сюда, к кривичам, плесковская воеводша Бурлива из страны свеев. Так чем она, Пестрянка, хуже?
– Ну, может, оно и стоило бы… – произнес Торлейв. – Жаль нам будет с внучком расставаться… да что поделать! Я все ждал, Аська вернется, а теперь ждать нечего, так пусть и семья при нем будет. Он и годами не отрок, а теперь – княгини брат, большим воеводой станет. Пусть обживается, свой двор заводит. Хозяйка пригодится.
– Будь смелый, Фастрид, – Хельги улыбнулся Пестрянке. – Ты теперь тоже королевского рода.
Глава 3
Киев, 1-е лето Ингварово
– Асмунд! – говорил Ингвар, положив обе руки шурину на плечи и глядя будто сверху вниз, хотя был ниже ростом. – Я ведь могу тебе доверять? Могу на тебя положиться?
Асмунд не знал, что ответить. Зачем он спрашивает? Зачем второй зять, Мистина Свенельдич, смотрит на него так пристально? Эти двое были мужьями двух сестер Асмунда и отцами уже троих его племянников. Мог ли он предать родную кровь?
– Пойми, брат: сейчас время такое, что мне нужна вся твоя отвага и верность, – продолжал Ингвар. – Не подведи меня. За нами вся русь. Судьба у нас общая, и другой не будет.
– И никого другого у нас нет, – добавил Мистина. – Будем справляться сами, понимаешь?
Сейчас он не улыбался, вид имел суровый и немного напряженный. И Асмунд понимал это как знак доверия: его не считали одним из тех дурней, кого надо постоянно подбадривать улыбками до ушей.
Асмунд снова вспомнил стрыя Вальгарда, погибшего у него на глазах. Княжеская семья, оказавшаяся в Киеве у власти, была небогата на старшее поколение. У них с Утой имелся отец, Торлейв, но жил слишком далеко, чтобы ждать от него помощи. Отец Мистины, воевода Свенельд, единственный из старшего поколения находился поблизости и мог оказать любую помощь, но у княжеской четы из четверых родителей имелась в живых лишь королева Сванхейд, мать Ингвара, жившая за пару месяцев пути отсюда.
Асмунду исполнилось двадцать лет, его князю – двадцать один. Но выше них оставались только боги, а внизу лежала вся Русская земля и ждала, что они не подведут.
Когда после изгнания из Киева Олега Предславича и вокняжения Ингвара стали рассылать посольства, отрядить в одно из наиважнейших мест – в Царьград – оказалось больше некого. В дружине имелись люди, способные исправлять посольскую должность, но возглавить их надлежало кому-то из родичей князя: как-никак, к василевсам ехать, не в чащобу какую. У Ингвара имелись два родных брата, живших с матерью в Хольмгарде, но даже второй по очереди за ним, Тородд, был не старше Асмунда, а к тому же никогда не бывал в Киеве и совсем не знал здешних дел. Больше всего Ингвар доверял Мистине, но того он отправлял к королеве Сванхейд – при всей важности дружбы с греками благословение матери все же было ему важнее, и как сыну, и как русскому князю. Асмунд не так чтобы считал себя подходящим человеком для заморских переговоров: он был неглуп и достаточно сведущ для своих лет, но в основном в дружинных делах. Но станешь подходящим, когда переложить не на кого. Поэтому когда на очередном совете в старой Олеговой гриднице зять Ингвар спросил его: «Поедешь в Царьград?», он спокойно кивнул: «Прикажешь – поеду».
В дружину ему Ингвар дал Кольбрана и Вефаста, людей опытных и умных. Кольбран приходился родным внуком Карлу – ближайшему соратнику Олега Вещего, дважды возглавлявшему посольство к грекам. Сам Кольбран в то время, около тридцати лет назад, был еще ребенком, но потом много слышал от деда о Греческом царстве и его обычаях.
Сопровождали их трое купцов: Альвард, Ингивальд, Вермунд. В этот раз им было нечем торговать, но зато они знали и пути, и греческие порядки, и язык. Из знатоков посольского обычая в Киеве оставались трое участников посольства Олега Вещего, старики – Стемид, Лидульв и Руалд. Всем троим было уже не по силам совершить такое путешествие – Лидульв вовсе, считай, со скамьи не вставал и даже перейти к столу на опухших ногах ему было трудно, Руалд совершенно оглох, так что разговаривать с ним стало невозможно. Более-менее в уме и в силах оставался Стемид – в Олеговы времена он был совсем молодым парнем и служил послам переводчиком. Пока новому посольству готовили лодьи, Асмунд подолгу расспрашивал его и Лидульва, стараясь выведать как можно больше.
– Договоры так сразу не заключаются, – рассказывал Стемид. – Вы поедете только объявить, что у руси князь ныне другой и что ему новый договор требуется. Они скажут: пусть на новое лето приезжают послы. Тогда будут ждать, и на другой раз поедут люди от князя толковать о статьях. Первое, значит, что хотим в дружбе жить, торговать честно. А потом уже всякое дело по отдельности: как быть, если между греками и русами случится убийство, побои, воровство, если кто в долг возьмет и не отдаст, если умрет на чужбине, если корабль с товарами на берег выбросит – и прочее.
– Самое лучшее – просто подтвердить Олегов договор, – сказал Ингвар.
– Это да, – Стемид прокашлялся, – но надежды, княже, мало.
– Но с Предславичем же подтвердили!
– В то лето греки едва с Болгарским царством замирились, а перед тем триста лет с ним воевали. Болгарский кесарь, Симеон, к самому Царьграду подступал и сам едва на василевсов престол не уселся. Грекам тогда передышку выиграть было важнее всего, вот и не стали новую кашу заваривать, когда старую едва расхлебали. С тех пор двенадцать лет прошло. У них война, я так слышал, только с сарацинами теперь, ну да это им дело привычное. Мне мнится, греки сами к нам послов пришлют, на другое лето…
– Но это три года выходит, йотуна мать! – Ингвар ударил себя кулаком по колену.
– У них так водится, княже! Им спешить некуда, их царство тысячу лет стоит.
Ингвар стиснул зубы. Он был молод, и его держава была не просто молода – она пребывала еще в пеленах, да и то в кольчужных. Поколениями в ней правили воины, которые помнят, что надежды на долгую жизнь у них мало, и потому не могут ничего откладывать. Они привыкли смотреть на полгода вперед: летом – поход, зимой – полюдье. Всякое выступление из дома уже скоро должно принести плоды в виде серебра, шелков и рабов – или же ты умрешь и переселишься в Валгаллу. К тому, что придется три года ездить через море туда-сюда и разговаривать, чтобы лишь потом получить возможность торговать, они не были готовы, и эта тягомотина гридей бесила.
– Княже, давай лодьи снаряжать! – то и дело кричали отроки на пирах в честь вокняжения Ингвара. Ради этой надежды они и поддержали его. – Чтобы с мечом пойти и добычу взять, договора не нужно!
– Успеем, братья! – отвечал Ингвар. Молодой, не слишком крупного сложения, с простым лицом, он ничем не выделялся в рядах дружины, но сейчас, когда он сидел на резном Олеговом престоле, его юное лицо выражало суровую решимость не отступить с избранного пути. – Но я не для того за этот престол бился, чтобы посидеть да соскочить! Я хочу мой род утвердить в Киеве, хочу державу еще больше той, что Олег Вещий нам оставил. А для того укрепиться надо. Вы бы, упыри, хотели по греческому берегу пробежаться, серебра, портов цветных да девок похватать, на лодьи и домой! Да, Сигге? А кого убьют – тому судьба в Валгаллу. И горя вам нет! Да я – другое дело! Князь я! Пойду сейчас в поход, убьют меня – и что? Олежка с Моравы воротится? Нет, шалишь! Мы сперва прочно сядем, власть свою во всех землях утвердим, серебра, оружия накопим, дружину большую наберем и снарядим. Вот тогда пойдем – не за портами ношенными, а за победой и славой истинной, неотделимой. Будем не грабить греков, а дань брать, как с северян, древлян и прочих. Это иное дело. Дань дают тому, за кем сила и почет. Того мне и надо.
– То есть портов побольше возьмем? – смеялись гриди. – Поновее!
– Ты, сдается мне, возмечтал о мирной жизни! – прищурившись, смотрел на князя Сигге Сакс. – Хочешь, чтобы все твои люди засели дома с бабами – потому и раздал им своих, которые лишние? Может, еще предложишь нам убрать мечи подальше и плести горшки? Я тебе не горшкоплет! Я викинг. Я могу взять дружину и пойти ограбить кого-нибудь. Или прикрыть, чтобы кто другой не ограбил. Это я могу. А плести горшки, месить тесто, красить тряпки, резать кости, выпаривать мочу – это пусть смерды делают.
Многие в гриднице встречали такие речи дружным ревом в знак поддержки. Для русов все было просто: им нужна слава и добыча, прежний князь был слишком робок для войны, и они нашли себе нового. Сам Ингвар не слишком давно думал так же, как Сигге. Но, став князем, довольно быстро кое-что понял.
– Осядь, Сакс! – крикнул Свенельд. – И ты закрой рот, Балли. Твоим лбом можно проломить ворота, но для думанья нужен кто-то поумнее. Олег Вещий был умнее десятерых таких, как ты, поэтому выбрал Киев и прочно засел здесь. Отсюда открыты пути во все стороны света, можно торговать или воевать по своему желанию, а не по повелению кого-то другого. Сначала мы укрепимся здесь как следует, а потом будем выбирать себе любую добычу, какую захотим. Чем больше мы соберем дани со славян, тем больше серебра выручим; чем больше хороших мечей, кольчуг и шлемов сможем купить, и тем сильнее будет наше войско. Это ясно, орлы?
Орлы кричали, что им все ясно. Свенельд умел растолковать нужное на понятном гридьбе языке. То, что Ингвар говорил об утверждении державы, понимали далеко не все, да и сам он представлял это довольно смутно. Ему Киев виделся крепостью на горах, чем-то вроде земного Асгарда, где можно засесть с большой, хорошо вооруженной дружиной и повелевать окрестными землями, то есть брать с них разнообразную дань. Зерно, мед, съестные припасы, льняное и шерстяное полотно на одежду и паруса. Рабы и рабыни, скот, кони. Меха, тот же мед, воск, чтобы продавать за серебро грекам, сарацинам и прочим. Ходить в походы на еще не покоренные земли, захватывать полон, продавать и снова брать дань. Так он понимал власть, и в мечтах ее расширение виделось ему бесконечным. Его северные предки – Харальд Боезуб, Ивар Широкие Объятия – владели всеми землями, названия которых были ему известны. К тому же стремились иные из тех, кто топтал землю ныне. Хальвдан Черный подчинял себе один фюльк Северного Пути за другим, и поговаривали, будто он хочет владеть всем им один. В Ютландии Кнютлинги истребили и вытеснили уже несколько королевских родов – в том числе ту ветвь Скъельдунгов, к которой принадлежал Олег Вещий и его братья. Здесь, на берегах славянских рек, сам Вещий оказался сильнее других вождей. Теперь его достояние перешло в руки Ингвара, и он был полон решимости доказать, что тоже не даром ведет свой род от Одина.
У Стемида хранился старый Олегов договор с греками: два пергаментных листа, свернутые в трубку, помятые и потрепанные, через несколько рук перешли к нему после смерти старого князя Предслава. Отец Олега-младшего хранил договор у себя, поскольку был одним из немногих, способных его прочитать: и моравские письмена, коими записывалась речь на славянском языке, и греческие. В юности Стемид научился тому и другому за то немалое время, что Олегово посольство прожило в Царьграде. Но с тех пор ему почти не случалось ничего читать, и теперь понадобилась помощь всех старых гридей и Олеговых бояр, чтобы восстановить содержание и вспомнить буквы. Купцы, которым постоянно приходилось иметь дело с греками и разрешать всяческие нелады, помнили статьи договора на память, но никто, кроме Стемида, не мог указать, где на листе записано насчет убийств или наследства умерших. Греки ведь лукавы: скажут, что не было такого, и придется доказывать!
Обучаться чтению у Асмунда не было времени. Он просто запомнил, по указке Стемида, в какой статье о чем говорится. Обсуждать это с греками ему, скорее всего, не придется, но так он себя чувствовал хоть сколько-то послом, а не просто раззявой с выселок.
Киев они покинули вместе с Ранди Вороном и его людьми, ехавшими в хазарский Самкрай – торговые ворота каганата. Ингвар с большой дружиной проводил их до порогов. Опасность столкнуться с печенегами сохранялась и дальше – до границ Болгарского царства на западном берегу Греческого моря, – но на более долгий срок Ингвар не мог оставить едва успокоившийся после переворота Киев.
В устье Днепра дороги разошлись: Ранди ушел на юго-восток вдоль побережья Таврии, Асмунд – на запад. Три лодьи, по двадцать гребцов на каждой, благополучно преодолели путь: в летнюю пору Греческое море было спокойным, и течение вдоль берега несло их в нужном направлении. Купцы говорили, что на обратном пути все будет наоборот, но так далеко в будущее Асмунд сейчас не заглядывал. Он чувствовал себя тем молодцем из сказания, что лезет по бобовому стеблю на небеса: сперва до одного, потом еще выше, и еще…
И само царство Болгарское – шелковисто-синее море, беловато-серые скалы, пологие горы, тоже синие чуть в прозелень – было так непохоже на его родной край и даже на землю Полянскую, что он не стал бы ручаться, что все еще на привычном свете. По склонам гор желтели соломенные кровли, а потом берег резко обрывался в море. Особенно сбивало с толку само море: оно расстилалось за левым бортом скутара и уходило в бесконечность. Со стороны отца потомок викингов, Асмунд по рождению был лесным человеком и северного моря своих предков никогда не видел. Греческое море – то синее, то голубое, то смарагдовое, как глаза сестры Эльги, – в своей беспредельности казалось ему гранью того света.
– Нет, оно велико, но не беспредельно, – рассказывал ему Вермунд, купец средних лет и опытный путешественник. – На восточном берегу, за Таврией, лежит Хазария. Я не раз там бывал, хотя товары возить в греки выгоднее. Если у Ранди Ворона все сладится и он договорится с тудуном Самкрая, через год-другой и ты сможешь там побывать. Многие русы ездили и дальше. Если пересечь каганат от Самкрая на восток по суше или пройти по рекам, то будет Гурганское море, а за ним – страна сарацинов, Серкланд.
Асмунд пытался представить эти земли, и от их неоглядности кружилась голова. Слушать сказы о далеких землях, сидя дома, в Варягине над бродом, было легче: ну, Золотое царство на третьем небе, или Серкланд, какая разница? Здесь же, на болгарском берегу, он уже точно знал: и Царьград, и Гурганское море существуют на самом деле. Туда можно проникнуть безо всякого волхования. И от этого захватывало дух.
Но вот миновали Болгарское царство. В городе под названием Мидия начиналось царство Греческое, и здесь Асмунд впервые выступил как киевский посол: объявил о себе местному воеводе-турмарху. Греки еще не знали о смене власти в Киеве и удивлялись, почему не идет ежегодный торговый обоз.
В Мидии пришлось задержаться.
– А грамоты у вас есть? – спросил турмарх, по имени Прокопий.
Он носил титул спафария, что означало «меченосец», и действительно опирался на меч, когда принимал русов, сидя на каменном стуле в просторном каменном доме. Его стены были красиво выложены из чередующихся слоев красного кирпича и белого известняка.
В большие окна, каждое размером с дверь, влетали порывы теплого ветра с запахом незнакомых цветов.
– Есть. – Асмунд подал ему свернутый лист пергамента.
Как быть с грамотами – этот вопрос и самого Ингвара ставил в тупик. Что писать? На чем писать? Олег Предславич держал для этого ученых людей из числа христиан своей дружины, но они уехали из Киева вместе с ним. В старых Олеговых ларях, которые разбирали для дележа имущества между Предславичем и Ингваром, нашли несколько потрепанных стопок пергаментных листов. Их привезли когда-то с Босфора в числе прочей добычи: дорогие золоченые оклады ободрали и сделали из них подвески к ожерелью для Венцеславы Олеговны, а листы, которым не могли придумать никакого применения, бросили и забыли. Теперь Ингвар велел Стемиду их забрать: не сгодятся ли? Тот помял пергамент и кивнул. Долго скоблил ножичком, убирая старые записи.
– А что здесь? – спрашивал Асмунд, которому вид этих черных значков внушал любопытство и опасение. – Может, важное что?
– Да тут по-моравски… Не по-гречески, – Стемид вглядывался в строки. – От болгар добыли.
– Что там сказано?
– «Послушание Израилю… – нахмурясь, с трудом разбирал Стемид. – Г… Б… Это «Господь Бог твой един есть»!
– Какой – господь бог един?
– Ну, их болгарский бог. «Идите в… идите видите яко я… здесь… ни… есть… образ…» Тьфу! – Он отмахнулся и потер глаза рукой. – Не разберу.
Черные значки выглядели так значительно, казалось, в них должна заключаться какая-то особенная мудрость, а что на самом деле? «Идите, видите»! Куда идти, чего видеть?
– Ну-ка… – Стемид скользнул взглядом к середине листа. – Идаи… Идайнамразум… На морозом?
– Иди на мороз?
– «И дай нам разум», вот! «Да увемы… и… стова… го… ба…» Это не «ба», а «бога», но что это за «стова» – не пойму.
– «Дай нам разум» – это хорошо, – вздохнул Асмунд. – Пару коробов не помешало бы про запас…
Вот ведь наука – вроде ни мечом, ни топором махать не надо, щит не нужен, сидишь на месте – а устал, будто полдня с отроками по двору прыгал.
Стемид скоблил усердно, но осторожно, стараясь не протереть старую кожу насквозь.
Потом, сидя в гриднице с дружиной, стали сочинять послание. Очень скоро все вспотели и разозлились, несмотря на пиво, которое подносила Эльга и ее служанки. Начали бодро:
– «Мы от рода русского, – медленно, подбирая каждую букву, царапал Стемид на восковой дощечке, какими пользуются купцы при учете товаров, поскольку пергаментный лист заготовил только один. – Асмунд, Вефаст, Кольбран, посланные от Ингвара, великого князя русского, к вам…»
На этом застряли. Во времена Олега в Царьграде правили двое: братья Лев и Александр. Но с тех пор прошло двадцать семь лет, старые василевсы померли, на их места сели новые. Купцы знали имена нынешних царей, но заспорили, кто главный: Роман или Константин?
– Константин – сын того Льва, что при Олеге был! – припомнил молодой купец Аудун. – И он царем стал давным-давно, как отец его помер. А Роман – это тесть его.
– Так если тесть, он здесь при чем? – не понимал Ингвар.
– Он такой тесть, что вместо отца зовется «василеопатор», что значит, «царев отец». И в договорах его надо писать первым!
– А у того Романа своих сыновей целая скамья, и все царского звания! – подхватил другой купец, Ингивальд. – Христофор, да Стефан, да Константин…
– Христофор помер, – поправил Гудфаст.
– Костинтин уже был, – одновременно сказал Ингвар.
– То другой Константин, – настаивал Ингивальд. – Один – Романов сын, а другой – Львов сын.
– И оба цари?
– Оба.
– Разом? – уточнял Ингвар с таким видом, будто ему говорили «свиньи летают по небу».
– Разом!
– Йотуна мать!
Но и это было еще не все: Кари припомнил, что в какой-то год застал в Царьграде празднества по поводу возложения царского венца на другого Романа – сына того Христофора, что уже помер! И у того Константина, который сын, тоже был свой сын Роман! Но считать этих Ингвар отказался: давайте-де сейчас и баб их всех, и псов, и кур в грамоту запишем! Царей у них, как опят на колоде, ум сломаешь, пока разберешься!
– Стало быть! Роман, который тесть! – Ингвар поставил перед собой свой серебряный кубок. – Костинтин, который зять! – выхватил у Мистины его кубок и поставил рядом. – Стефан, который сын! – Стефана пришлось изображать поясному ножу. – Костинтин, который сын. – Рядом с ножом легла горбушка от пирога. – Четверо. Все?
– Йотуна мать! – сказали разом несколько человек.
– Стефана с Константином-зятем я бы местами поменял, – посоветовал Аудун. – Они его, Константина, совсем в черном теле держат, хоть он Льва сын, а эти так… налезли на престол, как мураши на жабу дохлую…
Ингвар поменял местами кубок Мистины и поясной нож.
– Тогда ставь зятя на самый конец, – предложил Вефаст. – Пусть уж Роман со своими чадами впереди идет. Я видал, они богу молиться так ходят.
Кубок ушел в конец строя.
– Пиши! – велел Ингвар Стемиду, и тот принялся царапать: Роман, Стефан, Константин… и Константин.
Со вздохом человека, проделавшего тяжелую работу, Ингвар взял со стола горбушку и вцепился в нее зубами.
– Зятю корочун, – хмыкнул Мистина, и гриди вокруг с облегчением заржали. – Чего там дальше-то?
– Дальше, что, стало быть, князь Ингвар желает мир и дружбу утвердить и потому просит на другое лето принять посольство. Чтобы нам, значит, жить в мире, торговать, а все тяжбы разбирать по закону. Но это они потом сами напишут, а нам сейчас только суть надо.
Но и самую суть Стемид писал два дня: обдумывая каждую букву, счищая ножичком неудачные и давая отдых отвыкшим от такой работы пальцам. Когда же его тяжкий труд подошел к концу, оказалось, что запечатать грамоту нечем: свою печать Олег Предславич увез с собой, а у Ингвара никакой не было.
– Вели сделать тебе печать с вашим вороном со стяга, – предложила Эльга. – Будет ровно твой стяг, только маленький.
– Печать-то сделать надо, – согласился Вефаст. – Пусть посмотрят. Но пока их послы твою печать не заверили, им все едино, что есть она, что нет ее…
– Мне не все едино! – отрезал Ингвар. – Велю сделать – и пусть привыкают, что такая печать здесь теперь надолго!
Помня этот разговор, Асмунд не слишком удивился, когда в Мидии турмарх Прокопий взял его грамоту, повертел в руках и присмотрелся к восковой печати на кожаном шнуре, будто к невесть какой диковине.
– Что это? Какая-то птица? – насмешливо сказал он. – Мне неизвестна подобная печать у кого-либо из законных властителей!
– Была бы известна, ты был бы ясновидящий! – ответил Асмунд. – Князь у нас новый, и печать новая. А ты не видел – так посмотри. Еще не раз тебе ее видеть придется! И царям вашим!
– Я обязан послать о вас весть в Константинополь и поступить с вами, как прикажут, – турмарх вернул ему грамоту. – А поскольку я не знаю, кто вы, откуда и зачем здесь, то и дать вам содержание, как послам, не имею права.
– Я же тебе сказал, кто мы и откуда!
– Сказать можно что угодно. Но я обязан верить словам лишь тех, кто предъявит мне известную и утвержденную василевсами и логофетом дрома печать. И желательно с надписью: «Богоматерь, помоги рабу твоему такому-то»… – проворчал он.
До Царьграда оставалось дороги на пару дней, но ждать пришлось две недели. Это время послы жили на своих лодьях, вместе с отроками. Вернее, при лодьях: поставили на берегу близ города шатры и устроились, как обычно в походе. На склонах сероватых скал торчали пучки пышной, но уже пожелтевшей травы, будто бурая песья шерсть, между ними расстилались поляны почти белого песка, сбегавшие к прозрачному зеленовато-голубому морю. Отроки купались и ловили рыбу, чтобы сберечь княжьи деньги, через день отправлялись в Мидию на рынок за простыми припасами: сыром, хлебом, маслом. Асмунд тоже бывал в городе, всякий раз заходил к турмарху и спрашивал: не прислали ответ из Царьграда? Повидать Прокопия удавалось не всегда, но ответ был одинаковый: нет.
– Может, он ответ от царя и получил, – говорили купцы. – Да скрывает: важное лицо делает.
– Зачем? – не понимал Асмунд.
– Обычай у них такой. Чтобы мы знали: они тут большаки, а мы так… в углу нагажено.
– Терпением надо запастись, – Вермунд с сочувствием клал руку на плечо молодому княжьему родичу. – Дальше будет хуже.
Наконец ответ пришел: василевс Роман и логофет дрома дали разрешение сопроводить русских послов в Великий Город. Прокопий послал галею[8], и уже с ней три русских лодьи наконец вошли в Боспор Фракийский. Остановились на заставе Иерон, но ненадолго: греки лишь убедились, что никакого товара на продажу у русов на этот раз нет. Близ Иерона заночевали в последний раз перед городом и на другой день еще до вечера вышли в Пропонтиду. Люди Прокопия сошли с галеи и отправились докладывать царю и его боярам, а русам велели ждать на лодьях.
Асмунд даже рад был времени оглядеться. Справа уходил куда-то вдаль широкий залив – тот самый залив, что греки зовут Керас, а русы – Суд. Вдоль Суда тянулась с ближней стороны высоченная каменная стена – как горная гряда, только ровная, а за ней еще какие-то стены, все с оконцами, издалека похожая на пчелиные соты. С другой стороны Суда тоже были разбросаны в окружении посадок каменные дома, иные – столь огромные, что Асмунд невольно ждал увидеть их хозяев – ростом с сосну. Но вокруг мелькали люди обычного роста, рядом с этими постройками похожие на муравьев. И зачем им такие жилища громадные?
Стены над водой вздымались, будто неприступные горы. Дальше ходу не было. Накатывала растерянность: куда двигаться-то? Были, правда, ворота, в которых тоже мельтешили люди, но возле них стояла стража в пластинчатых доспехах и шлемах.
– Эй, русиос! – кричали какие-то греки, подплыв к лодьям на мелких лодочках. – Купай!
– Чего? – не понял Асмунд.
Грек заговорил по-своему, показывая на корзину. Под тряпкой оказались лепешки, в другой корзине – какие-то мятые сизые ягоды размером с мелкую репку.
– Сики! Псоми! Тири!
– Хлеба купить предлагает, да сыру, да смоквы, – пояснил Ингивальд и достал серебряный шеляг. – Этого мало, привези больше! – по-гречески велел он и помахал шелягом. – У нас людей-то вон сколько, а нам тут до завтра еще куковать.
– До завтра? – удивился Асмунд.
– Самое малое. Не мешали бы им тут наши скутары – две недели томили бы.
Он оказался прав: постепенно утихла суета в гавани, закрылись городские ворота. Стемнело. Отроки и послы кое-как утеснились, чтобы хоть по очереди поспать на днище лодий. Асмунд устал, но от возбуждения спать не хотелось, и он все сидел возле руля, глядя на удивительно синее небо и яркие белые звезды.
Царьград! Верилось и не верилось, что он здесь – он, родившийся в далеком лесном краю над рекой Великой, где и сейчас живут его родители, младшие братья и сестры…
* * *
Поселили русских послов в воинском доме предместья Царьграда – оно называлось Маманта. Здесь стояла царская усадьба, в которой сами цари никогда не бывали, окруженная садом и разными посадками, а вокруг довольно большое селение. Воинские дома построили лет сто назад, по указу тогдашнего царя Льва, для наемников из Северных Стран, для которых он создал особую дружину – этерию. О том, что здесь много норманнов, Асмунд знал: греки, ищущие охотников повоевать за деньги, добирались аж до Хольмгарда. От прославленной роскоши Греческого царства здесь не было и следа: угрюмые каменные строения, клети с голыми стенами и без печей. Вдоль стен тянулись лежанки в два яруса – в каждой клети человек на двадцать. Питались послы и их отроки заодно со стратиотами – кашей, всяческой рыбой, иногда копченым мясом. И то, как им объяснил царев муж по имени Лука, доставивший их сюда от пристани Боспория, это была большая милость василевсов – ведь пока договора нет, кормить послов греки не обязаны.
Войдя в воинский дом – «стратонес» по-гречески – русы оказались как в узилище, ибо страже было велено их отсюда не выпускать.
– Таков порядок, – на чистом северном языке объяснил им десятский, по-здешнему – декарх, по имени Кетиллёг, родом с Готланда. – Когда приезжают послы, их помещают в особый дом, и «львы»[9] стерегут их, а когда кто-то из кейсаровых людей желает с ними повидаться – провожают, куда велено, а потом возвращают обратно.
– Но как они смеют так обращаться со свободными знатными людьми! – возмутился поначалу Асмунд. – Еще бы в железо заковали! Мы что – разбойники?
– А кто же вы? – расхохотался Кетиллёг. – Может, епископы? Вы же русы, а русы и разбойники – для здешних одно и то же. Мы делимся для них на две породы: дикие варвары – которые приходят грабить, и прирученные варвары, которых греки нанимают на службу за серебро. Я вот уже перешел в прирученные, даже принял крест, и теперь мне доверяют. У меня в кошеле кое-что звенит, могу в свой свободный день съездить в Город, прогуляться по Месе, и в харчевне посидеть с ребятами, и вина выпить, и к девчонкам зайти. А вы для них что волки из леса. Сидите и не щелкайте зубами, а то и правда в железо закуют.
– Но не обижайся – если приедет епископ, скажем, из саксов, с ним поступят точно так же, – добавил другой десятский, Ари. – Здесь чужим не положено ходить без присмотра. Особенно с такими рожами, как у нас! Это у себя дома разные могучие вожди считают, будто сидят на соседнем престоле с Одином и весь свет молится на их нечесаные бороды, а здесь им быстро объяснят, кто правит земным миром. И небесным заодно.
За три дня Асмунд возненавидел и стратонес, и греческую чечевицу, и похлебку из капусты, от которой только урчало в животе, и двор, где от скуки упражнялся заодно со стратиотами. Тех сейчас было не много – большинство отправилось воевать с сарацинами, как во всякое лето. Только эти упражнения несколько развеяли его скуку и негодование: любопытно было посмотреть греческое оружие, доспехи, приемы, которыми со всем этим управлялись. Запоминал слова: лорикий – кольчуга, кавадий – стеганый поддоспешник, клибанион – пластинчатый панцирь, скута – продолговатый щит, туреос – небольшой круглый щит, спата – тяжелый меч, парамирион – однолезвийный меч с рукоятью иного вида, контарион – длинная пика против конницы…
Однако в первый раз греческие чины приняли русов довольно быстро. Едва неделя прошла, как за ними явились два десятка царских хирдманов в клибанионах и повезли – только троих послов, без отроков, – вдоль Босфора на юг, к Царьграду. Даже не позволили взять с собой купцов, чтобы переводить: сказали, что у асикрита есть свой толмач. Высадив с южной стороны мыса, завели в огромный каменный дом, что стоял прямо за стеной. Вход охраняли два каменных пса, у которых на шее росла густая шерсть. Асмунд знал, что от каменных зверей вреда быть не может, и все же прошел между ними не без тайного детского опасения – а что, если вдруг…
Не показывая смятения, Асмунд следовал за провожатыми по гладким каменным полам. Как можно на самом деле жить в таких избах, с такимим-то огромными окнами, что хоть человек пролезет?
– Как они здесь топят? – по пути шепнул он Кольбрану, пройдя три покоя и не обнаружив ни одной печи либо хоть очага.
– Никак! – Кольбран показал на верхнюю часть серовато-белых стен: – Видишь, копоти нет.
– А как жить?
– Зимы у них не те, что наши. А летом среди камня прохладнее.
Асмунд и сам ощущал, как приятно после жары снаружи войти в прохладу, и все же среди камня с непривычки чувствовал себя неуютно.
Русов принял асикрит логофета дрома, по имени Лаврентий, по званию тоже спафарий, хотя без меча. Чернобородый мужчина, еще довольно молодой, с крупным носом и ранней лысиной, он сидел за столом, по которому было разложено множество желтоватых кожаных листов – расправленных и свернутых. С одной стороны за столиком поменьше устроился другой бородатый грек, одетый скромно и с писчей палочкой в руке. А возле стола стояла… какая-то старая, противная по виду баба с коротко остриженными непокрытыми волосами, одетая в мужскую рубаху и узкие порты. Асмунд воззрился на нее в изумлении, будто на оборотня. Едва рот не открыл.
Сидевший за столом грек что-то сказал.
– Мне доложили, что в Росии сменилась власть и вы приехали от нового архонта, – перевела баба на славянский.
Говорила она понятно, но и голос был какой-то странный: не мужской и не женский. Вефаст украдкой толкнул Асмунда локтем и многозначительно кивнул на грека за столом.
– Говори с ним! – шепнул он на северном языке. – Это кейсаров человек, а то – толмач. Он скопец. Не замечай его. Скажи: мы от конунга Ингвара…
– Мы прибыли от Ингвара, князя киевского и вождя руси, – по-славянски повторил Асмунд, стараясь подавить брезгливость и не замечать «бабы», которая оказалась бывшим мужиком. – Минувшей весной он по воле судьбы, с благословения наших богов и согласия всей русской дружины принял власть в Киеве и прислал сюда меня, своего родича, чтобы уведомить греческих царей и установить мир, дружбу и порядок торговли.
Речь он заготовил заранее и крепко заучил – теперь его это выручило.
– У вас есть грамота? – спросил грек за столом.
Новость, которая во владениях Вещего Олега сотрясла небеса, на него не произвела ни малейшего впечатления.
Грамоту Асмунд держал в руках, так что не заметить ее было сложно. Молодой посол протянул ее греку, но тот, не вставая, кивнул «бабе». Толмач шагнул к Асмунду; тот едва удержался, чтобы не отшатнуться – такое отвращение ему внушало это существо. Но Вефаст снова подтолкнул его локтем, и Асмунд, с трудом сохраняя спокойствие на лице, передал свернутую грамоту скопцу – держа за один конец, чтобы тот мог взять второй.
Скопец с поклоном положил грамоту на стол перед асикритом, но тот лишь глянул на нее, не притронувшись.
– Расскажите, что у вас произошло.
Асмунд глубоко вдохнул, прежде чем начать говорить. Вся старшая дружина много дней спорила, обсуждая ответ на этот вопрос, если он будет задан. Тогда, возможно, Ингвар впервые понял, что значит быть князем – лицом и голосом дружины не только перед богами, но и перед чужими людьми. Истинная причина состояла в том, что дружина хотела походов, а князь Олег-младший не хотел. Киевлянам произошедшее объяснили сложнее: старый князь Предслав, отец Олега, покровительствовал ирландцу Килану, который оказался упырем и загрыз человека. Предслав был христианином, и киевлянам объяснение показалось убедительным.
Но предложить эту же байку грекам-христианам? Даже Балли, чья голова больше подходила для вышибания дверей, чем для думанья, понимал: не пройдет.
– Русская дружина предпочла вручить власть над собой князю Ингвару и жене его Эльге, племяннице Олега Вещего, потому что эта чета объединяет в одних руках наследственные права и власть над всем Путем Серебра – от Хольмгарда на севере до Киева.
– А что случилось с вашим прежним князем? – Грек заглянул в свиток, который лежал перед ним, развернутый и прижатый камнями с двух сторон. – Эльг… сын Преслава?
– Он уехал в свои наследственные владения. На Мораву.
– Но там же турки![10] – удивился грек. – Разве не турки изгнали его оттуда ранее?
– Именно так.
– И почему же он решил туда поехать?
– Потому что русская дружина избрала себе других владык.
– Дружина? То есть войско? – Грек наклонился над столом ближе к послам. – У вас совершился переворот, и власть была отнята у прежнего архонта силой.
– Это так, – подтвердил Асмунд. – Но князь Ингвар не поднял руки на родича своей жены, Олег уехал живым и здоровым, он увез с собой свою жену и сына, все свое имущество и половину наследства предков. На руках Ингвара нет крови близких, и на него не ляжет проклятье. Зато теперь весь Путь Серебра объединен в одних руках, что обещает большие выгоды в торговле между Полуночным морем и здешними краями. Поэтому князь Ингвар желает мира и дружбы с Греческим царством.
– Василея Ромеон не дружит с варварами, – почти безотчетно обронил грек. – Она дарует дружбу…
Он пристально смотрел на Асмунда и других послов, думая о чем-то своем.
– У вас идет война? – спросил он наконец. – Эльг собирает своих сторонников и пытается вернуть себе престол? Если вы сказали правду, и Ингвар отпустил его живым и непокалеченным.
– Не покалеченным?
– В таких случаях сверженного правителя лишают зрения, или мужского достоинства, или того и другого разом, и запирают в монастырь. Кто же возьмет и просто отпустит своего соперника в борьбе за престол? Даже варвары не так глупы.
– Куда запирают?
– Ах, да, у язычников же нет монастырей. Держат в неволе.
– Ингвар не держит родичей в неволе. – Асмунд оглянулся на Вефаста, будто искал подтверждения. – Ты можешь мне верить – я сам состою в родстве с Олегом-младшим! Он внук моего дяди, то есть мне двоюродный племянник. И если бы его лишили зрения… и прочее, что ты сказал, я не позволил бы этого, не смирился с этим и не стал бы служить Ингвару.
Но его горячность пропала даром: грек слушал и лишь постукивал пальцами по столу все с тем же задумчивым видом.
– Это очень важные сведения… – заметил он. – Если все так и было…
– Я могу поклясться моим оружием и богами, что все это правда!
– До клятв еще дойдет. Всему свое время… Ну, хорошо, – кивнул Лаврентий. – Я передам все это логофету дрома, и вам сообщат о дне следующего приема. Ступайте с Богом.
Безбородая мужебаба и сидевший с другой стороны грек-помощник двинулись к послам, имея намерение проводить их за двери. Асмунд повернулся и пошел прочь, сжимая зубы, чтобы подавить негодование. Не сказать чтобы асикрит Лаврентий чем-то явно оскорбил его – а что не очень поверил, так они ведь видятся впервые в жизни. Но беседа оставила очень неприятный осадок. Они как будто совсем не поняли друг друга, несмотря на усилия толмача.
* * *
После первой встречи с царевым мужем день проходил за днем, не принося новых известий. Казалось, о русах в предместье Маманта забыли. Но со двора по-прежнему не выпускали, так что все обширное Греческое царство для них стянулось в серые стены стратонеса и небо над ним. Стояла жара, еще более невыносимая среди камня и пыли. Асмунд и Вефаст заставляли отроков полдня упражняться, чтобы хоть чем-то их занять, но в жаре и духоте люди быстро приходили в изнеможение. Остаток дня спали, а ночью, когда становилось чуть прохладнее, сидели на своих лежанках, болтали, пели. Здешние стратиоты вели такой же образ жизни. Эти получали царское пожалование, кроме пищи, еще и деньгами; иной раз покупали в предместье вина и разного сладкого овоща, угощали киевских отроков. И греческая луна, в удивлении заглядывая в оконца, слышала несущуюся в ночь околесицу, любимую молодой дружиной и имеющую смысл только в ее неотягощенном разуме:
Мы ловили медведя́ – Ой, лели, лели я! Мы катали медведя, Ой, лели, лели я! Мы кормили медведя, Мы поили медведя, Спать ложили медведя…Стараясь не подавать виду, Асмунд с каждым днем все больше изводился. Чего греки тянут? Он все им объяснил, грамоту вручил. Ответил на все вопросы. При всей своей неопытности, молодой посол не находил, в чем себя упрекнуть. Осталось уговориться насчет обмена посольствами для заключения нового договора, и можно отправляться домой. А домой хотелось. Как и всем, ему опостылели каменные стены и пыльный двор стратонеса, греческая чечевица и горох, вяленые сики, копченая кефаль и разведенное водой кислое вино с отчетливым привкусом сосновой смолы. Баней их не баловали – вода текла в подземную цистерну по трубам из такой дали, что верилось с трудом, – а к морю, куда ходили вечерами купаться стратиоты, их поначалу не пускали. Только потом, подружившись с десятскими и сотским, Финнбьёрном, русы стали по двое-трое ходить к морю вместе со стратиотами. Но и теперь душный запах пропотевших рубах очень досаждал. До чего же глупо – месяц грести сюда по Днепру и морю, мимо печенегов и болгар, чтобы потом еще месяц дожидаться, сидя в пыли, будто пес на привязи! На войне и то легче!
Но вот наконец у ворот опять появились шлемы дворцовых «львов». Русов предупредили за день и велели сходить в баню, а потом одеться в чистое: их собирался принять не Лаврентий, а более важный чин – сам патрикий Феофан, протовестиарий, один из мужей, вершащих судьбами Греческого царства. Русы ободрились: наконец-то дело сдвинулось с места!
Их снова посадили в лодьи и привезли в тот же дворец с каменными псами у дверей. Но провели уже в другое помещение – отделанное гладким серым камнем с черными разводами, с красноватыми каменными столпами по углам и резными косяками окон. Здесь сидел за столом рослый, полный, величественного вида немолодой мужчина. Лицо у него было такое, каких среди славян и русов не встретишь: с сильно выступающим горбатым носом, невысоким покатым лбом. Несколько отвислые щеки были чисты, углы рта опущены, будто патрикий взирает на мир свысока и не без пренебрежения. И Асмунд с ужасом понял, что этот безбородный царедворец – тоже скопец!
– Йотуна мать! – почти беззвучно выдохнул он, не зная, как быть дальше.
Казалось, один разговор с этим существом замарает его навсегда, сглазит, лишит силы и уважения людей! Как хорошо, что никто из дружины, кроме Вефаста и Кольбрана, его сейчас не видит! Только бы не вздумал руку подать!
Вокруг большого, отделанного резной костью и чеканным серебром стола стояли уже два столика, за которыми сидели греки-помощники с листами пергамента и писчими палочками, еще один застыл сбоку, другой сидел на длинной каменной скамье под окном.
– Садитесь, – пусть и не слишком любезно, толстый грек указал русам на другую скамью, напротив. К тайной радости Асмунда, пожимать им руки он явно не собирался. – Разговор, возможно, будет долгим.
– Нам не привыкать – мы и ждали его очень долго! – вырвалось у Асмунда.
– Я выслушал Лаврентия, который передал мне ваши речи, и просмотрел вашу грамоту, – толстяк небрежно кивнул на лист, лежащий перед ним. – Правда, без настоящей печати все это стоит не больше оливковой косточки, но пусть будет так. Прежде чем мы сможем признать печать нового архонта Росии, наши люди должны будут посетить Киев и убедиться, что там все так, как вы говорите.
– Пусть приезжают, – с трудом держа себя в руках, процедил Асмунд. Лениво лежащие на столе толстые бабьи руки грека внушали ему отвращение, и он невольно поглядывал в окно, на небо. – Князь Ингвар примет их с надлежащим уважением.
Ему почти в глаза сказали, что он может оказаться лжецом и самозванцем, а вовсе не послом, но он решил терпеть негодование, как воины терпят боль. «Не подведи меня», – говорил ему Ингвар.
– Так, значит, вы утверждаете, что родственник архонта Эльга сместил его и захватил власть в Киеве, опираясь на войско, полководцев и знать? – прищурился грек, будто ему рассказывали байки.
– Это так, – твердо ответил Асмунд. – Дружина руси провозгласила Ингвара своим вождем.
– И насколько велика и сильна эта дружина?
– На нашей стороне были все киевляне, кроме… – «кроме христиан», хотел сказать Асмунд, но вовремя прикусил язык, – кроме морован, соплеменников его отца. Русы и славяне все встали на сторону Ингвара. Большая дружина тоже с ним.
– Это правда? – Патрикий Феофан склонил голову набок и окинул всех троих послов таким отработанно-испытующим взглядом, будто каждый день допрашивал лжецов.
– Йотуна мать, это правда! – рявкнул выведенный из терпения Асмунд, который вовсе не привык, чтобы ему не верили.
– Он клянется Богоматерью, что говорит правду, – перевел толмач, давно подобравший приличное соответствие всему тому, что срывается с языка у варваров.
– Если бы это была не правда, зачем бы я стоял здесь перед тобой! – продолжал Асмунд. – Зачем бы тащился через море?
Свои верили ему, потому что он свой, чужие верили, потому что за ним стоял сильный род, а любое обвинение во лжи пришлось бы подтверждать с оружием в руках, чего, глядя на Асмунда, рослого, крепкого и ловкого, никому бы не захотелось. Поэтому его слова и не подвергали сомнению по мелким поводам, а для крупных он до сих пор оснований не давал.
– Во все времена люди находили множество причин, чтобы солгать ради придания себе веса либо обогащения, – засмеялся патрикий, вертя в пухлых пальцах писчую палочку. От него исходил запах каких-то сладких благовоний с примесью пота, – запах был не такой, какой источают вспотевшие мужчины, и Асмунда мутило от этого. – Значит, новый архонт Ингер сосредоточил в своих руках немалые военные силы?
– Да, – сдержанно ответил Асмунд, стараясь вдыхать лишь со стороны окна.
В этом вопросе он почуял подвох. А что, если его спросят, не намерен ли Ингвар двинуть эти силы на Греческое царство?
– И какого же договора он хочет от нас?
– Договора на тех же условиях, какие были при Олеге Вещем, – с дерзкой уверенностью ответил Асмунд. – Тебе они известны?
– Я не помню всего, но в архиве хартулария варваров этот договор, конечно, есть… Однако я помню, что это был весьма выгодный для вас договор. Кажется, там даже было сказано, что если рус будет убит и его убийца сбежит, то его имущество передается родичам убитого. А если кто из русов умрет своей смертью, то его наследство получают родственники в Росии – небывалое дело! В Романии нет такого закона! Но, клянусь головой Богоматери, нет смысла обсуждать подобный договор с новым архонтом, который еще ничем себя не проявил и даже не доказал, что и впрямь обладает властью.
– Князь Ингвар проявит себя, – сдержанно ответил Асмунд.
Греки поверят, что он обладает властью, лишь когда увидят две тысячи его кораблей в своем Суду? Это можно! Многие среди руси только этого и хотят!
– А ваше посольство увидит его власть своими глазами, когда приедет в Киев, – добавил он.
– Наше посольство может прибыть к вам только на следующий год. У нас мало времени – и у меня лично, и у василевса. Слишком много дел. – Феофан с любопытством посмотрел на два перстня с самоцветами на своей правой руке, будто этот осмотр и был его важным делом. – Но василевс и синклит намерены предложить вам кое-что. Если мы достигнем соглашения и Бог благословит наши замыслы, мы убедимся в истинности власти архонта Ингера, а он получит надежду заключить почти такой же хороший договор, какой был у Эльга Старого.
– Дело? – Асмунд его не понял.
– Клянусь головой апостола Павла! – Феофан бросил палочку на стол и наклонился к послам. – Дело! Свою власть доказывают делом. Свою силу доказывают делом. Право на то, чтобы с вами считались, тоже доказывают делом! А василевс в неизмеримой милости своей готов дать вам такую возможность.
– О чем ты говоришь? – нахмурился Асмунд.
– Я говорю о хазарах, – прямо ответил Феофан. – Пока наши силы были отвлечены борьбой с сарацинами и болгарами, каганат захватил наши владения в Таврии, и мы с трудом удержали только фему Херсон. Если архонт Ингер желает быть нашим другом, он должен доказать, что достоин дарованной василевсом дружбы. Что у него действительно есть сила и он готов употребить ее на благо Василеи Ромеон. Готов ваш архонт двинуть свои войска на владения хазар в Таврии и на Боспоре Киммерийском?
– Ты сам понимаешь, что мы не сможем ответить тебе прямо сейчас, – сказал более опытный в таких делах Вефаст, пока изумленный Асмунд пытался уяснить услышанное. – Мир или война – такое решает лишь князь со всей дружиной, а ни о чем подобном еще не заходило речи…
– Ох, не заходило! – отмахнулся Феофан. – Русы прекрасно знают дорогу и к Боспору Киммерийскому, и к Гурганскому морю. Ваши архонты много раз ходили туда. Никто не удивится, если и ваш новый архонт поведет туда свое войско, чтобы – как вы говорите? – стяжать славу и захватить добычу.
– То есть василевс хочет, чтобы Ингвар напал на земли каганата при Боспоре Киммерийском? – уточнил Кольбран.
– Именно так.
– Это должен быть просто набег – грабеж поселений, захват Карши или Самкрая, увод пленных? Еще какие-то условия будут?
– Об условиях мы поговорим в другой раз, – Феофан кивнул своим подручным, те отложили писчие палочки и встали. – У меня нет на это времени, за вами пришлют позже. Но вы пока обдумайте, насколько это условие подходит вашему архонту. Другого у меня для вас пока нет.
Глава 4
– Вот он. – Эльга вытащила из ларя нечто плоское, завернутое в богато расшитый рушник, и положила на стол. – Вроде не тяжелый.
Старинный серп полянских княгинь на вид ничем не отличался от прочих. Но сама обыденность его вида, при том, каким почетом было окружено это орудие из почерневшего железа, наводила на мысль об особенной, скрытой в нем силе, какую не увидишь простым глазом. Эльга и Ута даже не сразу решились взять его в руки, наконец обнаружив на дне ларя.
В этом ларе хранились принадлежности жертвоприношений и прочих священных обрядов, совершаемых полянскими и русскими князьями. Пару лет назад Эльге показывала его тогдашняя княгиня Мальфрид, а теперь Эльга показывала его своей сестре Уте. Чтобы отыскать нужное, им пришлось вынуть несколько серебряных, позолоченных чаш для сбора жертвенной крови, молот, которым оглушают крупных животных, жертвенные ножи, большие турьи рога в серебряной оковке, служащие для возлияния богам.
Серп лежал на самом дне. Вынутый из рушника, он казался слишком грубым, неуместным возле прочих священных сокровищ – блестящих позолотой, цветной эмалью и самоцветными камнями. А между тем стоил он, пожалуй, дороже всего прочего содержимого с самим ларем вместе. Любая чаша не дороже пошедшего на нее серебра. А в этом простом железном серпе на резной костяной ручке заключались все прошлые и будущие урожаи, сама плодоносящая сила нив полянских – бесконечная и неисчерпаемая, как время. На пожелтевшей, гладко вытертой ладонями многих женщин кости были вырезаны знаки земли, солнца, воды, плуга – вечное заклинание жизни.
Взявшись за костяную ручку, Эльга прикинула вес орудия. Пальцами другой руки осторожно прикоснулась к режущему краю, потом протянула Уте:
– По-моему, он тупой. Или так и надо?
Та посмотрела.
– Зубцы сточились. Надо кузнецам отдать. Видишь, он совсем сточенный уже.
– Жутко подумать, сколько ему лет, если он так сточен, а ведь каждый год им подрезали один рядок, да и все!
– Но вострили все равно каждый год, а лет через десять и зубцы перебивали.
– Его надолго не хватит. Еще две-три княгини – и придется ковать новый!
Эльга засмеялась: не много на свете вещей, срок службы которых измеряют в княгинях. А ведь она, восемнадцатилетняя княгиня русская, мать почти двухлетнего сына-наследника, перед этим серпом была девочкой. В его жизни предстоящая жатва была невесть какой по счету, а для нее – первой. Как тут не волноваться? Со времен переворота, отдавшего власть в руки ее мужа, это было первое важное дело, которое предстояло исполнить ей, новой владычице руси.
Вещий стал своим для полян, взяв жену здешнего княжьего рода. Ту, что воплощала не просто эту землю, а ее плодоносящую ниву. Эльга же была здесь почти чужой: ее связывало с этим краем лишь родство с Олегом. У нее не имелось здесь рода, что из поколения в поколение, от матери к дочери, от бабки к внучке передавал бы серп, обряды и песни. Она была как веточка, что пыталась прирасти к чужому корню, и серп для жатвенных обрядов не столько получила, сколько силой вырвала из рук прежней хозяйки.
Но вырвать мало – нужно удержать и приладить к делу.
Сейчас Эльга выжидательно смотрела на Уту. Двоюродная сестра была ее ровесницей, обучались они вместе, однако Ута уже однажды возглавляла жатвенные обряды – три года назад, в ту единственную осень, что пробыла женой ловацкого князя Дивислава и старшей жрицей его земли. Теперь же их предстояло проделать Эльге.
– Это не сложно, – начала объяснять Ута. – Держишь серп в правой руке. Вот так концом цепляешь пучок колосьев, отделяешь от рядка. Потом вот так режешь – раз, два, три. Он сам обрежет стебли по кругу. Главное, не выставляй вперед ногу и не дергай на себя, а не то поранишься.
Эльга взяла у сестры серп и повторила ее движения. Когда-то, еще до замужества, в Плескове их учили этому обеих, но за минувшие три года некрепкий навык совсем усох.
– Нет, так не годится. – Эльга положила серп обратно на рушник. – У меня неловко выйдет. Нельзя же мне учиться на глазах у всех этих баб! Они и так на меня косятся, а если еще слух пойдет, что у новой княгини дело из рук валится – совсем засрамят.
– Давай поучимся где-нибудь, – предложила Ута. – Это не сложно, только наметаться надо.
– Поучиться-то хорошо бы. А где? Да так, чтобы никто не видел.
– Не видел?
– Само собой! Если хоть одна сорока увидит, как мы с тобой траву на поляне жнем, разговоры пойдут худые. Или в ворожбе обвинят, или скажут, что княгиня – неумеха. Они должны думать, что я все могу и умею не хуже них, хоть они двадцать лет на жатвы ходят. Никто не должен знать, что я не умею, стало быть, никто не должен видеть, как я учусь.
Ута подумала, потом вздохнула и предложила:
– Давай со Свенельдичем посоветуемся.
Эта мера всегда приходила им в голову, если они сами оказывались в затруднении. После бед ранней молодости Доля сжалилась над Утой: овдовев, та очень скоро вышла за побратима Ингвара – Мистину, сына воеводы Свенельда. Такой судьбе любая бы позавидовала: муж Уты был молод и недурен собой, а к сломанным носам парней девушки, выросшие близ дружин, привыкли и почти не замечали. Супруг ценил в ней племянницу Вещего, которая и его ввела в круг родни прославленного князя, относился с уважением. Свекор считался молодому князю Ингвару вторым отцом, имел хорошую долю в дани и добыче, сам вел заморскую торговлю, и в первые годы замужества Ута жила даже богаче своей сестры.
К тому же она успела убедиться, что муж ее – человек умный, способный найти средство помочь любому делу. Если сочтет его достаточно важным, чтобы снизойти.
Впрочем, если дело касалось Эльги, он всегда находил его важным.
Проводив сестру, Эльга завернула серп в рушник попроще, позвала отрока и велела отнести Скольду Кузнецу: княгиня кланяется и просит, чтобы выправил прямо сейчас, до вечера, но никому не показывал. Великан Скольд был самым добрым из Ингваровых дружинных кузнецов и охотнее всего откликался на просьбы Эльги. Может, неправильно было позволять простому человеку прикасаться к священному орудию, может, надо было самого Ингвара попросить. Но потом Эльга вспомнила, что у полян всякий кузнец считается сыном самого Сварога, а значит, не будет худа.
Пора было обращаться к насущным делам. Пару недель Ингвар с ближней дружиной провел на лову: объезжали все леса Полянской земли вдоль Днепра, загоняя вепрей. Близилась жатва, на репищах зрели овощи, а лесные свиньи причиняли урожаю большой урон. Всю добычу князь забирал себе: даже десяток туш в берковец-полтора каждая – не так уж много, если надо кормить шесть сотен человек, причем каждый день! Летом хранить мясо долго нельзя, и на поварне работа кипела круглые сутки: даже ночью при свете огня в очагах здесь разделывали туши.
За столы княжьего двора ежедневно садилось по паре сотен человек – свои гриди, всякие гости, не считая челяди, – но в доме не имелось другой хозяйки, чтобы присматривать, как челядь режет барана или свинью, разделывает тушу, из одних частей варит похлебку для всей дружины, самые лучшие обжаривает или тушит для воевод и бояр, что будут князем приглашены за стол. Каждый день пекли хлеб в печах особой «хлебной избы» на краю двора. Поодаль от жилых помещений стояла поварня: длинная изба с высокой кровлей, с широкими дверями на обоих концах – летом их растворяли настежь ради освещения. По сторонам тянулись длинные дощатые столы, а посередине чернели несколько обложенных камнем очагов. Над ними вешали большие котлы для каши или похлебки, ставили на решетках железные и глиняные сковороды для мяса, рыбы, блинов. На вертелах обжаривали части туш. Целыми днями из поварни тянуло дымом, княжеская челядь стояла вдоль столов, разделывая выловленную из Днепра рыбу, очищая репу, морковь, лук и чеснок. Особо назначенный отрок сидел с краю с точильным камнем: править ножи челядинок, которые те подносили ему все по очереди. Снаружи под стеной была устроена выложенная камнем яма, где для пиров запекали туши целиком. Эльга управляла всем сама и в душе гордилась, что у нее все сыты и довольны: от князя до последнего мальца.
Последние недели Эльга прожила среди пятен крови и куч внутренностей, среди запаха паленой щетины, топленого сала и уксуса, в котором вымачивали мясо перед готовкой. Печень и прочую требуху съедали сразу, сало и окорока солили и коптили для будущих пиров, мясо на ребрах и куски мякоти жарили, из ножек делали холодец. Каждый день ближняя дружина ела обжаренную грудинку с кашей. Эльга сама проводила среди туш целые дни, хорошо понимая: нельзя дать пропасть ни одному хвостику и ушку – ведь ей кормить эти сотни людей до конца осени, до отхода в полюдье. Зимой большую дружину будут угощать подвластные Киеву земли, но челядь останется на ее попечении. Зато ряды бочонков с соленой веприной и подвешенные к балкам в погребе окорока грели ее душу так, как не согрело бы самое роскошное греческое платье.
Бочонков едва хватило. Соль на исходе. Нужны новые корыта. И люди. Главное – люди! Княгине отчаянно не хватало челяди, и порой она работала сама, стоя за столами рядом со своими шестью служанками. Даже Добрету, кормилицу для Святки, ей вместо обычного дара для роженицы преподнес Свенельд. Та родила чуть раньше, но ее дитя умерло, поэтому молодая уличанка могла отдавать княжьему чаду все свое молоко, любовь и заботу.
Эльга стояла у двери поварни, глядя, как челядинки чистят рыбу, как вдруг совсем близко за спиной раздался знакомый голос:
– Ута сказала, ты меня хочешь. Так вот он я. Весь твой.
Эльга зажмурилась, подавляя желание сказать, что думает по поводу этого двусмысленного приветствия. Когда никто их не слышал, свояк Мстислав Свенельдич нередко пытался вовлечь ее в болтовню, напоминающую езду на костяных коньках по краю проруби; порой Эльга находила это забавным, но сейчас ее мысли были о деле и не хотелось тратить время на шутки.
Она обернулась, сразу поднимая глаза повыше – ростом Мистина превосходил всех в дружине. И не только ростом. Именно его, ближайшего своего человека, Ингвар посылал к матери в Хольмгард, и Мистина умудрился съездить и вернуться с успехом всего за три месяца! Теперь он был сотским ближней княжьей дружины: набирал людей, руководил упражнениями и обучением гридей, улаживал их раздоры между собой и с киевлянами. Его отец, Свенельд, следил за положением дел в большой дружине, половина которой жила в Киеве, а половина – в Вышгороде. Основой ближней дружины Ингвара стали его прежние отроки, большая в основном осталась от Олега Предславича – эти люди содержались за счет дани и оставались при том, кто ее собирал и распределял. Пока еще ни город, ни дружина не привыкли к новому хозяину, доверять Ингвар мог только своим прежним отрокам, и вот тут Мистина оказался незаменим: никто лучше него не умел следить за разговорами и настроениями. Все это оставляло ему так мало свободного времени, что даже до дома он добирался не всегда, нередко оставался ночевать в гриднице. Эльга видела его чаще, чем собственная жена Ута.
И на зов княгини он являлся так быстро, как мог.
Обернувшись, Эльга не поймала его взгляд: он смотрел куда-то ниже ее лица. В эту жаркую пору она одевалась в льняную сорочку и крашеный льняной же хенгерок – северного образца платье без рукавов, с лямками через плечо, сколотыми на груди продолговатыми узорными застежками. Такие застежки составляли и гордость, и сокровище всякой уважаемой женщины. А если между ними подвесить снизки стеклянных и серебряных бусин с подвесками, то на одной груди можно увидеть стоимость годовой подати с немалой волости – дворов из сорока-пятидесяти.
– Будь жив! – окликнула Эльга. – Снизки мои понравились?
– Будь жива! – На правах свояка Мистина наклонился и слегка коснулся ее губ вежливым родственным поцелуем. И как всегда, она невольно сделала глубокий вдох; в такие мгновения его становилось слишком много. – Удивительно красивые… – с искренним чувством добавил он. – Ни у кого больше таких нет.
– Отойдем! – Эльга кивнула ему прочь от столов, пока челядь не приметила, как свояк пялится на ее грудь, обрисованную двумя слоями льна.
Поскольку она сама ребенка не кормила, то грудь у нее осталась девичья, высокая, а после родов стала еще пышней. В разрезе сорочки выше хенгерка виднелась ложбинка между двумя нежными округлостями; попав в эту западню, взгляд свояка никак не мог оттуда выбраться.
– Скоро жатва, – начала Эльга, когда они вышли из поварни. – Мне придется идти зажинать. Надо будет сжать по ряду на двух-трех ближних полях, как Мальфрид делала.
– Я помню.
– Серп мы нашли, но я его три года в руках не держала, да и раньше – только пока нас Велемира учила… Свенельдич, глаза сломаешь! – Эльга подпустила строгости в голос.
Мистина наконец вскинул взор к ее лицу. В его серых глазах сейчас было хорошо ей знакомое выражение, которое она затруднилась бы описать: он слушал ее и отвечал по делу, и в то же время как будто в мыслях делал с ней… то самое, для чего у него имелась собственная жена. А легкий, едва заметный излом брови намекал, что у воеводы полно забот и он слушает эту женщину лишь потому, что она княгиня и супруга его побратима. Эльга наблюдала за Мистиной уже три года, но не перестала дивиться его способности совмещать деловитость со скрытым любострастием, да так, что этот сплав казался совершенно естественным и одно ничуть не мешало другому.
И все же она замечала, что с минувшей весны его обращение с ней изменилось. Он начал на самом деле слушать то, что она говорит, а не отшучиваться. Не так чтобы в его взгляде появилось уважение… но выражение собственного превосходства стало не таким ярким. Он стал смотреть на нее так, как смотрел бы на толкового отрока: еще не человек, но уже на пути к этому. Уже внушает надежды.
– Поупражняйся, – посоветовал он. – Не завтра же еще начинать?
– Дня через три. Ко мне вчера приходили большухи…
– Чьи большухи приходили? – оживленно спросил Мистина: это было важно.
– Гостимилова, Веледенева, Радовекова.
– Это хорошо! Сами пришли, или ты за ними посылала?
– Посылала недели две назад. Велела кланяться и просила, чтобы они своим умом и опытом меня, молодую, наставили и оповестили, когда рожь в спелость войдет.
– Правильно, – одобрил Мистина, и Эльга поневоле ощутила гордость.
Не требовалось объяснять ему, как важно ей, молодой русской княгине, привлечь к себе этих дородных баб с обожженным солнцем лицами, с отвислыми от частых родов животами, до которых спускаются груди, выкормившие десяток чад. Она так непохожа на них, но они должны увидеть в ней свою святыню – воплощение земли. Той земли, что была родной им, но не Эльге.
– Через три дня, бабы решили, надо зажинать, чтобы успеть убрать, пока рожь не посыплется.
– Ну, за три дня научишься. Тебе же не все поле жать.
– Где мне поучиться, чтобы никто не видел?
– Пойдем ближе к ночи до бору, там порежешь траву на поляне, где нет никого. Да хоть прямо сегодня, пока небо ясное.
– Ближе к ночи?
– Но ты же хотела, чтобы тебя никто не видел? Только оденься, как все бабы. Чтобы издалека в глаза не бросалось, что княгиня. Я своих отроков и лошадей возьму. Как начнет темнеть, будь готова и жди.
* * *
Вечером, зайдя в жилую избу, Ингвар отчасти удивился: жена сидела в белой сорочке и красной плахте, вытканной нарочно для обрядов, и будто бы чего-то ждала.
– Ты что это бабой нарядилась? – Он знал, что Эльга не любит славянского платья и никогда его не носит.
– Я так на жатву пойду.
– А сейчас что – жатва? Я, знаешь, уже спать собирался.
– Почти жатва. Где Свенельдич?
– В гриднице. Тебе он зачем?
– Жать пойдем.
– Жать? Со Свенельдичем? – Ингвар нахмурился. – Что ты мне голову морочишь? Чего жать? И почему на ночь глядя?
Он устал за день и не хотел разгадывать загадки. Это лето выдалось самым непростым за его жизнь. Сложнее даже тех, что Ингвар проводил в военном походе – там-то ему, храброму и решительному, было все понятно. Но княжий стол требовал совершенно других умений и способностей, и он с трудом привыкал к новому положению.
– Лучше не спрашивай! – Эльга улыбнулась и ласково положила руки ему на грудь.
Они были почти одного роста, но она – легкая, стройная, светлая – смотрелась как белая лань рядом с сильным, но неказистым рабочим конем. При русых волосах и бровях борода у Ингвара росла рыжая, а весь облик был таким простецким, что странно было видеть его во главе куда более внушительных людей. Он был далеко не глуп, но сразу понимал только хорошо знакомые ему предметы. Эльга давно знала: если некое дело нельзя объяснить в трех словах, проще отшутиться.
– Сейчас мы с Утой пойдем жать траву на поляне, а Мистина с отроками будет нас охранять, – пояснила она. – Скоро вернемся. Но ты ложись, не жди меня.
– Что вы затеяли? Это что… ворожба какая-нибудь?
Ингвар сомневался, не дурачат ли его, но твердо знал: и жена его, и побратим совершенно не те люди, что могут заняться полевыми работами без особых тайных причин.
– Можно и так сказать. Но ничего опасного!
– Зачем вы Уту ночью по полянам таскаете! – Ингвару не понравился этот замысел. – Ей беречься надо! Что вы с Долговязым за игрища дурацкие все выдумываете? Неймется вам!
Его немного раздражало, что он не всегда поспевал за бойкими умом женой и побратимом.
Эльга подавила вздох и снова нежно улыбнулась мужу:
– А ты бы хотел, чтобы я ночью гуляла по лесу вдвоем с Долговязым?
– С ним вдвоем ты никуда не пойдешь! – отрубил Ингвар.
– Само собой, – смиренно согласилась Эльга.
Скрипнула дверь, в избу заглянул Мистина, согнувшись под притолокой едва не пополам:
– Княгиня, готова?
– Да. – Эльга встала, прихватив большой платок из некрашеной шерсти: одолжила у Добреты для защиты от вечерней прохлады.
– Эй! – крикнул ей вслед Ингвар. – Вы же не голые собрались там ворожить?
– Не спрашивай – сглазишь! – засмеялась Эльга.
Мистина только хмыкнул. «Тебя бы все равно посмотреть не пустили», – ехидно подумала Эльга. Бывает женская ворожба, которую творят обнаженными, но такие дела не терпят чужого глаза. Особенно мужского.
Снаружи по-прежнему висела жаркая духота. Выросшая на севере, Эльга по привычке ждала ночами прохлады, но в Полянской земле на макушке лета и ночью было тепло.
Во дворе ждали отроки Мистины, человек пять, с тремя лошадьми. На самой смирной кобыле сидела Ута. Скудота вел кобылу под уздцы, оберегая от малейшей возможности споткнуться. Другую приготовили для Эльги.
– Серп не забыла? – Мистина протянул ей поводья.
– Со мной, – Эльга слегка кивнула себе за спину, где висел небольшой берестяной короб.
Платок пригодился: сев в седло, Эльга накинула его на колени, чтобы не сверкать голыми ногами под задравшейся плахтой. Обычно она в таких случаях надевала плащ, заколов на плече, но к плахте он совсем не шел: селянки плащей не носят.
Передав ей поводья, Мистина заботливо расправил платок и, уже убирая руку, мимолетно коснулся ее ноги чуть выше щиколотки. Но когда она обернулась, собираясь возмутиться, то увидела лишь его спину и хвост длинных волос: он уже отошел от нее. Потом сел на своего коня и негромко свистнул отрокам: трогаемся.
Олегова гора, где стоял княжий двор, никаких укреплений не имела, и небольшой отряд из трех всадников и пятерых пеших проследовал по улицам и выдвинулся в поля, не привлекая ничьего внимания. Еще не полностью стемнело, воздух наливался синью. Сияла почти полная луна, и Эльга улыбнулась, глянув на нее: и впрямь, для ворожбы самое время.
По дороге через ближние поля и огороды почти никто не попадался: народ уже разбрелся по избам и готовился спать. Пора гуляний давно миновала, шел к концу сенокос, бабы днями пололи гряды с овощами и льнища, готовясь вот-вот выходить на жатву. В рощах стояла тишина: даже птицы свое отпели. На лугах и полянах уже виднелись сметанные стога сена. Вблизи Киева, старинного населенного места, ничейной земли не оставалось совсем, все перелески и полянки, не говоря уж о пригодных под пашню участках, были давно поделены. Отаву выкашивали так чисто, что пришлось объехать несколько перелесков, разделявших полевые наделы, прежде чем нашлась уединенная прогалина с довольно высокой травой. С одной стороны ее обрамляла роща, с другой – делянка ржи.
– Вот здесь, пожалуй, – Мистина остановил коня. – Хватит вам столько?
– Для начала хватит, – согласилась Эльга. – Чьи это угодья?
– Радовековы. Где рожь – его земля, да эта роща, а там, за ручьем, уже Войнилины.
Отрок помог Эльге сойти с лошади, и первым делом она направилась к ржаному полю. Отломила колосок, потерла в ладонях, отчего они покрылись серой пылью, выбрала пару зернышек, положила на зуб и вдумчиво раскусила. Постаралась запомнить: вот таким должно быть зерно, которое готово под серп через несколько дней. У Радовековичей, должно быть, это умеют определять не только большухи, но и девки, однако родичи Эльги на земле не работали, и жатву она видела только за рекой, в Люботине, где обитали родичи Уты по матери. Ночная тьма пока дозрела лишь до половины густоты, среди сумерек сияла луна, и света хватало, чтобы разглядеть почти каждую травинку. Лошадей и отроков Мистина отослал в рощу, чтобы не торчали на глазах. Оставаться здесь собирались недолго, лошадей не расседлывали, и оружники лежали на траве, из-под ветвей наблюдая за жницами. Мистина взял с собой самых доверенных людей. Альва и Ратияра Эльга помнила еще с того дня, когда посланец незнакомого жениха вытащил ее из владений Князя-Медведя. Ждан Борода на ее памяти за три года вообще ни разу не раскрыл рта по доброй воле, и лишь если ему задавали прямой вопрос, давал односложный ответ. А поскольку изъяснялся он весьма неразборчиво, то и желающих приставать к нему с разговорами не водилось. Эти люди не станут болтать, какой бы странной ни показалась им ночная вылазка. А если вожак не посчитает нужным объяснить происходящее, они даже мысленно не зададутся вопросами.
Сам Мистина сидел на земле под толстой березой и наблюдал за женщинами, покусывая длинную травинку.
Вынув серп, приступили к делу. В руках Уты дело шло отлично – раз-два-три, – и она поднимает в левой руке пук срезанной травы.
– Тебе не тяжело? – беспокоилась Эльга.
На время беременности сестра носила славянскую завеску, как раз и предназначенную скрывать растущий живот от дурного глаза, и еще почти ничего не было видно, и все же Эльга волновалась.
– Нет, ничего, – бодро отвечала Ута. – Я и черевьи сама себе завязываю. А на жатву простые бабы так и ходят до самых родов. Потому, говорят, и рожают прямо в полосе.
– Мы с тобой рожать в полосе не будем! – отрезала Эльга. – Дай я теперь попробую.
Она взялась за рукоять, теплую от ладони сестры, и левой рукой решительно ухватила пучок травы.
– Сначала режешь той частью лезвия, которая возле ручки, – подсказывала Ута. – Двигаешь рукой влево. Теперь руку к себе, режешь средней частью… теперь вправо – режешь дальние стебли… Вот!
Эльга победоносно подняла сжатый пук травы, будто голову поверженного врага. Даже засмеялась от радости: и правда, не так уж трудно. Главное, обрести навык, чтобы со стороны казалось, будто она всю жизнь этим занимается. Княгиня – это земля, она не может не уметь чего-то, что касается земли.
Оставив позади себя шагов десять сжатой травы, Эльга так ободрилась, что стала с вожделением поглядывать на окраину ржаного поля.
– А давай там попробуем, – она легонько подтолкнула Уту локтем. – Ведь колосья – это не трава. К колосьям тоже приладиться надо.
– Но как же, это ж чужое поле!
– Ну и что? Не разорится Радовек от трех горстей. Я же только попробую. С самого краю, где реденько.
На дороге Эльга на всякий случай огляделась: никого. Забрала в горсть с пяток редко торчащих на самой обочине стеблей. Они были жесткими и пыльными. Вспомнились грубые ладони на коричневых морщинистых руках тех большух, что приходили к ней: вот от этой работы они и становятся такими, с черными трещинами на пальцах, куда навек въедается земля. То, что для нее – приключение, почти развлечение, для них – привычный с юности необходимый труд. К жатве допускаются только бабы, и те, какие вышли замуж рано, могут попасть на ниву лет с пятнадцати. И до самой смерти, пока ноги носят и спина гнется, пока земля на руках не смешается с пеплом погребальной крады…
Эльга втягивала носом дух нивы и пыльных стеблей, тот особый запах зрелого колоса, который так веселит сердце землероба. Старалась войти в дыхание нивы, слиться с ним. Тогда у нее получится. Тогда ее примет эта земля, и эти бабы признают ее госпожой над ними – стройную, белокожую, с мягкими руками и иноплеменным выговором, от которого она не полностью еще избавилась.
Она срезала уже три горсти колосьев, как вдруг Ута рядом охнула в испуге и невольно схватила ее за плечо. Эльга дернулась от неожиданности и выронила серп. Но не заметила этого: разогнувшись, она увидела, как на другом краю полосы, у той стороны рощи, шевелятся какие-то крупные темные пятна. Послышались звуки, похожие на визгливое рычание или скрипучее урчание.
Из рощи раздался свист.
– Ёж твою в киль! – рядом с ними вдруг оказался Мистина и схватил Уту за руку. – Бегом отсюда! Живо! Эльга, за мной!
В двадцать три года сын воеводы умел приказывать: сам голос его будто брал за шиворот и толкал в нужную сторону. Эльга втянула воздух: на опушке рощи копошились вепри, три или больше. Во мраке, под луной, они казались совсем черными. Самый здоровенный стоял, подняв большую голову, и приглядывался к людям; в белесых лучах блестели загнутые клыки на клиновидной морде.
Стиснув зубы, Эльга молча бросилась бегом за Мистиной. Он обернулся, убедился, что она послушалась, и устремился во тьму рощи. В эту пору у вепрей есть детеныши, и животины держатся семьями; если вожак решит, что его сородичам угрожают, он бросится на людей, как смерч. А поскольку воевать отроки ни с кем не собирались, то и оружия никакого не взяли.
Сколько народу погибает по неосторожности при встречах с вепрями! Эльга бежала, не чуя земли под ногами. Отроки мчались им навстречу; боясь обернуться, она птицей вспорхнула в седло и послала лошадь по тропинке. Рядом слышались негромкие окрики, шум, стук копыт.
– За мной! – Ее обогнал Мистина, везя Уту перед седлом.
Сзади слышался топот третьей лошади: судя по звуку, на ней тоже кто-то ехал.
Проскакав шагов сто вдоль поля, они завернули за перелесок, и здесь Мистина, оглядываясь, придержал коня.
– Все! Эльга, стой!
Княгиня сбавила скорость, тоже оглядываясь с беспокойством. На третьей лошади сидел Скудота, остальные отроки догоняли их бегом.
– Все, уже не страшно, – повторил Мистина. – Они потеряли нас из виду, вдогон не побегут.
– А что будут делать?
– Жрать! – со значением произнес Мистина. – Альв!
Его отрок подошел и помог Уте спуститься с седла. Эльга тоже соскочила наземь и подбежала к сестре.
– Как ты? – Она обхватила Уту, будто боялась, что та упадет. – С тобой все хорошо? Тебе не худо?
– Нет, отчего же? – Вполне спокойная, Ута лишь потирала спину и бедро, поскольку эти сто шагов проехала не в самом удобном положении.
– Ничего не болит? – настаивала Эльга.
Ее обливала холодная дрожь при мысли о будущем ребенке. Все-таки Ингвар прав: Уте нужно беречь себя, а не разгуливать по ночам!
– Ты не очень испугалась?
– Да ладно тебе! – Ута тихо засмеялась. – После избушки Буры-бабы что мне какой-то вепрь! Смешно даже!
Эльга обняла ее и так застыла. Да уж, не она, такая смелая и решительная, а скромная Ута провела несколько дней и ночей в избушке Буры-бабы за тыном с черепами, в окружении враждебных духов, наедине с полумертвой старухой-волхвой. Зная, что в сотне шагов оттуда лежит на полянке труп Князя-Медведя – со смертельной раной от сулицы под лопаткой и с разрубленной головой. И не она, а Ута пережила бой за Зорин-городец, гибель первого мужа, встречу с его победителем, потерю того дитяти, что должно было стать ее первенцем… К шестнадцати годам ее сестра приобрела такой опыт, какой другую совсем сломил бы. Но Ута была сделана из чего-то такого, что только закаляется под ударами судьбы.
Хотела бы Эльга убедиться, что сама сотворена не хуже. Но хорошо бы – не такой ценой. А можно ли иначе?
– Хватит, девушки, поедемте, – с легкой досадой сказал возле них Мистина.
И Эльга вновь вспомнила те жуткие мгновения после гибели Князя-Медведя. Тогда Мистина тоже сказал им: «Хватит, девушки, обниматься, мне завидно. Идемте отсюда».
Еще раз всех заверив, что чувствует себя не хуже обычного, Ута с помощью мужа осторожно поднялась в седло, и Скудота повел ее кобылу по дороге. Мистина ехал впереди, Альв вел лошадь Эльги, другие отроки шагали в хвосте. Теперь уже совсем стемнело: луна освещала дорогу, но близ рощи никакой травы они уже не разглядели бы.
– Вот ведь свинские свиньи! – возмущалась Эльга. – Думала, я всех вепрей под Киевом уже на варево и жарево перевела, а тут вон – целое стадо!
– Проскочили как-то, – Мистина придержал коня и обернулся к Эльге, – а может, из других мест на свободные угодья подошли. И ты знаешь, – с мнимой небрежностью добавил он, – я думаю, не стоит князю рассказывать. А то он разволнуется… спать до утра не будет…
«А будет бранить нас последней йотуновой матерью», – мысленно докончила Эльга. Несмотря на внешнюю самоуверенность, Мистина тоже не хотел попасть под ураган княжьего гнева. А у нее и сейчас стыли жилы от мысли о том, что сестра могла бы от испуга скинуть дитя, не будь такой стойкой и закаленной. Никогда в жизни она бы себе этого не простила!
– Я не скажу, – вздохнула Эльга. – Стой!
Вдруг ее облило холодом, и она остановила лошадь.
– А где серп? Батюшки, я серп потеряла! – Вытаращенными глазами Эльга уставилась на Мистину. – Ой, лишенько! – полушепотом завопила она по примеру тех большух. – Я святой серп потеряла! Да лучше голову потерять! Поехали назад!
– Домой поехали! – оборвал ее причитания Мистина. – Доставлю вас по постелям, а парни потом серп найдут.
– А если кто увидит, как священное орудие нив полянских на обочине валяется? А если его вепри потопчут? Поехали сейчас!
– Сейчас там свиньи жрут и на поле нас добром не пустят. И не найдешь его сейчас в темноте. К рассвету развиднеется, тогда подберем. Да привезу я тебе серп, чтоб рука отсохла! – с досадой воскликнул Мистина, и Эльга вздохнула.
На самом деле возвращаться на поле, где угощаются вепри, ей не очень-то и хотелось. Только вспомнить, как блестели клыки под луной у того троллева свинюка…
Ута с отроками подождала перед воротами, пока Мистина доставил Эльгу до двери избы. Подошел, чтобы снять ее с лошади.
– Договорились? – спросил он перед этим, взявшись за луки седла, словно без подтверждения не собирался ей помогать.
– Ты руку заложил! – с мрачной решимостью шепнула Эльга. – Жду с серпом на белой заре!
Мистина пожал ее ногу возле щиколотки, но уже без всяких намеков, а просто как пожимают руку в знак достигнутого согласия. И тут Эльга вспомнила, что Добретин платок тоже посеяла в той роще у поля.
Свояк не подвел: на белой заре в дверь осторожно постучали, и Альв передал Добрете серп, завернутый в серый шерстяной платок. У Эльги, спавшей одним глазом, отлегло от сердца. Неслышно выскользнув с постели и задернув назад занавеску, чтобы Ингвар, если проснется, не увидел ее занятия, она заботливо вытерла серп ветошкой, мысленно прося у него прощения, даже помазала лезвие кусочком сала, чтобы не обижался. Завернув в рушник, спрятала в ларь. Обошлось!
Все было хорошо – еще целый день…
* * *
Назавтра три бабы из Радовековой веси по пути на льнище завернули посмотреть рожь и обнаружили следы потравы: половина делянки, уже готовой к жатве, оказалась изрыта вепрями. Везде виднелись отпечатки небольших острых копыт, колосья были смяты и втоптаны в перепаханную рылами землю. Половина урожая погибла безвозвратно. Помня недавние княжьи ловы, такого никак не ожидали: видимо, лесные свиньи пришли из иных мест.
Поднялся крик, а когда чуть не все родичи Радовека прибежали оценить размер беды, третий сын, Яруга, обнаружил, что на другом краю поля сжаты три горсти колосков. Эта часть посевов от вепрей не пострадала, и тоненькая сжатая полоска была хорошо видна.
А это уже совсем другая беда.
– Она, Беляница! – первой завопила Радовекова большуха, Немировна. – Она, змея лютая! Совсем загубить нас хочет, без хлеба оставить! Испортила нам поле, в свинью оборотилась и потравила! Не соберем и горсти зерна с этого поля!
– Целы ли другие? – воскликнул ее второй сын, Будята. – Бегом, братья, смотреть!
– К Белянцу бежать надо! – сообразил Радовек, поначалу опешивший. – Мать, если это и правда Беляница – есть средство какое доказать, что она виновата?
– У них в овине три колоска наших должно висеть, вот так связанных! – показала на пальцах его третья невестка, Яримча.
– Беги, отец, с парнями, посмотрите! Если висит…
– Да если висит, я из них никого не помилую! – рявкнул старший сын Радовека, Загреба.
Родичи покосились на него, но промолчали.
* * *
Княгиня киевская готовила ржаное тесто. За приготовлением хлеба для ближней дружины и гостей она лишь надзирала и помогала потому, что не хватало женских рук, но хлеб для дома и семьи пекла сама от начала до конца. Свою закваску, жившую в горшочке, она считала одним из наиболее важных домочадцев и тайком разговаривала с ней по ходу дела, но так, чтобы никто не слышал. Хлебная закваска – душа дома, и общаться с ней имеет право лишь сама законная хозяйка.
Но сегодня она волновалась, так что даже немного дрожали руки. Сегодня ей впервые предстояло изготовить хлеб не просто для стола, а для подношения ниве перед жатвой. Добавила в опару теплой воды с медом и солью, грубую ржаную муку, размешала, выложила тесто на стол и размяла как следует. Вылепила шар, отряхнула лишнюю муку и положила в глиняную сковороду. Посыпала льняным семенем, сбрызнула водой, накрыла рушником и понесла поставить близ очага в поварне, пока топится хлебная печь.
А выйдя во двор, услышала гомон за воротами: мужские и женские голоса не то причитали, не то чего-то требовали. Ингваровы отроки снаружи преграждали незваным гостям путь. Эльга прошла к поварне, поставила сковороду под рушником на камни очага, где было тепло в нужной мере, и велела Миленке следить. Потом, отряхивая руки, подошла к воротам.
– Я вам говорю, тупые бабы! – доносился снаружи сердитый голос Гримкеля Секиры, десятского нынешней дворовой стражи. – Жалобы и тяжбы – в четверг на Святой горе! Нынче не четверг, и князь ваших дел разбирать не будет!
– Княгине! Княгине доложи! – вопили женские голоса. – Пусть она заступится за нас! Нельзя до четверга ждать, завтра же идти ниву зажинать, а у нас такая беда!
– Гевульв! – окликнула Эльга другого гридя рядом во дворе. – В чем там дело?
Упоминание нивы и зажинок встревожило ее: она и без того боялась, что по неопытности испортит самое важное за весь год женское священнодействие.
– Про порчу что-то гундят, если я понял, – Гевульв хмурился, вслушиваясь.
– Скажи Секире, чтобы пропустил пару человек, – велела Эльга. – Я хочу знать, в чем дело.
Гевульв ушел за ворота, что-то там сказал, гомон поутих. Гридь вернулся, ведя за собой двоих: старейшину Радовека и его жену, Немировну. Эльга знала ее: к ней она недавно посылала с просьбой помочь определить готовность нивы. Помня, что эта краснорожая тетка ей полезна, она попыталась принять приветливый вид, чему несколько мешала тревога.
– И я, и я! – орал кто-то позади них. – И меня! Княгиня, вели пустить и меня! Белянец я, на нас вину тяжкую возводят, дай мне тоже слово сказать!
Но Эльга коротко качнула головой: сначала кто-то один. Ворота вновь закрылись, перед княгиней оказались двое селян. Сцепив кисти, Эльга стояла прямо и молча ждала. Сейчас на ней было простое варяжское платье из тонкой серой шерсти и передник конопляного холста, руки в муке и никаких украшений, однако строгое лицо и величавая осанка не оставляли сомнений в том, что это и есть главная здешняя хозяйка.
Трое гридей подошли и встали по сторонам от нее, положив руки на пояса. На лицах их было написано пренебрежение и готовность немедленно выкинуть эту дрянь, что залезла во двор, стоит госпоже лишь нахмуриться. Радовек и баба притихли и низко поклонились. Когда они разогнулись, Эльга кивнула:
– Что у вас за беда, добрые люди? Говорите.
Это было не разрешение, а приказ.
– Княгиня, вели князю нас выслушать! – уже не дерзко, а жалобно заговорила Немировна. – Не пускают отроки, а мы совсем пропадай…
– Что вы говорили о зажинках? Я выслушаю вас.
– Испортили нам поле, княгиня! – заговорил Радовек. Это был крупный, полноватый мужчина с круглым, как блин, лицом, где на обвислых щеках росла полуседая негустая борода. – Изрыли вепри, испортили совсем, половину жита загубили…
– А все потому что ведьма! – затараторила его жена, не в силах дождаться, пока мужик дойдет до главного. – Порчельница, пережинщица, испортила нам поле, мы вот этими своими глазами видели, как она колосья подрезала!
В лице Эльги не дрогнул, как она надеялась, ни единый мускул, но внутри плеснуло холодом, и сердце рухнуло куда-то вниз. Даже стоять прямо ей сейчас стоило труда. Ее видели той ночью на поле? А если видели, то винят в порче? Возникло чувство, будто она катится в пропасть и тащит за собой весь этот двор и гридницу с Ингваром и всей дружиной.
Княгиня-ведьма! Такое бывает только в страшных сказках, где княжьему сыну пакостит злая мачеха. Неужели ей придется примерить платье этой злыдни? Эльга была готова надавать самой себе поленом по голове за глупость и легкомыслие. Как она не подумала, что ее невинное «обучение» на краю чужого поля может быть принято за пережин – ворожбу-порчу. А то и, сохрани Мокошь, и послужить этой порчей! Даже потеря старинного серпа по сравнению с этим выглядела бы мелкой небрежностью без злого умысла.
Ингвар убьет ее и будет прав. Ей, жене и княгине, трудно было бы придумать средство посильнее, чтобы загубить мужу начало княжения в чужой земле.
– Что вы видели? – ровным голосом спросила она, лишь чуть сильнее стиснув побеленные мукой пальцы.
– Вдоль поля краешек выстрижен, – Немировна показала руками как бы вдоль краешка, – ровно три горсти колосьев! Точь-в-точь как пережинщицы делают! Остались теперь дети наши без хлеба на ползимы!
– Вы видели, как ведьма делала это? – с нажимом уточнила Эльга.
Одолевая ужас, она хотела точно знать положение дел.
– Видеть не видели, да разве бы мы дали ей такое зло творить? – Радовек воздел руки. – А что край поля выстрижен на три горсти – это правда, Велесом клянусь!
У Эльги отчасти отлегло от сердца. Если ее саму на поле никто не видел, есть надежда вывернуться.
Да и если бы видели, то говорили бы о двух ведьмах-пережинщицах – она ведь была там с Утой!
– А все она, змея клятая, Беляница! – в это время воскликнула Немировна.
– К-какая Беляница? – вымолвила Эльга, стараясь не показать, как удивилась при этом незнакомом имени.
– Сноха наша… бывшая! Вдовая! – перебивая друг друга, пояснили муж и жена.
– Как это – бывшая? – не поняла Эльга.
– Отправили мы ее назад к отцу! К родичам! Пусть забирают ведьму свою!
– И про приданое пусть не заговаривают!
– И внуков не отдадим! Еще чего выдумали – ведьме детей отдавать, чтобы своей же родне зла желать научила!
– А она вот так и отомстила – поле нам испортила, без жита оставила!
– Так вы давно знали, что она ведьма? – нахмурилась Эльга. – Ваша сноха?
Слов звучало много, но дело не становилось яснее. Может, она вовсе ни при чем? И какая-то неведомая злыдня на чужой ниве потрудилась?
Да нет же, поправила Эльга сама себя, Мистина сказал, что это было Радовеково поле. И явившихся на него вепрей они видели сами. Ведь в самом начале, кажется, Радовек что-то говорил о вепрях?
– Ну… – старейшина переглянулся с женой. – Знали мы, что она того… дурная баба…
– Что здесь творится? – раздался рядом знакомый повелительный голос. – Кто тут докучает княгине?
Эльга обернулась: в двух шагах стоял Мистина, упираясь руками в бедра и глядя на Радовека с таким выражением, будто прикидывал, чем поддеть этот кусок дерьма, чтобы выбросить подальше, не замаравшись.
– Ты чего, Радовече, с бабой на два голоса поешь? – Это выражение лица он приберегал для людей, коим требовалось указать их место – у самых подошв его высоких «датских» башмаков. – Петухи давно откукарекали, припоздал ты немного. Или у тебя еще один сын другому лоб проломил?
Эльга раскрыла глаза, и Радовек снова поклонился:
– Прости, воевода. Это все… того… Беляницу-то мы тогда выгнали, а ее родня стала с нас приданого ее требовать, да детей отдать… Мы не даем – кто же даст такой дурной бабе… Князь-то, отец наш, нашу сторону принял, потому как за нами правда дедовская…
– Погоди! – остановила его Эльга. – Свенельдич, ты мне хоть толком расскажи, в чем дело?
И бросила ему выразительный взгляд: это хвост за нашим вчерашним выходом тянется!
Мистина приопустил веки, будто успокаивая: знаю. И пояснил:
– У Радовека младший сын подрался со старшим из-за своей жены, и тот его зашиб насмерть. Они сноху отправили к ее родне назад. Ее родитель, Белянец, недели две назад приходил с жалобой, что дочь обратно прислали, а ни приданого ее, ни внуков не отдают. Они же отвечали, что баба сама виновата, братьев поссорила, а родителей сына через свое распутство лишила, потому ничего они не отдадут и пусть скажет спасибо, что отпустили живой. Побои не в счет. Я все правильно помню? – спросил он у Радовека.
– Так оно и было, воевода! – Тот снова поклонился. – Князь тогда рассудил по совести, по правде, Белянец, сволочуга, ни с чем ушел, да вон не унялся!
– Испортили поле! – осмелев, вновь заголосила Немировна. – Голодными детей оставили! Княгиня, заступись за нас, прикажи ведьму наказать! Пока жива она, никому хлеба не будет, а нам завтра нивы зажинать! Разгневаются боги, пошлют бури с градом, вся земля Полянская…
– Рот закрой! – гневно крикнула Эльга, не успев подобрать более уместных в устах княгини выражений. – Пузо наела, будто копна, а ума не нажила! Как ты смеешь такие слова за день до зажина говорить! Простите, боги, бабу глупую! – Она подняла глаза к небу, потом низко поклонилась, чтобы сразу было ясно, что кланяется она небесным богам. – Не оставьте нас милостью, научите беду избыть! Кань, слово дурное, слово глупое, в землю черную, как следа на воде нет, так бы и того слова дурного следа не было!
Она сделала движение рукой, будто закапывает в землю двора саму Немировну. Не оборачиваясь, почувствовала легкую усмешку Мистины – одобрительную.
– Простите, боги! – промямлила пристыженная Немировна и тоже поклонилась вместе с мужем. – Так ведь страх какой… ум отшибло…
– Вижу, – Эльга скрестила руки на груди. Потом обернулась к Мистине: – Так ты, воевода, говоришь, что у них в роду было братоубийство и это дело разбиралось князем?
– Не совсем так. У них в роду было братоубийство, но у князя разбиралась жалоба отца снохи, что не возвращают приданое.
– И князь решил, что она не должна его получить?
Мистина кивнул, но Эльга уловила в его взгляде проблеск неуверенности. Похоже, суть дела, обозначенная ею как братоубийство, предстала пред ним в этом свете лишь сейчас.
– Порчу поля и опасность для жатвы так оставить нельзя, – сказала Эльга. – У князя много народу?
Она взглянула на Мистину, и он понял, чего она хочет.
– Если ты желаешь, княгиня, я попрошу его допустить этих людей.
– Попроси его от моего имени, и пусть эти люди обождут возле гридницы. Я скоро приду, у меня есть часок, пока тесто отдыхает.
Она направилась к жилой избе. Гримкель Секира, от ворот слушавший эту беседу, крикнул ей вслед:
– Госпожа, а Белянца прикажешь пропустить?
* * *
– И не допущу я этих вупырей к себе в овин, хоть они приступом иди! Ты, княже, пошли отроков твоих, им все покажу!
Белянец был высокий, почти седой мужик с костистым лицом и круто заломленными черными бровями; Эльга мельком подумала, нет ли у них в роду хазарской крови. Она сидела в гриднице по левую руку от Ингвара, одетая в хенгерок из тонкой шерсти нежно-зеленого цвета. Сама красила: крапива, череда, крушина с добавлением ржави. На нем особенно красиво смотрелись позолоченные наплечные застежки и ожерелье из чередующихся темно-зеленых и желтых бусин. Две бабы – Немировна и Красиловна, большуха Белянца, то и дело косились на ее платье и узорочья: красота и богатство княгининого убранства отвлекали их даже от того дела, с каким явились.
– Да что к ним теперь ходить, они уж колоски-то попрятали! – возражала Немировна. – Ты, княже, отроков на наше поле пошли, пусть посмотрят, как там край выстрижен!
– Хрольв! – Ингвар глянул на десятского. – Возьми пару парней, съездите посмотрите это поле.
Вид у князя был хмурый: ему не нравилось разбирать дело о ворожбе.
– И пусть сосчитают колосья, – добавила Эльга, мысленно моля богов, чтобы муж не вспомнил о «ворожбе», на которую сам ее проводил вечером накануне. – Сколько срезано и сколько рядом лежит на земле. Если счет сойдется, стало быть, никто не забирал трех колосков и не вешал в овине. Идите прямо сейчас с этими людьми…
– Вместе с ними! – Мистина выразительно глянул на Хрольва, имея в виду: не выпуская их из виду, чтобы не спрятали три колоска.
– Да все она, ведьма проклятая! – твердила Немировна, явно обеспокоенная предстоящим подсчетом.
– Сама ты ведьма! – кричала ей Красиловна, рослая и худощавая старуха. – Сами вы злыдни, сыновей в уважении вырастить не можете, а у вас потом люди виноваты, кто сам же и пострадал! Через вас моя дочь вдовой осталась опозоренной, а вы на нее еще такую вину возводите! Бабу мужа доброго лишили, детей родных отняли, приданое не отдают! Да избили всю, она еле жива пришла! Род наш славы лишили, а за нами от веку худого дела не водилось! Вы разбойники лихие, а не люди! Княгиня, прикажи привести к тебе Беляницу! Пусть она перед ликами богов на Святой горе тебе ответ даст!
– Да как не постыдится твоя змеюка перед богами предстать! Да ее молнией Перуновой на месте сожжет, только подойдет!
– Тебя сожжет!
– Тебя! Язык твой бесстыжий!
– А ну молчать! – рявкнул раздосадованный Ингвар. Только бабьей свары в гриднице ему не хватало. – Я сказал! Подите все отсюда, а как вернутся мои люди с поля, будем дальше судить. Разорались тут!
Хрольв ушел с тремя гридями, уводя с собой селян. Теперь Эльга уже разобралась в существе дела. В первый раз Белянец приходил с жалобой в один из тех дней, когда она целыми днями смотрела за разделкой веприных туш, вытопкой сала, копчением окороков, мытьем, выскребанием и опаливаем ножек и голов для холодца. Только поэтому такое странное и неприятное дело, как драка родных братьев из-за жены, могло пройти мимо нее. Белянец и его баба клялись, что дочь, отданная замуж за Червеца, младшего сына Радовека, уже давно жаловалась, что ее домогается старший деверь – проходу не дает. И вот однажды Загреба подстерег бабу в хлеву и завалил на солому, задрав подол; крик услышал ее муж, однако старший брат так швырнул его об стену, что проломил голову. День пролежав в беспамятстве, Червец отошел к дедам. Убитые стыдом и горем родичи нашли выход чувствам, обвинив бабу: дескать, завлекала. Но если завлекала, то к чему ей было бы кричать? – возражал Белянец. Избитая Беляница убежала к родичам, и Белянец потребовал от ее имени выкупа за смерть мужа, возвращения ее приданого и детей. И пошел с жалобой к князю. Однако Ингвар рассудил, что убийство внутри рода касается только рода, дети тоже принадлежат роду, а приданое пусть вернут. Однако и с этим Радовек не спешил: Червец женился пять лет назад, большая часть принесенных женой вещей уже пришла в негодность, и, чтобы вернуть то же количество сорочек и полотна, пришлось бы опустошить скрыню с приданым дочери.
Эльга жалела, что не услышала об этой тяжбе вовремя. На ее взгляд, Ингвар решил не лучшим образом.
– Если люди могут без князей решать такие дела, как жизнь и смерть, то в чем тогда наша власть? – сказала она, когда поселяне уже ушли и в гриднице остались только свои. – Какого повиновения мы должны от них ждать, если они могут насиловать своих невесток и убивать братьев, и это будет их семейным делом?
– Да если братья вместе живут, бывает, что братовых жен пользуют понемногу, – хмыкнул Мистина. – Но обычно без шума. Свои же люди…
– Мне плевать на жизнь и смерть всякого смерда, – отвечал Эльге Ингвар. – Он принадлежит своему роду, а вот род принадлежит мне! Род будет делать, что я скажу. В этом и состоит моя власть. А их власть отцов и старших братьев – катать по сену хоть невесток, хоть кого, меня не касается.
– Ты не так рассуждал, когда посылал Свенельдича за мной, – Эльгу задело это рассуждение. – Я здесь потому, что я сама так решила. Если бы я позволила, как ты говоришь, чтобы мной распоряжался род, то я бы сначала год просидела в лесу с медведем, а потом вышла за Дивислава, – понизив голос, чтобы не слышали гриди, напомнила она.
Упоминание о пользовании братовых жен Ингвару тоже не понравилось: это был не тот предмет, который уместно обсуждать между мужьями Эльги и Уты. Он спокойно раздал своих полонянок в жены десятским и еще шутил, что они, дескать, ему теперь «как зятья», но мысль о том, что побратим взял в водимые жены женщину, которая хоть недолго, но была его, Ингвара, наложницей, саднила душу. Томило смутное ощущение, что это ему еще аукнется каким-то неприятным образом, хотя по виду все в семье шло гладко.
– Ну, увозить тебя с дракой я ему не приказывал, – Ингвар бросил хмурый взгляд на Мистину.
– Сразу бы сказал, что недоволен, я бы отвез ее обратно, – усмехнулся тот. – Но три года назад, если помнишь, ты очень хотел жениться на старшей племяннице Вещего и не заботился, каким путем я ее добыл. И неужели любовь ее родни согрела бы тебя так же…
– Хватит! – осадила его Эльга, которой вовсе не хотелось, чтобы тепло ее любви к мужу обсуждалось в гриднице.
– Я с ними едва помирился потом! – недовольно хмыкнул Ингвар. – Едва прикрыл твою задницу, – он снова глянул на Мистину, – а то они за своего волхва могли бы и отомстить…
– Не могли! – быстро возразил Мистина. – Волхв обитал на том свете: он был вне рода, вне племени, вне Яви и света белого. Ни один род и племя не имел право на месть за него. Мы поговорили об этом с Белояром, все и уладилось.
– Вот как! – воскликнула Эльга.
– Я не знал! – одновременно с ней удивился Ингвар.
– Я ему объяснил, что если они попытаются мстить за того, кто и так был мертв, как за своего живого родича, то Навь посчитает своим все племя северных кривичей. Они не стали подвергать себя такой опасности. Умные люди, – одобрительно добавил Мистина. – Ну и, возможно, у них нашлись другие причины пожелать, чтобы мир был достигнут как можно скорее…
Эльга не повернула головы. Но и так чувствовала его взгляд – насмешливый и дерзкий, намекающий на то, о чем она хотела бы забыть – а еще больше хотела, чтобы забыли в Киеве. Когда вслед за похищенной девушкой в Киев приехали ее плесковские родичи, здесь вовсю ходили слухи, будто по дороге Мистина получил от Эльги то, что скальды из дружины называют «дружбой бедер». Белояру и Асмунду, ее двоюродным братьям, не раз тогда случилось подраться с болтунами, а кое-кому из последних эти разговоры стоили жизни. Понимая, что дракой и прочим шумом позорящие девушку слухи можно лишь подкрепить, но не опровергнуть, родичи быстро приняли мудрое решение: полный мир с Ингваром и скорейшая свадьба.
Поношения оказались напрасны, и в этом весь Киев смог убедиться своими глазами. Запятнанный кровью настилальник со свадебной постели Эльги был вывешен на тын, как это делают и в самых глухих весях. Честь ее была восстановлена, брак заключен, и Мистина, казалось, радовался этому едва ли не больше, чем сам новоявленный муж. Уже потом, когда все успокоились, Эльга сообразила: убедившись, что извлечь выгоду для себя не получится – кусок все же был не по рту, – Мистина обернул заваруху к выгоде побратима. В итоге его никто ни в чем не винил, а брак с сестрой Эльги, тоже племянницей Вещего и княжеской вдовой, стал для него утешением и наградой.
Но и по сей день Эльгу не оставляло сомнение: так кто же кого тогда одурачил?
И хотя Мистина не состоял с Ингваром в настоящем кровном родстве, а был ему всего лишь побратимом, мысль о вражде между братьями из-за жены отдавалась в сердце Эльги таким тревожным звоном, будто эта беда и от нее ходит не так далеко.
Но она гнала подозрения. Она знала Ингвара и Мистину всего три года, а они знали друг друга с раннего детства, то есть лет двадцать. И если Мистина выбрал быть на стороне своего товарища-князя, то он сам будет следить, чтобы не испытывать мир между ними на прочность.
Однако помнить об осторожности не помешает. Нет, о дружбе ее бедер названый деверь (как еще назвать побратима мужа?) может и не мечтать. Но необязательно в чем-то провиниться, чтобы о твоей вине начали говорить. В этом Эльга уже убедилась на собственном опыте.
– Ингвар, – она обернулась к мужу, желая вернуть его мысли к делу. – Этот случай нельзя так оставить. Братоубийство не может быть заботой только своего рода. Что же, этот несчастный младший брат – теперь не человек, если он младший?
– Без своего рода – нет. Я имею дело с их отцом, и мне все равно, сколько у него сыновей. Я не лезу в его дела, а он взамен делает так, чтобы все его домочадцы поступали так, как надо мне.
– А я? – В смарагдовых глазах Эльги сверкнула обида. – Тогда и я тоже была не человек, пока ты объяснялся с моими родичами?
– Ты? – Ингвар поднял брови. – Ты вообще женщина, какой же ты человек?
– Иногда и женщина, – не говоря уж о человеке, – может привести целый род туда, куда нужно! – Мистина слегка подмигнул Эльге, будто намекая, что он на ее стороне. – С нашей княгиней получилось именно так.
– Если этот братоубийца останется в роду, а Радовек будет являться на Святую гору и пировать в обчине, получится, что все поляне и русы приносят совместные жертвы с братоубийцей, – настаивала она, вопреки своему благоразумному решению ободренная этой поддержкой. – И боги проклянут нас всех заодно с ними!
– Ну, так и что я теперь должен сделать? – Ингвар посмотрел сначала на нее, потом на Мистину. – Взять того мужика и казнить?
– Потребовать, чтобы род его изгнал, а иначе мы не допустим их старейшин на Святую гору, – предложил Мистина. – Если ты казнишь его, это восстановит против нас и Радовека, и еще много кого. А так пусть сами решают, что для них важнее: этот похотливый шиш или боги.
– А что там с ворожбой-то было, я не понял? Была ворожба?
– Хрольв вернется – узнаем, – так деловито ответил Мистина, что никто и не заподозрил бы его в причастности к делу.
* * *
Увлеченная всем этим, Эльга едва не пропустила время, когда настала пора сажать хлеб в нагретую печь. Потом сидела рядом, смотрела на печь и думала, надеясь, что тройственный совет земли, хлеба и огня наведет на верные решения. Ее вину невольно взяла на себя другая женщина, которой и так пришлось нелегко. Еще не видя Беляницы, Эльга готова была согласиться с ее отцом: зачем та стала бы кричать, если сама завлекала старшего деверя? И жаловаться родителям? В чужом роду разбирать, кто кого домогался – дело неблагодарное: правды, может, и не отыщешь, а замараешься обязательно.
Но вот хлеб испекся. Эльга вынула хлебную сковороду из печи, легонько постучала лезвием ножа по корочке каравая – звенит! – выложила на доску, вместе с доской завернула в рушник и унесла в избу. Потом вернулась в гридницу и кивнула Мистине: подойди.
– А если счет колосков не сойдется? – шепнула она. – Я не хочу, чтобы бедную бабу утопили. – И взглядом добавила: из-за меня.
– Если княгиня пожелает, то счет сойдется! – заверил Мистина, будто иначе и быть не могло.
И даже подмигнул.
– Ты сказал Хрольву… – сообразила Эльга.
– У нас все сойдется, как у жидина Егуды с его греческой дощечкой! Хотя болтовни теперь не миновать. Если уж слово «порча» было сказано, сейчас вся волость от страха пустит «теплого» в портки. Но ты не печалься! – добавил он, видя беспокойство на лице Эльги. – Для тебя это даже лучше.
– Лучше?
– Порчу надо снимать. Ты сделаешь это.
– Я не уме… – начала Эльга и умолкла.
Для начала, она умеет. То есть знает как – ее учили. Она-то, родная внучка Буры-бабы, не сможет снять порчу? К тому же такую, какая лишь мерещится.
– Но погоди… – Новая мысль отвлекла ее от перебора способов. – Если порча все же есть, значит, есть и ведьма-порчельница. Если это не Беляница… – «и не я», добавила она мысленно, – кто же тогда?
Мистина посмотрел на нее, приподняв брови. Потом обронил:
– Есть кое-какие догадки. Кто виноват, тот и ответит.
И ушел, на ходу сделав знак Альву и Доброшу следовать за ним.
Эльга проводила его глазами до самой двери. Так кого же он, скажите на милость, имел в виду?
* * *
Хрольв вернулся, прояснив дело лишь наполовину. В овине у Белянца никаких скрещенных колосков не нашли, но на краю поля насчитали аж на девять больше обрезанных стеблей, чем подобрали колосков. Все остальные тщательно собрали, и Хрольв привез их княгине как доказательство.
– Пусть ее, ведьму, водой испытают! – требовал Радовек.
– Тебя вместе с ней! – возражал Белянец. – Против нас нет ничего, княгиня, он нас винит – пусть его баб с моей вместе в воду бросают!
– Мы ведьму отыщем, – заверила Эльга. Ингвар оставил ее разбирать это женское дело, и она сидела на своем престоле слева от пустующего княжьего, согретая чувством гордости. – Непременно. Но главное сейчас не это.
Она убедилась, что оба старейшины смотрят на нее в напряженном ожидании, и продолжила:
– Главное сейчас – снять порчу, чтобы нивы наши не пострадали и урожай не оскудел. Пусть все ваши бабы, Радовече, придут к полю нынче на закате…
Тут она взглянула на Мистину и запнулась: он буйно мотал головой.
– Позволь подсказать, княгиня, – поспешно вставил он, – нынешним вечером лучше у богов совета спросим, где злодеев искать. А порчу снимать – завтра. День будет удачнее.
– Так и поступим, – Эльга неуверенно кивнула, не понимая, зачем ему понадобилась эта отсрочка, но закончила твердо: – Мы спасем жито земли Полянской, люди, не тревожьтесь.
Вечером Эльга пожелала навестить Уту: поделиться всем пережитым за день и посоветоваться насчет снятия порчи. Конечно, можно было найти советчиц и поопытнее, но Эльга была еще слишком молода и слишком недавно стала княгиней, чтобы кому-то другому, кроме сестры, сознаться в своем незнании. Она – родная племянница Олега Вещего, а стало быть, в свои восемнадцать лет обязана быть мудрее, чем иные в сорок.
Мистина проводил ее к себе домой, на Свенельдов двор. В былое время Эльга часто навещала Уту и никто не обращал на это внимания, но теперь все изменилось. Теперь не сестра приезжала к сестре, а княгиня – к жене сотского. Иногда Эльга вздыхала, вспоминая, как легко было им, девочкам, перебежать из одной варягинской избы в другую, даже зимой накинув лишь большой серый материн платок, и никто не обращал на это внимания. Теперь же посланный вперед отрок предупредил хозяев, и, когда Эльга въехала на воеводский двор, там ее уже ждали. Сам Свенельд стоял перед своей избой, с одной стороны от него Ута, с другой – Владива, ключница и заодно Свенельдова младшая жена. Настоящая жена его, Витислава, дочь ободритского князя Драговита, умерла молодой много лет назад, еще до того как Свенельд перебрался в Киев, и Эльга никогда ее не видела.
Иногда она пыталась представить себе мать Мистины, но ничего не получалось. Если бы не склонность Свенельда упоминать о знатной родне со стороны жены, Эльга решила бы, что однажды воевода просто обнаружил младенца в своем щите, как селяне якобы находят чад в капустных грядах.
Обширный воеводский двор не уступал иному княжьему, а по числу построек и населения легко потягался бы со многими городцами. Так же стояли по кругу многочисленные избы: жилье старого хозяина и молодой четы, изба покойной Держаны, где теперь жили дети, избы для пяти десятков собственной Свенельдовой дружины и челяди, его гридница, и разные хозяйственные постройки – клети для припасов, поварня, кузня, конюшня и скотный двор.
Отроки и челядь, хоть и видели княгиню нередко, выстроились, чтобы поклониться ей. Во дворе играла целая орава детей; частью отпрыски челяди, частью – питомцы Уты, в том числе чада трех княжеских семейств. При виде знатной гостьи дети бросили игры и застыли, тараща на нее глаза. Старшей среди них была Дивуша, тринадцатилетняя дочь Дивислава; она собрала мелких в кучку и шепотом подсказывала: надо поклониться. Даже самая маленькая, пятилетняя древлянская заложница Деляна, сосредоточенно таращилась на княгиню. Все они знали, что эта молодая, такая красивая и нарядная женщина для них все равно что Мокошь – госпожа над их судьбами.
Воевода Свенельд – рослый мужчина лет пятидесяти, уже погрузневший, хотя не толстый, с седеющими волосами и суровым видом, кланялся Эльге с подчеркнутой почтительностью. Он сам сделал ее княгиней в Киеве, но первый своим обращением подчеркивал весомость этого события. Эльга тоже держалась с ним очень любезно и даже с оттенком дочернего почтения. Этот человек имел огромное влияние на русь – дружины признали своим вождем того, на кого он указал.
Ответив на приветствие хозяина, Эльга вместе с Утой прошла в избу. При себе молодая чета держала только двоих собственных чад: двухлетнего Улебку и годовалую Святанку. Мистина двинул бровью, и челядинка, забрав Улебку, вышла. Ута заглянула в зыбку, где спала девочка, и снова села на скамью к натянутой основе. Она ткала трехцветную тесьму при помощи деревянных дощечек; обычно готовый конец привязывают к своему поясу, но Ута приладилась цеплять его за крюк в стене, чтобы сразу можно было встать, если понадобится подойти к детям.
– Ты зачем наше дело до завтра отложил? – спросила Эльга, едва за челядинкой закрылась дверь. – Покончить бы побыстрее!
– Не суетись – не блоху ловим. Нужен еще хотя бы день, чтобы слухи разошлись по округе. Сегодня обо всем этом слышали только ближайшие соседи, а завтра будут знать все десять городков.
Да уж, отличное дело – дать пожару как следует разгореться, прежде чем тушить.
– Хочешь, чтобы все десять городков успели пустить «теплого» в порты? – пошутила Эльга, стараясь увидеть в этом тревожном деле хоть что-то веселое.
– Истину глаголешь! – торжественно подтвердил он.
– Ты что-то задумал, – заметила Ута, видевшая, что ее мужа снедает тайное возбуждение, от которого его блуждающий по сторонам взгляд стал многозначительным и отстраненным.
– Сегодня, подружие моя, я дома не ночую, – Мистина подмигнул Уте.
– Куда это ты наладился? – удивилась Эльга и только потом сообразила: она задала этот вопрос вместо Уты.
– По чужим бабам пойду! – Мистина ответил таким взглядом, что ей стало неловко. Но потом добавил: – Если до утра не вернусь, стало быть, поле осталось за тем оборотнем-порчельником!
– Так мне вопрошать богов о виновниках? – крикнула Эльга ему в спину, когда он уже повернулся к двери.
– Лицо загадочное сделай – этого пока хватит.
С этим он ушел, а Эльга сочувственно посмотрела на Уту.
– Ох, родная моя! Сама думаю порой: а добро ли я тебе сделала, что за него выдала?
Эльге уже не раз приходило в голову: при всей чести и богатстве, доставшихся сестре, быть замужем за Мистиной довольно утомительно. Особенно для Уты, которая во всем любит лад и покой. Но как возможен лад в доме, где муж вечно витает мыслями – а часто и телесно – в каких-то недоступных жене областях? Сколько Эльга могла судить, в супружестве сестры внешне все шло гладко. Но, как она понимала, лишь потому, что Мистина вовсе не обращал внимания на домашние дела супруги, а Ута не совалась в его заботы. Свенельдич считал Уту очень хорошей женой: в доме, у отроков и для гостей всегда имелось все нужное, дети бегали здоровые и веселые, и он мог об этом не задумываться, за что и был ей благодарен.
Однако Эльга не посчитала бы собственный брак счастливым, если бы не знала, что у мужа на уме. Но в те дни, когда устраивалось замужество Уты, не было ни времени, ни возможности решить по-другому. И, будучи перед собой честна, Эльга понимала: именно ей брак Свенельдича с ее сестрой принес наибольшие выгоды. Этот человек мог быть как очень полезен, так и очень опасен, в том и другом они с Ингваром убедились на опыте. Брак с Утой привязал его к Ингвару цепью второй кровной связи. А женись Мистина на ком-то другом – теперь Эльге приходилось бы как-то ладить с женой второго человека в дружине. Какова бы та оказалась? Как бы влияла на мужа, а через него – на Ингвара? Теперь же Эльга могла быть спокойна – в доме Свенельда у нее есть вернейший союзник. Думая об этом, она испытывала к сестре благодарность и желание сделать для нее что-нибудь хорошее. Но что? Ута была равнодушная к паволокам и снизкам, ее радости составляли дом и дети.
– Наверное, ты тоже порой кажешься Ингвару такой же непонятной, – мягко улыбнулась Ута.
Эльга не смогла возразить: всего лишь на днях она сама так же ушла из дома на ночь глядя и лишь отшутилась, не сказав куда. Ингвар еще очень покладистый муж, если позволяет ей такое!
Уж она-то не отпустила бы его неведомо куда поздно вечером!
– Если Ингвар узнает, как мы ночью прогулялись на поле к вепрям, мне небо покажется с овчинку, – прошептала Эльга, хотя никто не мог их слышать. – Смотри, не проболтайся ему!
Сейчас она чувствовала себя стоящей на тонком льду в окружении разломов и черной воды. Если она хоть раз ступит не так, то погубит и себя, и мужа. А Мистина, который единственный мог оказать ей действенную помощь, помахал рукой и исчез, пообещав всего лишь, что все будет хорошо. Но ей-то он не муж, с него она не может требовать ответа!
И кто ей так напрял на кривое веретено, что именно с побратимом Ингвара ее все время связывают какие-то опасные, неприятные общие тайны! Когда-нибудь их наберется столько, что княжеская семья окажется у него в руках.
Или это проклятье Князя-Медведя так сказывается?
Но того, на чем попадаются глупые бабы, теряющие разум перед ловкими молодцами, она не совершит никогда! Эльга сжала руку сестры, будто заключая с ней молчаливый клятвенный уговор.
Ута охнула.
– Ой, прости! – Эльга вскинула глаза, думая, что сделала ей больно.
– Шебуршится! – шепнула Ута и прикоснулась к животу под завеской.
И такая солнечная улыбка осветила ее миловидное лицо, что Эльга невольно ей позавидовала. Они вышли замуж одновременно, но у сестры скоро будет трое детей, а у нее по-прежнему один.
О боги, но как она справлялась бы со всем этим, будучи в тягости! Головная боль, тошнота, неловкость, тоска – и тут эти хлебы, серпы, бабы, раздоры и судилища! Нет, пряхи-удельницы, не сейчас…
* * *
Эльга не знала, когда Мистина вернулся домой. Сама она ночь и следующее утро провела в беспокойстве. Ингвар даже утешал ее, думая, что жена боится не совладать с таким важным делом, как снятие порчи с полей, но вот об этом Эльга волновалась меньше всего. Сначала они по недомыслию влезли в неприятности, а теперь, как она почти не сомневалась, Мистина уже нарочно заводит все дело в еще более опасные топи. Зачем? Она уже и хотела посоветоваться с мужем, но не решалась ему сознаться в своей ночной прогулке на чужое поле. Ингвар будет сердиться – это точно, а вот сумеет ли помочь? Причем гнев его обрушится на двоих – жену и побратима, а Эльга не хотела в глазах Ингвара оказаться в чем-то заодно с Мистиной.
И пока ее дурные предчувствия оправдывались. Уже к полудню за воротами княжьего двора гудела толпа. Собрались люди из разных весей на целый дневной переход по обе стороны Днепра. Все уже знали про порчу, а кое-кто – и больше самой Эльги. Ингвар даже послал Хрольва с десятком отроков опять к Белянцу – охранять от возможной расправы напуганной толпы. Ибо, как он сказал, громить и убивать здесь имею право только я.
– Попортили и нам поле нынче ночью, – докладывал старейшина Тихонег, допущенный отроками к князю и княгине. – Обстригли с трех сторон делянку, и кабаньи следы видели мои отроки в лесу. Правда ли, что это баба, Белянцова дочь, свиньей оборачивается и поля портит?
У Эльги упало сердце, от страха перехватило дух. Нынче ночью она сидела дома, как пришитая, и больше ничьих полей не стригла! Что это значит, боги, – под Киевом появилась другая ведьма? Настоящая? И она, Эльга, своим недомыслием открыла злыдне дорогу к нивам полянским?
На паленый запах беды собрались бабы со всей округи – все те, кому положено сейчас готовить угощения и вострить серпы для завтрашнего зажина. Эльга велела допустить во двор старших женщин из пришедших. В гридницу бабам ходу нет, но княгиня разрешила им разместиться вдоль длинных столов под высокой кровлей поварни. Все двери растворили, чтобы было светлее; отроки наблюдали из тенька под стеной гридницы и ухмылялись: бабий тинг! Эльга села во главе стола. Голые доски перед ней были чисто выскоблены и пусты, однако семена истинного происшествия успели дать такой богатый урожай слухов, что она быстро ощутила себя сытой по горло.
– Говорят люди, что видели ее, Беляницу! – уверяла Войнилина большуха. – Будто ходила она кругом поля, сама голая, волосы распущены, колосья резала и заговаривала: дескать, хворобу твоей худобе, – баба прикрыла рот рукой, будто вынужденно произносила непристойности, – кто будет жать, того будет таскать, кто будет молотить, того будет колотить, кто будет ясти, того будет трясти…
– А вы не догадались у своего поля сторожей поставить? – удивилась Эльга.
– Мы-то поставили! А люди не поставили, вот она и явилась!
– Какие люди?
– Мне сноха сказала, а ей ее сестра передала, она к Ковалям ближе живет! – Войнилиха махнула рукой в полуденную сторону.
– А у нас ребята видели! – торопливо заговорила Видиборова большуха, точно боялась, что перебьют. – Сторожили отроки поле, костер жгли, так видели: ведьма наискось поле жала, да не ногами на земле стояла, а висит в воздухе вниз головой, волосья до земли, и так жнет!
Через открытые двери ее пронзительный голос разносился по двору. Эльга видела, как отроки возле гридницы давятся от смеха: им так и виделась голая баба, висящая над полем вниз головой! Им что – родившиеся при дворе Ульва волховецкого или Олега Вещего, эти парни сроду не выходили на поля, не умели взяться ни за рало, ни за косу. Расскажи им, что для посева льна семя засыпают в мужские порты и кладут туда же два куриных яйца – живот надорвут от смеха. Для них везде, куда ни придут, выкладывали готовое: и хлеб, и тканину. А если с «урожаем» выдавались сложности, то они свою пашню пахали жалами острых мечей.
Бабам же было не до смеха: у них в глазах стоял голодный год и мрущие дети.
– И что же они? – Эльга подалась вперед. – Что ваши парни сделали?
– Бежать пустились, дурни! – вздохнула Видибориха.
– Вот так – она швое дело делает, а шледов нет! – прошамкала беззубая Добротвориха. – И обштриги она хоть вше нивы на Полянщщине, нам и невдомек!
– Я знаю, меня бабка учила! – Бережана из Роговеля замахала рукой, прося всех ее послушать. – Есть средство. Надо нам всем по горсти зерна со своего поля принести, посреди расходных дорог костер сложить и туда бросить. Тогда кто поля портил, у того у самого на поле весь хлеб погорит!
– Надо вот те колосья, что после ведьмы собрали, в горшок сложить и на печке варить! – вставила Немировна. – Если три дня варить, то ведьма сама прибежит!
– А я на Почайне нынче слыхала, что на расхождении дорог-то вся ворожба и творится! – Семчиха из Русаловки сделала большие глаза. – Видели люди, что там посреди дорог воткнут в землю нож огромный, черный, и видели, как бежали три бабы, то есть две бабы и мужик! До ножа добежали, через нож кувырнулись, и дальше побежали вепрями бурыми!
– На Почайне?
– На причалах, где купцы пристают. Там уж весь народ знает, все говорят!
– Две бабы и мужик? – переспросила Эльга. – Но Беляница одна!
– Видать, мать и отец помогать взялись! – сказала Немировна. – Такие же они злыдни, весь род их!
– Хватит, бабы! – решила Эльга. – Нынче на закате сделаем с вами оберег поля. Откуда злое дело началось, там и мы начнем, а дальше боги нам помогут.
* * *
На этот раз провожать княгиню к полю отправился сам Ингвар с десятком отроков. Но они остались за перелеском: как ни беспокоился князь, не нападет ли на жену ведьма в облике свиньи, мужчинам нельзя было видеть обряд, иначе пропадет вся сила. Зато с Эльгой пошла Ута, Ростислава Предславна, пять женщин Избыгневичей и еще кое-кто из знатных киевлянок. Все уже слышали про порчу и ведьму в облике вепря, всем хотелось посмотреть, как молодая княгиня будет справляться с этой бедой.
– Что там Свенельдич? – на ходу тайком шепнула Эльга Уте.
Мысль о том, как Мистина ведет свою часть, не давала ей покоя даже сейчас.
– Вернулся к полудню. И спать завалился.
– Где он был?
– Не сказал. Но одежда пахнет лесом.
Вот что он делал целую ночь в лесу? Порой Эльга в душе пеняла на кротость сестры, не задающей мужу вопросов.
Близился вечер, над полями пылал закат, золотя созревшую ниву. Солнце садилось за рощей, по голубому шелку простирались прямые лучи – словно руки, протянутые от неба к земле и предлагающие помощь.
Лошадь Эльга оставила с Ингваром и отроками, а на поле пошла с боярынями и тремя служанками. Княгиня сама несла старинный серп с костяной рукояткой: больше ничьи руки не смеют касаться святыни полянских нив. На месте ждали все женщины Радовекова сельца и три десятка старших баб со всей округи. Завидев княгиню, стали кланяться; Эльга кивала в ответ. При мысли, что все эти женщины – и все их домочадцы, то есть без преувеличения все племя полян – надеются на нее, как на саму Мокошь, способную избавить их от гибели урожая и голода, ей становилось весело. Пробирала приятная дрожь волнения, и оттого казалось, что тело становится невесомым. При каждом вдохе сила распирала грудь: вот-вот ноги оторвутся от земли и понесут ее по воздушной тропе в золото заката…
В первый раз к ней сейчас пришло это чувство: будто в ней, как в сосуде, собирается сила всех женщин ее земли. А собрав эту силу, она словно опустила корень в почву и слилась с ее глубинами, полными неисчерпаемой мощи. Здесь простирались владения иного племени, и ее оскорбленные чуры не имели над ней такой власти, как в ее родном краю. При помощи этих женщин, этих неуклюжих баб и полногрудых молодаек в красных плахтах и белых намитках, она обретала помощь чужих чуров.
И это казалось чудом. Не диво, если к богам обращается князь, по прямой ветви родства происходящий от пращуров-основателей всего племени. Но в чужой земле пришлый властитель становился чем-то большим, чем даже старший сын старшего сына в сорока поколениях. Право на власть он не получает вместе с кровью отца и деда, а приносит в себе, получив его… от кого? От своих богов? От судьбы и удачи? В здешних краях первым это сумел сделать Олег Вещий. Его кровь текла в жилах Эльги, его удача была растворена в ней. И сегодня ей предстояло доказать свое право делом.
К тому времени как она встала у края поля, эта сила уже распирала ее, так что грудь казалась слишком тесной для дыхания. Эльга подошла к полю с восточного края, обращенного к Днепру. На ней была такая же сорочка и красная плахта, как на этих женщинах; в обрамлении белой намитки лицо выглядело старше и суровее. Положив наземь серп в рушнике, княгиня размотала намитку, освободила косы и расплела их – светлые волосы крупными волнами упали ниже пояса. Потом развязала пояс, отдала плахту Ростиславе, расстегнула застежку на вороте, сбросила сорочку к ногам и вышла из нее.
Бабы смотрели как завороженные: казалось, из облика обычной земной женщины вдруг вылупилось, как из скорлупы, совершенно иное существо – неземное, вольное и прекрасное. Молодая стройная женщина, обнаженная и окутанная волнами густых светлых волос, напоминала полудницу – дух полевых наделов, что именно в таком виде является мужчинам во время отдыха на ниве и заманивает в игры, из которых мало кто выходит живым. Светло-русые волосы казались продолжением густых колосьев, движения стройного тела перекликались с колыханием нивы. Они стали одним целым, и в этой женщине бабы видели уже не княгиню свою, а сам дух земли, явившийся их изумленным очам.
Связав кульком платок, Эльга повесила его себе на шею, так что кулек оказался за спиной. Взяла серп, повернулась лицом на запад и позвала:
– Мать моя, Заря Вечерняя! Мать моя, нива золотая! Будь цела!
Она поклонилась, и бабы тоже поклонились; опытные догадались повторить:
– Будь цела!
– Ведаешь ли, зачем мы пришли? Мой серп – воевода, – Эльга протянула к заре серп, держа его обеими руками, – ходит около города! Ходит, приговаривает, сильным словом огораживает! Велесу-батюшке кланяется, – она поклонилась, – кланяется, приговаривает…
Она пошла вдоль северного края надела; наклоняясь, срезала серпом по три колоска: три бросала наземь, три складывала в кулек из платка у себя за спиной. И говорила:
– Охрани, Велес-батюшка, нашу ниву от ведьмы-порчельницы, пережинщицы! Наша рожь – как лес густа, как дуб толста! Из колоса – пирожок, из горсти – зерна мешок! Чтобы ветром ее не развеяло, солнцем не высушило, градом не выбило, дождем не вымочило! Нам – жать-пожинать, колос собирать, снопы возить, молотить, пиво варить, молодцев женить! А ведьме-злодейке – хлеба не жевать, в борозде лежать, камень глодать! Как руно овечье волохато, так буди моя нива житом богата!
– Буди! – по знаку старой Добротворихи закричали женщины, в самозабвении наблюдавшие за каждым движением княгини.
Изначально Эльгу учили говорить «как шуба у медведя волохата», но она не решилась призвать священного Велесова зверя – уж он едва ли теперь станет ей помогать.
Дойдя до конца восточной стороны поля, она вновь встала, вновь протянула серп в сторону заката и воззвала к Вечерней Заре, к Матери Мокоши. Все повторилось. С призывом к Перуну и Стрибогу Эльга обошла поле со всех сторон, замкнув круг. Дело было нелегким: требовалось не сбиться с шага, в лад выговаривая слова заговора, и не задеть серпом по собственным волосам, которые при наклоне падали на землю, лезли под руки и под ноги и вообще мешали. Жесткие усики колосьев задевали обнаженную кожу, и от этого пробирала дрожь; вечерний ветер, свободно овевавший все тело, будоражил и усиливал чувство отрешенности от земного и всего человеческого. Чтобы ступить на тропу богов, нужно сойти с людских троп, потому-то всякая важная ворожба творится без одежды. Клонясь, будто колос, Эльга сливалась с нивой и через себя передавала ей оберегающую силу богов. У нее получилось: она была будто сосуд, принимающий и изливающий. Увлеченная этим чувством, она почти не ощущала, как колют босые ноги комья земли и жесткие стебли. Она дышала заодно с землей и нивой, ее устами сами боги заклинали благополучие нив полянских.
А бабы едва вспоминали, когда нужно было подавать голос: стройное тело молодой княгини в облаке светлых волос было прекрасно, как солнечный луч, переносящий земле любовь и защиту неба. Даже ее несходство с ними стало казаться признаком избранности, особости той, что стоит над всеми женами полян и русов.
Вот Эльга дошла до конца последнего, западного края поля. Обернулась лицом к садящемуся солнцу. Собираясь на покой, светило стояло в приоткрытой двери своего небесного дома; казалось, Солнцева Дева обернулась на пороге и ждет, предлагая зайти в гости. И было чувство, будто можно одним шагом вступить на ее дорожку… Но куда же она пойдет? Вся земля Полянская – ее дом, ее хозяйство.
Закончив обряд, Эльга сняла со спины набитый колосьями кулек, передала Добротворихе и Видиборихе. Немировна тоже подскочила, протянула руки, но Эльга отстранила ее выставленной ладонью:
– Нет, ты не трогай. Эти колосья я заберу на Святую гору, а ты скажи мужу и сыновьям, что князь ожидает их в четверг. Тогда он решение вам объявит.
Ростислава и Соловьица, Избыгневова невестка, подали ей сорочку и плахту; на лицах боярынь тоже отражалось уважительное смятение. Пройтись голой вдоль поля может каждая, но не каждая может сделать это так, чтобы за внешним действием просвечивал высший смысл. Эльга оделась, служанки заплели ей косы, уложили и покрыли намиткой. Заболели оцарапанные ноги, и Эльга порадовалась тому, что поблизости ждет лошадь. От жестких усиков чесалось все тело, но она терпела, не показывая виду. Богини не чешутся…
– А как же с ведьмой-то будет? – решилась спросить озадаченная Немировна. – О ней-то что князь решит?
– О ведьме я жду вестей, – строго сказала Эльга, будто знала, чего именно ждет. – И когда их доставят, вы все узнаете.
«Все, что вам нужно знать», – слышалось за ее словами, и больше никто ни о чем не спросил.
Темнота уже смыкалась вокруг, когда бабы расходились. Иных, приехавших издалека, ждали на Днепре челны с сыновьями или внуками. Эльга вернулась в перелесок, где ожидал Ингвар с лошадьми и отроками. Она устала, но где-то в глубине сердца будто светился последний луч уходящего солнца.
И каждый, кто смотрел на нее, видел в ее лице тот отсвет закатной нивы.
– Ну, как все сладилось? – Муж шагнул ей навстречу.
– Хорошо, – только ответила Эльга.
– Ноги поцарапала?
– Да. И все чешется. Хочу в баню.
– Еще раз? Ты что! – Ингвар показала на дальнюю сторону неба, едва освещенную последними желтыми отблесками. – Дело к ночи, а ночью нельзя, банник задерет!
– А ты, князь русский, банника испугался? – поддразнила его Эльга.
Ингвар только хмыкнул.
Эльга вздохнула и зажмурилась, стараясь прийти в себя. Саднящие ступни очень кстати напоминали: не она стала богиней, а богиня ненадолго стала ею… Очень важно не упустить из виду эту разницу.
Но даже когда она уже села в седло и Ингвар укутал ее колени своим плащом, ее не покинуло чувство, будто она растет корнями в земле, как колос, однако это не мешает ей свободно двигаться. Даже наоборот, эти корни были… точно подземные крылья.
Вспоминая удивленные и почтительные лица баб, Эльга подумала: кажется, сегодня она еще раз стала княгиней полян.
* * *
На другой день справили зажинки. Эльга снова вышла в поле – теперь к Войниловичам, не пострадавшим от потрав. Кроме хозяек, пришли еще с десяток соседских большух: княгиня могла выйти только на одно поле, и они после вчерашнего жаждали начать жатву с ней заодно, хотя и на чужом поле, чтобы потом проделать то же самое у себя, как каждый год. Эльга уже знала, что княгиня Бронеслава, полянская жена Олега Вещего, обходила из года в год окрестные нивы по очереди, и те роды, к кому она являлась, считались особенно почтенными и удачливыми, будто к их житу прикладывает руки сама Мокошь. Эльга очень надеялась лет за десять заработать такую же славу.
Только бы теперь доброй погоды боги послали! Она посмотрела в ясное небо: Перун, не подведи! Пронеси все тучи молоком!
Ловко, будто это дело ей давно привычно, Эльга прошла крайний рядок, потом и бабы-хозяйки взялись за серпы. Сжали и связали первых девять снопов, разложили их по кругу, сами сели в середину и начали угощаться хлебом и вареными яйцами. Первый кусок отдали ниве, потом запели. Еще пока пели, Эльга заметила, как переменилась в лице какая-то молодуха напротив нее.
– Ой, полудянка! – вскрикнула та, едва смолкла песня.
Еще одна ворожея? Эльга обернулась.
По дороге вдоль поля к ним приближалась женщина, молодая и довольно рослая, одетая в белое. Под лучами жаркого солнца от нее и впрямь веяло потусторонним. И она казалась каким-то особо смелым духом, не боящимся дневного света.
– Лихоманка это, а не полудянка! – крикнул кто-то.
Женщины вскочили, Эльга осталась сидеть на кошме, только повернулась лицом к гостье. Вот уже месяца четыре на земле полян нет ни одной женщины, перед которой ей пришлось бы встать, и пусть никто об этом не забывает.
За ее спиной чей-то голос ахнул:
– Божечки, да это ж Беляница!
Ну, конечно, кому же еще! Теперь Эльга и сама видела, что к ней приближается женщина, одетая в сряду «глубокой печали», как недавняя вдова. По виду она была лишь года на три старше Эльги, но выглядела изможденной: бледное лицо с впалыми щеками, темные тени под глазами, исхудалые руки. Когда-то она была миловидна, но горе съело всю красу. Такая худоба в народе считается признаком или испорченности, или умения наводить порчу.
Женщины стояли позади Эльги полукольцом, и каждая сжимала свой серп, будто оружие. Мельком оглянувшись, Эльга заметила на загорелых лицах смесь испуга и решимости. Возглавляемые княгиней воинственного русского рода, они готовы были постоять за урожай и свой хлеб. Казалось, дай им знак, и они бросятся вперед, обрушат на пришелицу свои остро заточенные серпы…
Но княгиня сидела в невозмутимом спокойствии, и серп ее лежал рядом на кошме.
Беляница подошла, остановилась в трех шагах и поклонилась.
– Ой, да что же это… – начала Войнилиха, испуганная, что появление злодейки испортит и ее только что зажатое поле.
Но Эльга, не оборачиваясь, сделала рукой знак, и баба умолкла. Остальные и так молчали, выжидая, что будет.
– Кто ты? – спросила Эльга в ответ на поклон. – Что у тебя за дело ко мне? Говори.
– Беляница я, – молодая женщина еще раз поклонилась. – Белянцова дочь. Пришла я к тебе, княгиня, искать защиты и честного суда. Убил злой человек моего мужа, Червеца, Радовекова сына, на меня его родня напраслины возвела целый воз. Будто завлекала я его, подлеца, Загребу, деверя старшего, и сама его на блуд подбивала. А чего его подбивать, похотника бесстыжего! Уж сколько девки на него жаловались – на Купалиях никому проходу не дает! Ты, княгиня, прикажи среднюю сноху допросить, Яримчу. Он и ее тоже домогался, да только Будяте жены для старшего брата не жаль. А я не хотела. Не Загребу мне отец с матерью в мужья назначили.
Эльга слушала, рассматривая ее. Нет, эта женщина явно не из тех, кто станет подбивать на блуд кого бы то ни было, особенно когда имеется собственный муж. А вот что мужику давно надоела собственная жена и его потянуло на молоденькую чужую – это очень может быть. Наверное, прежде Беляница была пополнее и порумянее, да и худые бабы иным нравятся.
– К ним в семью девки идти не хотят, – добавила Беляница. – Вон, Войнилиху спроси – чего они свою Кличанку за Рожняту не отдали?
Обернувшись, Эльга посмотрела на женщин позади себя: на некоторых лицах отражалось смущение.
– Кто-нибудь слышал, чтобы Загреба на Купалиях к девкам приставал?
– Ну… На Купалиях… – отозвалась Войнилиха, на которую Эльга смотрела. – Оно всякое бывает… На то игрища…
– Ко мне он не на игрище полез, а как корову шла на заре доить. Я хоть чем поклянусь, что не завлекала этого срамника, – Беляница устремила на Эльгу взор, в котором отчаяние сплавилось в железную решимость. – И на род мой, будто бы ведьму выкормил, я клеветы возводить не дам. Прикажи, княгиня, я согласна, пусть меня испытывают, только тогда и Немировну со мной заодно! Это ей срам, что сына такого нечестного вырастила, а теперь покрывает братоубийцу, на меня стыд перекладывает!
– Братоубийце прощения нет, – медленно отчеканила Эльга.
В глазах Беляницы мелькнула надежда – неужели ее услышат?
– Здесь, на ниве, мы не будем судов творить. А ты передай отцу, чтобы в четверг приходил на Святую гору, – распорядилась Эльга. – И сама приходи.
Она сидела на кошме, расстеленной среди пыльной стерни, одетая в простую одежду полянских женщин, однако собственная власть над судьбами людей казалась ей почти осязаемой. Земля, небо, кровь Олега Вещего избрали ее орудием, чтобы творить свою волю в людском мире, и Эльга почти чувствовала, как эти незримые руки направляют ее. От этого чувства захватывало дух, и все трудности пройденного пути казались не слишком высокой ценой. А ведь ей только восемнадцать лет, у нее пока всего один ребенок, а впереди еще лет двадцать-тридцать этой дороги, вымощенной солнечными лучами…
Беляница поклонилась и пошла прочь. Женщины в молчании провожали ее глазами, пока она не скрылась за перелеском, и даже не сразу решились снова сесть. А Эльга взяла серп и поднялась.
Здесь, на полях, она свое дело закончила. С жатвой бабы дальше управятся без нее, но оставалось кое-что, что могла исполнить только княгиня.
* * *
Эльга стояла возле телеги и считала яйца в корзинах. Видибор, как почти все старейшины вблизи Киева, был свободен от выплаты куницы с дыма, но круглый год возил на княжий двор той же стоимости съестные припасы, которые нельзя долго хранить. В разное время года каждый день на Олегову гору приезжали телеги, где в корзинах лежали яйца, сыр во влажном полотне, масло, молоко в больших корчагах, летом – ягоды свежие и сушеные, ближе к осени – грибы и орехи. У Эльги имелся ключник по имени Седун, но он, хоть и отличался усердием и честностью, умом был не слишком боек. Поэтому она сама пересчитывала привозимое и сама следила за расходом добра, каждое утро давая указания, чего и сколько выдать челядинкам для поварни. Очень хотелось хотя бы эту заботу переложить на чью-нибудь чужую толковую голову, но где такую взять?
Люди нужны! Эльга уже сказала Ингвару: если при сборе дани кто-то не сможет расплатиться, как уговорено, пусть берет людьми. Отроками и девицами, что посмышленее.
Она пересчитала две корзины, но на третьей ее стал отвлекать шум за воротами.
– Оборотней везут! – закричал за тынами звонкий голос. – Батя, смотри скорее!
– Ведьмы, ведьмы!
– Порчельники!
– Которые поля стригли!
– Малята, беги смотреть!
Эльга в тревоге подняла голову. Кого там еще везут? Неужели Радовековичи все же подняли народ и схватили Беляницу? От этой мысли у Эльги опустились руки. Живая? Или убили?
Забыв о яйцах, она кинулась к воротам. Кое-кто из отроков мчался навстречу шуму, но вдоль тынов уже катилась толпа.
– Княгиня, вернись! – За ней побежал Вышеславец, десятский сегодняшней стражи. – Леший знает, что там стряслось, закроем ворота, от беды подальше.
Створки затворили, десяток вооруженных гридей на всякий случай встал поблизости.
Шум нарастал. В голосах возбужденной толпы слышались испуг и изумление.
– Отойди! По сторонам! – кричали там повелительные голоса оружников.
Эльга оглянулась в сторону гридницы: Ингвар вышел и стоял перед дверью, положив руки на пояс.
– Княже! – Вышеславец у ворот обернулся. – Свенельдич тебя просит выйти! Такую добычу привез, – десятский усмехнулся, – что во двор нельзя везти!
О боги! Это Мистина! Эльга устремилась вперед со всей прытью, какую допускало достоинство княгини.
Вместе с Ингваром и гридями она вышли за ворота. И ахнула: там стояла телега, на телеге громоздилась какая-то большая куча, прикрытая нарубленными, уже немного подвядшими ветками. Эльгу бросило в дрожь. Возле телеги сидел на вороном жеребце Мистина в окружении своих оружников – человек десять. Возле кучи в телеге лежали три или четыре рогатины.
– Будь жив, княже! – Мистина соскочил с седла. – И ты, княгиня! Исполнил я ваше повеление. Велите наградить!
Ингвар ухмылялся, Эльга сосредоточилась на том, чтобы не измениться в лице и не вытаращить глаза. Она ему ничего такого не повелевала. Может, муж?
– Раздобыл я порчельников! – с гордостью продолжал Мистина. – Люди указали, где посреди дорог расхожих втыкают злыдни нож в землю и через него оборачиваются вепрями, чтобы нивы губить. Подстерегли мы их, как оборотились они, да и взяли на рогатины! Вот они, все трое! – Он с торжеством указал на телегу. – Две бабы и мужик, как и говорили! Люди-то все знают, вот и вышла чистая правда! Взгляните.
Эльга мельком отметила, что он говорит на чистом славянском языке – будто обращается не столько к ней и князю, сколько к толпе вокруг. Одолевая дрожь, вслед за мужем Эльга подошла ближе. Что там – мертвые тела? Где он их взял?
Из-под веток торчало пыльное копытце и немного жесткой бурой шерсти. Ингвар сделал знак, отроки сдвинули часть покрова, и Эльга вскрикнула. Клиновидная бурая морда, оскаленные зубы… На морде густо засохла кровь – видимо, хлынула горлом, когда кабан получил смертельную рану, – но производило это столь жуткое впечатление, будто перед тобой хищное чудовище.
Это были совершенно такие же вепри, как те, каких Эльга после княжьих ловов разделывала, готовила в пищу дружине и пускала на всевозможные припасы. Но люди подались в стороны с испуганными возгласами: каждая щетинка на мордах казалась особенно зловещей. Оборотни же!
– Привез я и нож тот чародейский! – Мистина взял что-то с краю телеги, завернутое в кусок кожи. – Народ, разойдись, а то заденете!
Толпа заволновалась: всем хотелось одновременно и отойти подальше и увидеть чудо поближе. Мистина положил сверток на бок туши, вынул из ножен скрамасакс и осторожно, не прикасаясь пальцами, развернул кожу.
На свет показался грубо выкованный нож без рукояти. От него веяло жутью.
– Вот через этот нож и оборачивались. Посмотрите, люди! – Мистина огляделся. – Тот самый нож? Ведь были видоки, кто его сам на дороге примечал?
Толпа загудела. Все слышали, что кто-то видел чародейский нож. Никто себя видоком не объявил, но общее мнение сошлось почти мгновенно: нож тот самый!
– Чего с ним теперь делать? – спросил Мистина.
– В реку бросить! – подали голос из толпы.
– И оборотней в реку!
– Оборотней сжечь, а не то выплывут!
– Ну, ты молодец! – Ингвар подошел к побратиму и одобрительно похлопал по плечу. – Не подвел, воевода! Теперь только отвези эту падаль в дальний овраг да вели сжечь, а пепел в Днепр высыпать, чтобы и духу от них не осталось! А за службу награжу, не забуду!
Мистина еще раз поклонился, быстро глянул на Эльгу. Если можно подмигнуть, не опуская век, то сейчас он это сделал.
* * *
Ингвар еще сидел в гриднице с дружиной, а Эльга, убедившись, что еды всем хватило, ушла наконец в избу. Добрета как раз собралась кормить Святку, и Эльга забрала ребенка. Подумала: у нее один, и то она его едва успевает видеть. Как же Ута управляется со своим десятком? Правда, трое старших мальчиков уже на попечении отроков, у Колошки и Соломки даже свой дядька-кормилец есть, Дивуша помогает приемной матери с девочками, а Владива надзирает за воеводским хозяйством. И ни с какими делами, кроме домашних, Уту не тревожат. А княгине на собственный дом едва время удается выбрать.
Посадив Святку на колени, Эльга принялась кормить его творогом. Через раз отправляла ложку к себе в рот: от всех волнений за обедом ей не хотелось есть.
В дверь снаружи всунулся Вощага, отрок:
– Свенельдич пришел.
– Пусть войдет! – Эльга даже привстала от нетерпения, но потом опять села.
Она очень надеялась, что Мистина еще заглянет к ним и толком все расскажет, и теперь обрадовалась.
А увидев его лицо, поняла, почему он явился: гость лучился торжеством. Ей одной, кроме собственной жены, он мог похвалиться сделанным, поскольку никто, кроме них и кое-кого из отроков, не был посвящен в тайну оборотней на ниве.
Мистина подошел, наклонился над столом, упираясь ладонями в крышку. Хвост длинных русых волос свесился на плечо, на Эльгу повеяло запахом леса и земли.
– А кто молодец? – со значением осведомился Мистина.
– Возьми с полки холодец! – Эльга изо всех сил подавляла улыбку, чтобы не растянулась до ушей. – Неужели ты и правда сжег целые три свиньи?
– Я что, дурак? Шкуры и требуху попалили для вони, а мясо в Вышгород ребята отвезли. Там и настоящих оборотней слопают.
Глаза его были веселыми, а лицо с немного свернутым носом сияло таким самодовольством, что Эльга едва сдерживала смех.
У нее даже возник порыв поцеловать его на радостях, но потом он сказал такое, что она сразу передумала.
– И еще говорят… – он понизил голос, – что пока я оборотней ловил, по Радовековой ниве сама Лада ходила… без всякого платья прекраснее, чем царица греческая – в паволоках золотых… Только представлю…
Его взгляд как будто пытался пройти сквозь ее платье и почтительно коснуться того сокровища, что под ним.
– Ты не подсматривал? – нахмурилась Эльга.
Как знать, где он слонялся в две последние ночи!
– Нет, – с мгновенной заминкой ответил Мистина. – Даже если бы у меня было время любоваться… не хотел бы я вам все запороть. А вдруг порчу и правда нужно было снимать?
– Но откуда порча? – полушепотом спросила Эльга и подалась к нему. – Это же простые свиньи!
– Свиньи – простые. Но они вылезли, как кудесы из задницы, когда мы с тобой и впрямь сделали зажин чужого поля.
Теперь Мистина уже не улыбался, и от вида его посуровевшего лица у Эльги похолодело в груди.
– Ты что… – ее голос упал совсем до шепота, – думаешь, я и правда испортила им поле?
Мистина молчал, но в глазах его отражались неприятные воспоминания. И Эльга поняла, о чем он думает. Ее и саму еще три года назад, когда они только приехали в Киев, не раз посещали сомнения, что после убийства Князя-Медведя ей не будет удачи.
Но чтобы она стала носительницей сглаза – она, новая княгиня руси?
– Я… не думаю, – отчасти неуверенно ответил Мистина. – Но такую возможность… надо иметь в виду. Просто из осторожности, понимаешь? И у нас же все получилось? – Он подмигнул. – Удача Вещего сильнее проклятья какой-то старой вонючей шкуры из чащи на другом краю света.
У Эльги отлегло от сердца: кажется, что на этот раз он говорил искренне.
– Да, – она кивнула, – удача Вещего сильнее. Я это чувствовала, понимаешь? Они отвечали мне – земля, нива, небо… Боги…
– Я тебя уверяю, – Мистина наклонился еще ниже к ней через стол, – Перуну, Дажьбогу и прочим уж верно понравилось то, что они увидели. Будь я кем-нибудь из них – такой красивой женщине я многое бы простил! Но поскольку я не бог, – он выпрямился, – то не посмел бы ставить под удар вашу ворожбу.
– Боги наградят тебя за скромность, – хмыкнула Эльга, стараясь не думать о том, что он сейчас видит в своих мыслях.
– Лучше ты сама. Пойдем, покажи мне, где тот холодец, – Мистина улыбнулся с намеком на то, с какой именно полки он желал бы получить свою награду.
Его взгляд скользнул по ее шее в длинный разрез сорочки; Эльга засмеялась, скрывая смятение, надеясь обратить все в шутку и не находя ответа. По его лицу было видно: он верит если не в успех своей просьбы, то хотя бы в свое право попросить. Надо было бы его осадить, сделать строгое лицо – ишь, размечтался! – но горячая признательность за все это дело с оборотнями на ниве делала Эльгу снисходительной. Мистина стал ее сообщником, более верным другом, чем муж и сестра, и провел свою часть как нельзя лучше – так, что сейчас Эльгу переполняли восхищение и благодарность.
Мистина бросил взгляд на Святку. Дитя явно мешало ему – домогаться женских милостей княгини при будущем князе все же было за гранью его бесстыдства. На полшага. Эльга поспешно прижала к себе сына, будто щит. Мистина снова глянул на нее:
– Я велел нашу баню истопить – устал, в лесу почти двое суток, как в походе. Пойдем со мной?
– Дело к ночи, а ночью нельзя! – ответила Эльга то, что ей тогда ответил Ингвар.
– Со мной не бойся. Погляжу я на того баенного, что к нам сунется.
У Эльги перехватило дух; нет, она не собиралась соглашаться, но Мистина, выходит, знал, что она просилась в баню после оберега нивы.
– Нет! – торопливо выдохнула она. – От красоты моей ты ослепнешь, а зачем нам слепой воевода?
– Я глаза закрою.
На лице его отражалось предвкушение всего того, чего можно достичь и с закрытыми глазами. И то, что Эльга так хорошо его понимала, внушало ей разом ужас и восторг.
– Перестань! – со стесненным дыханием взмолилась она, не в силах придумать ловкий ответ и желая лишь уйти от этого разговора.
Зачем она говорит с ним… про баню? С ума сошла?
Видя, что Святка больше не хочет есть, а только вертится, Эльга взяла со стола серебряную чашку молока и хотела его напоить. Но ребенок вдруг вырвался из ее рук, вскочил на скамью ножками и при этом толкнул ее под локоть.
Молоко выплеснулось прямо на Эльгу; она взвизгнула.
Вырвавшийся на волю Святка радостно вопил и прыгал на скамье, держась за стол.
Эльга вскочила, потрясая мокрыми руками; молоком облило ей шею и грудь, хенгерок и сорочка промокли насквозь почти до пояса.
– Я же говорю – пойдем в баню! – мотая головой от смеха, воскликнул Мистина. – Видишь, боги за меня!
– Не пойду я с тобой ни в какую баню! – возмущалась Эльга, напрасно пытаясь стряхнуть с груди обширное мокрое пятно. – Ёжкин кот! Мне надо платье переменить! Ступай отсюда!
Она выбралась из-за стола и хотела обойти Мистину; но он и не подумал уступить ей дорогу. Эльга пыталась прикрыть ладонями мокрое место – влажная ткань прилипла к телу и плотно облепила грудь, – но Мистина взял ее запястья и развел руки в стороны. Ошеломленная такой смелостью, Эльга подалась было назад, но Мистина, смеясь, вновь подтянул ее к себе. Эльгу тоже душил смех над этим нелепым случаем и ее собственным нелепым видом, но взгляд Мистины, жадно скользивший по ее промокшей груди, выражал один лишь восторг и благодарность богам за такой подарок.
И вмиг ей с такой ясностью представились все ощущения того, к чему эти игры ведут. Не при ребенке же… что она позволяет? Это уже ни в какие ворота…
Собравшись с духом, Эльга с усилием оттолкнула от себя его руки.
– Хватит, не сходи с ума! – выдохнула она, но скорее растерянно, чем сурово. – Ступай в свою баню!
Мистина молчал, глядя на нее. В глазах его отражался восторг: он видел, что Эльга дрожит от того же волнения и отталкивает его из одной порядочности. А она, глядя ему в глаза, ясно осознала очевидное: не из преданности князю и почтительности к княгине Мистина так усердно помогает ей во всех делах и заботах. Он на многое готов, чтобы приблизиться к ней, стать ей полезным, необходимым, ибо величайшее свое блаженство видит в ней как в женщине. И не боится в этом признаться, когда знает за собой кое-какие заслуги.
– Ступай! – повторила Эльга, закрываясь скрещенными руками и стараясь не замечать горячего биения в животе.
Но и когда Мистина уже вышел, а она, заперев дверь, влажным концом рушника стирала с груди следы пролитого молока, а потом переодевалась в сухое платье, ее пробирала дрожь и невольно лезли мысли: о боги, какая глупость, да как будто она, княгиня, и правда могла бы пойти в баню с мужем своей сестры, чтобы никто об этом не узнал! И Мистина знает, что это невозможно, он зовет ее туда – не в первый раз уже, – просто дразня, желая заставить и ее думать о том, о чем сам он думает при виде всякой красивой женщины…
Хорошо, что они все в двойном свойстве и что она и Ингвар стольким Мистине обязаны. Со стороны кого другого даже разговоры – а не то, что он сейчас сделал, – были бы немыслимой, непростительной дерзостью, и она не стала бы такого терпеть ни единого дня!
* * *
По четвергам князь киевский, как было заведено исстари, творил суд под дубом на Святой горе. У подножия Перунова дерева ставили скамью, с которой князь выслушивал жалобы и разбирал тяжбы. Но редко когда при сем желало присутствовать столько людей, не имевших касательства к делу.
Эльга сидела по левую руку от Ингвара. Сегодня она впервые явилась сюда заодно с мужем и втайне волновалась. Надела хенгерок красной шерсти с позолоченными застежками, чтобы перекликался с красным кюртилем Ингвара; сидя под зеленым могучим деревом, за коим простиралось неоглядное небо над обрывом высокой горы, они выглядели как сами боги на небесном престоле. Собравшиеся больше таращились на нее, чем на Ингвара; едва ли они раньше видели, чтобы женщина садилась под Перунов дуб в день суда, но ни удивления, ни возмущения на лицах не было. Все уже знали, что речь пойдет о женщине и что княгиня вовлечена в дело довольно, чтобы его разбирать.
Эльга надеялась, что говорить ей не придется. Вчера они до поздней ночи обсуждали предстоящее решение у себя в избе с Мистиной и его отцом, потом предупредили старших оружников, чтобы были готовы. Свенельдова дружина за закрытыми воротами воеводского двора уже сейчас ждала возможного знака к выступлению, одетая и снаряженная. Молодой князь киевский собирался замахнуться на такую вершину, что дело могло пройти и не гладко.
По сторонам от княжьей четы на двух лавках сидели двенадцать старейшин, глав родов из Киева и округи: старый-престарый, на седьмом десятке лет, Избыгнев, Божевек, Гордезор, Себенег, Удал, Видибор, Войнила, Добротвор, Тихонег, Дорогожа и другие. Радовек и Белянец сегодня не сидели, а стояли перед князем и старейшинами, каждый со своими домочадцами, причастными к делу. Позади толпились прочие их семейные: в пору жатвы никто не мог себе позволить прогулять хотя бы день, но речь шла о чести, а значит, всей дальнейшей жизни рода. В первом ряду толпы Радовековы бабы держали двоих детей Беляницы: Эльга велела их привезти, угрожая послать гридей.
Никто не помнил такого, чтобы послухами выступали женщины, но поскольку речь шла о женском деле, старейшины согласились их выслушать. И Красиловна, и две сестры Беляницы поклялись, положив руку на дуб, что и раньше слышали от нее жалобы на домогательства Загребы. Другую свою сноху, Яримчу, Радовек и Немировна представить отказались: дескать, жнет. Ингвар глянул на Эльгу; она чуть заметно кивнула. Не пытаясь даже вникнуть в сердце чужих баб, Ингвар полагался на мнение жены.
Удивительное дело, но в число видоков попал Мистина.
– Вот, старцы киевские, те оборотни, что портили поля! – Он выложил на землю три веприных копытца и шесть ушей, обернутых в кусок кожи. – Туши мы сожгли, и все киевляне видели, а это оставили. Посмотрите сами, люди, – он показал на Белянца и его женщин, – у этих троих руки-ноги целы? Уши на месте?
По толпе пробежал сдержанный смешок.
– Вроде как целы, – кивнул Избыгнев, усмехаясь в длинную белую бороду. – А вот у молодой бабы я бы уши-то пощупал…
Всем известно, как бывает: если поранить или искалечить оборотня в зверином обличьи, то и в человеческом он будет иметь рану на том же месте. И если конечности Белянцевых домочадцев целы, значит, в порче полей они не повинны.
– Что скажете, старейшины? – Ингвар обвел бояр глазами. – Чтобы Белянцова дочь ворожбу творила, видоков не сыскали. Одна баба на торгу болтала, да той бабы след простыл. Вот – оборотни, – он кивнул на копытца, – они мертвы и сожжены, а Белянец перед нами стоит. Стало быть, не портил полей Белянец. Согласны?
– Согласны мы, – глянув на других, подтвердил Избыгнев, и остальные закивали.
– А откуда ж тогда оборотни? – воскликнул Радовек. – Может, не сами они ворожили, а других подослали?
– Кто подослал, сейчас мы и объявим, – сказал Ингвар, и грозный голос его и тяжелый взгляд не предвещали ответчику ничего хорошего.
Князь киевский был молод: ему шел двадцать второй год. У тех поселян, кто сегодня видел его в первый раз – наверняка такие были, – возникало недоумение: рядом с высоким, красивым Мистиной Свенельдичем Ингвар смотрелся отроком, почему-то имеющим право сидеть, когда люди более внушительного вида стоят. Ничем не примечательные черты, русые волосы, пушистая рыжая бородка – лишь складки между носом и углами рта придавали этому лицу суровость. Простая серая рубаха и коса либо цеп на плече подошли бы ему куда больше, чем цветное, отделанное греческим шелком платье и рейнский меч в посеребренных ножнах. Но вот взгляд его сразу выдавал воина, привыкшего принимать решения с далеко идущими последствиями за себя и за других.
– У тебя, Радовече, в роду случилось злое дело: брат убил брата, – продолжал Ингвар.
– Все баба виновата! – От испуга Радовек даже решился перебить.
– Люди доказали ее невиновность! – возразила Эльга, стараясь сдерживать гнев и гадливость, которые ей внушало это семейство.
– А даже была бы и виновата, – Ингвар воззрился на Загребу, – ты-то мужик или ветошка печная, что с тобой баба что хочет, то и делает? Если в таком деле вина на ней, то ты – баба, а она – мужик!
Родичи Белянца засмеялись, старейшины на скамьях тоже ухмыльнулись в бороды.
– Но ты убил своего брата, – продолжал Ингвар, не сводя с Загребы тяжелого взгляда. – Я по первой мысли решил, что это дело вашего рода, вы сами со своими и разбирайтесь. А боги мою оплошку поправили. Свою кровь своему же пролить – не такое дело, чтобы только вас касалось. Боги такого не прощают. Потому и порчу на ваше поле, – он кивнул на кабаньи копытца, – послали. Значит, не простили вам боги вину! А раз боги не прощают, и мы не спустим. Из-за тебя, распутника, вся земля Полянская могла бы без хлеба остаться, кабы не моя княгиня и не воевода, что оборотней изловил. Но мы ждать не будем, пока боги беду пошлют еще похуже того. И я вам, мужи полянские, предлагаю вот что.
Он оглядел старейшин, еще потрясенных той мыслью, что оборотни явились на поле злой волей самого же Радовека, который простил одному сыну убийство другого.
– Загребу из рода и из земли Полянской изгнать. Если ты, Радовече, сына не изгонишь, то тебя и род твой к принесению треб и к суду на Святой горе более не допустим, и буду брать с вас двойную дань. Не хотим, чтобы за ваше паскудство весь род русский и полянский отвечал перед богами. Приданое и детей вдовы Червецовой ей выдать не позднее трех дней. Заплатите ей выкуп за убийство мужа. И просите на коленях, чтобы приняла. У тебя сын есть? – обратился он к самой Белянице.
– Есть, княже, – она глянула на годовалого ребенка, которого держала баба позади Немировны.
– Потому что если она не примет выкуп, – Ингвар вновь посмотрел на Радовека, – то лет через двенадцать ее сын получит право взять с вас кровью за кровь отца. И я его месть признаю законной! Что, старцы киевские, – справедлив мой суд?
Старейшины на скамьях стали переглядываться. Впервые на их памяти князь, да еще пришлый русский князь, приказывал отцу, как ему поступать со своими домочадцами. Но вина была, при том такая, какую никто не хотел разделить, допуская Радовека к жертвоприношениям. И хотя на словах за Радовеком оставалось право выбора, как поступить с сыном, – изгнать или оставить при себе, – все понимали: князь присвоил право распоряжаться человеком через голову старших в роду.
Но, хотя на лицах отражалось смятение, никто не возразил. Как и Радовеку, им всем предложили выбрать: старинный закон власти отца над сыном или благополучие всей земли Полянской.
Эльга сидела, сложив руки на коленях и не шевелясь. Оставался один шаг до победы – гораздо большей, чем она думала изначально. Когда Ингвар вчера впервые сказал им, что потравой боги наказали Радовека за братоубийство в роду, они с Мистиной переглянулись, не совладав со своим изумлением. Не зная об их ночной вылазке, Ингвар среди раздумий обнаружил первоначальную, куда более весомую причину для гнева богов. И ведь он был прав. Что там – три горсти чахлых колосков ополья по сравнению с насилием над невесткой и убийством брата?
– Будь по слову твоему, княже, – кивнул наконец Избыгнев.
– Стало быть, через десять дней, с сегодняшнего считая, если застанут Загребу на моей земле – возьмут, закуют и жидинам продадут, чтобы везли за Гурганское море, – добавил Ингвар. – Не выдадите бабе ее добро – отроков пришлю, и уж они заберут втрое.
Беляница кинулась вперед и выхватила у Радовековой бабы младшего из своих детей.
– Приготовьте там, что ей следует, – велел Ингвар Немировне. – В шесток придет с Белянцом мой гридь, проверит, все ли отдано. Кончено дело, расходись.
Глава 5
Лишь еще дней через десять после встречи с патрикием Феофаном русские послы увидели настоящую царьградскую роскошь. К ним прислали от логофета дрома и предупредили, что на днях они приглашены на обед к василевсу Стефану в Большой дворец. Стефан этот, второй сын Романа, бывшего кораблеводителя, а ныне старшего из соправителей, был уже пятнадцать лет назад введен в число ромейских царей. После смерти брата Христофора считался первым наследником отца, но за все эти годы ничем особенным себя у власти не проявил. Разве что распутной жизнью, как рассказывали манглавиты[11]. Однако Асмунд и приободрился, и втайне разволновался. Наконец-то он увидит хоть кого-то из правящего рода, а не этих скопцов, которые слушают его, хитро прищурясь, будто он на павечернице байки плетет!
Но возможный разговор его смущал. Ингвар послал его сюда лишь сообщить грекам о своем вокняжении да выразить желание дружбы. Прав от имени князя и руси обещать военный поход у него нет! Признаться в этом означало смириться с тем, что заморская проездка была напрасной. Но кто он такой, Асмунд сын Торлейва, чтобы посылать русь воевать?
Но разве не этого она хотела? Разве не ради славы и добычи русы свергли Олега Предславича и вознесли на престол Ингвара?
Вот чем оказалась трудна посольская должность. Захотят князь и русы этого похода на каганат, не захотят? По силам это нынешней руси, не по силам? Но если Асмунд откажется дать грекам ответ сам, то ответ Ингвара те получат лишь через год. А если переговоры отложатся на год – этому Ингвар и дружина уж точно не обрадуются.
– Ты смотри, – объяснял ему Вефаст. – Мы торгуем с греками и с хазарами. Сейчас договора нет ни с кем, и как Ранди с его людьми в Самкрае управится – не знаю. А раз договора нет, то можно пойти войной на кого хочешь. Не будет договора с греками – на греков. Будет с ними договор – на хазар надо идти воевать. Тогда греки нас на торги пустят, может, еще и постой будет с кормом и парусами, но в Самкрай с товарами еще несколько лет не войти, пока не замиримся. А если не пойдем войной на Самкрай, будет мир с хазарами – можно там торговать, но царьградский торг потеряем на невесть сколько.
– Выходит, что иметь мир и торг сейчас можно только с кем-то одним: либо с каганом, либо с Царьградом?
– Вроде того. Они между собой уже который век дерутся, а теперь греки хотят из нас себе дубинку сделать.
– Мы не дубинка! Мы – меч! И что же выбрать?
– А мне почем знать? Ты – родич князя, ты и решай. Для того он тебя с нами и послал.
Асмунд промолчал. Между ним и Ингваром даже нет кровного родства, но именно он должен решать за князя, будто способен беседовать с ним во сне! Асмунд и впрямь уже мечтал о том, чтобы приснились Ингвар и Свенельд, дабы спросить у них, как быть. А еще лучше – сам Вещий. Ему ли, Асмунду, двадцатилетнему парню, делать выбор между торгами Царьграда и Самкрая! Войной и миром с хазарами либо греками! Для такого решения надо было знать и понимать столько всего – о товарах, торговых путях, желаниях, возможностях и отношениях всех владык в этой части мира, – о чем он и понятия не имел. Каких-то два года назад, пока жил над бродом у реки Великой, ему звезды небесные казались ближе, чем Царьград, а где тот Самкрай – он и не думал никогда. Однако норны бросили жребии – и родство с Олегом Вещим поставило его на самый перекресток путей, заставило решать, куда двинется вся русь.
Олег Вещий знал бы, что делать. И Асмунд напряженно раздумывал, пытаясь отыскать в себе ту частичку Вещего, которая должна быть во всех его кровных родичах. Но к тому дню, на который назначен был царский обед, так ничего и не решил.
На этот раз «львы» повезли гостей – троих послов и троих купцов – не в тот уже знакомый им дворец, где вход сторожили каменные гривастые псы. С лодий их высадили у других ворот и оттуда еще довольно долго вели пешком по оживленным улицам. С обеих сторон те были застроены высоченными, как горы, каменными домами с множеством окон и столпов со сводами-перемычками. От такого множества камня Асмунд ощущал подавленность и старался меньше смотреть по сторонам, чтобы не обнаружить перед купцами и тем более греками своей растерянности. Везде кишел народ.
– Вон Великая церковь! – Вермунд показал ему еще какую-то гору впереди, за огромной площадью, и сделал крестообразный знак перед своей грудью и лицом. – София, сие значит Премудрость Божия.
– Святилище? – Асмунд окинул взглядом причудливые склоны с выпуклыми площадками. – Как же туда забираются?
– Вход с той стороны.
– Вход? В гору?
– Да не гора это… – Купец едва не сказал княжьему родичу «чащоба», но удержался. – Это из камня выстроено. А там внутри палаты дивной красоты, и в них Богу хвалу воздают.
На той же площади Асмунд увидел какой-то каменный дом, с большими каменными крестами вместо окон и дверей, а над ним столп толщиной… с самого Змея-Ящера, вставшего на голову хвостом вверх. Столп по виду казался золотым и ослепительно сиял на солнце, так что Асмунд зажмурился, не успев понять, что это такое. Лишь когда Кольбран тронул его за плечо и указал вверх, он догадался поднять глаза, прикрываясь от солнца ладонью. И резко вдохнул от потрясения: каменный столп уходил вверх на немыслимую высоту, а на вершине его застыл черно-зеленый всадник.
Закружилась голова, и Асмунд пошатнулся. Кольбран придержал его за локоть.
– Это их бог? – выдохнул потрясенный Асмунд.
От вида исполинского всадника с протянутой куда-то к небесам рукой все переворачивалось внутри. От всадника веяло давящей силой и пробирала дрожь: казалось, вот сейчас он чуть повернет голову, глянет на букашек у подножия столпа, и один взгляд его сотрет в пыль!
– Это прежний их кейсар Юстиниан. Из меди вылит.
– Кейсар?
– Да. Бог у них – Христос, ты же знаешь. А этот просто стоит. Ради славы и для памяти.
Просто стоит? Настоящий великан, да еще на коне ростом с дракона, отлитый из бронзы, – просто стоит? На золотом столпе высотой до полдороги к небу?
Но дворцовые стражники-львы шагали вперед, не давая русам времени как следует оглядеться. И Асмунда это не слишком огорчало – он не мог опомниться от уже увиденного.
Их повели на высокое каменное крыльцо, к сияющим медью дверям между столпами гладкого серовато-красного камня. Дабы не утратить присутствия духа, Асмунд предпочитал внимательнее смотреть под ноги, но и там расстилались узорные ковры, выложенные из многоцветных и золотых кусочков стекла. Мелькали одна за другой просторные палаты – каждая с иное городище, и тоже каменные столпы всех цветов, стенная роспись яркими красками, резные узоры, шелковые занавеси, люди и животные из белого камня.
И чем дальше шли, тем крепче Асмунд сжимал зубы и тем больше ему хотелось выше поднять голову и расправить плечи, чтобы не потеряться среди этого великолепия, неохватимого глазом и непостижимого умом. Оглядываясь на своих спутников, он видел на лицах русов напряженную невозмутимость; как и у него, желание не уронить достоинства боролось с потрясением. Здесь, в царском дворце, никто из них ранее не бывал, а стратонес в предместье Маманта не подготовил их ни к чему подобному. Разве что Вермунд, не раз бывавший в богато отделанных храмах, держался увереннее других.
Но вот провожатые остановились перед обитыми серебряным листом дверями. Волосы шевелились на голове у Асмунда, никогда в жизни не видевшего столько серебра зараз даже в виде шелягов, а тут – двери! Так вот, перед дверями очередного покоя толпилось два десятка мужчин, явно не греков. Иные из них были сарацины – в ярких кафтанах, в сорочках полосатого шелка, с черными бородами. Асмунд не удивился: от парней в стратонесе он уже знал, что сарацины не все одинаковые. У них есть разные державы, подчиненные разным правителям, и иные из них дружат с греками. Или хотя бы пытаются дружить.
Еще какие-то гости были тоже смуглы и чернобровы, черноусы, в кафтанах с широким запа́хом налево, с украшенными серебром поясными кожаными сумочками. В руках они держали шапки, похожие на шлемы с бармицей, сшитые из узорного шелка, и по этим шапкам и крою кафтанов Асмунд прикинул, что это, должно быть, ясы[12], которых немало было в Киеве. Оружия никто при себе не имел, кроме сарацин, у которых были небольшие кинжалы, у остальных виднелись лишь поясные ножи.
Подошел какой-то низкорослый, тучный грек – Асмунд уже не удивился, увидев пухлые голые щеки скопца, – и стал что-то говорить, задирая голову к рослым рыжебородым русам. В суете не сразу сыскали ему толмача, и переводил Вермунд:
– Это атриклиний, то есть стольник. Вот наш старший посол, – он указал на Асмунда. – Ну и что, что молодой? Он родич князя Ингвара. Какой родич – брат его жены. Царского рода? Да, вы ведь род Вещего.
– Наши предки в родстве со Скъельдунгами, что владеют многими землями в Ютландии и на ближних островах, – с вдруг пробудившейся надменностью подтвердил Асмунд.
Родившийся в простой усадьбе над Великой, выросший как все мальчишки – дети хирдманов, он почти никогда не задумывался о родстве отца со Скъельдунгами, но сейчас вдруг понял: это важно не только для сестры Эльги в Киеве, но и для него. Мог бы и раньше вспомнить – не стоял бы бдыном перед тем Лаврентием, который даже сесть им не догадался предложить.
Вермунд тем временем растолковал атриклинию положение прочих русов – кто посол, кто купец. Тот в ответ объяснил: когда придет пора входить в триклин – пиршественный покой, нужно будет сначала подойти к троносу – это престол василевса на возвышении – и сделать проскинесис, то есть упасть ниц и протянутыми руками коснуться царских башмаков. Так гости выражают свое почтение богохранимым василевсам.
Асмунд переменился в лице: падать ниц перед кем бы то ни было он не привык.
– Это честь для вас, что вы допущены в этот покой и разделите трапезу со Стефаном августом, клянусь головой апостола Иоанна! – пояснил тучный грек, воздев руки и потрясая ими, будто его изумляла столь несказанная милость. – Вы будете вспоминать об этом всю жизнь и рассказывать внукам!
«Не подведи меня!» – сказал ему Ингвар. Но что значит не подвести: не уронит ли он, Асмунд, чести киевского князя, если станет нюхать пол под ногами царского сынка?
Но, может быть, за обедом речь наконец зайдет о деле? Ведь в гриднице на пирах обсуждают все самое важное, и военные походы тоже. Пора же поговорить!
И Асмунд кивнул. Наверное, иногда «не подвести» означает смирить себя. Многие – да чуть ли не все в ближней дружине Ингвара и Свенельда, кого он знал, – могли бы броситься на толпу врагов с топором и рубить, не замечая ран, пока не падут замертво. Это была доблесть простая и понятная. Но Ингвар не требовал от него умирать. Он хотел, чтобы Асмунд помог ему договориться с греками. А значит, надо избирать именно те пути, что ведут к цели.
Вскоре Асмунд утешился: все заходящие в палату падали и простирали руки к башмакам сидящего на троносе рослого и худого мужчины средних лет. Русы заходили не первыми, а после ясов, но перед сарацинами, так что он успел наглядеться, как совершается проскинесис.
Оглушительно гудели невидимые рожки, укрытые занавесами по сторонам палаты. От каждого посольства первым приветствовал василевса старший; после поклона двое дворцовых служителей помогали ему подняться и вели к приготовленному месту. Усевшись, Асмунд обнаружил, что находится довольно близко к троносу. Ближе него к Стефану расположились ясы со своим предводителем, а сарацин усадили дальше. Напротив них, с другой стороны стола, сидели греки. Почти половина из них были безбороды: эти царедворцы выслужились из евнухов, которым только и позволялось занимать разные должности при самой особе василевса. Ну а те, кто был вхож в спальню и подавал царям одеваться, при известном уме и ловкости мог войти в доверие и добиться должности побольше – до самых высоких. Об этом русам рассказывал в стратонесе сотский Финнбьёрн, смеясь и добавляя: «Но я свои яйца ни на какие должности не променяю!»
Пока вошедшие позже кланялись, Асмунд наконец рассмотрел василевса – того из троих или четверых, который взял на себя труд принять посольство. «И хорошо, – подумалось, – что он один. Сиди их тут все четверо, спину сломаешь всем кланяться». Выглядел Стефан лет на тридцать, как поначалу показалось Асмунду, но позже он заподозрил, что василевсу меньше, а просто он плохо выглядит из-за нездоровья. Был тот весьма высок, худощав, с продолговатым некрасивым лицом, небольшой бородкой и густыми изломленными бровями. В чертах читалось пренебрежение пополам с неудовольствием, будто у него что-то болит и он вовсе не рад быть здесь. На послов он даже не глядел. Асмунд подивился про себя такой неучтивости, при которой богатый златотканый кавадий и красная мантия, сколотая на плече, смотрелись неуместно – будто дерзкий раб тайком напялил платье господина и вот-вот поплатится за это жизнью.
Папас[13] прочел молитву, хотя, кроме василевса и его греческих приближенных, христиан за столом больше не было. Начали подавать угощение. На огромных, как корыта, серебряных, частью позолоченных блюдах лежали зажаренные целиком туши – так причудливо украшенные зеленью и цветами, что Асмунд едва узнавал животных, птиц и рыб. Ягнята, козлята, поросята, домашняя и дикая птица, зайцы – все это выглядело, будто невиданные звери из басен, вроде жар-птицы и индрик-зверя. Цветы при ближайшем рассмотрении оказывались вырезаны из плодов или свернуты из ломтиков ветчины; сквозь них проглядывала блестящая от жира запеченная корочка. Причем оказалось, что хитрые греки заранее вытащили из туш кости, положили внутрь овощи или другое мясо, а потом снова надели сверху кожу и придали тушам вид целых.
В Валгалле, как рассказывают, Один каждый день угощает павших воинов мясом вепря – одного и того же. Но даже Отец Ратей не додумался сделать так, чтобы весь этот вепрь состоял лишь из мяса и жира без костей… Косточки сохранились лишь в птичьих ножках, и то были обернуты зелеными листьями.
Стефан август сидел в одиночестве за особым столом на возвышении. Прислужники подносили ему блюда, клали перед ним кусок или два, потом он знаком показывал, кому из сидящих за нижним столом отослать остальное. Асмунд приметил, что василевс больше пьет, чем ест. Оттого, наверное, тощий такой и рожа кислая. Среди тех, кому досталось одно из царских блюд, молодой посол узнал патрикия Феофана. Тот тоже его узнал и, налегая на присланную царем рыбу, даже подмигнул, – если Асмунду не померещилось. С чего бы это?
Сам Асмунд пытался есть то, что ему наряду с прочими подносили слуги, но непривычная обстановка подавляла голод. Даже вкусные запахи запеченного и жареного мяса с удивительными приправами не столько влекли, сколько вызывали легкую дурноту.
Перед каждым гостем стоял позолоченный кубок – все одинаковые, от одного мастера, – и прислужники подливали вина, едва кому случалось отпить. Вино было разбавлено водой и замешано с медом, а не со смолой – ну, хоть царям достойное питье подают, хмыкнул про себя Асмунд. Убранство стола его поразило. Он привык, что каждый серебряный кубок – сокровище, бережно передаваемое по наследству, и о каждом рассказывают предания: кто из предков где и как его добыл. А здесь они стояли строем, будто воины. До сих пор он видел в основном голые стены стратонеса и простую глиняную посуду, хоть и поровнее, чем самолепные домашние горшки. Но теперь невероятная роскошь Греческого царства, о котором так много говорили, била в глаза и ослепляла. Будто в пещере Фафнира, серебро и золото было повсюду – блюда, кубки, сосуды, кувшины, даже светильники! Все это блестело, искрилось, переливалось, и Асмунду казалось, что он ест не мясо и рыбу, а какое-то сияние.
Разобрать, каково сияние на вкус, он толком не успел, а тут еще любезный хозяин застолья решил завести с гостями беседу. И та окончательно отбила всякую охоту к еде.
До этого Стефан обращал речи к ясам: он говорил по-гречески, а им переводили на их язык. Асмунд не понимал ровно ничего, однако заметил, что купцы прислушиваются к греческой части беседы. Рядом с троносом стоял какой-то чин, который в обеде не участвовал, а лишь подсказывал что-то Стефану. Потом он исчез, а на его месте Асмунд с удивлением обнаружил уже знакомую черную бороду и загорелую лысину асикрита Лаврентия – сейчас тот был одет в шелковый скарамангий – шелковую рубаху с отделкой и очень длинными рукавами.
Подошел тот скопец-толмач, которого Асмунд поначалу принял за бабу, и встал у него за спиной.
– Теперь мы обратимся к вам, скифы, – перевел скопец, склонившись к Асмунду сзади, отчего тот беспокойно дернулся, едва сдержав желание развернуться и точным ударом кулака отшвырнуть «бабу» подальше.
Кто? Какие скифы? Асмунд удивился: кроме них, ясов и сарацин, больше тут никого не было. Но потом вспомнил: скифами греки называют всех, кто живет от них на север: и русов, и болгар, и кочевников.
Но Стефан смотрел на него. Вид у василевса был недовольный и отчасти недоумевающий, будто он удивился, вдруг обнаружив у себя за столом шестерых рослых светловолосых мужчин с золотисто-рыжими бородами.
Лаврентий что-то говорил ему; поскольку речь назначалась василевсу, толмач молчал, но ясно было, что Стефану описывают положение дел. Асмунд перестал есть и положил нож на стол, чтобы рот был свободен, когда придется отвечать. Сердце забилось от волнения. Сейчас он узнает, не напрасно ли ехал так далеко, терял даром столько времени и удалось ли ему не подвести Ингвара.
– Зачем вы прибыли к нам? – вдруг сказал толмач у него над ухом, и Асмунд понял, что эти слова Стефан сказал уже не Лаврентию, а ему.
Асмунд удивился: этому самому толмачу он уже все о киевских делах рассказал подробно. Но потом сообразил: Стефан этого не слышал. Что же ему – магистры не донесли?
– Князь наш Ингвар прислал нас объявить о желании всех русов заключить с вами, греками, новый договор, чтобы жить в мире, дружбе и торговать по закону.
– Архонт русов Ингер нижайше просит Василею Ромеон оказать ему покровительство и позволить войти в число друзей, – по-гречески сказал толмач.
– Друзей? – переспросил Стефан. – Чем вы заслужили нашу дружбу? Ваш архонт захватил Киев силой, будто злейший враг, вопреки праву и закону, поражал мечом и отправлял в изгнание, огнем и мечом подчинял себе земли! С такими нечестными людьми мы не можем заключать договоров. Вы пришли сюда под предлогом мира, но как нам знать, не разведчики ли вы и не задумали ли сделать зло и нам?
Толмач переводил вежливым, почти заискивающим голосом, но оттого эти речи звучали еще более дико. Асмунд вонзил взор в лицо Стефана, не веря своим ушам. Он уже привык не смотреть во время бесед на толмача, а обращаться к царедворцам, но теперь сладкий голос скопца так не вязался с презрением в грубых чертах Стефана, что у Асмунда закружилась голова, будто все это был лишь бредовый сон.
– Ты считаешь, что мы – не послы, а разведчики? – повторил он, едва опомнившись.
– Послы нечестного государя не могут быть сами честны!
– Я готов, – Асмунд встал над столом, – на поединке защитить честь моего князя!
Холодное бешенство вдруг сделало его очень спокойным. Ушло волнение от мысли, что он говорит с венчанным василевсом, исчезла роскошь покоя и стола – он больше их не замечал. Перед ним был рослый, потасканный, с помятым некрасивым лицом мужчина, считающий себя вправе порочить незнакомых людей. Об одном Асмунд жалел – что вызов на поединок сам Стефан не примет и выставит кого-нибудь из «львов». Этого угрызка тощего он бы разом ушатал!
В это время патрикий Феофан что-то сказал, общаясь к василевсу, но показывая на Асмунда. Тот замер, ожидая, что будет.
– Патрикий говорит, что ски… русы отличаются вспыльчивостью и отвагой, – доложил за спиной толмач.
– Отвагой? – повторил Стефан. – Русы не умеют ездить верхом, но и пешими не умеют сражаться и берут лишь числом. Как саранча, налетают они из своих диких и голодных стран и заваливают врага своими трупами, побуждаемые жестокими и трусливыми вождями.
«Это война! – подумал Асмунд, и мысль была столь ясной, будто голос в голове принадлежал кому-то другому. – Он говорит это, чтобы объявить нам войну».
Что будет с посольством? Наверное, их сейчас схватят и посадят в узилище, а потом убьют… или сразу убьют… А кто тогда предупредит Ингвара? По привычке схватившись за бедро, он осознал, что при нем нет ничего, лишь маленький поясной нож, чтобы резать мясо за столом. И еще подумал: живым не возьмете. Даже не исполнив порученного дела, он не опозорит князя своей трусостью.
Однако никто на него не бросался, все было тихо. Развернувшись, Асмунд обнаружил, что «львы» вовсе не бегут, чтобы его схватить, а по-прежнему стоят цепью вдоль палаты, хотя и не сводят с него внимательных глаз.
Стефан продолжал говорить, но переводчик молчал и даже попятился от Асмунда. Потом Феофан что-то сказал, и тогда переводчик подал голос:
– Патрикий просит тебя сесть.
Асмунд еще раз огляделся. Все царские гости, греки и приезжие, оставили еду и смотрели на него. Толмачи ясов и сарацин склонились каждый к уху своего старшего посла.
– Сядь, – настойчиво шепнул ему Вефаст. – Тут драки не в обычае.
Асмунд медленно сел. Кажется, будет драка или не будет, сейчас зависело от него.
– Не в обычае? – с возмущением зашептал он. – Но что царь такое говорит? Он оскорбляет нас! Хочет войны?
– Не хочет он войны. Он даже не знает, что оскорбляет нас.
– Как это?
– Ну, так. Он думает, что говорит правду и мы тоже это знаем. Вот, еще говорит, что наш единственный бог – это чрево, а наша вера – пьянство.
– На себя пусть поглядит!
– И что у нас совсем нет кораблей, способных пересечь море, и что греки могли бы в семь дней захватить всю нашу землю.
– Скажи ему, – Асмунд оглянулся на толмача, – битвы покажут, кто из нас чего стоит. Мы приехали искать мира и дружбы, но, если такой товар здесь не требуется, мы можем дать и другой.
Что из этого толмач счел возможным донести до слуха василевса, Асмунд не узнал. Но Стефан к тому времени почти забыл о них, припав к своему золотому кубку, а после уже ни с кем не разговаривал и едва не заснул прямо на троносе. Поначалу Асмунд кипел: негодование не позволяло ему больше ни есть, ни пить, и лишь сжимал кулаки на коленях. Но, глядя на Стефана, постепенно успокоился. Какой это, к йотунам, василевс – обычный пьяница, несущий всякий вздор! Даже перед чужеземными послами прилично вести себя не умеет. Не будь он царем и не сиди так высоко, уже давно получил бы в зубы – чтобы протрезвел и задумался, что говорит.
– Если он по пьяни в горшок полез, то пусть бы, – шепнул ему Вефаст. – А вот если ему старший царь, Роман, велел нам этого наговорить и ссору затеять – тогда дело худо.
– Нас возьмут? Запрут куда-нибудь?
– Йотун его знает… Пока вроде не за что, но, если они правда принимают нас за разведчиков, тогда могут и заточить. Сидим спокойно. Отсюда все равно не прорваться, тут стража кругом, а у нас и руки пустые.
Патрикий Феофан снова что-то сказал, и перевел Вермунд:
– Говорит, цесарь слишком устал, чтобы вести беседу. На наши слова нам будет дан ответ в надлежащее время.
* * *
Не зная, чего ждать, Асмунд остаток обеда просидел с таким чувством, будто воздух вокруг сделан из тонкого стекла и неловким движением его можно разбить. Однако все шло спокойно, прочие гости вернулись к еде. Василевс же настолько «устал», что и не заметил, как по знаку атриклиния сотрапезники поднялись, отвесили ему поклоны и вслед за остиариями покинули покой. Никто не пытался русов задержать, и «львы» благополучно доставили их назад в стратонес Маманта. Правда, как думал по пути Асмунд, какого еще узилища нужно? Чем их каменные каморы в стратонесе – не узилище? Только дверь подпереть снаружи, и готово. Стены каменные, оконца крохотные, стражи кругом полно.
– Так для того и устроено, – сказал Вефаст, когда Асмунд поделился с ним этими мыслями. – Чтобы наемники не разбежались, если вдруг кому служба разонравится.
Но дверь наутро открылась свободно, и все пошло по-старому. Снова гороховая каша с жидким маслом из оливковых ягод, копченая рыба по обычным дням, липкие ягоды-финики и пустая похлебка из капусты – в постные. Наемников всех кормили одинаково, и язычники поневоле постились заодно с христианами. Однако даже в постные дни Асмунд вспоминал золоченые блюда и блестящих от жира гусей в царском триклинии безо всякого удовольствия. Особенно возненавидел он запах подливы, которую тут давали ко всем блюдам, а делали из чего-то вроде тухлых рыбьих кишок.
Но вот дней через десять русам объявили, что их снова приглашает патрикий Феофан.
– Скажу, чтобы давали ответ! – заявил Асмунд, услышав об этом. – Домой пора, загостились мы тут, а толку – с хрен поросячий.
– Пора домой, это верно, – кивнул Альвард. – Если недели через две не отплывем, то или на зиму тут оставаться, или берегом ехать – море ближе к зиме уж очень сильно бурлит, разобьет суда, погибнем все. А берегом – болгары да печенеги, а пока до Днепра доберемся – снегу навалит.
– От них и нужно-то одно: хотят договор заключать – приедут послы, не хотят… У нас там в Киеве есть охотники показать, умеют ли русы сражаться.
Асмунд все еще негодовал, вспоминая речи Стефана. Этого недоноска еще на свете не было, когда к стенам Царьграда явился Вещий с двумя тысячами кораблей и разорил все предместья – иначе знал бы, есть ли у русов суда для морских переходов и умеют ли они воевать.
– Могли бы они, видишь, за семь дней захватить всю нашу землю! – возмущался он. – Чего же не захватили, а вместо этого сами платят дань? Зачем, если мы столь ничтожны?
Патрикий Феофан принял киевлян любезно – то есть улыбался во все полное лицо и сразу предложил сесть. После знакомства со Стефаном даже этот толстяк, по-прежнему благоухающий чем-то сладким, показался Асмунду если не приятным, то не таким противным, как в прошлый раз.
– Надеюсь, вас не слишком смутил суровый прием, который оказал вам богохранимый Стефан август! Ведь русы в державе ромеев известны как люди весьма воинственные и несдержанные.
– Вы сами убедились, что это не так! – сердито ответил Асмунд. – Я был очень, очень сдержан, когда слушал эти напрасные поношения моему князю!
– Я заметил это. – Феофан улыбнулся с доброжелательством, которое Асмунд посчитал бы подлинным, если б мог верить в дружбу греков.
– Но если вы и правда думаете, что мы не умеем сражаться ни пешком, ни верхом и что у нас нет морских кораблей, то почему же ты предлагал нам поход на каганат?
– И я по-прежнему предлагаю вам поход на каганат, – вновь улыбнулся Феофан. – Иные из наших августов не верят, что из вашего участия в деле может выйти толк…
– В каком деле?
– Сейчас я поведаю вам очень важную тайну! – вертя в пухлых пальцах писчую палочку, Феофан навалился грудью на стол, будто пытаясь приблизиться к гостям. – Дайте клятву, что сохраните ее, каков бы ни был исход наших переговоров.
Чуть ли не впервые за все время знакомства Асмунд взглянул ему в глаза. Глаза у Феофана были как у человека умного и понимающего всю суть дела, о котором зашла речь. И Асмунд наконец увидел в нем не странную тварь, которая утратила право называться мужчиной, но так и не стала женщиной, а человека, пусть и с некой неприятной особенностью. Ум ему не отрезали вместе с мужской снастью. Ну, ладно – нам же к нему не свататься.
– Я призываю Перуна в свидетели, что буду молчать о вашей тайне, – Асмунд поцеловал свой меч, приложил его ко лбу и к каждому глазу по очереди. – Если только она не повредит моему князю.
– Ему она пойдет на пользу! Роман август повелел на будущий год стратигу фемы Херсон совершить поход на Боспор Киммерийский и восстановить власть Василеи Ромеон на ее исконных землях. Нам повелевает это сделать сам Бог, ибо в Хазарии в последние годы стали утеснять христиан, и пришла пора защитить Божье дело и показать кагану мощь нашей державы. Но часть наших сил по-прежнему скована войной с сарацинами в восточных фемах и на островах, поэтому августы решили позволить принять участие в походе и вам. Это поистине милость, и ты поймешь это, когда немного поразмыслишь. Вы захватите один или два города, скажем, Таматарху[14], и вам будет легко это сделать, ибо военные силы Херсона отвлекут войско кагана на себя. Вы возьмете богатую добычу, которой сможете распоряжаться по своему усмотрению. И тем докажете сразу две вещи: что Стефан август напрасно так низко оценил вашу воинскую доблесть и умения, а еще то, что вы готовы быть верными друзьями Романии. Ты, кажется, сказал на том обеде, что битвы покажут, кто чего стоит? Когда вы докажете это делом, не останется препятствий к заключению договора о торговле на хороших условиях. Возможно, тех же, какие были в последние тридцать лет.
Феофан наклонил набок голову с красиво уложенными кудрями и вгляделся в лицо Асмунда, ожидая ответа на свою речь. Но посол помедлил. В изложении патрикия дело выглядело очень привлекательным: верная победа с опорой на греческие силы, добыча из богатого торгового города, а заодно и случай доказать, какими грозными противниками и полезными союзниками могут быть русы…
И этот пьяный червяк в красных башмаках убедится, что все его поношения были ложью до последнего слова!
– Раз уж ты заговорил о стоимости, – вступил в беседу Вефаст, переглянувшись с Кольбраном. – Не нужно объяснять, что подготовка к походу приличного войска стоит денег? Как у нас говорят, «на паруса». У нашего князя сейчас с деньгами не очень хорошо, поскольку торги Константинополя нам пока недоступны…
– Деньги будут, – кивнул Феофан. – И на паруса, и на веревки, и… что там еще бывает на кораблях? От вас потребуется лишь доблесть и верность делу ромеев и Христа.
– В этом у нас нет недостатка, – заверил Вефаст. – Правда, Асмунд?
Глава 6
– Эльга! – В избу заглянул Ингвар. – Где ты застряла? Ты что, не одета еще?
Красный кафтан с отделкой синим шелком и серебряными полосами тканой тесьмы через грудь сшила и прислала в подарок еще лет пять назад его мать, хольмгардская королева Сванхейд. Теперь кафтан уже был узок ему в плечах и в груди: Ингвар продолжал расти как вверх, так и вширь. Ута говорила, что Мистина тоже, хотя этому-то куда?
Совка, челядинка, стояла возле разложенного на ларе убруса, выражая готовность одевать госпожу, но Эльга беспомощно застыла возле укладки, где на боках и на крышке развесила несколько платьев: варяжских и греческих. Греческих платьев у нее было два, и оба из подарков Мальфрид. Раньше она с удовольствием носила их, но после переворота ей было немного стыдно показываться в дарах золовки, с которой так нехорошо обошлись. Поэтому она надевала варяжские платья – из шерсти, и привезенные из дома в числе приданого, и сшитые здесь, выкрашенные и отделанные собственными руками. Но сегодня такой случай – прибывает плесковская родня! Не очень-то удачливой в замужестве дядя и братья посчитают ее, если увидят, что она все еще ходит в одежде из родительского дома! Впрочем, свое приданое она получила такой ценой, что поневоле приходилось его уважать.
Жатва уже миновала, прошли и дожиночные пиры. Поспело льняное семя. Поляне привозили князю свою дань сами: благо недалеко. На Олегову гору тянулись телеги с мешками обмолоченного зерна, Эльга и челядь принимали привезенное и распределяли по клетям. Самое время: прошлогодний хлеб вышел, оставалось только просо на кашу. И опять Эльге целыми днями было некогда присесть. До того как она сделалась верховной госпожой над русью и подчиненными ей славянами, у нее оставалось куда больше свободного времени. И тем не менее вид мешков с рожью, просом, пшеницей ее необычайно радовал: урожай оказался хорош, жатве повезло с погодой, никакая порча не нанесла полянским нивам заметного ущерба, а значит, боги не отвергли новых русских князей.
Дело было даже не в том, что они делали: удача князя либо есть, либо нет, и все успехи и провалы – лишь внешнее отражение. Тусклое золото жита в мешках было плодом ее, Эльги, удачи, и поэтому она с таким гордым видом запускала руку в мешок, будто хвалилась сокровищами собственной души.
Однако мир, за который теперь отвечали Ингвар и Эльга, был куда шире, чем даже нивы всей Полянской земли. Один за другим возвращались послы, весной отправленные к двум десяткам князей славян и руси, которые были когда-то подчинены Олегу Вещему или состояли с ним в союзе. Теперь, когда власть в Киеве перешла в руки другого рода, все прежние договора считались разорванными и их требовалось восстановить.
Проще всего прошло самое важное: побеседовав с Мистиной, королева Сванхейд согласилась признать своего сына Ингвара владыкой его наследственных земель, пусть он не мог сам жить в них. От его имени стал править Тородд, младший брат, но все же южный и северный конец пути из Варяжского моря в низовья Днепра, коими владели печенеги и греки, впервые оказались в одних руках.
По пути туда и обратно Мистина побывал и у Сверкера, нынешнего смолянского князя. Тот сам лишь три года назад завладел городом Свинческом, который северяне называли Сюрнес, одолев прежнего князя Велебора и почти истребив его род. Сосредоточив все силы на том, чтобы удержать захваченное, он, разумеется, не стремился ссориться с владыкой Хольмгарда и Киева, чьи земли теперь окружали его с юга и севера. Кто бы тот ни был.
Однако с наибольшим волнением Эльга ждала ответных вестей от своих родичей: к ним поехал Добылют, из боярского рода Гордезоровичей. По поводу похищения невесты Ингвар помирился с Торлейвом и князем Воиславом еще три года назад, но теперь они убедятся, что Эльга не зря решилась на побег: ее вели боги, указав более высокую и славную участь. И, конечно, молодая киевская чета нуждалась в поддержке плесковской родни.
– Мне не в чем идти, – пожаловалась Эльга, подняв глаза на вошедшего мужа. – Вот эти – старые, а эти мне подарила твоя сестра… ну, Мальфрид.
– Мальфрид хоть тебе дарила, – Ингвар с неудовольствием скривился, будто хотел плюнуть, но не у себя дома же. – А не всякому, кому…
Эльга отвернулась, чтобы он не видел ее улыбки. Незадолго до начала жатвы Мистина приехал из Хольмгарда с успехом своего посольства и подарком от Сванхейд: кафтаном голубой шерсти с отделкой золотисто-желтым и коричневым шелком. Причем Сванхейд и Альдис сшили его за те дней десять, пока он там гостил: их мужчины были ниже его ростом на целую голову и готовой одежды такого размера им было неоткуда взять. На груди блестела тесьма из золотной нити, и все близкие к Эльге женщины ахали, разглядывая такую роскошь. Причем оказалось, что золотная нить не привозная от греков, как было раньше, а местного изготовления: в Хольмгарде два златокузнеца, Гуннар Большая Рыба и Путислав, научились сами делать тончайшие ленты для золотной вышивки и тянуть золотую проволоку для тесьмы. Как было не позавидовать свекрови! Новые товары от греков в Киеве появятся через пару лет, не ранее. А у Сванхейд золотная нить теперь своя!
– Хорошо сидит, – впервые увидев Мистину в обновке, Эльга окинула взглядом плечевые швы, длину ровно по колено, как положено молодому женатому мужчине, и пошутила, понизив голос: – Кто там снимал с тебя мерки?
Мистина лишь смерил ее саму многозначительным взглядом, будто тоже что-то снимал, и промолчал. И это только подогрело любопытство Эльги насчет того, как прошла встреча Мистины с женщинами из Хольмгарда. Она знала о его давнем намерении жениться на сестре Ингвара, и сейчас ее почему-то задела мысль о том, что незнакомая ей золовка Альдис прикасалась к Мистине, пока он стоял перед ней в сорочке, и прикладывала веревочку, измеряя ширину в плечах, в груди, длину рук до запястья, длину от плеча до колена… Да нет, вовсе им было не нужно снимать с него мерки: он мог просто дать им одну из своих сорочек, сшитую Утой… И все же Мистина понял, о чем она спросила, а она поняла, о чем он промолчал.
– Мы много беседовали с твоей сестрой, – рассказывал он Ингвару по приезде. – Это прекрасная девушка, по годам она равна нашим с тобой женам, и я не знаю, отчего твоя мать до сих пор не выдала ее замуж.
– Ты что, – Ингвар гневно глянул на него, – к моей сестре яйца подкатывал?
– И не думал даже, – бросил Мистина таким голосом, что Эльга отчего-то сразу ему поверила.
– Так о чем ты с ней, йотунов свет, беседовал? Да еще так, что за те беседы тебе кюртиль с шелком подарили!
– Я сделал то, то должен был сделать ты, йотунов свет! Я пообещал наконец найти ей мужа! И тем отчасти загладить твою вину перед старшей сестрой, хотя ваша общая мать не так уж прямо сразу согласилась тебя простить! И мне еще пришлось поклясться Альдис, что с ее мужем не случится того, что случилось с мужем Мальфрид!
В деле замужества Альдис Мистина рассчитывал на те многочисленные переговоры, что им теперь предстояли. Когда нужно подтвердить два-три десятка договоров, незамужняя сестра – целое сокровище. В первую голову Эльга думала о возможности женить своих двоюродных братьев из Плескова.
И вот ей не в чем идти встречать родичей! Для них с Ингваром королева Сванхейд тоже прислала подарки: фризскую цветную шерсть, восточный шелк и серебряную тесьму работы Альдис, но это все Эльга сложила в ларь, не имея времени взяться за шитье. Может, зимой…
– Ну, это же твои родичи, – Ингвара мало волновала одежда, и он едва ли замечал, что его собственный кафтан при неосторожных движениях трещит по швам. – Что им за нужда, как ты одета?
Эльга вздохнула. Даже для своих близких она теперь – княгиня киевская.
– Вернется Ранди от хазар – привезет чего-нибудь, – утешил ее Ингвар. – А на будущий год съездим к грекам, с ними договор подтвердим, будем к ним меха возить, а взамен паволоки и всякую женскую кузнь покупать. Теперь ведь вся дань русская – наша с тобой! – Он обнял стоящую в сорочке и волоснике жену. – И будет у тебя платьев греческих сколько хочешь, хоть каждый год новое.
Эльга не очень поверила. Дань – это хорошо, но теперь она уже представляла, чего стоит прокормить и одеть большую дружину. А еще оружие, кони, сани, лодьи… Не так уж много ей на платья останется.
– А совсем без платья ты еще лучше! – прошептал ей Ингвар и поцеловал в шею.
Под руками его оказалось теплое тело под тонким льном, перед глазами – длинный разрез женской сорочки, уходящий вниз между двумя белоснежными холмиками. И зрелище это мигом вытеснило из мыслей то, что на пристани у Почайны их ждет дружина и весь Киев.
– Без платья на пристань не пойду! – Эльга рассмеялась и попыталась оттолкнуть не вовремя взволновавшегося мужа, но напрасно.
В дверь замолотили снаружи: вероятно, это Мистина намекал, что ближняя дружина готова и ждет. Ингвар с досадой обернулся, Эльга охнула, схватила первое, что под руку попалось, и прижала к груди.
К Почайне, где уже ждала толпа, княгиня вышла в лучшем греческом платье: красном с золотисто-желтыми птицами. Происходящее из царьградской добычи Олега Вещего, платье было перешито из мужского, шелк уже повытерся, но под лучами солнца смотрелся очень неплохо. Но еще лучше было лицо самой Эльги, обрамленное белым шелковым покрывалом и серебряными подвесками моравской работы. Глаза сияли, перекликаясь со смарагдами в ожерелье, щеки горели от волнения, и неудивительно, что при виде нее народ на пристани разразился приветственными криками, в которых звучал искренний восторг.
Перед тем как войти в Киев, плесковское посольство остановилось на несколько дней в Любече и оттуда послало гонца. Эльга уже знала, что ей предстоит увидеть дядю Торлейва – отца Уты, и двоюродного брата Бельшу – сына плесковского князя Воислава, и родичей Уты по матери. И еще одного человека – своего сводного брата Хельги, о котором ей рассказал Мистина, когда вернулся из Хольмгарда.
О Хельги молодая княгиня думала, пожалуй, более всех прочих. Внезапно обнаружить незнакомого близкого родича – все равно что найти какую-то новую часть себя. Даже сходство их имен, данных в честь одного и того же человека, волновало ее. С бьющимся сердцем Эльга вглядывалась в идущие по Почайне вдоль причалов лодьи, надеясь в незнакомом брате найти продолжение отца, которого так внезапно потеряла. В те дни судьба ее находилась на переломе, и в немалой мере из-за гибели отца ей пришлось рвать путы и с ними заодно все связи с материнским родом и родным краем. Будь Вальгард жив – никогда ее не послали бы в лес к Князю-Медведю, и Мистине не пришлось бы убивать волхва, и чуры не разгневались бы на нее, и у нее сейчас было бы, как у Уты, уже двое детей…
А сейчас судьба ее проходила через новый перелом. Они с Ингваром объявили себя киевскими князьями, владыками руси и славян, но, чтобы их власть из слов превратилась в дело, предстояло еще немало борьбы. И то, что умерший отец вдруг прислал ей вместо себя нового, уже давно взрослого брата, казалось подарком с того света, еще одним знаком удачи Олегова рода.
От волнения сжимая руки, Эльга обнаружила на запястье пятно размазанного и засохшего теста: когда прибежали с вестью, что лодьи показались на Днепре, она заодно с челядинками лепила пироги – с грибами, с рыбой и с ягодами. Незаметно счистила тесто, не переставая улыбаться. А иные дурочки думают, княгине киевской только и заботы, что узорочья в ларце перебирать!
Вот лодьи подошли, отроки перекинули мостки. Приехавшие сходили на берег; пробежала по сходням сестра Володея и кинулась Эльге в объятия, смеясь и плача от волнения.
– Как ты выросла! – Эльга запомнила ее еще девочкой-подростком, а теперь Володея была ростом почти вровень с ней – совсем взрослая девушка. – А как Беряша? А братья? Все здоровы?
– Ты просто… богиня! – Володея удивилась ей еще сильнее.
Она ведь тоже запомнила старшую сестру вполне обычной девушкой, с косой и в белой «печальной» вздевалке, в которой та в последний раз ушла из родного дома. А теперь перед ней стояла княгиня в греческом платье и с шитым золотом очельем, прекрасная и величавая, будто Солнцедева.
Подошел дядя Торлейв, уже поздоровавшись с Ингваром, и тоже обнял Эльгу.
– А где Ута? – Он еще раз огляделся, надеясь увидеть родную дочь.
– Ждет вас дома.
– Она здорова? Что с ней?
Дядя сказал «цто» вместо «что», и это резануло слух Эльге, отвыкшей за три года от выговора северных кривичей.
– Вполне. Вон, у зятя спроси, что с ней! – Эльга выразительно показала глазами на Мистину, надеясь, что родичи поймут. Не объявлять же о беременности сестры посреди причала!
– А где Аська? – Володея тоже вертела головой. – Мы ему кое-что привезли! Вот он обрадуется! То есть кое-кого!
«Кое-цто»… Сестру надо будет от этого отучать, чтобы люди не смеялись…
– Кого привезли? – удивилась Эльга.
И тут увидела в трех шагах от себя, среди гомонящей толпы, еще двоих: мужчину и молодую женщину. Оба были ей незнакомы, но стояли среди родичей с таким видом, будто тоже к ним принадлежат, разве что женщина выглядела смущенной. Лицо ее показалось Эльге смутно знакомым, но никакого имени в памяти не всплыло. Позади той челядинка держала на руках мальчика, двух лет по виду. Вполне обычная семья из мужа-норманна и жены-кривичанки, сейчас вдоль Пути Серебра немало таких.
При взгляде на мужчину Эльга невольно вытаращила глаза. Ни у кого еще она не видела такого большого родимого пятна. Похоже на сильный солнечный ожог: светлая кожа северных уроженцев краснела в начале каждого лета, но только этот мнимый ожог занимал лишь половину лица и одну сторону шеи.
– Княгиня Эльга! – Он подошел ближе и поклонился. По-славянски он говорил не совсем чисто, но понятно. – Я твой брат, мое имя Хельги. Мочно мне тебя обнять?
Вот почему он зовется Красным! В остальном же Хельги был хорош собой, нарядно одет и держался уверенно.
– Это верно ее брат? – Пока Эльга, смущенная его видом, подыскивала ответ, рядом возник Мистина. – Торлейв, он говорит правду? А то ведь не к лицу княгине посреди причала обниматься невесть с кем!
– Это правда! – подтвердила Володея. – Это Хельги. Наш с тобой сводный брат. Он хороший человек, так что, Эльга, можешь смело его обнять.
– Понимаю, я не так красив, как те, кто всегда близко тебе, – Хельги бросил на Мистину быстрый взгляд и перешел на северный язык, на котором ему было легче объясняться. – Но ты можешь полностью положиться на мою преданность.
– Пока довольно и вашего родства, а преданность, я надеюсь, ты докажешь княгине делом, – опять ответил Мистина вместо Эльги.
Двое мужчин стояли напротив, пристально глядя друг на друга. Мистина был выше ростом, но в остальном они даже были в чем-то схожи. У Мистины черты были тверже, особенно сейчас, когда он стиснул зубы, а у Хельги в грубоватом лице таилась несколько размытая улыбка, но взгляд оставался столь же острым.
– Я очень рада, что у меня теперь на одного брата больше! – Эльга подошла ближе и обняла Хельги. – А преданные люди нам очень нужны, и я надеюсь, боги послали мне тебя, чтобы вознаградить за потерю отца. Свенельдич! – Она повернулась к Мистине. – Пожми ему руку! Вы с ним тоже родичи!
– Ну, мне-то, к счастью, другой отец не нужен, свой имеется! – Мистина послушался и подал Хельги руку.
– Это наш свояк Мистина Свенельдич, да? – Хельги ответил на его пожатие, но обратился снова к Эльге. – Значит, мне осталось повидать только еще одного брата, Асмунда. Где он?
– Его нет в Киеве, – с сожалением ответила Эльга. – Он еще весной в Царьград уехал. Договариваться о новом договоре, – она засмеялась. – Ведь у нас больше нет договора с греками, какие были у… прежних князей. Даже торговать с ними мы сейчас не можем, а это очень досадно. Если все пройдет хорошо, то на будущий год мы отправим туда послов. Верные и толковые люди нам скоро понадобятся! – Она улыбнулась Хельги.
– Какая неудача, что Асмунда нет! – Тот покачал головой. – А мы надеялись его обрадовать.
– Обрадовать? Чем?
– Мы привезли его жену и ребенка, – Хельги обернулся и указал на молодую женщину в кривском платье, что стояла в двух шагах за его спиной.
На ее довольно миловидном, но замкнутом от волнения лице отражалась смесь смущения и решимости.
– Жену? – Эльга вновь вытаращила глаза. – Аськи?
Эта новость поразила ее. Может, кто-то из родичей и упоминал, что Асмунд прямо перед отъездом из отцовского дома успел привести туда жену. Но поскольку это было далеко и не важно, то в памяти Эльги не задержалось.
Мистина рядом заливисто просвистел, выражая насмешливое изумление:
– А я подумал, это твоя жена…
* * *
Из Плескова в Киев приехало много народа. Кроме воеводы Торлейва с целым выводком младших домочадцев явился княжич Белояр Воиславич – наследник отцовского стола и двоюродный брат Эльги, Гремислав Доброзорович – дядя Уты по матери, и другие плесковские мужи нарочитые. Белояра с его людьми пригласили в гостевые избы княжьего двора, остальных, как ближайшую родню своей снохи, забрал Свенельд. Как полагается после долгой дороги, все они со своими отроками сперва отправились в баню – больше ради обычая, поскольку помыться успели перед приездом в стольный город, в Любече.
– Вернись потом! – шепнула Эльга Мистине, когда он собрался вести родню жены к себе.
Поглядев на радостную встречу Уты с отцом и прочими и оставив ее хлопотать, Мистина возвратился на княжий двор. Эльга, уже в простом сером платье и переднике, с засученными рукавами стояла возле выложенной камнем печной ямы. Челядь зарезала бычка, приготовила тушу и заложила печься, чтобы поспел к завтрашнему пиру в честь плесковского посольства. Эльга держала, прижав к груди, туесок с солью: распоряжаться этой драгоценностью она не доверяла никому.
Увидев свояка, она кивнула ему на жилую избу. Там сидел Ингвар, уже снявший тесный кафтан, чтобы зря не париться на жаре. Вбежала Эльга, поставила туесок на полку над столом и требовательно взглянула сперва на мужа, потом на Мистину:
– Что делать будем?
– О чем ты?
– Об этой Аськиной жене!
Взбудораженная приездом родни, Эльга раскраснелась и беспокойно вертела в руках ложку. Но неприятная новость съела половину ее радости от встречи. Вот ведь незадача!
– А что? – хмыкнул Ингвар. – Аська молодец! Дитя заделал, а нам ни слова.
– Ута знала, – припомнил Мистина. – Она когда-то говорила…
– И ты молчал? – накинулась на него Эльга.
– А что я должен был говорить? – Он перешел на грубоватый оборонительный тон, которым разговаривал с княжьей четой без чужих ушей. – Ну, девка. Ну, чадо. Мало ли у кого где чада бегают? У меня у самого вон…
Но тут Мистина мельком глянул на помрачневшего побратима и осекся: им тут не стоило обсуждать случайно заделанных детей.
Эльга отметила: похоже, Ингвар куда ближе к сердцу принимает то, что его сын родился у чужой жены, чем Мистина – то, что у его жены родился не его ребенок. Сама она изводилась бы от негодования, если бы Ингвару родила сына какая-то чужая женщина. Пытаясь подобного избежать, она заставила его перед свадьбой раздать младших жен оружникам. Еще не зная тогда, что дитя Ингвара зреет в чреве ее собственной сестры.
– Ну, жена, и что? – заговорил Ингвар. – Подумаешь! Пусть живет, чем она тебе мешает?
– Дело в том, что мы собирались посватать Аське Чернигостеву внучку! – приподняв брови, Мистина вопросительно глянул на Эльгу.
– Истину глаголешь! – Эльга ткнула ложкой в его сторону. – Теперь, когда мы – князья, а Володейка – сестра княгини киевской, мы не можем только дать черниговским невесту и не взять у них другой взамен! А кому жениться – в семье только Аська был жених! Мои родные братья еще молоды, твои братья далеко…
– Ну, и пусть женится! – Ингвар не понимал затруднения.
– Звездочада не пойдет в дом, где уже есть водимая жена, да еще с дитем! С сыном! Эту Пестрянку дядя Торлейв принял в семью, у них законный брак, а не так… на Купалиях под кустом полежали. – Эльга постаралась не заметить ухмылку Мистины, выражавшую полное понимание предмета. – Чернига нам откажет. И тогда мы даже Володейку не сумеем туда выдать, потому что теперь мы можем только обменяться невестами! Моя сестра останется без жениха! Получится, что ее зря везли через весь белый свет!
– А давай этого, Хельги женим, – предложил Ингвар. – Раз уж его кудесы принесли нам на голову. Хоть польза будет от родственничка.
– Э нет! – воскликнул Мистина. – Он еще себя не показал, мы не знаем, что он за человек и достоин ли такой невесты! И можно ли ему доверять.
– Хельги – побочный сын, – напомнила Эльга с досадой. – Мой отец на его матери… совсем никак не женился. Он даже о нем не знал. Даже имя в честь Одда Хельги мать не имела права ему давать. Девушка хорошего рода за него не пойдет. И что теперь делать, я вас спрашиваю?
Ингвар и Мистина переглянулись. Они о многом думали по-разному, но сейчас Ингвар высказал их общую мысль:
– Знаешь, эти бабьи дела ты сама как-нибудь разбирай. Подумайте с Утой. А у нас своих забот по горло! – И резко провел ладонью под подбородком.
* * *
– Я не пойду! Не пойду ни на какой пир! – твердила Пестрянка, собрав все силы, чтобы не плакать. – Чего мне там делать! Там одни князья! А я кто! Даже му… мужа моего здесь нет!
– Ну и что, что нет? – пыталась утешать ее Ута. – Ты – Аськина жена, мы все это признаем. Я сама кому хочешь скажу, что ты его законная жена – я ведь еще была дома, когда вы пришли после Купалий, помнишь?
– Но там одни бояре! Я не привыкла… мне нечего надеть!
Хельги рассмеялся: даже лучшие из женщин иногда портят себе жизнь из-за глупостей. Ну кому какое дело – что надето на красивой, крепкой молодке, при виде которой любому мужчине хочется, чтобы на ней не было надето вовсе ничего? Но не стал говорить ей этого, не желая смущать еще больше.
– Тебе нужно привыкать! – уговаривала невестку Ута. – Если ты будешь жить в Киеве, тебе придется часто ходить на пиры. Я очень рада, что ты теперь здесь – я, как видишь, не могу сейчас много Эльге помогать, а ей очень не хватает рук для хозяйства. Аська поставит себе двор, и ты будешь хозяйкой там, но Эльге все равно помогать придется – пока они не наберут побольше челяди. Скоро ты освоишься.
– Но нельзя же так – приехать, и сразу на пир! Там все небось в платье греческом – а я в поневе сяду!
– Я дам тебе платье. Греческое. И ожерелья дам. Пойдем. Покажу тебе, что у меня есть.
Когда Мистина вернулся домой, жену и ее родичей он застал в девичьей – так на Свенельдовом дворе называлась изба, оставшаяся после покойной Держаны, где сейчас обитали челядинки и многочисленные приемные дети Уты. Пестрянка стояла посередине в греческом платье, которое Уте когда-то подарил свекор. На желтом поле были вытканы красные птички, вставшие клювиками друг к другу, а отделкой служили узкие полосы красного шелка с черным узором, нашитые по вороту, рукавам и подолу. Не привыкшая к такой роскоши Пестрянка застыла, как травяная Леля, разведя руки в стороны, и на лице ее отражалась готовность снова заплакать. К тому же платье, сшитое на невысокую, щуплую Уту, Пестрянке было коротко, узко в плечах и тесно в груди, и оттого она чувствовала себя в нем вдвойне неловко.
– О боги, ну, что это! – восклицал Хельги. – Фастрид, ну, ты же смелая! Эта женщина, – обратился он к Уте, показывая на Пестрянку, – не боится ходить одна в самый темный лес, где живет самая страшная ведьма, хозяйка мертвых!
Он не понял, почему хозяйка дома вдруг переменилась в лице.
– Как ты ее зовешь? – раздался от двери голос Мистины.
– Я не могу выговорить ее имя, – признался Хельги, повернувшись. – И называю ее Фастрид. Немного похоже звучит. И ей подходит – она такая красивая!
– Вижу, ты очень подружился со своей невесткой.
– Это очень хорошая женщина. Толковая, добрая и честная. Асмунду повезло с женой. Надеюсь, он оценит это, когда приедет.
– Конечно, оценит! – Ута в это время держала на коленях двухлетнего племянника. – Такой сынок прекрасный! Кто же такому не обрадуется, правда? Свенельдич, ты чего такой хмурый?
Она заметила, что муж смотрит на все это без улыбки, а на глазах у него уже хорошо знакомые ей невидимые заслонки: так бывало, когда он не хотел выдавать своих чувств.
– Оставьте ее в покое, – мягко посоветовал он. – Ничего удивительного, если женщина не привыкла к Киеву и толпе чужих людей и ей не хочется на княжий двор, где все будут на нее глазеть. И едва ли люди хорошо посмотрят, если она станет ходить по пирам без мужа. Пусть поживет спокойно, привыкнет. А когда Асмунд вернется… я так понимаю, он еще только должен дать имя этому дитяти?
– Ну… Он даст ему имя, это же его дитя, – Ута смущенно взглянула на Пестрянку. – Никто в этом не сомневается. Мой отец… и мать тоже. Просто… Аська же никогда его не видел.
– Ладнее выйдет, если муж и отец увидит их первым. А не вся толпа бояр. Тем более что ее привез не Асмунд, а другой мужчина. Да люд киевский такие сплетни о нашей семье распустит, что языки себе вывихнет. Зачем нам эта морока?
Пестрянка опустила глаза. Рослый молодой воевода с надменным лицом ее смущал, к тому же она чувствовала исходящее от него недоброжелательство. А Ута никак не могла понять, отчего ее муж так нелюбезен с родней: она-то знала, каким приветливым он может быть. Когда считает нужным.
– Уж конечно, Эльга ей обрадуется, – не очень уверенно произнесла Ута и взглянула на мужа.
У нее упало сердце: пользуясь тем, что Пестрянка на него не смотрит, Мистина коротко, но неумолимо качнул головой.
* * *
Перед пиром Эльга от волнения почти не спала ночь: то беспокоилась, что бычок пропечется плохо, то ей снилось, что пироги не удались и хлеб оказался мокрый и липкий внутри, а то – что гости мигом все съели и сидят за пустыми столами, а ей больше нечего подать! Она встала на ранней заре, сама разбудила челядь и погрузилась в хлопоты. Уже гости стали собираться перед закрытыми воротами, когда за ней пришла Добрета и спросила: изволит ли княгиня одеваться?
Эльга опомнилась: вот-вот гости потянутся, а она бегает тут в волоснике и переднике! Метнулась в избу умываться. Белый шелковый убрус лебедем раскинулся на постели, платье ждало на крышке ларя. Эльга торопливо расстегнула сорочку, спустила ее с плеч на пол – чтобы не порушить уложенные косы под волосником, вышла из нее, обтерлась влажным концом рушника, и так же надела другую, свежую. Думала ведь заранее, чего наденет, но теперь все валилось из рук, подвески-заушницы цеплялись друг за друга, ожерелья путались, нужное обручье куда-то запропало. Даже в груди похолодело – кикиморы унесли?
Ингвар из гридницы дважды присылал паробков, но вот наконец княгиня явилась: в голубом греческом платье с серебряными крестами – давнем подарке Мальфрид, – в белом убрусе, с моравскими узорными подвесками на шитом золотом очелье. Свои воеводы и оружники уже стояли в гриднице вдоль своего стола, когда отроки начали вводить гостей. Под приветственный гул рогов Торлейв, Хельги, Белояр и их плесковские родичи прошли в распахнутые ворота и через двор. В гриднице перед очагом их ждали хозяин с хозяйкой: Эльга подала окованный серебром рог с пивом сперва Торлейву, как старшему своему родичу, и он выпил за здоровье князя и княгини. Потом отрок вновь налил пива, и теперь Торлейв подал тот же рог Ингвару, и тот выпил за гостя.
Плесковичей усадили на верхнем краю гостевого стола, ближе всех к хозяевам, потом стали запускать и рассаживать остальных. Бояре привели жен, но со Свенельдова двора из женщин не пришел никто: Уте из-за беременности, а Володее – как невесте не стоило показываться чужим людям. Эльга мельком отметила: Асмундовой жены тоже нет, видимо, та не захотела идти одна с мужчинами. И хорошо. Только этой поневы кривской ей тут в гриднице и не хватало!
За вечер Эльга вспомнила Пестрянку: подругами они не были, но, как ровесницы, всю жизнь ходили на одни и те же посиделки и девичьи игрища над Великой. Однако то было давно и на другом краю света. Здесь и сейчас все стало совсем иначе.
За длинными столами устроились киевские бояре, окрестные старейшины – в том числе Радовек и Белянец, не желающие даже смотреть друг на друга. Подчинившись княжьему суду, Радовек изгнал Загребу и тем сохранил право появляться на пирах, жертвоприношениях и советах, но держался обособленно, и люди его сторонились. Зато Беляница с тех пор проживала среди Эльгиной челяди: спустя несколько дней после суда ее привел сам отец, сказав, что люди косятся нехорошо. Так что Эльга осталась в выигрыше, приобретя пару умелых рабочих рук для хозяйства.
Паробки подносили Ингвару караваи хлеба, а он, стоя во главе стола, принимал их и отсылал гостям, начиная от самых знатных; получив хлеб, каждый вставал и кланялся хозяину:
– Спасибо за хлеб, за соль, за кашу, за милость вашу!
– Не за что, богов благодарите! – отвечал молодой князь старикам, годившимся ему в отцы.
И в то же время никто не усомнился бы, что он занимает место во главе стола по праву. В таких случаях его ничем не примечательное лицо принимало выражение сосредоточенности и уверенности, намекая на скрытую силу, что важнее красоты и статности.
Потом понесли блюда со всякими закусками: вареными и печеными яйцами, соленой и копченой рыбой, вяленым и жареным мясом, соленым и копченым салом, грибами. Эльга пошла вдоль стола с серебряной круглой чашей заморской работы, где была насыпана соль; каждому гостю она отсыпала немного на стол перед ним, те снова благодарили. Угощение с общих блюд брали кусками и клали перед собой на стол или на ломоть хлеба. Белянец и Радовек повздорили, не желая есть с одного блюда; к счастью, старый Избыгнев вмешался и пристыдил их – и князя, и богов обижаете!
Ингвар, как хозяин, первым поднял братину – за богов и предков, после чего пустил ее по кругу.
– Если мы будем пить за каждого из моих предков с самого начала, то лучше бы вода в Днепре превратилась в пиво! – сказал он. – Мы ведем свой род от Одина, а Один – от великанов. Их мы тоже не забудем, но помянем сейчас тех, кто указал роду новую дорогу и принес новую славу.
– Надо понимать, ты говоришь об Олеге Вещем? – спросил Хельги. – Ведь здесь, в Кенугарде, он первым из вашего рода – то есть рода твоей жены и моего – получил власть.
– Мы считаем Олега Вещего основателем рода русских князей в Киеве, – кивнул Ингвар. – Его здесь почитают и русь, и поляне. И раз уж к нам приехали его самые близкие родичи… Это для нас большая честь – принимать его родного брата Торлейва… Я жалею, что мне не довелось повидаться с отцом княгини… Но хотел бы, чтобы они, Олег и Вальгард, из Валгаллы тоже услышали, как мы их почитаем. Слава павшим!
Не отличаясь большим красноречием, киевский князь, тем не менее, знал, что хочет сказать. Благополучно добравшись до конца речи, он поднял братину к кровле.
– Слава руси! – во весь голос рявкнул Мистина, и дружина привычно подхватила:
– Слава!
– Слава Олегу Вещему!
– Слава!
– Слава роду Олегову!
– Слава!
– А теперь тише! – повелительно добавил Мистина. – Послушаем, как Олег Греческую землю воевал.
Полянский боярин Гордезор был среди тех, кто почти тридцать лет назад ходил с Олегом на Царьград. Средний его сын, Борелют, умел играть на гуслях и пел на пирах славления витязям былых веков. Песнь об Олеге была довольно новой: ее сложили участники похода вскоре по возвращении, и у них ее позднее перенял Борелют, примерно в те годы и родившийся.
Как пошел князь Олег в царство Греческое, Собирал себе дружинушку хоробрую: Он одну дружину взял – из Полянской земли, Он другую-то взял – родом кривичи, А и третью взял – мужей русских, киевских. И пошел он на конях, на конях да кораблях, А числом кораблей да две тысячи. К Цареграду он пришел да и с моря в Суд вошел, Затворились греки в городе да накрепко. Перекрыли Суд да цепью железною, Не пойти на кораблях, не проехати…Из участников того похода в живых оставались лишь трое. Стемид и Лидульв кивали на каждую строчку, будто подтверждая: все так и было. Точнее, так они рассказывали, и так новые поколения будут об этом знать.
И пошел Олег на берег, стал кругом воевать, Все палаты попалил, года на дым пустил. И полону-то набрал многи тысячи. Повелел Олег поставить на колеса корабли, Побежали корабли мимо города, Дуют ветры в паруса, ветры буйные, Гонят лодьи по земле, будто по морю.За три года в Киеве Эльга слышала эту песнь уже не менее десяти раз: большие княжеские пиры никогда без нее не обходились. Она уже помнила все слова, но всякий раз слушала с волнением. Звонкий перебор гуслей, красивый, полный чувства голос Борелюта проникали в самое сердце и там рождали звонкое эхо. Удивительно: она ведь женщина, какое ей дело до войны и дружинных песен? Однако, выросшая близ отцовских отроков, она привыкла считать их дела своими, и теперь ей казалось, что она сама была там, в Царьграде, вместе со своим дядей и его отроками. Или он еще звал их хирдманами? Однако песнь сложили на славянском языке, и это было еще лучше. Это означало, что Полянская земля тоже приняла пришлого варяжского вождя в свое сердце. Может быть, потому, что он был первым, кто указал привыкшим сидеть на месте славянам дорогу на широкий простор.
Увидали его греки, испугалися, Испугалися они да и взмолилися: Ты возьми-ка себе дань, сколько надобно, Не губи ты только нас, землю Греческую. Как послали ему греки хлеба, мяса и вина, Да не стал то есть Олег – то отравлено. И сказали тогда греки: сильно мудр князь Олег, Он хитер да умен, духом вещим наделен. Как прибил Олег свой щит ко воротам золотым, И пошел домой по морюшку по синему…В песни еще долго перечислялись богатства, захваченные Олегом в Греческом царстве и полученные как дань: цветное платье, паволоки, вино, оружие, кубки и всякое узорочье. Эльга невольно глянула на свое платье: ну и что, если за тридцать лет шелк немного вытерся? Ведь и ее платье было свидетелем славного похода, доказательством того, что каждое слово в песни – правда. И сердца слушателей сами были в эти мгновения будто кораблики под цветными шелковыми парусами, что неслись по морюшку по синему навстречу красному солнцу своей славы. И каждый, не исключая и Эльги, готов был умереть за то, чтобы сохранить эту славу и приумножить.
– Мы очень рады видеть, что память моего брата так почитают в его владениях, – заговорил Торлейв, когда певец закончил и смолкли радостные крики. – Но нам очень хотелось бы узнать, как все же вышло, что его родной внук был принужден покинуть эти края и лишился власти, которую ему передал сам его прославленный дед.
И вот тут, даже до того как Ингвар и Мистина успели переглянуться и последний успел открыть рот, Эльгу пронзило холодом предчувствие: плесковская жена Аськи – далеко не самое худшее, с чем приехали родичи.
* * *
Остаток вечера гости слушали Мистину. На гуслях он не играл, зато умел изложить внешнюю сторону событий так гладко, что о внутренней никто бы и не догадался. Не в пример королеве Сванхейд, плесковским гостям было вовсе незачем знать, откуда взялись страхи, весной приведшие к народному возмущению.
– От этих христиан один вред, – сказал княжич Белояр, когда Мистина закончил. – Навья вера! Заморочат голову так, что и своих чуров забудешь. Вот Олега и наказали боги! Пусть едет к себе на Мораву, у своих чуров прощения просить. Я же от имени отца моего, князя плесковского Воислава Судогостича, и всего рода нашего тебе, Ингорь, и жене твоей желаю долгих лет править и здравствовать, а с нами, родичами вашими, жить в мире и согласии!
– Да будет жив князь Воислав! – крикнул Мистина.
– Будет жив! – разноголосо завопили за столами русы и поляне.
Бельша был явно доволен. Мать Эльги – Домолюба Судогостевна – приходилась Воиславу родной сестрой, поэтому с новой киевской княгиней плесковских Судогостичей связывало теперь очень близкое родство. С покойным Вещим же они состояли всего лишь в свойстве через Эльгиного отца, поэтому не видели причин жалеть, что внук того, Олег-младший, убрался с киевского стола. Остаток вечера Бельша и Ингвар обсуждали торговлю с греками и хазарами. К тем и другим уже были посланы люди – условиться об обмене посольствами для заключения новых торговых договоров.
– И чтобы уж совсем ничто дружбы нашей не порушило, предлагаю вам еще… – Ингвар глянул на жену, словно спрашивал: пора? Эльга торопливо кивнула, и он продолжал: – Еще одну свадьбу сыграть! У меня в Хольмгарде сестра есть, девица, в самой поре, и красавица. У тебя, я слышал, есть еще младший брат неженатый. Не хочешь ли посватать за него?
– Вот это уважаю! – радостно завопил Бельша и полез через стол обниматься. – У нас ясный сокол, как говорится, у вас серая уточка! Надо бы нам их вместе свести…
Эльга глянула на Мистину; он поймал ее взгляд и подмигнул украдкой. И именно в этот миг она поняла, как он напряжен и с каким трудом поддерживает веселое и любезное выражение не только на лице, но и в глазах. Эльга сама чувствовала, какой неживой выглядит ее улыбка. Она видела, что Торлейв и Хельги не разделяют общего веселья, почти не подают голоса, а на объятия будущих сватов смотрят мало что не с неприязнью. А на нее саму совсем не смотрят. Пока они молчали, но до сих пор, не считая положенных приветствий, им еще и не дали вставить слова. Что будет, когда они заговорят? Эльга едва сдерживалась, чтобы не ерзать на месте от беспокойства.
Но вид довольного братца Бельши ее успокаивал. Князья северных кривичей подтверждают союз и даже готовы добавить еще одну родственную связь. Альдис выйдет замуж в княжескую семью и, может быть, когда-нибудь станет княгиней – если Бельше наследует его младший брат Судимир. Будет выполнено обещание, которое Мистина дал женщинам Хольмгарда, и Сванхейд останется довольна своим сыном, которого едва не отвергла.
Пьяные гости уже принимались за песни, Борелют снова заиграл, кое-кто пошел плясать между столами. Мистина еще раз ей подмигнул, будто призывал быть повеселее. Потом двинул бровями и коротко кивнул, словно призывая к чему-то. И Эльга сообразила: встала и вышла из-за стола.
– А ну разойдись – дай княгине место! – с задором закричал Мистина и свистнул.
Народ с гомоном подался в стороны, и Эльга вышла на середину палаты, где всем было ее видно. Борелют заиграл плясовую, и она закружилась под веселые крики, свист и хлопки. Вился белый шелк убруса, мелькал и блестел голубой с серебром шелк далматики. Все смотрели только на нее; старейшины хлопали, отроки ревели от восторга, так что с кровли едва не сыпались щепки. Никто не замечал замкнутых лиц ее родичей по отцу, и ни о каком разговоре по делу сегодня больше не могло быть и речи.
Когда княгиня наконец махнула рукой Борелюту, чтобы перестал играть, и он оборвал гудьбу, она с трудом дошла до места. В ушах звенело, голова кружилась, и Эльга едва слышала восхищенные крики вокруг себя. Ингвар обнял ее, поцеловал раскрасневшуюся щеку, усадил, подал греческий кубок с медом.
– Ну, гости дорогие, поклонимся хозяину с хозяюшкой, да не пора ли нам спать-почивать! – с видом усталости от веселья прокричал Мистина.
Ему отвечал согласный гул и разноголосые выражения благодарности. Столы уже выглядели как поле битвы – кости и лужи пролитого пива. Кто-то остался допивать остатки в бочонках, кто-то прижал в углу челядинку, кто-то валялся под столом, кого-то отроки поспешно выводили на воздух. Пир закончился.
Но даже когда Торлейв и Хельги подошли обнять Эльгу на прощание, тревога ее не утихла. На лице ее сводного брата играла все та же слегка размытая улыбка, способная означать что угодно, но своего дядю она знала хорошо и теперь видела: он смотрит на нее так, будто она его разочаровала. Чем? Уж не тем, что пироги невкусные или сплясала плохо! Торлейв остался единственным из поколения отцов, и эта неловкость на его лице резала ее, будто нож. Предстоящая ночь не сулила отдыха.
* * *
Дурные предчувствия Эльги оправдались в полной мере. На другой день после пира, поближе к вечеру, когда все пришли в себя, а челядь отчистила гридницу, Торлейв и Хельги снова явились на княжий двор. Вместе с ними пришел Гремислав и другие плесковские старейшины: дело их непосредственно не касалось, но исход его мог иметь очень важные последствия и для Плескова тоже.
– Пришло время нам поговорить, родичи, – сказал Торлейв.
Вид у него был недовольный, но решительный. Таким Эльга видела его в те дни, когда хоронили ее отца и обсуждали возможность отомстить за него. Отец Уты был человеком мирным, но никогда не уклонялся от обязанностей чести, которые на него налагал знатный род.
В гриднице собралась, помимо родичей, только ближняя дружина: никого из бояр не звали. Единственной женщиной была княгиня; ей очень не хватало Уты, но она даже не просила беременную сестру прийти. Мистина, само собой, сидел по правую руку от своего отца, неподалеку от Ингвара. Обычно Свенельд занимал второе почетное место напротив хозяйского – старая Олегова гридница была устроена еще по северному обычаю, – но сегодня уступил его Торлейву. Последний оставшийся в живых родной брат Вещего киевлянам казался кем-то вроде духа-вестника, живой связью с ушедшим великаном. И все уже понимали, что весть будет нерадостная.
– Я буду, князь Ингорь, говорить с тобой прямо, – начал Торлейв под устремленными на него десятками пристальных взглядов. – Киев, Полянская земля, Деревлянь, Северянь и прочее, чем владел мой брат Одд, является наследством нашего рода.
– Я помню время, когда ты думал иначе, – вставил Свенельд, когда Торлейв умолк, подбирая слова. – После смерти Одда Хельги, когда Олег-младший ехал ему на смену, вы долго не могли найти другого заложника для Хольмгарда. А почему? – Он подался вперед. – Потому что вы с твоим братом Вальгардом отказались считать себя причастными к здешним делам вашего брата Одда. Никто из вас не поехал в Хольмгард, не послал своих сыновей.
Свенельд был крупным мужчиной – от него Мистина получил высокий рост и даже несколько его превзошел. В чертах лица между отцом и сыном тоже виднелось подобие, но и здесь, благодаря красавице матери, Мистина имел явное преимущество. Сломанные и свернутые носы у обоих выглядели как проявление семейного сходства, хотя это вышло случайно. На середине пятого десятка Свенельд уже наполовину поседел, на правой руке у него не хватало двух пальцев, но железный взгляд глаз цвета запыленного желудя, весь его облик источал силу и угрозу. Вместе отец и сын смотрелись как два великана, стражи всемирья – один близящийся к закату, другой идущий ему на смену.
– В то время у Одда Хельги, моего дяди, имелся родной внук, которого он сам признал своим наследником, – возразил Хельги Красный. Он говорил на северном языке, ибо его славянский был недостаточно хорош для таких важных предметов. – Поэтому братья Одда не стали вмешиваться в его наследственные дела, и на то время они поступили весьма мудро! – Он кивнул своему дяде.
– Ну, и что с тех пор изменилось? – с мрачным и отчасти вызывающим видом спросил Ингвар.
Все в том же красном кафтане с синей отделкой, из-за жары расстегнутом до пояса, он сидел на резном престоле киевских князей и казался недавним отроком, что забрался сюда по недосмотру настоящих хозяев. И лишь цепкий взгляд давал понять, что место это он считает своим и никому не уступит.
– Изменилось все! – Хельги Красный повернулся к нему. – Мы все здесь мужчины, нам ни к чему околичности. Вы сделали так, что власть ушла от рода Одда Хельги, которому она принадлежит по праву, в род Ульва из Хольмгарда, который не имеет на Кенугард и Полянскую землю никаких прав.
– Очень странно слышать такое! – возразил Мистина. – Особенно от вас, родичи Одда Хельги! Князь Ингвар женат на родной племяннице Одда! И в то время, когда Олег-младший совместно с вами, Торлейв, с тобой и твоим братом Вальгардом, искали заложника для Хольмгарда, вы нашли именно ее! Ведь я прав, Торлейв? Давайте позовем сюда Острогляда, Честонега, Себенега. Стемид вот он здесь! – Мистина кивнул старику, сидевшему в самом конце почетного ряда. – Они были при этом, они служили послухами при обручении Ингвара и Эльги в год смерти Одда. Они подтвердят, что именно она, дочь Вальгарда, тогда еще маленькая девочка, оказалась единственным членом Оддова рода, который взял на себя всю тяжесть по соблюдению договора! И раз уж так вышло, что Олега-младшего отвергла русская дружина и Полянская земля, Эльга – единственная, кто имеет право на наследие Вещего. А значит, и ее муж Ингвар.
– Моя племянница – лишь часть своего рода, – ответил ему Торлейв. – Мы согласились отдать ее в Хольмгард и тем выкупили свое право на наследство. И если теперь оно утратило хозяина, то не может достаться ей одной. Она – женщина, она принадлежит мужу, и с ней все достояние Вещего ушло в род Ульва. Сын ее Святослав – наследник рода Ульва. Мой брат Одд проклянет вас и нас, если мы так оставим это дело!
– Чего же ты хочешь? – воскликнул Ингвар, будто ничего разумного при таком положении дел хотеть было невозможно.
– Кроме Эльги, у моего брата осталось еще пятеро племянников. Мужчин. И если уж его родного внука вынудили убраться отсюда, новый князь должен быть избран из них.
– Йотунову хрень ты несешь, Торлейв, – прямо отрубил Свенельд. – А я тебя считал умным человеком. Это наш город. Наша земля. Всем этим владеет наша дружина, и никого, кроме Ингвара, она не примет. Ингвар – признанный всей русью князь. Как ты собираешься с ним бороться? Да тебя и твоих щен… племянников здесь и не знает никто, кроме родни.
– Не знает – так узнает! – с вызовом возразил Хельги. – Достойный человек всегда сумеет себя показать.
– Ну уж не ты! – осадил его Свенельд.
– Почему не я? – Хельги встал и слегка наклонился вперед, упираясь руками в бедра.
Свенельд открыл рот, но тут Эльга вскочила и вскрикнула:
– Нет!
Ей не полагалось подавать голос, но нетрудно было догадаться, что воевода сейчас скажет и что за этим последует. Перед глазами ее все промелькнуло в один миг: сейчас Свенельд ответит, что Хельги – ублюдок, незнакомый со своим отцом, тот вызовет его на поединок, а драться вместо отца выйдет Мистина, как более подходящий по возрасту… Дело нешуточное, они попытаются убить друг друга – и у кого-то из двоих непременно получится!
Все воззрились на нее, а она горячо продолжала, пытаясь предотвратить губительный раздор хотя бы в последний миг:
– Не надо! Свенельд, ведь это моя родня! Но вы… – Она обернулась к дяде и брату: – Вы тоже не правы. Не совсем правы. Ингвар – наследник не только Вещего. Он еще наследник своего отца. Его мать, королева Сванхейд, признала его преемником Ульва. Хольмгард принадлежит ему. А значит, весь Путь Серебра собран в одних руках. Впервые! Вы только подумайте, какие выгоды это обещает! Даже Вещий не имел таких огромных владений!
– Мы слышали, как Ингвар собирал земли, – кивнул Хельги. – Мы ведь ехали сюда через Ловать. И моя сестра Ута, когда я здесь познакомился с ней, подтвердила: Ингвар убил тамошнего конунга Ди-вис-лейва, – он постарался выговорить это имя как можно правильнее, – захватил ее и детей в плен и привез сюда. Захватил все имущество и подчинил тот край, посадил своих людей и обязал платить дань.
– Именно так! – подтвердил Мистина. – И это еще одна часть Пути Серебра, которая теперь принадлежит Ингвару.
– Я понимаю, почему ты на его стороне, – Хельги смерил его взглядом, будто собираясь сказать гадость. – Ведь он отдал вдову Дивислейва в жены тебе…
Мистина слегка прищурил глаза и резко втянул воздух через ноздри; у Эльги перехватило дыхание. Если Хельги сейчас что-то ляпнет насчет ребенка, драка все-таки будет. И хорошо, если как поединок по закону, а не прямо здесь, за княжьим столом. Этому она уже не в силах помешать, и хорошо, если обойдется без убийства. А они ведь близкие родичи!
– Так что ты выиграл от этого дела, – продолжал Хельги, и у княгини немного отлегло от сердца: судя по его лицу, самого главного он все же не знал. – Но мы, ее родичи, на это дело смотрим иначе.
– Как вы на это смотрите? – жестко спросил Мистина, явно еще не отказавшийся от мысли силой заставить его замолчать.
– Моя сестра Ута была законной женой Дивислейва и королевой в его владениях. А что она получила в наследство?
– Она получила все, что принадлежало ей! – ответила Эльга, уже поняв, к чему Хельги клонит. – Свое приданое, всех своих людей, все имущество, которое назвала своим!
– Наша сестра – скромная женщина, – Хельги повернулся к княгине, и в лице его промелькнула нежность. – К тому же в то время она была совершенно убита и подавлена смертью любимого мужа и гибелью людей, ей было не до того, чтобы отстаивать свое имущество, и рядом с ней не случилось никого из родичей, кто мог бы защитить ее права. И потребовать выкуп за убийство ее мужа, как водится у достойных людей. Но теперь все иначе. Раз уж ты, Ингвар, женился на сестре Уты и она с тобой в близком родстве, тебе тем более не годится ее обижать. Нам, как ее родичам, надлежит потребовать, чтобы ты передал ей половину всего, что получаешь с бывших владений Дивислейва.
Ингвар невольно глянул на Мистину. Даже тот растерялся: как нынешний муж Уты, он не мог возражать против ее обогащения, но ему самому не пришло бы в голову требовать этого от князя. Земли Дивислава были захвачены с бою, Ута попала в плен вместе со всем его домом, а потом Ингвар подарил ее Эльге. Какое наследство у пленницы?
– Ута – моя жена, и я не нахожу уместным обсуждать здесь дела моей жены, – холодно произнес Мистина, давая понять, что даже ее кровной родне больше незачем лезть в это. – И ты напрасно свернул на эту дорогу, когда мы говорили о державе русов. Ингвар, сын Ульва, владеет Хольмгардом и северной частью Пути Серебра. Как муж своей жены и вождь своей дружины, он владеет Киевом и южной частью этого пути. Вся русь, все подчиненные нам славяне, получат огромные выгоды от того, что все это принадлежит одному человеку и на пути от Бьёрко до Болгарского царства меха и серебро не встретят никаких препятствий. Если вдруг исполнятся ваши желания и на киевский стол сядет кто-то из вашего рода, Путь Серебра опять окажется разорван. Этим вы погубите все, чего добился Вещий. Ни русь, ни славяне не пожелают этого.
– В этом есть истина, – к удивлению Эльги, Хельги улыбнулся. – Но все же будет уместно, если ты, Ингвар, оставишь себе престол в Кенугарде, а нам, роду Одда Хельги, возместишь то, что мы из-за тебя потеряли.
– Возмещу? – Ингвар взглянул на него с вызовом. – Это как я вам возмещу?
– Об этом у нас еще будет время поговорить. Мы хотим дать тебе время подумать, что ты готов ради этого сделать.
– А если я подальше пошлю ваши «уместные требования»? – Выражение лица Ингвара не оставляло сомнений, что именно так он и намерен поступить.
– Тогда, – Торлейв встал, – род Вещего отречется от киевской княгини. Посмотрим, понравится ли всем вашим людям, если вы лишитесь его удачи. И долго ли после этого здесь продержитесь.
* * *
– И этот троллев ублюдок, сын какой-то датской шлюхи из гавани, будет меня попрекать, что я украл Киев у этого рохли, их родственничка! – орал Ингвар, красный от негодования. – Ему какое дело? Ему здесь все равно ничего не светит, а ведет себя так, будто он законный сын самого Вещего! Да Вальгард саму Хель попользовал – у нее же половина морды красная! Вот и сын в нее пошел!
Эльга лежала на постели лицом вниз, прячась в подушку и для верности зажмурясь. Даже не замечала, как давят в грудь крупные наплечные застежки. Она почти бегом прибежала в избу, надеясь, что дотерпит и никто из дружины не увидит, как она разрыдается. Но слезы почему-то не шли, зато в груди стояла боль, мешая дышать. Сквозь гул в ушах она слышала, как Мистина почти силой втолкнул Ингвара в избу: киевский князь был в ярости и знать не желал, что его кто-то может услышать.
Когда три года назад Эльга впервые приехала в Киев, в ней сразу увидели наследницу Вещего. Плохо знакомые с их родом даже считали ее дочерью покойного князя. Русь и поляне верили, что Эльга унаследовала не только удивительный цвет глаз, но и удачу своего дяди; выказав ум, решительный склад, мудрость, редкую в столь юном возрасте, она подкрепила свое право на уважение.
И вот это благословение у нее хотят отнять! И кто – родной ее дядя, отец Уты, родной брат Вещего! Дружина у Торлейва была невелика, жил он далеко отсюда, но, как глава рода, и впрямь мог лишить Эльгу самого дорогого ее наследства.
– Это все он, угрызок с красной рожей! – бушевал Ингвар. – Торлейв сам воды не замутит. Три года назад ничего ему было не надо – ни Киева, ни наследства ловацкого. Даже волхва своего вонючего вам плесковичи простили. А теперь – гляди! Доходы с Ловати! Киев он хочет!
– Еще выкуп за убийство Дивислава не забудь, – подсказал Мистина.
– Ты, что ли, с меня спросишь? – Ингвар взял его за кафтан на груди и тряхнул.
Притом что князь был ниже своего побратима на голову и, красный от злости, смотрел на него снизу вверх, на посторонний взгляд это могло бы показаться смешным. Но Эльге было не до смеха. Она наконец села на постели, надеясь вздохнуть полегче, сбросила убрус с очельем и подвесками.
– А насчет доходов с Ловати – это он хорошо придумал, – усмехнулся Мистина. – Чего я за так его отпрысков кормлю – у меня их полон двор! Как курей везде толчется – иду всякий раз, наступить боюсь.
– Я их вам подарил – не хочешь кормить, так сожри с потрохами!
– Мы должны что-то дать им, – сказала Эльга, и оба побратима, вдруг осознав ее присутствие, обернулись к ней. – Моим родичам. Торлейву и Хельги. Я не хочу, чтобы мой род меня проклял.
Ингвар и Мистина молча смотрели на нее. Как женщина из рода Вещего, она вдруг оказалась в числе их врагов, но в ней же заключались и права Ингвара на Киев. Они будто пытались понять, к какому же стану отнести эту женщину: к своим или чужим.
– Что-то дать… – проворчал Ингвар и снова сделал такое движение, будто хотел сплюнуть. – Клюя пернатого им в рыло! Это можно. Это у меня есть.
– Мы тревожились, что из-за Мальфрид нас проклянет твоя мать! С ней обошлось, и теперь вот с тем же приходит мой дядя! Я уже боюсь, что это место проклято! Кто сюда ни сядет…
– А вы что думали? – перебил ее Мистина. – Власть над таким местом, как Киев, задаром никому не дается. Думаешь, Вещему тут все на рушнике поднесли, и рук марать не пришлось? Тебе рассказать, как все было?
– Но мы должны как-то откупиться, в этом Хельги прав! Мы не можем просто… ограбить мою родню, они тоже родня Вещего!
– Эльга! – Мистина оглянулся на побратима и сделал шаг к ней. – Пойми, мы ничего не можем им дать. Получив хоть хрен поросячий, они захотят еще и еще. А чем больше они будут получать, тем больше у них прибавится силы. Чем больше они откусят от нашей… вашей державы, тем слабее она станет. И в конце концов все полетит к бесам и кудесам.
– Из какой задницы вылез этот твой братец ёкнутый! – выругался Ингвар.
– Откуда вылез, туда и назад залезет, – обронил Мистина.
Эльга взглянула на него. Потом торопливо выбралась с лежанки и подбежала к нему.
– Ты что… даже не думай! – Подойдя вплотную, она в ужасе уставилась ему в лицо. – Свенельдич! Я все знаю!
– Что ты знаешь?
– Что вы… как вы все это устроили… с Олегом… Я знаю, на что ты способен! И эти трое упырей в твоей дружине… Ты… не трогай моего брата! Не смей!
Мистина закаменел лицом; глаза его похолодели, взгляд закрылся.
– Молчи! – Видя, как дрогнули его губы, Эльга подняла руку, будто желая закрыть ему рот. – Не надо ничего мне говорить. Но не смей трогать моего брата! Какой он ни есть – он сын моего отца!
– Он сын какой-то датской шлюхи! – крикнул Ингвар. – У него небось еще десять таких отцов!
– Нет, ты не прав, – Эльга скривилась, сдерживая слезы. – Он… похож на моего отца. Ты никогда его не видел и не можешь судить, а я вижу. Вы просто совсем не знаете друг друга. Мы договоримся. Я поговорю с ними. Ута нам поможет.
– И что Ута об этом думает? – Ингвар взглянул на Мистину. – Торлейв же ее отец!
– Йотуна мать… я не знаю! – с досадой признался Мистина и отвернулся от Эльги. – Они там все жужжали о своем… о родственном… я прислушивался одним ухом, но все о чадах больше…
– Прохлопал ты твоим ухом, Долговязый!
– Да я ж здесь с тобой сижу день и ночь, Рыжий! К себе домой зайти некогда!
– Ладно! – Ингвар махнул рукой. – Ступай к себе домой, ночью ты мне здесь не нужен.
– Только бы, о боги, не убить бы там никого! – Мистина с мольбой возвел глаза к кровле. – Они же родня моей жены… и у меня в гостях, йотунов ты свет!
Когда за ним уже закрылась дверь, Эльга вдруг что-то вспомнила и побежала следом.
– Свенельдич!
Он обернулся на пути к конюшне. Махнул рукой своим отрокам, чтобы седлали и выводили. Эльга догнала его, схватила за рукав и потянула в сторону, где их не могли слышать.
– Свенельдич! Ты ездил летом в Хольмгард. Ингвар тоже обидел свою сестру. И ты говорил, что Сванхейд не больно-то хотела ему это простить. Теперь вот оказалось, что я обидела своих братьев. Что ты сделал? Что ты говорил Сванхейд, как ты ее убедил?
Она смотрела ему в лицо, будто ожидала, что сейчас ей откроются тайны древних волхвов, способные поправить дело. Мистина глубоко-глубоко вздохнул, потом бережно взял ее за локти.
– Эльга! – вполголоса, но со всей возможной убедительностью произнес он. – Я тебя уверяю: ты не хочешь знать, как я уговорил Сванхейд. И Рыжий не хочет. Поэтому даже не заговаривай с ним об этом. Понимаешь?
– Нет, – помолчав и честно попытавшись, призналась Эльга. – Но ведь это то же самое. Ингвар чуть не поссорился со своей родней из-за этого дела, я – со своей. Почему ты не хочешь помочь?
– Это здесь не поможет. А что касается до твоего ёкнутого братца… Ты сознаешь, что он копает под тебя? И под твоего сына. Он опасен. Для тебя, Ингвара и Святки. И пока мы думаем, что с ним делать, ты подумай, кто из них тебе дороже и насколько. Чтобы, когда пришло время решать и выбирать, ты могла сделать это быстро. Много времени не будет.
Глава 7
Вернувшись с княжьего двора, Хельги застал Пестрянку в слезах. Мужская часть приезжих жила в гостевой избе, но Хельги, как и в Варягине, любил проводить время возле женщин, а после каждой отлучки заходил их проведать.
– Вижу, тебя все тянет к женщинам, – утром насмешливо сказал ему Мистина. – Хотя на вид тебе уже больше семи лет.
– Я не допускаю мысли, что ты сомневаешься в своей жене, – ответил Хельги на то, что воевода имел в виду, чем несколько того задел. – Но даже если бы было так, я ведь ее близкий родич. Ты сам так много времени проводишь у князя и княгини, и должен же хоть кто-то не давать твоим женщинам заскучать.
Торлейв и Гремислав сразу отправились отдыхать, а Хельги все же зашел в девичью избу. Здесь обреталась хозяйка с младшей сестрой, девушками-воспитанницами и детьми (младшие уже спали), а Пестрянка сидела в углу на большой укладке с запасами полотна и рыдала. Рядом лежал скомканный рушник: платка оказалось недостаточно. При виде Хельги Пестрянка отвернулась.
– О боги, кто ее обидел? – Тот, еще не остывший после приятной беседы в Ингваровой гриднице, повернулся к Уте.
– Это я виновата, – смущенно вздохнула хозяйка. – Не надо мне было говорить… Я не хотела… Как-то само вырвалось… Она сама сказала…
– Что сказала?
– Ас… Асм… – попыталась ответить ему Пестрянка, но судороги в горле не давали ей говорить.
– Что с ним такое? – встревожился Хельги, поняв, что та пытается вымолвить имя мужа. – Дурные новости?
– Да это уже давно, – вздохнула Ута. – Эльга хочет ему сосватать внучку воеводы черниговского. Уже почти договорились, осталось обручение объявить. На эту осень свадьба Володеи назначена, – она оглянулась на младшую сестру, с расстроенным видом сидевшую в другом углу, – Эльга и хотела одну невесту на другую обменять. Аська же здесь жил парнем холостым, то у нас ночевал, то в гриде у Ингвара, со всеми оружниками. А рода он хорошего, и с тех пор как Эльга княгиней сделалась, ему уже такая жизнь стала не к лицу. Ингвар его к грекам с посольством отправил, вернется – из отроков в бояре выйдет.
– Само собой, я понимаю – ни родом, ни рылом мы не вышли! – заговорила Пестрянка, резко втягивая воздух и сглатывая. – Она вон какая – в красном платье греческом, в серебре вся! Я сама ее едва узнала на пристани, а она меня и подавно не помнит! Я знала… Вот потому он про меня забыл… Он себе воеводскую дочь искал! Кто я перед ней? Греческого платья сроду я не нашивала и не думала даже! Куда мне против этих всех…
Пестрянка провела в Киеве три дня, а казалось – три месяца. Но самого Киева совсем не видела, потому что ни разу не покидала Свенельдова двора. Золовка, Ута, приняла ее и дитя очень хорошо, обещала сводить погулять по горам, покататься в лодке по Днепру. Пока мужчины ходили к князю, женщины сидели дома. Зато у них нашлось время обо всем поговорить. При таком обилии детей в доме Уте все время приходилось что-то шить, Пестрянка сразу вызвалась ей помочь. Привычная работа успокаивала: можно было и не вспоминать, что за стенами этой избы не Варягино, а стольный город далекой Полянской земли. При родичах Ута невольно вернулась к выговору северных кривичей, и за беседой с ней Пестрянка ощущала себя почти как дома.
Если бы только не богатство избы, в которой они сидели: шелковые покрышки на лари, желтые и зеленые чаши, кувшины, миски и блюда – из белой глины, покрытые тоненьким слоем цветного стекла. Ута сказала, что это из земли Греческой. Особенно она любила один кувшин: с нежно-зеленой поливой, с нарисованными с двух боков бело-желтыми птичками. Лучины водилось только в избе для челяди, а в хозяйском жилье вместо них были бронзовые литые светильники, в которых горело масло, или желтые палочки из воска с ниткой внутри – свечи, тоже греческие. Ларцы и лари, отделанные медью и резной костью, наверняка были полны разных сокровищ. Но Ута держалась так просто и дружелюбно, будто не придавала всему этому никакого значения.
Не то что ее муж. Оба воеводы – молодой и старый – внушали Пестрянке страх. Свенельд, которого она иногда видела во дворе, казался ей медведем в берлоге: не тронь его, и он не тронет. Зато Мистина был будто голодный волк, что нарезал круги возле приезжих и искал себе поживы. На нее, Пестрянку, он смотрел такими холодными оценивающими глазами, будто прикидывал, сколько шелягов за нее дадут.
Княгиня ей тоже не понравилась. Конечно, это красивая женщина, но в их мимолетную встречу на причале Пестрянка успела заметить: Эльга вовсе не готова распахнуть ей объятия только потому, что она жена ее двоюродного брата. Или потому, что еще три года назад они вместе гуляли в венках над Великой, провожая русалок.
И к тому же Асмунда не оказалось и в Киеве! Пока она добиралась к нему сюда, он ехал за Греческое море! Что же ей – всю жизнь за ним гоняться? – негодовала Пестрянка про себя поначалу. Пока не узнала, что пропавший муж тем временем готовится к другой свадьбе.
– Перестань! – Хельги подошел ближе, сел на укладку и обнял ее. – Кроме платья, ты ничем не хуже любой знатной женщины, а платье – дело наживное. Вот заставим мы Ингвара поделиться добром – я сам куплю тебе пять греческих платьев!
– Каким добром поделиться? – не поняла Ута.
– Тем, что осталось от твоего первого мужа, – Хельги обернулся к ней, не снимая руки с плеча Пестрянки. – Ингвар убил его, забрал все его имущество, а тебя просто выдал замуж за своего человека, без выкупа и возмещения.
– Что ты говоришь? – Ута опешила.
События той осени помнились ей как сплошной ужас, но к зиме все наконец устроилось и с тех пор шло хорошо. К Ингвару она испытывала благодарность за то, что ее участь все же оказалась не в пример лучше, чем у других женщин в подобных обстоятельствах; к Мистине – за то, что он никогда не давал ей повода вспоминать все это. И вдруг какой-то выкуп?
– Я тебя прошу – не надо всего этого ворошить! – Она с мольбой сжала руки. – Все же наладилось. И у меня, и у Эльги. Бельша и вуй Гремята тогда приезжали, три года назад, обо всем договорились.
– Ингвар платил выкуп за похищение невесты? – Хельги подался вперед, сцепив пальцы между колен.
За те месяцы, что прожил в Варягине, он подробно выяснил все события за последние решающие годы. Тогда его целью было лишь войти в семейный круг, приобщившись к общей памяти, но теперь, когда перед наследниками Вещего вдруг возникла необходимость бороться за свои права с родом Ульва, ум Хельги напряженно искал зацепки, нащупывал оружие, которое можно направить против соперников. Родившийся и выросший в многолюдном вике, куда каждое лето приезжали тысячи людей с разных концов света, он наслушался всякого и научился видеть связь и смысл событий.
– За похищение? – не поняла Ута. – Какой невесты?
– Но он же похитил Эльгу – руками своего человека, то есть твоего нынешнего мужа. Ее ведь сначала хотели выдать за Дивислейва с Ловати?
– Родичи приехали и договорились с Ингваром… – стала припоминать Ута. – А выкуп… нет, об этом разговора не было…
– Но тогда получается, что их брак незаконный! – Хельги хлопнул себя по коленям. – Она наложница, а не княгиня!
– Нет, нет! – Ута даже привстала в испуге. – Что ты! Вместо выкупа Ингвар отомстил за Вальгарда! Он с самого начала это предлагал!
– С какого начала?
– Ну… Когда Свенельдич только к нам в Варягино приехал и предложил возобновить обручение Эльги с Ингваром.
– То есть еще до того, как она была похищена?
– Конечно… – Ута приложила пальцы к вискам, пытаясь точно вспомнить ход событий. – Она тогда считалась невестой Дивислава. Приехал Свенельдич… в тот самый день, когда мы узнали, что дядя Вальгард погиб. С Наровы привезли его тело… в тот самый день, я помню. А Свенельдич говорил с моим отцом и предложил ему: вы возобновите обручение Эльги с Ингваром, а мы взамен поможем вам отомстить за Вальгарда.
– Это Ингвар в Киеве дал ему такое поручение?
– Ингвар, Олег Предславич и Мальфрид, все вместе. Тогда ведь еще Олег был здесь князем.
– Но откуда они знали, что за Вальгарда понадобится мстить, если вы сами узнали только в тот же день, как твой будущий муж уже приехал! – Хельги даже вскочил, но снова сел.
Все в нем вспыхнуло от пронзительной догадки, сердце забилось, кровь закипела. Пестрянка, уже забывшая плакать, смотрела на него во все глаза.
– Он… – Ута хмурилась, изо всех сил пытаясь вернуться мысленным взором в тот суматошный и горький день. – Свенельдич предложил помощь, когда узнал, что Вальгард погиб.
– То есть раньше он не знал? – с явным недоверием уточнил Хельги.
– Нет, конечно, как он мог знать такое?
– И решился обещать месть от имени своего вождя?
– Ну, да.
– Не много ли он взял на себя? А если бы Ингвар не захотел? Ведь сосватать девушку в мирное время – это одно, а если за невестой дают в приданое долг кровной мести – совсем другое!
– Но… – Растерянная Ута пыталась взглянуть на дело его глазами.
В те дни ей, молоденькой девушке, не пришло в голову задуматься о границах полномочий, которые Ингвар вручил своему побратиму, а позднее она узнала, что эти границы достаточно широки, чтобы оправдать даже такое.
– Но Ульву и раньше было очень нужно, чтобы это обручение возобновилось. Разрыв его опозорил. Снова получить Эльгу для всего их рода означало вернуть честь. Неудивительно, что Свенельдич так ухватился за случай, когда нам понадобилась помощь. Он перед этим ездил в Хольмгард и виделся с Ульвом.
– Виделся с Ульвом… – повторил Хельги.
Оглянулся на замершую Пестрянку, взял ее руку, сжал, будто подбадривая, и снова обратился к Уте:
– И как же Ингвар выполнил свое обещание? Он отомстил?
Ута задумалась.
– Это, кажется, сделал сам Ульв… Еще пока мы все были на Ловати… То есть я и Ингвар… В ту же осень. Он… мы собирались ехать в Киев… Ингвар съездил к отцу в Хольмгард. Вернулся дней через десять и привез мечи тех викингов с Наровы. Оказывается, еще летом, сразу, как Свенельдич увез Эльгу, он с Ильменя послал Ульву весть, и тот вместе с Хаконом ладожским вышел в поход. Еще только пока Свенельдич вез Эльгу в Киев, а я выходила за Дивислава, Ульв и Хакон уже разбили тех викингов. Но мы об этом узнали только поздней осенью. А отец узнал зимой, когда Бельша и Гремята вернулись из Киева. Да! – Она вздохнула с облегчением, поняв, что вспомнила все. – Так и было. Спроси у Свенельдича, он-то лучше помнит эти дела. Да, а где он?
Сообразив, что еще не видела мужа, Ута оглянулась на дверь.
– Остался у князя. Я вижу, он у них там как будто живет, – усмехнулся Хельги.
– Они выросли вместе и всегда заодно.
– Но мне незачем у него что-то спрашивать. Ты так хорошо все рассказала, – Хельги благодарно улыбнулся Уте.
Когда он улыбался, особенно в разговоре с женщинами, его лицо становилось таким мягким и располагающим, что те очень быстро забывали о его родимом пятне и предавались ему всем сердцем. Даже Мистина так не мог: в его взгляде на женщин сквозь снисходительное пренебрежение просвечивало тайное любострастие, поэтому при нем они держались настороженно. Чтобы выдержать его взгляд, требовались смелость и самоуверенность. Но мягкая улыбка Хельги говорила: я люблю вас такими, какие вы есть, и рядом со мной вы в полной безопасности! Поэтому женщины, при первом взгляде на него пугавшиеся, уже скоро готовы были сами предложить ему все, чего бы он ни пожелал. При таком обхождении был бы любим и человек с еще менее привлекательной внешностью.
– Не грусти, Фастрид! – прежде чем идти спать, Хельги снова приобнял Пестрянку. – Положись на меня, и скоро у тебя все будет. И твой муж, и греческие платья, и еще много всего…
Пестрянка молча склонила голову ему на грудь. В ее нынешней странной жизни Хельги был кем-то вроде божества, которому она поневоле вручила свою судьбу.
* * *
Наутро Эльга едва дождалась времени, когда княгине уместно ходить в гости, пусть даже к сестре. Тревога не давала ей спать. Весь вчерашний вечер ей казалось, что все это какое-то нелепое недоразумение. Но потом Мистина сказал ей как есть. «Хельги копает под тебя и твоего сына. Он опасен». Эти слова и прояснили ей мысли, и ужаснули.
Однако знала она и другое. Мистина тоже опасен. Олег Предславич уехал из Киева живым – после того как оправился от сильного удара по голове, который в случае неудачи мог бы его и убить. А другим людям, мешавшим ее свояку, повезло и того меньше. И если он сочтет, что Хельги представляет угрозу…
С весны, со дня переворота, Эльга постоянно помнила, что они с Ингваром стоят на тонком льду. Дружина вознесла их на престол, поляне смирились, а прочие многочисленные данники и узнают о перемене только зимой, когда с полюдьем к ним придет уже другой русский князь. Взять власть не так трудно, как удержать. Они должны не обмануть ожиданий всех, кто имеет влияние на людей. Но сейчас, пока Ингвар даже не сходил в полюдье и не заключил новые договора, их положение очень шатко.
– И так будет еще лет несколько, – сказал ей как-то Ингвар. – Готовься.
– Я готова! – ответила она тогда.
Но кто же мог знать, что первый бой им придется выдержать с собственными родичами! После переворота, когда Олег Предславич и Мальфрид уехали на запад, Ингвар вдруг сообразил: а ведь они могли поехать на север, к Сванхейд, и обвинить его, поступившего с ними так не по-родственному. Если бы Сванхейд приняла сторону дочери, последствия для Ингвара могли бы быть самыми тяжелыми. Мать могла бы проклясть его, лишить права на отцовское наследство – и тем наполовину убить его как киевского князя. Никому об этом не говоря, Ингвар испугался. И поручил уладить дело с матерью Мистине – как ни мало ему хотелось расставаться в это трудное время со своей правой рукой, – потому что только его уму, верности и ловкости мог довериться.
Но Эльга никак не ждала нападок от собственной родни. Последний брат Вещего жил далеко, от притязаний на киевское наследство отказался много лет назад, и казалось, можно с ним не считаться. Ингвар прав: во всем виноват Хельги. Без него дядя Торлейв спокойно принял бы перемену. А Хельги просто не знает, с кем столкнулся и чем ему это грозит. Он не знает, кто такие Сигге Сакс, Требимир Кровавый Глаз и Ама Савар. А она время от времени видит их на Свенельдовом дворе и помнит: для этих людей нет ничего недозволенного.
Да нет же, успокаивала Эльга сама себя по дороге. Хельги – двоюродный брат Уты, шурин Мистины. Тот не поднимет руку на родича. Сам Хельги не может желать зла сестрам, и они как-нибудь договорятся. В этом Эльга очень рассчитывала на помощь Уты: эти двое не могут не прислушаться к ней, когда одному из них она – сестра, а другому – жена.
Однако княгиня проехалась напрасно. Оказалось, что Хельги уговорил Уту покататься по Днепру: взяв всех женщин и детей дома, посадил в три лодьи с гребцами и увез смотреть горы. И Торлейва позвал с собой. Эльга была разочарована и даже растерялась: почему же родичи не позвали и ее? Не так уж ей хотелось смотреть на горы – насмотрелась за три года, – но неужели теперь и Торлейв, и Хельги, и даже Ута не желают ее видеть? Родичи пригрозили ей, княгине киевской, разрывом, и уже избегают ее, даже не получив ответа? Не ждала она такого от своего доброго дяди, улыбчивого Хельги и тем более преданной Уты!
Повидала Эльга только Свенельда, но и тому было недосуг с ней говорить: близилась пора собирать древлянскую дань, и Свенельд готовился со своей дружиной выступать в ежегодный поход по Ужу и Тетереву.
Огорченная, она вернулась домой и тут узнала новость. Из Витичева прискакал гонец: возвращается Ранди Ворон, ездивший с товарами в хазарский Самкрай, и на днях будет в Киеве.
* * *
Весть о возвращении от хазар послов и купцов была столь важна, что даже вытеснила из мыслей Эльги раздор с родичами. Ранди Ворон с другими купцами возил в восточную часть Греческого моря дань, которую собирали прошлой зимой еще люди Олега Предславича: меха, лен, мед и воск. В том направлении князья руси и полян не сбывали свою дань уже лет тридцать. Когда вода в Днепре по весне стала подниматься выше, что позволяло легче пройти пороги, Вещий добился от греков заключения торгового договора и с тех пор сбывал дань им, платя десятину, а не две, как хотели хазары. Но сейчас пришлось вновь обратиться к каганату: пока у нового русского князя не заключен новый договор, греки пустят лодьи с товарами не дальше заставы Иерон на Босфоре. Торговать с хазарами было невыгодно, но пока у Ингвара не имелось другого выхода. На нынешний год приходилось смириться с убытками: умудренные опытом воеводы, купцы и бояре единодушно посоветовали ему это. Да и сам Ингвар не мог долго ждать. Заключение договора с греками – дело не быстрое: пока туда-сюда съездят посольства, пока все обсудят и утвердят – может и три года пройти. Однако и спешить с договором он не хотел: ведь дружина сделала его князем, надеясь на военный поход. За минувшие тридцать лет в селениях и монастырях на Босфоре завелись новые золотые кубки, шелковые одежды и прочие сокровища. А во владениях руси выросло новое поколение храбрецов, жаждущее завладеть всем этим. Поэтому неторопливость греков была Ингвару даже на руку.
Но для похода требуются деньги. Это в семейных преданиях какой-нибудь дядя Грим ушел за море с одним топором за поясом и отвагой в сердце, а вернулся с добром на трех кораблях. Чтобы он попал за море, вождь должен дать ему еще щит, копье, посадить на корабль и снабдить припасами. А это все не дается просто так.
Эльга с большим нетерпением ждала, когда ей привезут выручку от продажи дани – первые деньги ее княжения. Она прямо видела эти груды серебряных шелягов – крупных, с узором из пляшущих червячков. Говорят, что это не червячки, а сарацинские буквы, и там написано, при каком князе деньги чеканены, но Эльга ни разу не видела человека, который мог бы эти значки прочесть. О цветном платье и разном узорочье, что Ингвар ей обещал, она даже не думала. Пока еще ей важнее всего было знать, что она сумеет прокормить дружину хотя бы до ухода в полюдье.
Гонцом оказался хорошо ей знакомый человек – Мангуш, сын Ранди Ворона. Сам Ранди был полудатчанином, уроженцем Хольмгарда, а сыном обзавелся от полонянки-степнячки. Среднего роста, но очень крепкий и мускулистый, с выпуклой грудью и сильными руками, от матери Мангуш унаследовал смуглую кожу и черные брови. Не красавец, он отличался живой повадкой и располагающим выражением лица. Не имея законных детей, Ранди посвящал его во все дела и уже давно брал с собой в поездки.
Эльга вошла, когда Ингвар и Мангуш были вдвоем.
– Йотуна мать! – услышал она еще на пороге, и затем Ингвар хватил кулаком по столу; два поливных греческих бокала так и подпрыгнули.
– Что случилось?
– Эй, дверь закройте! – крикнул Ингвар отрокам на крыльце. И пояснил, когда Эльга подошла к столу: – Не будет денег! Ранди все добро назад везет.
Эльга села, где стояла. Не будет денег! Пробрала холодная дрожь.
– Почему? – спросила она в ужасе от мысли, что и хазарские торжища оказались для русов закрыты.
– В Самкрае запросили четыре десятины за то, чтобы продать все там, и пять – за право проехать дальше, – пояснил Мангуш. – Отец посоветовался с людьми, и они решили, что это нечестное предложение.
– Шли бы они в задницу с такими предложениями! – прорычал Ингвар. – Поняли, клюи узкоглазые, что к грекам нам сейчас ходу нет…
– Что мы будем делать? – в растерянности спросила Эльга, еще не в силах поверить в такое несчастье.
– Что? На днях Ранди приедет, соберем людей, будем решать. Мангуш, скажи там во дворе, чтобы за Свенельдичем послали кого-нибудь.
* * *
От князя Мистина вернулся, задумчиво и по виду беззаботно посвистывая. Узнав новость, он посоветовал Ингвару отправить Мангуша назад с приказом Ранди не везти товары в Киев, а оставить пока на хранение в Витичеве – чтобы городу не бросилась в глаза неудача, пока они не придумают, как быть. Но сам Ранди должен был приехать на днях, и Мистина хотел поговорить с отцом, чтобы тот до сбора совета тоже успел обдумать положение дел.
К этому времени двор оживился: Ута со всей толпой детей и родни вернулась с прогулки по Днепру. Зайдя оставить кафтан, Мистина обнаружил в избе любезного братца Хельги. И тот обернулся к нему с таким видом, будто именно его и ждал.
– Хотел бы я поговорить с тобой, родич, если будет на то твоя воля, – очень вежливо сказал Хельги.
– Немного позже, – Мистина стянул через голову полураспашной кафтан и бросил на ларь. – Сейчас мне надо поговорить с отцом.
Беседа много времени не заняла: пока Мистина мог сообщить Свенельду только самую суть. Когда он вернулся, Хельги все так же ждал его – в одиночестве. Перед уходом Ута поставила на стол пиво в своем любимом зеленом кувшине и два стеклянных греческих бокала, тоже нежно-зеленых и почти прозрачных.
– А где жена?
Мистину не прельщала возможность остаться с Хельги наедине. Болтать о пустяках у него сейчас не было желания, а о тех делах, что обсуждали в гриднице, он дома не заговаривал, дабы не поссориться с родичем и гостем.
– Ушла в девичью. Я попросил ее уйти, потому что нашей беседы никто не должен слышать.
Хельги не просто так с утра увез всех кататься: ему нужно было поразмыслить над добытыми сведениями, зная, что Ута за это время не повидается ни с сестрой, ни с мужем. И теперь он чувствовал себя во всеоружии.
– Вот как? – Мистина сел за стол напротив Хельги. – У нас с тобой завелись тайны?
– Ты весьма проницателен. Речь и правда пойдет о тайне. Но она не моя.
Хельги замолчал, многозначительно глядя на Мистину. Все еще думая о хазарских товарах, тот отметил с недовольством: похоже, Хельги опять собирается морочить ему голову своими притязаниями. И к тому же вооружился той мнимой любезностью, к которой Мистина нередко прибегал и сам, и это его раздражало.
– И чью же тайну ты хочешь мне поведать?
– Ты знаешь ее. Это тайна Ингвара и его отца, Ульва из Хольмгарда. Ничего не приходит на память?
Мистина на миг стиснул зубы, стараясь подавить досаду. Ингвар прав: на шею им навязался родной сын самой Хель.
– У сведущих людей немало разных тайн. Но у нас с тобой не так много времени, чтобы играть в загадки. Чего ты хочешь?
– Самую малость. Я хочу всего лишь рассказать княгине Эльге, что она лишилась отца по вине своего мужа и его отца.
Мистина не сразу поверил своим ушам. Но Хельги слегка кивнул, будто подтверждая: да, именно это я сказал. У Мистины плеснуло холодом в груди, но он сумел усилием воли не перемениться в лице. За три года он почти забыл об этом деле – сколько с тех пор случилось более громких событий! – и сейчас даже сразу не сумел оценить размер опасности.
– Что за чухня? – с внешним спокойствием спросил он, еще надеясь, что это и впрямь какой-то вздор, за которым ничего не стоит. – Кто тебе наболтал?
Ту сагу знало не так-то много людей. Знал Ульв – он умер. Сванхейд – она не могла выдать такое чужому человеку. Олег и Мальфрид – они давно уехали и Хельги с ними не виделся. Ранди Ворон – он тоже вернется лишь завтра и Хельги никогда с ним не встречался. Никто не мог рассказать ему об этом!
– Не волнуйся, твоя жена не выдавала мне этой тайны, – улыбнулся Хельги, пристально глядя на него.
– Она не… – Мистина едва удержался, чтобы не сказать «она не знала», но потянулся за кубком и успел подобрать другие слова, – не имеет, я надеюсь, привычки выдавать другим тайны, которых не знаю даже я.
– Вчера мы заговорили о выкупе, который Ингвар должен твоей жене за убийство ее первого мужа. Не правда ли, как удачно для тебя все сложилось, – снова улыбнулся Хельги, – ты получил такую прекрасную жену, родство с моим дядей Оддом, а еще и право на выкуп за убийство.
– Я уже сказал тебе: дела моей жены касаются меня, а не ее родичей.
– А оказывается, мы должны предъявить вам гораздо больше, – пропустив это мимо ушей, продолжал Хельги. – Оказывается, и мой отец отправился в Валгаллу не без вашей помощи.
Небрежность, с которой он тоже придерживал стеклянный кубок вытянутой по столу рукой, была лишь кажущаяся. При видимой расслабленности он готов ко всему. Даже к внезапному броску. Хельги уже представлял, как это будет выглядеть: когда Мистина в гриднице обозначил готовность к драке, Хельги, тоже человек опытный, уловил знак, но не понял, что было тому причиной. Хозяин дома сидел перед ним в сорочке, при нем не было даже поясного ножа, не говоря уж о настоящем оружии, но Хельги не сомневался: тот сумеет убить и голыми руками.
Но не у себя же дома, за своим столом!
– Ты поверг меня в большую тревогу… – раздумчиво произнес Мистина и постучал кубком по столу. – Оказывается, у моей жены имеется сумасшедший брат. Надеюсь, безумие у вас не в роду и оно не скажется на моих детях.
– Напротив, ты можешь себя поздравить с удачным родством, – засмеялся Хельги. – У твоей жены есть удивительно умный брат, способный увидеть истинный смысл событий, которые происходили у всех на глазах. Надеюсь, ваши дети вырастут не глупее.
– Нет, если пойдут в меня. Я-то пока не смекаю, о чем ты говоришь.
Хельги смотрел ему в глаза и видел будто две железные заслонки: Мистина не давал проникнуть в свои чувства. Уже это говорило о неискренности, но первая попытка вывести его из себя не удалась.
– Несколько лет назад Ульв из Хольмгарда опозорил себя, и потому мой отец расторг обручение моей сестры Эльги и Ингвара. Так?
– Это было очень глупое дело, – Мистина усмехнулся. – Ульв конунг принял в дом не того человека, но гостеприимство и готовность защищать своих гостей ему не поставишь в вину. И все ведь понимали, что для Вальгарда этот вздор насчет похлебки из пса был лишь предлогом взять назад свое слово. Ему сделали более выгодное предложение, и он забрал назад уже проданный товар.
– Тем не менее, Ульв очень хотел возобновить обручение. И именно тебе поручили съездить к нему и уговорить Вальгарда заключить его заново.
– Это правда, – Мистина кивнул.
– Кто дал тебе это поручение?
– Князь Олег, его жена Мальфрид и сам Ингвар. Мальфрид не хотела отсылать своего сына в Хольмгард – он всегда был хворым, она боялась, что на севере он не выживет. Может быть, это слабость, но только каменное сердце попрекнет мать единственного сына. И обрати внимание: со смерти Одда Хельги тогда прошло уже восемь лет, а в вашем роду по-прежнему не нашлось никого, кроме этой девушки, кто принял бы на себя долг по этому договору. Я удивляюсь, что Торлейв сейчас решается чего-то требовать от нее!
– И получилось так удачно, что ты приехал с этим поручением к Торлейву в тот самый день, когда привезли тело моего отца, убитого на Нарове какими-то викингами с Готланда, которые почему-то решили поискать добычи в этом пустынном бедном краю.
– Видно, в других местах им повезло еще меньше.
– А ты ведь перед этим ездил к Ульву?
– Да.
– Зачем?
– Ингвар поручил мне проведать, как живут его родители и семья. – Мистина слегка двинул бровями, дескать, обычное дело.
– И Ульв посоветовал тебе ехать к моему отцу, дескать, теперь тот станет более сговорчив?
– Ульв согласился, что женить сына на красивой девушке – более достойный путь соблюсти договор, чем отрывать от матери семилетнего, слабого здоровьем ребенка.
– Но он знал, что Торлейву и Вальгарду понадобится военная помощь?
– Йотунов ты свет, да откуда он мог это знать? – Мистина по виду начал терять терпение.
– Он мог это знать, если сам и направил этих викингов на Нарову. Желая, чтобы у моего отца возникла потребность в военной помощи.
– Ты понимаешь, что нарываешься на обвинение в клевете? – Мистина подался ближе к Хельги, положив кулаки на стол.
– А когда ты увез девушку, ты сразу послал об этом весть Ульву?
– Может быть. Не помню. В этом какое преступление?
– Ровно никакого. Но Ульв немедленно снарядил войско и разбил тех викингов. Еще не зная, удастся ли тебе довезти девушку до Кенугарда, не отнимут ли ее у тебя по пути, согласятся ли ее родичи признать брак…
– Некая угроза была, – Мистина кивнул с отчасти горделивым видом. – Но я верил в себя и не ошибся.
– Для Ульва и Хакона ладожского это было очень неверное дело – их люди могли сложить головы в бою за чужие выгоды, а брак ведь мог еще и не состояться.
– И что?
– А то, что у них – по крайней мере, у Ульва, – была причина желать, чтобы эти викинги как можно скорее отправились в Валгаллу. У Одина за столом они могут болтать что хотят, но на земле от них ни один человек не должен был узнать, кто их направил на Нарову. И, возможно, заплатил? Ведь так?
– Мне-то откуда знать, кто их направил! – с возросшей досадой воскликнул Мистина.
– Ты можешь пойти к присяге, что не знал этого? – Хельги подался к нему.
– Да! – без колебаний отрезал Мистина.
– Но это значит лишь то, что тебе не очень-то доверяли!
Мистина шумно выдохнул и огляделся. В напряжении он не мог сообразить, как вести себя, чтобы хотя бы не подтвердить подозрений Хельги. Сам он был в том деле невинен, как дитя; он ничего не знал определенно, но, не в пример Хельги, не хотел знать. А подозревал то же самое потому, что обладал не менее бойким умом и сделал из тех же сведений те же выводы, но на три года раньше.
Он взял со стола зеленый кувшин, заглянул внутрь, допил остатки пива. Хельги внимательно следил за каждым его движением – вполне готовый, что этим кувшином ему сейчас попытаются проломить голову. Но Мистина поставил кувшин на место.
– Ты обвиняешь Ульва в том, что он послал на Нарову тех викингов, чтобы они напали на земли плесковского князя, Вальгарду понадобилась помощь, и он согласился… то есть согласился бы, если бы выжил, а так за него согласился его брат Торлейв, – возобновить обручение Эльги с Ингваром?
– Ты все правильно понял.
– И как ты собираешься этот бред доказать? Кто твои свидетели?
– Из тех, кто мог что-то знать, мне известны королева Сванхейд и сам Ингвар. Раз уж ты готов присягнуть, что ничего не знал, и я готов тебе поверить, поскольку тогда ты был… всего лишь дренгом, не облеченным доверием знатных людей, так? Но если браться за дело как следует, то Сванхейд и Ингвару тоже придется присягнуть.
– Придется? – Мистина в показном изумлении поднял брови. – Кто может заставить таких людей? Ты осознаешь, о ком идет речь?
– О людях, которых родной брат Одда Хельги обвинит в покушении на жизнь его брата Вальгарда. И я, как сын убитого, его поддержу.
На лице Мистины мелькнуло пренебрежение.
– Понимаю тебя, – немедленно откликнулся на это Хельги. – Ты считаешь, что я всего лишь уродливый ублюдок. Пока ты ни разу при мне не сказал этого вслух, мне плевать, что ты думаешь. Но тебе и твоему князю придется иначе взглянуть на дело, когда те же вопросы, что я сейчас, вам задаст княгиня Эльга! Три года назад молоденькой горюющей девушке не пришло в голову связать эти обстоятельства. Но если я расскажу ей все то, что изложил тебе, она ведь тоже захочет узнать, кто виновен в смерти ее отца.
– Не… – Мистина с трудом вдохнул: от негодования стиснуло грудь. – Не смей впутывать в это Эльгу!
– Тебе, я вижу, дорог ее душевный покой. А также, наверное, ты не хочешь, чтобы твой князь потерял жену и с ней все права на Кенугард.
Уже не пытаясь совладать со своим лицом, Мистина прищурил глаза и стиснул зубы.
– Если же Ингвар и его мать откажутся от присяги, то как ты думаешь, какое впечатление это произведет на людей, которым будут известны все обстоятельства? – Хельги тоже прищурился, пристально глядя на него. – Захочет ли Эльга остаться с мужем, если узнает, что ее свадебное пиво родители мужа сварили на крови ее отца?
Мистина тяжело дышал, не находя ответа. Попытки оправдать Ульва лишь углубили бы эту яму.
– А без Эльги чего будут стоить права Ингвара на Кенугард, если все узнают, что он добился их путем убийства родного брата Одда Хельги?
– Ингвар не причастен к этому, – прорычал Мистина. – Он может принести присягу, как и я. Если жена попросит его об этом. Но я думаю, она поверит ему и так!
– Проверим? – Хельги насмешливо прищурился.
– Только посмей сказать ей хоть слово…
– Я знаю мою сестру Эльгу всего несколько дней, но уже полюбил ее всей душой. Такую прекрасную женщину нельзя не полюбить, ведь правда? – Хельги располагающе улыбнулся, словно читал в сердце собеседника и призывал к полному доверию. – Она так красива, умна, искусна во всяком деле, и один взгляд ее дивных глаз проливает блаженство в сердце мужчины, ведь так?
Мистина поднялся на ноги, чувствуя, что его грудь сейчас лопнет. В глазах потемнеет, а потом он очнется, сжимая руками горло трупа. Брата своей жены.
* * *
Наутро Эльга пошла навестить Ростиславу. Та приходилась родной сестрой Олегу Предславичу, то есть была родной внучкой Вещего, и лет десять назад вышла замуж за Острогляда, сына одного из видных киевских боярских родов. За три года жизни в Киеве, не имея здесь другой женской родни, Эльга привыкла советоваться с Ростиславой по поводу разных затруднений, хозяйственных и прочих, где не могла просить помощи у мужчин. После изгнания Олега из Киева Эльге стоило труда сохранить дружбу Ростиславы; муж боярыни был на стороне Ингвара, но сама она горько упрекала захватчиков, покусившихся на законное достояние родни. В те дни Эльга со слезами умоляла ее не сердиться, уверяла, что ничего не знала и не может идти против мужа, раз уж дружина на его стороне. Поделать было уже ничего нельзя, и Ростислава простила ее. И теперь Эльге приходилось советоваться с ней куда чаще прежнего: ведь на ее руках оказалось все бывшее хозяйство Мальфрид при совсем не тех средствах.
Но болтать о неуспехах Ранди Ворона у хазар Ингвар запретил. Говорить о раздоре с родней Эльге не хотелось и самой: она очень надеялась все уладить без огласки. Чтобы отвлечься, заговорила об Асмунде. Хотя при всех сложностях то, что к нему приехала жена из Варягино, когда она сватает ему жену из Чернигова, уже казалось мелочью. Она ожидала, что Ростислава лишь поохает над бедой. Но та, к ее удивлению, ответила иначе.
– Да мало ли таких дел случалось? Прежняя княгиня, – боярыня имела в виду Мальфрид, – при мне два или три раза разбирала. Уж не первый русин твой братец, кто от прежней жены за море уехал да забыл, тут новую сосватал, а вдруг ему старая – как снег на голову.
– Да? – Эльга оживилась. – И что же Мальфрид решала?
– Как ее мать в Волховце научила. Ты бы Свенельда спросила. Либо Ивора, либо Вефаста. Они тоже оттуда родом, знают.
– И чему научила? – Эльга не стала упоминать, что воеводам сейчас не до бабьих страданий.
– Говорила, что у руси есть обычай такой: коли прежняя жена была законная и у нее дети растут, то им надлежит то наследство, от которого муж уехал. Ну, какое у него на родине имение было от предков полученное, то он детям от первой жены отдает. То, что имел, когда та первая жена за него шла. А все, что он в новом краю заслужил, надлежит детям здешней жены. Ну и приданое матери каждый своей получает, как водится.
– Стало быть, Пестрянке и ее чаду причитается наследство Асмунда в Варягине, что там Торлейв имеет. А до того, что он здесь получит, как воевода, им дела нет, так?
– Выходит, так. Ну а ты что думаешь – не захочет он прежнюю жену принять? Может, обрадуется?
– Да с чего б ему обрадоваться, если три года жил, о ней ни разу не вспомнил?
– Может, вспоминал, да сказать не смел.
– Чего ему не сметь: законная жена, по материному повелению взятая. Только сказал бы, мы б ему избу поставили, на обзаведенье дали, она бы приданое привезла, обустроилась. Нет, матушка! – Эльга вздохнула, хотя на самом деле Ростислава приходилась ей не матушкой, а двоюродной племянницей. – Коли муж жену забыл, нечего ему оправдания выдумывать. Придется, видно, ей назад в Варягино ехать. Подождем, что сам Асмунд скажет, но думаю, по твоему совету и сделаем.
– Рада, что услужить сумела. А что-то ты грустна? – Ростислава присмотрелась к гостье. – Может, еще печаль какая на сердце?
– Всякий уход не живет без хлопот, – Эльга улыбнулась. – Сама ведаешь, сколько у меня на руках теперь всего, а кто я сама-то? В мои ли годы княжьим двором править?
– Кому бог заботу послал, тому и силу даст. Так нас отец учил…
Обе тайком вздохнули. Отец Ростиславы, старый князь Предслав, был христианином, что и навлекло на него гибель.
– Я справлюсь, – Эльга заставила себя улыбнуться. – Со мной удача Вещего.
* * *
– Куда она пошла?
– Не знаю. Не сказала.
– Не к нам?
– А ты ж ее по пути не встретил?
– Нет. Ну, слушай. Только не ори! – предостерег побратима Мистина и стал рассказывать о вчерашнем разговоре с Хельги.
Тогда он все же сдержался и не совершил ничего непоправимого. Кивком согласился передать князю все условия Хельги. И после его ухода всего лишь грохнул со всей силы об пол попавший под руку кувшин и потом всю ночь ворочался: тревога и ярость не давали заснуть.
– Короче, он сказал: или мы родичи и вы обходитесь со мной как с родичем, и тогда я не буду открывать глаза обеим вашим женам. А если вы не хотите делиться наследством Вещего, то все узнают, что вы раздобыли его, подстроив убийство его родного брата Вальгарда.
– Да… вот ведь троллев угрызок! – вопреки предупреждению, заорал Ингвар, едва до него дошла суть сказанного. – Йотуна мать! Да я его… да как он… на моего отца…
– Тише ты! – рявкнул Мистина. Даже наедине он редко повышал голос на своего побратима-князя, и тот замолк, поняв, что дело непростое. – А что, если это правда?
Мистина оперся ладонями о стол и наклонился, глядя Ингвару в лицо.
– Ты рехнулся? – От изумления тот даже забыл свой гнев.
Уж от кого, но от побратима он столь оскорбительного поклепа не ожидал.
Мистина отвернулся и сделал несколько шагов по избе.
Ингвар проводил его глазами, потом вскочил и догнал бегом. Схватил за кафтан на груди и тряхнул:
– Что молчишь? Отвечай, йотунов брод! Какая, к троллям, правда?
Мистина отвел глаза. Он хорошо помнил тот день, когда сам заподозрил истину. Но напрямую между ним и Ульвом ничего сказано не было, а делиться с кем-то своими догадками он-то не видел ни малейшей нужды.
– Я не говорю, что это правда. Но это может быть правдой. Единственная, кто может знать точно, – это твоя мать. И Ранди Ворон. А он на днях будет здесь. Нельзя допустить, чтобы об этом деле стали спрашивать Сванхейд. Чтобы Эльга и Ута хотя бы прослышали. Ты представь, если Эльга узнает, что твой отец может быть причастен к гибели ее отца. Что тогда?
Ингвар застыл. Нет, в то время отец не сделал ничего особо ужасного – всего лишь изыскал способ добиться нужной цели. Но достижение цели обернулось ловушкой. Плевать, если Ульв нанял викингов для нападения на плесковские земли – да пусть бы даже прямо для убийства Вальгарда. Но с тех пор как дочь Вальгарда стала женой Ингвара, этот вполне обычный случай превратился в оружие, способное их погубить.
А ведь именно к этому родству Ульв и стремился. Он знал, что закладывает основу страшного раздора между сыном и его будущей женой. Но, видимо, в то время у него не оставалось выбора.
Ульв мертв, и с него не спросишь. Отвечать придется ему, сыну. Ингвару хотелось заорать, сломать что-нибудь, убить кого-нибудь… Перед глазами встало бледное лицо Эльги. Да, он может ей поклясться, что ничего не знал. Но если она и Торлейв будут требовать присяги от Сванхейд… и Ранди… Если дойдет до Олега с Мальфрид и те подтвердят, что Ранди приехал той весной из Хольмгарда и заверил их: дескать, теперь Вальгард охотнее возобновит обручение…
Сокрушительные последствия медленно вставали перед Ингваром во весь рост – будто чудовище всплывало из морских глубин. По жилам разливался холод.
А все этот ублюдок с красным пятном на пол-лица.
– Я его убью… – сквозь стиснутые зубы выдавил Ингвар. – Займись этим, слышишь? Скажи своим упырям: я хочу, чтобы через три дня по Хельги Красному была тризна. Справятся они? У него своей дружины-то пять рыл, подстерегут где-нибудь… Не мне тебя учить, сам придумай.
Мистина молчал.
– Ну? – нетерпеливо крикнул Ингвар.
– Нет.
– Что?
– Нет! – громче повторил Мистина.
– Что за нет, йотунов брод!
– Торлейв знает. Ута… может сообразить, зачем Хельги у нее все это вытягивал. Пока она вроде не думает, но, если с ним что-то случится, может вспомнить.
– Он еще и Уту к этому приплел!
– Она рассказала то, что знали все. Ты сам знал, но не догадывался связать концы, да? А этот угрызок догадался. Умный парень, далеко пойдет.
Ингвар высказался, куда именно Хельги следует пойти.
– Ты со своей как хочешь, а я не допущу, чтобы этот сучий ублюдок моей жене такое на меня наговаривал! Скажи своим упырям, чтобы занялись им, а не то я своих пошлю! Мои тоже справятся.
– Никого ты не пошлешь.
– Это еще почему? – Ингвар снова тряхнул его за грудь. – Ты мне, что ли, запретишь?
– Этот выкидыш – брат твоей жены, – напомнил Мистина, сверху вниз глядя в его горящее лицо. – И моей тоже. Твой отец создал повод для вражды внутри рода. Давай не будем следовать тем же путем.
– Ну и что теперь? Пусть он нас убийцами выставляет?
– Слишком много людей знает, что он требовал от нас поделиться наследством. Если с ним что-то случится, нас сразу и обвинят.
– Придумай что-нибудь! Лошадь его сбросит, или съест что не то…
– Да плевать, от чего он умрет! Все равно люди скажут, что виноваты мы. И он ублюдок, но не дурак! Наверняка Торлейв уже знает все. И если Хельги свернет шею, Торлейв молчать не станет. Ты предлагаешь мне убрать и моего тестя?
– А ты хочешь, чтобы убрали меня? Ведь и сам за мной полетишь к Хель!
– Если пойдет разговор, что мы убрали родича, мы полетим туда же. Забыл – ты же только вот судил Радовекова сына, что брата зашиб! Ты заставил род изгнать мужика за братоубийство, угрожал не допустить на Святую гору. Они изгнали. И все это помнят. Если сейчас пойдет слух, что мы убили родича наших жен, изгонят уже нас. Тут ничьей кровью не отмыться.
– И что?
– Он хочет Чернигину девку в жены и дань с какой-нибудь земли. Тогда обещает молчать.
– Дань он хочет? А клюй пернатый в рыло он не хочет? Я тебе приказываю: вели Требине его заткнуть!
– Нет.
– Так я сам велю!
Ингвар шагнул к двери; Мистина метнулся ему наперерез. В нерассуждающей ярости князь врезал ему кулаком по лицу; Мистина всю жизнь был выше и крупнее его, но никогда Ингвара это не останавливало.
На шум в избу заглянули изумленные отроки с крыльца, но, увидев, что происходит, немедленно закрыли дверь с внешней стороны.
* * *
Эльга ступила под навес над дверью избы; трое гридей на скамье под стеной разом вскочили. Фарульв Лодочник шагнул вперед, будто хотел загородить ей дорогу, и Эльга в недоумении воззрилась на него. На лице парня были смущение и тревога, близкая к страху, – весьма непривычное зрелище.
– Что такое? – спросила Эльга.
– Э… там… – выдавил Фарульв.
Эльга обошла его и толкнула дверь. Кто-то вскрикнул за спиной, но остановить княгиню руками никто не посмел.
Еще наклоняясь под притолокой, Эльга услышала шум борьбы и сдавленную брань. Кто-то возился в дальнем углу.
– Кто там? – крикнула она, прижавшись к косяку. – Эй!
Главным ее чувством было возмущение: это ее дом, что такое здесь творится? Но тут глаза привыкли к полутьме, и она узнала более чем знакомую широкую спину и хвост длинных волос.
Мелькнула мысль: этот наглец тискает там какую-то из ее челядинок. Хотя нет – дыхание и голоса, долетавшие до нее, были мужскими. Эльга бросилась вперед, но Мистина тут же шагнул назад, и оказалось, что он зажимал в угол не кого иного, как князя Ингвара. Тот был красен от злости и выглядел потрепанным, на лбу и на скуле темнели свежие ссадины, но больше всего Эльгу поразило жесткое, враждебное выражение его лица. В изумлении сделав несколько шагов, она увидела, что у Мистины разбита нижняя губа и кровь сохнет на коже ниже рта, даже просочилась в бороду.
– Вы что… – Эльга вытаращила глаза. – Деретесь, что ли?
Слишком нелепо, чтобы быть правдой. Но они молчали, глядя на нее с досадой.
– Что случилось?
Оба вдохнули, будто собираясь заговорить, и молча выдохнули. Переглянулись.
– Что происходит? Что вы не поделили?
Мистина открыл рот и опять закрыл. Чтобы он-то да не нашел, что сказать? Скорее щука разучится плавать.
– Что вы молчите?
– Да так, – наконец выдохнул Мистина. – Пошалили. По детской памяти.
Его решительный тон давал понять: другого ответа не будет.
Эльга перевела взгляд на Ингвара. Его-то лицо не было такой неприступной крепостью, и из мужа она ответ выжмет – чуть раньше или чуть позже. Мистина здесь только мешал.
– Иди умойся, – она кивнула ему на лохань.
Он послушно пошел к двери; послышался плеск воды. Эльга в упор посмотрела на Ингвара, но тот отвернулся, все с тем же угрюмо-раздосадованным видом.
– Где ты была? – раздался голос за спиной.
Эльга обернулась; прижимая к подбородку рушник, Мистина пристально смотрел на нее. По кафтану на груди расплылось мокрое пятно.
– Почему ты меня спрашиваешь?
– Где ты была? – повторил Мистина, не желая замечать намек, что не вправе задавать такие вопросы чужой жене и своей княгине.
Но, по крайней мере, в побратимах больше не замечалось желания кинуться друг на друга. И на нее они смотрели с одинаковым настороженным выражением, как будто теперь они стали заодно – и против нее. Эльга даже поверила бы, что они всего лишь шутили в память о совместном детстве, если бы не угрюмость Ингвара и не ожесточение на лице Мистины в тот миг, когда он обернулся на ее голос.
– Что здесь произошло? – настойчиво повторила Эльга. Ее пробирала беспокойная дрожь. Здесь не гридница – дом был ее полным владением и она имела право знать, что творится. – Из-за чего вы… сцепились?
– Из-за твоего ублюдочного братца, – бросил Ингвар.
Он тяжело дышал, но первую ярость уже выплеснул и теперь старался взять себя в руки.
– И что с ним?
– Он желает получить Аськину невесту и дань с какой-нибудь земли. С Деревляни, к примеру. Как тебе это, а? – Ингвар хлопнул себя по бедру.
– Но ты, – Эльга повернулась к Мистине, – само собой, не хочешь, чтобы древлянскую дань отняли у твоего отца и отдали Хельги?
– А еще бы я хотел!
Мистина отбросил рушник и пальцами осторожно проверил, идет ли кровь. Костяшки у него оказались сбиты – как и у Ингвара. Губа распухала на глазах. Эльга безотчетно подобрала рушник: на белом полотне виднелись размазанные красноватые пятнышки.
– Вы из-за этого подрались?
Насупленный Ингвар молчал. Если бы он рассказал Эльге, из-за чего они сцепились на самом деле… то мог бы лишиться жены прямо сейчас. Вину Ульва в гибели Вальгарда еще надо доказать, а вот тризны по ее сводному брату не позднее чем через три дня он сам требовал только что.
– Но, может, не с Деревляни, а какой-нибудь другой земли дань, но ему надо что-то дать! – сказала Эльга. – У нас есть…
– Что у нас есть? – перебил ее Ингвар. – Ни хрена лысого у нас нет! Нам и свою дань негде сбывать, понимаешь ты? Ранди все назад привез, хоть жри теперь этих бобров!
– Но Хельги же согласится подождать. Я хотела вчера с ним поговорить, но никого дома не застала. Я схожу еще раз. Или пошлю за ним.
– Нет, – угрюмо бросил Ингвар. – Ко мне на двор он больше не войдет.
– Почему?
– Потому что я не желаю видеть этого ублюдка, который ставит мне условия!
– Но если мы не договоримся, они отрекутся от меня! – воскликнула Эльга. – Как ты не понимаешь! Родичи откажутся от меня, я лишусь удачи Вещего, и все наши права пойдут псу под хвост! Хельги же мой брат, он не захочет, чтобы я погибла! Не желаешь ты его видеть здесь – ладно, я поеду к Свенельду!
– Нет! – еще настойчивее отрезал Ингвар. – Никуда ты не поедешь!
– Что? – в изумлении повторила Эльга. – Не поеду? Это почему?
– Я тебе запрещаю!
– Ты мне запрещаешь пойти к моей сестре?
– И со двора выходить!
– Со двора выходить? И это когда здесь, в Киеве, мой дядя, брат, родичи? – От изумления Эльга поначалу даже забыла рассердиться. – Ты с ума сошел? Чем ты это объяснишь, в чем я провинилась? Ингвар, тебя что, Свенельдич головой о стену приложил? Или это он тебе насоветовал, чтобы я не могла видеться с родней и тебе не пришлось отдавать им Деревлянь и вообще ничего? Но хотя бы Ута может ко мне прийти? Может хоть она мне объяснить, что происходит и что за тролль вас укусил?
– Нет! – разом выдохнули оба.
– Да что все это значит! – Теперь Эльгу душила ярость, не дававшая пролиться слезам. – Вы что, взбесились! – Она швырнула рушник в Мистину, и тот поймал его перед своим лицом. – Как вы смеете так с нами обращаться! Мы вам кто – полонянки купленные? Я княгиня или кто? Что ты ему наговорил? Тебе не нравится, что у меня теперь есть старший брат! Я видела, ты сразу на него оскалился, на причале еще! Он слова не успел сказать, а ты на него уже рычал, как пес! Потому что раньше Ингвар слушал тебя одного, и все доставалось только вам с отцом, вы и сейчас богаче нас! А я сама хлеб замешиваю, потому что у меня девок не хватает! Теперь вот еще эти хазары, будь они неладны, чем мы будем кормить дружину?
– Самая пора ублюдочных родичей себе на шею сажать!
– Не смей так говорить о моей родне!
– А как еще говорить, если этот краснорожий вылез, как хрен из задницы, и теперь хочет сожрать то, за что не воевал!
– Но вы чуть не убили Олега, а он тоже мой родич! Он же едва жив остался! Предслав погиб из-за вас! И если вы… если я хоть подумаю, хоть заподозрю, что вы причинили вред еще кому-то из моей родни, я вас больше знать не захочу! Вас обоих!
– А я тебе что говорил! – Ингвар ткнул пальцем в сторону Мистины, имея в виду, что обвинения Хельги от княгини нужно скрыть любой ценой.
– Говорил? – Эльга подалась к Мистине. – А ты что говорил? Ты своих упырей уже готов на моего брата натравить! Они бы и свою мать зарезали, если бы только знали, в какой канаве ее искать! Не смейте трогать мою родню!
– Эльга, мы… – начал Мистина.
– Молчи! – Эльга даже затопала ногами, не находя выхода своему негодованию. – Убирайся отсюда! Видеть тебя не хочу! Чтобы тебя не было в моем доме, сейчас же!
– Да уйду я! – яростно бросил Мистина. – Не кричи, люди услышат.
Потом повернулся и вышел. Сильно хлопнул дверью.
Эльга послушала, как быстро простучали его шаги по крыльцу, потом упала на лавку и разрыдалась. Ингвар посмотрел на нее, потом медленно двинулся к двери. Говорить с ней не было сил. Потом тоже вышел, но Эльга даже не сразу заметила, что осталась одна.
Ночевал Ингвар в гриде, а Эльга рыдала полночи от негодования и обиды, ворочаясь в одиночестве на княжеской постели.
* * *
Тем вечером после беседы с Хельги Мистина даже не позвал девок – убирать осколки кувшина. Ута увидела их сама, когда вошла. Ахнула, всплеснула руками, хотела закричать – она очень любила этот кувшин. Но взглянула в лицо мужа, сидевшего у стола, и осеклась. За три года она достаточно хорошо его узнала, чтобы понять: он в такой ярости, что… что лучше пусть еще что-нибудь разобьет. И хуже всего было то, что он молчал.
Зато Хельги, которого она оставила в девичьей избе возле Пестрянки, пришел туда весьма довольный. Весело посвистывая, он обнял невестку и еще раз повторил, что вскоре все у нее будет хорошо.
– И про черниговскую деву не тревожься. Не будет у твоего мужа другой жены.
– Почему? – удивилась Ута.
– Сдается мне, что для той девушки найдется иной жених.
– Кто же такой?
– Вот ты, сестра, – Хельги подошел и ласково взял Уту за руку, – не стала бы чинить препятствий, если бы князь предпочел высватать ту девушку за меня?
– За тебя? – в один голос воскликнули Ута и Пестрянка.
– Я тоже брат княгини, и я не женат. Зачем же вносить раздор в дом мужчины, у которого уже есть жена и даже сын, когда можно дать все это тому, у кого их еще нет?
– Да разве… – с сомнением начала Володея. – Хельги, ты… Ты человек хороший, мы тебя любим. Но если воевода Чернигость спросит, а что у тебя есть…
– По-твоему, я недостаточно хорош для такой невесты? – обернулся к ней Хельги.
– Ну, нам ты брат, нам как есть хорош, – Володея в сомнении переглянулась с Утой, – но Черниге-то другое важно. Чтобы зять был знатный, богатый…
Собираясь войти в семью влиятельных воевод, она приучалась думать об их чести и благе.
– А чем Асмунд лучше меня? – улыбнулся Хельги.
– Так он воевода княжеский, в походы ходит, вон, в Царьград послом поехал… Будет жена – он двор поставит, хозяйство заведет, свою дружину наберет…
– Но я ведь только приехал в Киев. И думаю, уже скоро князь сделает что-нибудь и для меня.
– Да, пожалуй! – Ута кивнула. – Так оно для всех лучше будет, если Звездочу за тебя возьмут, а Аська будет со своей женой жить, – она посмотрела на Пестрянку, но у той на лице почему-то не отражалось восторга. – Ингвар сможет и тебе выделить что-нибудь. У нас ведь земель разных много – они все толкуют между собой, ну, Свенельдич с отцом и с Ингваром, кого куда посылать.
– Сколько я понимаю, Свенельд сам получает всю дань с древлян? – Хельги понизил голос.
– Да, но ее-то Ингвар уж точно никому другому не отдаст. Свенельд за нее воевал. Ингвар ему всем обязан.
– Я тоже могу за что-нибудь повоевать, – беззаботно заверил Хельги. – Мне нужна лишь поддержка князя, чтобы помог собрать и снарядить войско. А отваги и удачи у меня хватит своей. Ведь я тоже из рода Вещего.
* * *
Переночевав в дружинной избе, Ингвар пошел со всеми отроками завтракать и увидел Эльгу лишь в гриднице. Она следила, как челядь подает на столы, но на мужа не взглянула. То же повторилось и в обед. Эльга избегала его взгляда, а на прямые вопросы отвечала односложно и тут же удалялась. Поскольку все это происходило на глазах у дружины, настороженные взоры гридей причиняли Ингвару досаду не меньшую, чем неприветливость жены. Дальше – больше. В расстройстве он послал отрока за Мистиной, но тот привез ответ: княгиня выгнала его из дома, и он не вернется, коли не угоден. Потому что он не пес.
Ингвар выругался и пошел искать жену. Эльга сидела в избе, пытаясь играть со Святкой, но веселость ее выглядела такой натужной, что даже ребенок это понял и разревелся.
– До чего ты дитя довела! – возмутился Ингвар, поднимая сына на руки. – Что ты ходишь, как туча черная! Люди подумают, я тебя бью!
– Я бы не удивилась! – Эльга сердито глянула на него, и голос ее дрожал от гнева и обиды. – Ты запер меня дома, не разрешаешь видеться даже с моей сестрой! Обращаешься со мной, как с рабыней! Осталось только начать меня бить. Попробуй! Если ты хоть раз меня ударишь, я объявлю, что ухожу от тебя! Мой род не хуже твоего, мой дед Асмунд происходил из Скъельдунгов.
– Да знаю я, из кого он происходил!
– Тогда как ты это объяснишь? Чем я провинилась? Чем заслужила такое обращение?
Эльга требовательно воззрилась на мужа. Ингвар сердито выдохнул, не зная, что ей ответить. Снова с тоской подумал о Мистине.
– Ты… Зачем ты Долговязого выгнала? Он мне нужен.
– Поди к нему сам, если он тебе нужен. Ты-то можешь ходить где вздумается, тебя никто не запрет на собственном дворе.
– Но я хочу, чтобы он пришел ко мне сюда, в гридницу! Нам надо с людьми говорить!
– Ну, если у тебя без него нет ума, а я уже не хозяйка в своем доме… Мои родичи скоро узнают об этом, и тебе все же придется ответить, почему ты подвергаешь племянницу Олега Вещего таким оскорблениям!
– Да в тридевять земель через мутный глаз!
Ингвар бранился, посылая к троллям в задницу всех племянников Вещего, сколько их есть. Он не знал, что делать с Хельги, и не мог позволить Эльге с ним увидеться, пока не знает, что делать. Но и идти к Свенельду он не хотел: там жили Хельги и Торлейв, и Ингвар боялся не совладать с собой. Наговорить лишнего. Еще кому-нибудь дать в зубы. И в то же время понимал, что ничего подобного допускать нельзя. Сейчас, чуть остыв, он был благодарен Мистине, что тот удержал от первых необдуманных порывов. Нельзя ставить себя под удар, затевая вражду внутри рода. Не сейчас. Не в первое лето княжения, при разрушенных договорах со всеми соседями, при невозможности даже продать дань, чтобы получить деньги на содержание дружины…
Все летело куда-то к лешему. Хотелось зарычать, но Ингвар молчал, мысленно обходя все тот же круг и пытаясь найти лазейку. Завтра приедет Ранди. Нужно собирать дружину и решать, как быть с продажей дани, чем жить дальше и как кормить людей. Мистина обиделся на бабу, бес долговязый, жена тоже обиделась. Без поддержки их обоих Ингвар чувствовал себя калекой, и, как всякий свежий калека, решительно не знал, как дальше жить.
* * *
После того знаменательного разговора Хельги почти не видел Мистину: тот, похоже, его избегал. При мимолетной встрече во дворе отметил его разбитую губу, но это еще ни о чем не говорило: все гриди, отроки и их вожди, каждый день упражняясь в оружном и безоружном бое, вечно ходят с синяками и ссадинами. Хельги ждал ответа, но не торопил, вполне понимая, какую трудную задачу задал нынешним вождям киевской руси.
На третий день Ута передала Хельги приглашение к Свенельду – не в гридницу, а в жилую его избу, а значит, разговор ожидался доверительный. Войдя, гость огляделся и едва сдержал желание присвистнуть. Одну стену целиком занимали лари с плоскими крышками, поставленные один на другой: каждый из крепкого дуба и с внушительным замком. Оставалось только гадать, какие сокровища Свенельд хранит прямо в жилье, чтобы постоянно держать под присмотром. Стена напротив была сплошь увешана дорогим оружием: рейнские мечи с серебряными и золотыми наборами, секиры с серебряной насечкой, копья, сулицы, три новых щита. При этом посуда на полках над столом и у печи стояла самая простая, глиняная и без росписи, на лавках овчины, хотя новые и чистые. Похоже, что пристрастия к роскоши в обычной жизни воевода не питал. Да и кафтан, который Хельги видел на нем на княжьем пиру, по виду разменял третий десяток лет.
Хозяин ждал Хельги, сидя у стола. Сын его устроился на скамье в тени и в ответ на приветствие только кивнул.
– Садись, – Свенельд показал Хельги место напротив себя. – Пить пока не будем – сначала выясним, сможем ли мы договориться.
– Полагаю, твой сын, – Хельги оглянулся на угрюмого Мистину, – передал тебе мои пожелания? А я ведь хотел, чтобы о них услышал князь.
– Князь о них слышал. Стало быть, ты хочешь получить в жены Чернигину внучку и в придачу дань с какой-нибудь земли?
– Не так уж это много – для брата княгини. А взамен я постараюсь ничем ее не огорчить…
Хельги бросил взгляд на Мистину: тот сидел, крепко сцепив руки между колен, и не глядел на него.
– Не могу обещать, что Чернига отдаст свою внучку за такого, как ты, – ответил ему Свенельд. – Ты – побочный сын Вальгарда, и твоей матери здесь никто даже не знает.
– Торлейв подтвердит, что она была свободной женщиной. И если князь выделит мне какую-нибудь область из принадлежащих ему, то я смогу устроить знатную жену не хуже других.
– И взамен обещаешь держать при себе свои выдумки насчет моего старого вождя? – Свенельд глянул в лицо Хельги из-под косматых бровей, будто копьем из-под куста ткнул.
– Это не выдумки, – мягко, но уверенно ответил Хельги и чуть наклонился вперед, когда всякий другой на его месте отпрянул бы. – Будь это выдумки, вы лишь посмеялись бы надо мной. Но это обвинение можно доказать, и вы не хотите, чтобы кто-то из рода Вещего этим занялся. Однако события говорят сами за себя. Такие совпадения возможны лишь при вмешательстве богов, но твой сын вроде ничего не рассказывал о том, чтобы ему во сне являлся Один. Ульв виновен в гибели моего отца, но не настолько прямо, чтобы я искал мести. Ульв лишь подставил его под удар, но каждый воин и так постоянно ходит в тени смерти. Окончательный выбор делает Один. Но я – мужчина, я понимаю это. Эльга – женщина, она лишь огорчится и рассорится с мужем. Быть может, даже захочет его покинуть. Я не желаю зла моей сестре Эльге, – он снова глянул на Мистину, – и не стану тревожить ее покой. Буду очень рад, если ее счастливая жизнь с мужем ничем не омрачится. А за то печальное знание, которое мне приходится нести, высокородная невеста и дань с какой-нибудь земли – разве это много? Сын Ульва может считать это выкупом сыну Вальгарда, который из-за него не успел познакомиться с отцом.
– Выкуп? – повторил Свенельд и усмехнулся. – Да ты из тех расчетливых парней, что готовы держать отца в кошеле?
– За незнакомого отца это хорошая цена, – впервые подал голос Мистина.
Хельги бросил на него еще один взгляд: сын воеводы выглядел замкнутым и втайне огорченным, но не так чтобы рассерженным. Это был хороший знак: похоже, они поняли, что у них нет иного выхода.
– Я подумывал вернуться в Пересечен, – сказал Свенельд. – Может, и не плохо, если найдется другой человек, которому можно будет поручить присматривать за древлянами. Но не жди, что богатство достанется тебе легко. Это такие люди – чтобы с ними справиться, нужна крепкая хватка.
Он глянул на Хельги, будто прикидывал, справится ли тот. А Хельги подавил невежливую усмешку: крепка ли его хватка, оба воеводы и их князь уже ощутили на собственном горле.
– Предлагаю вот что: я скоро отправляюсь туда в полюдье, и ты можешь поехать со мной, – продолжал Свенельд. – Ты посмотришь места и людей, а я посмотрю, насколько ты пригоден к делу. Не за тем и Вещий, и мы с Ингваром водили дружину на Тетерев и Уж, проливали кровь своих людей, чтобы какой-нибудь раззява все загубил! Если управишься – на следующий год я уеду в Пересечен, а Деревлянь оставлю тебе. Особенно если ты уже к тому времени уговоришь Чернигу с тобой породниться и при этом не поссоришься с твоим братом Асмундом. Он ведь будет не очень-то рад, если у него из-под носа уведут невесту! И с ним разбирайся сам, как мужчина с мужчиной.
– Зачем нам встревать в спор между братьями? – заметил Мистина, глядя в стену с оружием.
– Асмунд получит назад жену, которую сам себе когда-то выбрал, и к тому же прекрасного сына. Я на его месте был бы счастлив, – вырвалось у Хельги.
– Ну, это уже ваши дела, – Свенельд мягко опустил кулак на стол, будто прикладывая печать. – Я поговорю с князем…
– Но прежде ты должен сам заверить княгиню, что между нами понимание и согласие, – вставил Мистина и впервые повернул голову, чтобы взглянуть на Хельги. – Ни словом не упоминая о том, о чем мы здесь говорили.
– Это я готов сделать. Но чтобы она поверила в это, будет уместно, если вы меня поддержите.
– Мы тебя поддержим, – с непроницаемым видом заверил Мистина.
Хельги не мог понять его спокойствия: для этого они были еще слишком мало знакомы. Эти люди его обманывают? Или признали поражение и оттого так хмуры?
Хельги протянул Свенельду руку. Тот легонько хлопнул по ней ладонью – вроде как скрепил уговор, но как-то не по-мужски. Как будто не придавал этому большого значения.
– А теперь пойдем к княгине, и после этого ты заключишь уже настоящий договор – с самим Ингваром, – добавил Свенельд, пока Хельги не успел ничего сказать.
* * *
Эльга выходила из поварни, когда увидела, как во двор въезжают Свенельд, Торлейв и Хельги. Ингвар и впрямь сгоряча отдал приказ не впускать новоявленного родича, но остановить того, явившегося с княжеским кормильцем, Хрольв не посмел и лишь послал отрока предупредить князя. Хельги поклонился издалека изумленной княгине, но не подошел. Вместо этого к ней подошел сам Свенельд – чем удивил еще больше.
– Будь жива, княгиня! Зайди с нами в гридницу, – попросил он.
Эльга едва удержалась от вопроса: «А где твой сын?» – уж слишком она привыкла, что с любыми делами, как-то касающимися до нее, сюда приходит Мистина. Но сняла передник, в котором присматривала за поджариванием очередной кабаньей туши, и пошла за воеводой.
Увидев их сразу всех, Ингвар слегка переменился в лице.
– Я обдумал то, что мы все здесь услышали, – начал Свенельд, усаженный на свое обычное почетное место. – И скажу вот что: во многом Торлейв и Хельги, сын Вальгарда, правы. Олег Вещий завоевал эту землю и все прочие, где мы ныне берем дань. Он создал славу руси, и все мы теперь обязаны ее поддерживать. И будет просто неумно пренебрегать людьми, в которых течет кровь рода Одда Хельги. Ты знаешь, что я подумывал уехать в Пересечен, и, может быть, сами боги послали нам Хельги, сына Вальгарда, именно сейчас. Этой осенью я возьму его с собой в Деревлянь, и он, если хорошо себя покажет, на следующий год сможет собирать древлянскую дань и без меня. Ну и поскольку человеку в таком положении нужна и жена подходящего рода, будет уместно, если Чернига отдаст свою внучку за него. Ты останешься довольна, княгиня, если все сложится так?
– Д-да… – пробормотала Эльга.
Ее окружали лица: непроницаемое – Свенельда, встревоженное и удивленное – Ингвара, довольное с примесью настороженности – Хельги. Торлейв, кажется, понимал не больше нее.
Где Мистина? Если бы он был здесь, Эльга, как ей думалось, по его лицу легче поняла бы, что все это значит. Ее будто приглашали прогуляться по тонкому льду: иди, говорили они, не бойся, тут все надежно! Но почему-то ей не верилось в эту надежность.
Чтобы Свенельд вот так взял и согласился поделиться? Просто признал, что это будет справедливо? Эльга чувствовала, что услышанное ныне как-то связано с той дракой, которую она застала, и с запретом видеться с родными, но как? Свенельд сказал далеко не все…
– Ну же, княгиня! – снова окликнул ее воевода. – Как, по-твоему, это будет хороший уговор? Ведь речь идет о твоем брате. Он приехал сюда из Плескова, чтобы увидеть тебя.
– Да, Эльга! – обратился к ней Ингвар. – Ты же этого хотела, правда? Твой род получит свое, и между нами будет мир.
Князь тоже был изумлен неожиданной сговорчивостью воспитателя – именно от Свенельда он ждал наиболее упорного сопротивления. Пробежал глазами по лицам Свенельдовых оружников, надеясь все же отыскать Мистину. Это он уговорил отца?
– Мне обязательно будет нужна и твоя помощь, сестра, – улыбнулся княгине Хельги. – Ведь в деле о сватовстве нам никак не обойтись без тебя. Если ты попросишь внучку Чернигостя выйти за меня, тебе она не сможет отказать.
– Да уж, если дать ему самому уговаривать девку, ей уже скоро будет некуда деваться, – пробормотал рядом с Эльгой Гримкель Секира. – Под любой подол залезет…
– А ты, Торлейв? – обратился Ингвар к ее дяде. – Ты, как глава рода Вещего, готов будешь признать, что вы получили свое, если мы сделаем, как было сказано?
– Н-не только… – с запинкой ответил Торлейв. – Я, признаться, думал о другом. Это будет благородно с твоей стороны, Ингвар, если ты дашь Хельги все, что было сказано, однако…
– Чего же еще ты хочешь? – с досадой воскликнул Ингвар. – И тебе, что ли, невесту надо?
– Я говорил тут в Киеве с людьми, бывавшими в Царьграде, и они на одну мысль меня навели. Я хотел сначала как следует сам ее обдумать, но раз уже дошло до обсуждения условий…
– Ну? – в нетерпении крикнул Ингвар.
– В Греческом царстве принято, чтобы страной правил не один человек, а вся его семья. Сейчас, как я слышал, у них сразу три или четыре царя.
– Нет, других князей здесь не будет! – перебил его Ингвар, мигом вообразивший, как Хельги Красный сидит рядом с ним на точно таком же престоле.
– Погоди, я не говорю о других князьях. Ты не дослушал. Каждый греческий кесарь возлагает венец на свою жену и на наследника от нее. Таким образом, у них не бывает споров о власти после смерти кесаря: отец и сын вместе сидят на престоле, отец умирает, а сын остается и сажает на освободившееся место уже своего сына. Раз уж так вышло, что нашему роду грозит опасность потерять свое наследие, давай заключим с тобой договор, что твоими соправителями станут Эльга и ваш сын. Тогда мы не будем беспокоиться, что на престол Вещего сядут потомки не его, а Ульва из Хольмгарда. Потому что лишь твой сын от Эльги будет назван и признан законным наследником этого стола. Что скажешь?
– Это очень умное предложение! – воскликнул Хельги. – Такой уговор закрепит права моей сестры и обезопасит ее… от превратностей женской судьбы, – глянув на изумленную Эльгу, он не решился упомянуть о такой возможности, что Ингвар когда-нибудь возьмет других жен. – Это будет справедливо, ибо объединит права наследования и право силы, как… как они объединены в крови вашего сына!
Свенельд кивнул, и по этому знаку дружина разразилась одобрительными криками.
– Стало быть, на днях мы созовем всех киевских бояр, всю дружину, и, скажем, на свадьбе Грозничара черниговского заключим этот уговор, – перекрикивая отроков, добавил Свенельд. – Княгиня, ты будешь довольна?
– Д-да… я думаю… – Эльга попыталась улыбнуться.
У нее захватило дух. Уже почти полгода она была княгиней киевской, но дядя Торлейв сказал о другом. Соправитель – это тоже князь, и не важно, мужчина это или женщина. Она не могла припомнить подобного ни у славян, ни в Северных Странах – чтобы княгиня была не просто женой, а соправительницей своего мужа. Даже голова закружилась, будто резное кресло престола вдруг начало расти, стремительно поднимая ее к небесам. Мороз пробежал по позвоночнику, и она крепче вцепилась в подлокотники.
И этим она обязана родству с Вещим!
– Соглашайся, сестра, и это навек утвердит славу нашего рода на горах Кенугарда! – улыбнулся ей Хельги, будто лишь ее согласия ожидали небо и земля.
– Я согласна! – твердо и даже деловито сказала она.
Ингвар протянул руку Торлейву.
* * *
До настоящего заключения этого судьбоносного договора оставалось еще далеко, тем не менее Ингвар потребовал пива, и гульба в гриднице затянулась далеко за полночь. Эльга же ушла к себе довольно рано: ей хотелось побыть одной и все обдумать. Среди ночи Ингвар возвратился на супружеское ложе – мир можно было считать восстановленным.
– Теперь-то я могу пойти к сестре? – спросила она, пока он раздевался.
– Теперь можешь. Вот видишь, все уладилось!
Ингвар сам пока не понимал, каким образом оно все вдруг взяло и уладилось. Для понимания этого ему требовался Мистина. Поэтому он добавил:
– И как придешь к ним, перед Долговязым повинись. Прямо утром как проснешься, так и ступай. Он мне завтра здесь будет нужен.
– Да разве его не было? – Эльга кивнула в сторону гридницы. – Ты не посылал за ним?
– Посылал. А он сказал, что не придет, пока хозяйка не позовет. Зачем ты на него накричала? Йотун знает, в чем обвинила, будто он братцу твоему дорогому шею свернуть хочет! А Свенельд, вон, сам рад на него эту клятую Деревлянь спихнуть.
– Да разве он обиделся? – язвительно спросила Эльга, скрывая неловкость.
– А ты думаешь, мужики каменные – хоть плюй в глаза, им ничего? Ты его псом обругала почем зря, а он молчал и слушал.
– А ты ему лицо разбил! На тебя он, стало быть, не обиделся, а на меня обиделся!
– Так это же… – Ингвар удивленно воззрился на нее, – совсем другое дело! Ты – баба, а я ему побратим!
– Но вы подрались!
– Ну, подрались, не бывало, что ли? Мы ж не поссорились. А ты его выгнала, так теперь сама зови назад.
– Но можно отрока послать…
– Тьфу! Ты его обидела, а отрок пойдет прощения просить?
И сейчас еще Ингвар не мог признаться жене, что своим молчанием в тот день Мистина оказал услугу именно ему. Но знал: «прости» из уст княгини умный побратим поймет как «спасибо» от князя, которое неловко выговорить самому.
Эльга вздохнула. «Подрались, но не поссорились», вы это видели? Ясно, почему Ингвар посылает ее туда: хочет показать побратиму, что жена, которую в тот злополучный час молча слушали они оба, покорна ему. И да, это надо сделать. Ведь если князя не уважает собственная жена, кто же будет его уважать? И зачем ей, Эльге, не уважаемый муж?
Ее собственные чувства на сей счет были смутны. Изгнание Мистины из дома принесло ей тайную отраду, хоть и не вполне чистую – схожую с облегчением от расчесывания больного места. Уж слишком она привыкла, что у ее мужа как бы две головы и ей приходится иметь дело с обеими. Что в почти любом деле ей нужно одобрение и согласие не только мужа, но и его побратима. Именно в эти дни она поняла, как устала от этого и как было бы неплохо, если бы Ингвар наконец покончил с мальчишеской привычкой везде болтаться вдвоем с лучшим другом. В обычное время Мистина развлекал ее и вносил бодрость в течение жизни. Но в таких случаях, как нынешний, она ощущала, что ее влияние на мужа уступает влиянию Мистины, а значит, она сама в известной мере находится в его власти. А насколько это опасно, она уже хорошо знала, хотя, слава чурам, по чужому опыту. Изгнание его дало ей почувствовать свою силу, пусть ненадолго, утвердило ее власть над домом и мужем. А ему самому намекнуло: его права в этом доме имеют границы. Кажется, порой он склонен об этом забывать…
Улегшись рядом, Ингвар обнял ее и поцеловал в грудь через разрез сорочки. Эльга улыбнулась про себя: ну, да, как ночь настает, он вспоминает, что женатому мужчине лучшим другом должна быть жена!
Когда Ингвар уже крепко спал, Эльга еще ворочалась. Радость и тревога мешались в душе, не давая покоя. Слишком много всего на нее обрушилось за последние дни… за последние недели… последние полгода… В мыслях мелькали лица Свенельда, Торлейва, Хельги, Мистины; заботы и сложности спорили, которая важнее.
Ей, княгине, просить прощения у главы телохранителей? Иные сказали бы, что это унизительно. Но, странное дело: узнав, что вскоре из просто княгини станет соправительницей, Эльга ощутила, что теперь унизить ее стало куда труднее, чем раньше. Будто великанша, она не станет меньше простого смертного, слегка к нему наклонившись.
В конце концов, Мистина – муж ее сестры. А когда они помирятся, жизнь пойдет повеселее. Сколько ни убеждала себя Эльга, как приятно быть полной хозяйкой в собственном доме, без Мистины тут чего-то не хватало. Будто кашу посолить забыли.
Однако огласки хотелось избежать, поэтому Эльга поднялась на заре, пока даже гриди спали, кроме дозорных. На Свенельдов двор она явилась так рано, что опередили ее только водовозы. В избе «молодых» обнаружилась Ута: она уже отдала покормленную Святанку девятилетней Предславе и теперь переправляла ложки каши в рот двухлетнего Улебки. Увидев Эльгу, выронила ложку и вскочила.
– Это ты! Наконец-то! Тебе разрешили прийти? Что это было? Мне ничего не говорят! Он запретил мне к тебе ходить! И сам бродит как туча, дети от него прячутся! Вы поссорились?
– А ты не знаешь, что вчера было?
– Они говорили втроем…
– Кто?
– Свенельдич, свекор и Хельги. Потом позвали отца, после они втроем ушли, а Свенельдич остался. Не знаю почему, я боялась спросить.
– Он тебя не обижал?
– Нет. – Ута удивилась. – Он просто… молчал и смотрел на всех такими глазами, будто не видит никого.
Гибель кувшина Ута скрыла. Она никогда не вмешивалась в дела дружины и державы, которые решали ее муж, свекор-воевода, свояк-князь и иногда сестра-княгиня, но очень хорошо видела, когда они проносились, будто грозы, над ее головой.
Эльга только вздыхала, не находя ответа, и снова рассердилась на обоих их мужей. Выходит, Ута тоже не понимает, что происходит, и не может ей открыть никаких губительных тайн. Так зачем им запрещали видеться? Боялись, что вдвоем они все же до чего-то докопаются?
– Уже все хорошо! – Эльга бережно обняла сестру, зная, что той вредно беспокоиться. И незачем Уту пугать, когда она сама все равно не знает, чего боится. – Но я… А где Свенельдич? – Она огляделась, встревоженная мыслью, что тот уже мог успеть куда-то уехать из дома.
– Еще спит, – Ута кивнула на притворенную дверь спального чулана.
– Не сплю я, – раздался оттуда хрипловатый недовольный голос. – Вы ж так орете… Кто там?
– Родная моя… – Эльга взяла Уту за обе руки. – Прости… мне очень нужно… повидаться с ним вдвоем. То есть наедине. Ненадолго. На два слова.
– Иди, – Ута слегка улыбнулась.
Она выглядела встревоженной, но не из-за того, о чем может тревожиться жена, когда другая женщина просит разрешения зайти в спальный чулан к ее мужу.
Эльга растворила дверь, вошла, закрыла ее за собой. Не дожидаясь, пока глаза привыкнут к полумраку, на ощупь опустила засов. В доме, где так много детей, уединение всегда под угрозой, и сейчас ей было на руку то, что Свенельд, строивший эту избу, по примеру северных домов выделил для хозяйской лежанки отдельный закут за дощатой стеной. Чулан освещался оконцем на самом верху, сейчас оно было отволочено. При слабом свете Эльга сумела разглядеть, что Мистина сидит в постели, полуприкрытый одеялом, и пальцами расправляет распущенные волосы. Лишь мельком она отметила, что сорочки на нем нет, но все ее внимание захватил предстоящий разговор.
– Эльга? – В изумлении он опустил руки. – Вот так… А мнилось, я уже проснулся.
Она подошла и села на край постели: как-то глупо казалось стоя говорить с полулежащим мужчиной. Ей пришлось сделать всего пару шагов: лежанка и два больших ларя занимали тесный чулан почти целиком. Можно было бы сесть на ларь, но там громоздилась куча одежды. На стенах и здесь в изобилии висело оружие: несколько мечей, секир и сулиц.
Всю дорогу Эльга собиралась с мыслями, но сейчас они опять разбежались. Да захочет ли он вообще с ней разговаривать? Именно это она жаждала выяснить поскорее и не могла ждать.
– Откуда ты взялась? – Мистина тоже был удивлен. – Или еще что-то случилось?
– Будь жив! Как твоя губа? – Эльга подалась к нему ближе, пытаясь разглядеть его лицо.
Опухоль вроде уже сошла, но ссадина еще была видна.
– На вкус? Попробуй сама, – он подставил ей рот.
– Стыда у тебя нет, – пробормотала Эльга, отодвигаясь и пытаясь нахмуриться.
– Госпожа моя королева, – на северном языке сказал он, – ты застала меня в постели, не предуведомив о своем посещении. Я даже стыд не успел надеть.
Эльга закрыла глаза и глубоко вздохнула. Направляясь сюда, она знала, что он будет над ней насмехаться. Она виновата, она кричала на него, а он молчал, как бдын, но уж теперь он на ее косточках покатается! Теперь ее черед молча терпеть.
Зачем она сюда пролезла? Не могла дождаться, пока он оденется и выйдет? Но тогда пришлось бы выслать вон из избы всех домочадцев. Никто, кроме него самого, не должен слышать, как княгиня киевская просит прощения у воеводы. Но от растерянности она никак не могла приступить к делу.
– Эльга! – уже спокойным голосом окликнул ее Мистина и прикоснулся к руке. – Прости. Я разбужу мой стыд… если найду, давненько мы с ним не встречались. Чего ты хотела?
– Я… – Эльга набрала в грудь воздуха. – Я нехорошо с тобой обошлась. Накричала не по делу.
– Это правда! – с чувством подтвердил Мистина. – Обозвала псом и швырнула мне в лицо мокрый рушник.
– Неправда, я не обзывала тебя псом!
– Но рушником швырнула.
Эльга выдохнула:
– Прости.
Вместо ответа он снова подставил ей лицо и постучал себя пальцем по подбородку, по пятачку кожи между нижней губой и краем бороды.
Теперь его черед ставить условия…
Она наклонилась и поцеловала его в указанное место. А потом почему-то еще раз – осторожно коснувшись губ, чтобы не потревожить подсохшую ссадину. Это было легче, чем на словах излагать свое раскаяние, но от волнения сердце билось так сильно, что почти ничего, кроме рубца этой ссадины, Эльга не почувствовала.
– Смелее, – ободряюще шепнул Мистина, придерживая ее за руку, будто перед ним была не взрослая восемнадцатилетняя женщина, мать почти двухлетнего сына, а девчонка тринадцати лет на первых Купалиях.
– Тебе же больно…
– А не важно, – он улыбнулся, хотя это тоже, наверное, было больно, и сам потянулся к ее губам.
И по глазам его было ясно: это будет не привычный между ними родственный поцелуй. Она уже чувствовала тепло его дыхания, невольно положила свободную руку ему на грудь – и какой-то мягкий жар потек в нее через ладонь, наполняя приятной слабостью. Голова слегка кружилась, лицо горело, в животе шевелился мягкий клубок.
Но именно острота этих ощущений заставила Эльгу опомниться и отпрянуть. Что это она опять такое делает?
– Ингвар послал меня с тобой помириться, – сердито прошептала она, оглянувшись на дверь. – Целоваться с тобой он мне не приказывал.
– Если бы я выполнял все его приказы, не думая…
Мистина пристально смотрел на нее. Он правильно понял, почему побратим послал к нему жену. И полагал, что за все это дело с Ингвара можно взять и чуть больше, чем несколько слов.
– О чем ты? – Эльга вдруг опять встревожилась. – Ты ведь знаешь, о чем они все вчера договорились? Ты-то не можешь не знать! Ингвар велел передать, чтобы ты сегодня непременно к нему пришел.
– А ты позволяешь мне вернуться?
– Милости прошу. Князюшка заждался.
– Князя томить не годится. – Мистина вдруг отбросил тонкое покрывало, собираясь встать.
Ну, да. На нем не было ничего, а стыд так и не нашелся.
Эльга вскочила и бросилась к двери. Откинула засов, выбежала наружу, закрыла дверь и прислонилась к косяку. А в избе оказалось пусто: Ута увела детей. И хорошо сделала: Эльга была очень рада, что никто сейчас не видит ее пылающего лица.
Похоже, зря она так беспокоилась по дороге – Мистина вовсе на нее и не сердился. Она не знала, радоваться или обижаться, что не может задеть его, даже швырнув мокрый рушник ему в лицо. И кто же, получается, кого не в силах унизить, даже заставив наклониться?
* * *
Снова видеться прямо сейчас с Утой или кем-то еще из семьи Эльга не хотела. Она исполнила веление мужа, драгоценный побратим сегодня будет в гриднице – и пока хватит. К тому времени она успокоится и сможет взглянуть на него вполне невозмутимо.
Но, едва выйдя во двор, она наткнулась на Хельги – тот умывался возле конской колоды. Распахнутый ворот сорочки позволял увидеть, где кончается красное пятно, и Эльга невольно взглянула туда. Правду Ингвар говорит: будто кровь текла из горла и засохла.
– Сестра! – обрадованно воскликнул Хельги. – Вот не ждал тебя увидеть здесь так рано! Будь цела! – по-славянски добавил он.
Эльга скорее пожалела, что ему удалось ее увидеть, но куда деться? Хельги взял ее за руку, пристально взглянул в лицо, поцеловал в щеку, снова посмотрел в глаза и засмеялся.
Княгиня очень взволнована и разгорячена, отметил он. Хотела уклониться от поцелуя, но сдержалась. И это после того, как побывала в избе молодых, в то время как Ута с тремя детьми недавно у него на глазах прошла в девичью…
– Ты хотела повидать Уту? Или меня?
– Уту, – отрывисто ответила Эльга, с заметным усилием пытаясь взять себя в руки. – Я ее видела. Мы давно не встречались…
– Давно?
– Три дня. Это давно. Мы же так привыкли друг другу. Всю жизнь вместе.
Она явно хотела уйти, но Хельги не выпускал ее руки.
– Но скажи мне: ты рада тому договору, который мы думаем заключить?
– Как же иначе? Я буду рада, если мой род… мой брат получит то, что ему надлежит… по праву…
Все это время Эльга избегала его взгляда, но тут вдруг подняла глаза.
– Хельги! Ты… ты и правда будешь мудр, как сам наш дядя Одд, если сумеешь… Как ты ухитрился склонить Свенельда на свою сторону? – Теперь она сама испытующе взглянула ему в глаза. – Ведь Свенельд… – Эльга быстро осмотрелась, но во дворе только челядь возилась по хозяйству, и слышать их никто не мог. – Свенельд вовсе не из тех, кто охотно делится завоеванным. Скорее волк поделится добычей просто потому, что его попросили!
– Твой муж и его люди не захотят, чтобы ты лишилась дружбы со своим родом, а с ним и благословения дяди Одда. Его слава стоит дороже, чем древлянская дань. Разве нет?
«Нет, – уверенно ответил чей-то голос у Эльги в голове. – Для Свенельда – нет».
Вероятно, это был голос ее здравого смысла. Но слышать его, видя перед собой дружелюбно улыбающегося брата Хельги, да еще пребывая в растерянности после свидания со Свенельдовым сыном, Эльге было невыносимо.
– Прости, мне пора домой, надо дружину кормить, – Эльга торопливо улыбнулась и почти побежала к своей лошади, возле которой ждали трое отроков.
Хельги проводил ее глазами. И только направился к гостевой избе – посмотреть, не встал ли Торлейв, – как снова скрипнула дверь избы молодых.
Во двор вышел Мистина – уже одетый, со связанными в хвост волосами.
– Будь жив! – Хельги подошел к нему. – Видел княгиню?
– Что? – Мистина нахмурился, будто не понимая.
– Княгиня сейчас была здесь – ты ее видел?
– В такую рань? Как я мог ее видеть, я только что встал. Она, должно быть, к жене приходила. Три года обе замужем, а все пытаются быть неразлучными, как девчонки! – Мистина насмешливо хмыкнул.
– Ну, я бы сказал, не только девчонка пожелала бы никогда не разлучаться с моей сестрой Эльгой. Ни разу в жизни не видел такой женщины – настолько прекрасной собой, умной, нежной. Сама Фрейя поцеловала ее при рождении и наградила способностью внушать любовь, ведь правда? – Хельги подмигнул.
– Да, с княгиней нам повезло, – без особого воодушевления кивнул Мистина.
– И я очень рад, что у нее наладилось с мужем. Такая прекрасная женщина заслуживает полного счастья и такого супруга, который будет во всем предан ей и ничем ее не огорчит. Будет любить ее так, как она того достойна.
– Ингвар любит ее, – заверил Мистина. – Он еще перед свадьбой отослал прочих жен, потому что она так пожелала. И теперь сделает ее соправительницей.
– Это умно с его стороны. Мы, ее родичи, не смиримся, пока она не получит от людей и судьбы всего самого лучшего. Ведь если бы так случилось, что муж оказался бы ее недостоин… ну, всплыли бы какие-нибудь неприятные открытия и она больше не смогла бы его любить…
– Но мы же с этим покончили, разве нет? – Мистина прямо глянул ему в глаза. – Ты добился всего, чего хотел. Почти снял штаны с нас с отцом! Какого хрена тебе еще надо?
– Я не прошу ни о чем больше для себя, – дружески улыбнулся Хельги. Он и правда был очень рад, обнаружив слабое место в этой прочно сомкнутой «стене щитов». – Я думаю только о благе моей сестры. Если бы ей привелось расстаться с мужем, – чего, конечно, не будет, – нам пришлось бы подыскать ей другого. Человека не менее знатного родом, достойного, не причастного к гибели ее отца и ничем перед нами не запятнанного… Ума не приложу, где такого взять!
– На свете нет мужей, достойных Эльги, так что пусть остается с Ингваром, – насмешливо ответил Мистина, давая понять, что это всего только шутка. – Ты же сам сказал: с раздором покончено. А Ингвар умеет ее ценить, ты просто еще слишком плохо с ним знаком.
С этими словами Мистина кивнул и пошел прочь. Повернувшись к Хельги спиной, прикусил разбитую губу, чтобы боль отвлекла и прогнала ярость, теснящую дыхание.
В отцовской гриднице, где служанки под присмотром Владивы только накрывали к завтраку, Мистина сел к столу. К нему подбежала поздороваться сводная сестра Валяша – шестилетняя дочка Владивы, вскрикнула: «Ой, у тебя опять кровь!» – но он только кивнул, не подняв глаз. Положил руку на стол, поднял рукав и уставился на старый белый шрам у запястья.
«И как теперь у нас единая кровь, так будут едины наши помыслы и желания… И пока эта кровь в моих жилах не заменится на другую, я не изменю и буду предан тебе, как брат брату. Буду помогать тебе и поддерживать во всем, как одна нога помогает другой ноге идти, а одна рука помогает другой руке биться. Если же нарушу священный обет побратимства, то пусть буду я расколот, как золото…»
Это случилось в тот день, когда Ингвар получил меч, то есть девять лет назад. Где-то на берегу Волхова осталось то место, где капли их с Ингваром крови упали на землю и скрылись под зеленым дерном.
Опустив голову, Мистина глубоко дышал, стараясь облегчить тяжесть в груди. Он был оскорблен сделанным предложением – только дурак не понял бы Хельги. Но воздержался от того, чтобы это показать. Чем больше краснорожий ублюдок полагается на успех своих хитростей, тем легче будет его подловить.
Неужели он, Мистина, так себя выдает? Если этот тролль, прожив здесь всего несколько дней, уже понял, куда бежит его взгляд?
Вот ведь выбрал время! Мистина и так вышел во двор сам не свой. Он тоже за два дня соскучился по Эльге, но не собирался идти вилять хвостом, будто пес, чтобы его вновь допустили в дом, после того как прогнали, будто пса. А она вдруг пришла сама. Прямо в спальный чулан. Села к нему на лежанку. Поцеловала его – на один раз больше, чем он попросил. И если потом отпрянула, то не потому, что ей не понравилось. Совсем наоборот. Он видел испуг в ее глазах – не перед ним, а перед силой ее собственного влечения. И сорок сладкоречивых родичей не могли бы повлять на него сильнее, чем один этот ее взгляд. Это невесомое, неощутимое оружие тем не менее могло разрушить всю их сложившуюся жизнь. Стоило ему, Мистине, сделать один шаг – от Ингвара, стоявшего между ним и Эльгой, к Хельги, обещавшему ее отдать… Никогда! Пока эта кровь в моих жилах не заменится на другую… даже ради самой Фрейи…
Но сейчас Мистине вновь захотелось своими руками уничтожить Хельги, чтобы больше никогда не слышать таких предложений.
Глава 8
В Киев наконец прибыл Ранди Ворон и купцы, ездившие с ним к рубежам Хазарии, в восточную часть Греческого моря. Назавтра в княжьей гриднице собралась старшая дружина. На почетном месте сидел Свенельд, рядом – Ранди, с которым они были знакомы с детства, так как оба происходили из Хольмгарда. Возле Ранди на скамье устроились Гудфаст, Кари, Свен, Тронд, Аудун, Бёдвар – все опытные в дальних поездках люди, знающие пути и понимающие несколько языков: кроме родного северного и славянского, почти все знали греческий, многие – хазарский, кое-кто мог объясниться с печенегами. Ранди, Кари и Гудфаст были ровесниками Свенельда, остальные – моложе, но у всех на выдубленных ветрами лицах отражалась спокойная уверенность бывалых людей. Даже среди бродячего племени руси эти люди выделялись – иным из них случалось измерять весь обитаемый мир от Йотунхейма до Серкланда.
– Да, четыре десятины хотели мытники в Самкрае за разрешение продать наши товары там, – рассказывал Ранди Ворон – рослый худощавый мужчина лет пятидесяти, с острыми чертами загорелого лица и полуседыми темными волосами, зачесанными назад от морщинистого лба и связанными в хвост. – Когда же мы спросили, во что нам обойдется разрешение проехать от Самкрая на Гурганское море, они захотели уже половину всего. Когда же я спросил у тудуна, что тому причиной, он ответил: у вашего бека нет с нами договора, а без договора ставки всегда высоки.
– Но ведь по старому договору он действует до заключения нового! – напомнил Свенельд. – Ты же сказал ему об этом?
– Само собой. А он сказал, что это касается случаев, когда старый князь умирает своей смертью.
– Да он же вовсе не умер! – воскликнул Ингвар. – А если что, я ни при чем!
– Ну, ты же знаешь этих людей! – развел руками Ранди. – Они сказали, что если князь отнимает власть у своего родича и изгоняет его, то доверять ему нельзя и нужно заключать новый договор, а потом уже вести дела.
– Как будто я один такой на свете – отнял власть у родича!
– У них у самих прямо мир и любовь! – насмешливо поддержал Мистина.
– Тудун сказал, что с удовольствием примет на следующий год посольство, а пока не может предложить ничего другого, поскольку связи с русами без договоров – дело очень опасное. Мы прикинули, что подарить им четыре или пять куниц из десятка – это шалишь!
Ранди покачал головой, и воеводы на скамьях загудели.
– Я сказал, что подумаю, – продолжал Ворон. – Ясно было: это еще не все. И точно: дня через два, пока наши слонялись по торгам и смотрели, что там почем, ко мне зашли трое уважемых людей. Такие, знаешь, Ингвар, в высоких белых шапках, – он усмехнулся, показав руками высоту шапок, и гриди сдержанно засмеялись. – Эти добрые люди сказали, что готовы купить у нас все прямо в море, чтобы мы не заходили в гавань, и, таким образом, нам можно будет не платить никаких пошлин. Но в ту цену, какую они предложили, было включено подношение тудуну, чтобы его стража в это время смотрела в другую сторону, так что выиграли бы от этой сделки люди в белых шапках, но не мы.
– Кто бы сомневался, – проворчал Свенельд.
– Мы тоже обещали подумать, и они ушли. Еще через два дня к нам пришли другие трое…
– В таких же белых шапках? – уточнил Ингвар.
– Конунг, ну ты прямо ясновидящий! – Ранди в показном изумлении развел руками. – Эти люди предложили дать нам грамоту от них к их единоверцам у нас тут, в Козарах[15], чтобы они купили у нас этот товар и нам вовсе не пришлось никуда его возить.
– Ты спросил о цене…
– Я спросил о цене, чтобы не выглядеть совсем уж рохлей, не понимающим в делах. И оказалось – кто бы мог подумать! Что эти люди предложат цену, которая позволит им получить прибыль, считая перевоз отсюда на Гурганское море, пошлины в Самкрае и дары для тудуна, чтобы он не узнал этих куниц. Я взял эти грамоты, – Ранди показал кожаный мешок, – ибо за это с меня не спросили денег. Можно пригласить из Козар Гостяту Кавара, пусть почитает нам.
– А Гостята есть среди тех, кому назначены грамоты? – спросил Ингвар.
– Да, ведь все хазарские дела в Киеве идут через него. Так что, княже, я правильно поступил, привезя твоих куниц назад?
Ингвар угрюмо кивнул. Вопрос Ранди можно было бы счесть издевкой: этот человек уже ходил с товаром на Готланд и Бьёрко, когда сам Ингвар едва научился ходить своими ногами. И он предпочел бы, чтобы тот не задавал ему вопросов, а дал совет. Что делать теперь, куда сбывать дань, если хазары выстроили непробиваемую стену из своих уловок, с греками нет договора, с булгарами тоже нет… Асмунд куда-то запропастился к троллям – ему уже пора вернуться, а то ведь и снег пойдет.
Сухопутные дороги на запад неспокойны из-за угров. Оставался другой край света – Северные Страны. По переданной через Мистину просьбе королева Сванхейд сама уже отправила послов подтвердить договора с конунгами свеев и данов, которые ее знают. Но туда теперь можно попасть не раньше следующего лета. Да и цены на куниц на Готланде совсем не те, что бывают в Самкрае и Царьграде.
– А от греков люди еще не приехали, да? – Ранди еще раз окинул взглядом лица. – Не вижу ни Вефаста, ни Вермунда, ни молодого Асмунда.
– У греков дела быстро не делаются, – напомнил Стемид. – Если до зимы успеют хоть с кем там поговорить и вернуться с толком – и то слава богам.
– А они говорили что-нибудь об условиях договора, который предложат послам? – спросил Ингвар.
– Тудун дал понять, что наилучшим будет условие, по которому мы станем продавать свой товар его людям в Киеве. То есть здесь нам дадут наилучшую цену – учитывая дорогу, пошлины и дары.
– Они хотят, чтобы наши люди вовсе не ездили к ним? – уточнил Мистина.
– Именно. Я так понял, что нам не запретят возить свои товары в Самкрай, но будет ли того стоить беспокойство?
Все помолчали. Воеводы вопросительно поглядывали на Ингвара, ожидая его слова.
– Я бы сказал, решение лезет в глаза не меньше, чем топор во лбу! – видя, что князь мешкает, подал голос воевода Ивор. – Если хазарам не нравятся наши куницы, можем предложить им наши мечи!
Гриди негромко загудели.
– Время то самое – договора нет! – крикнул Хрольв. – Ингвар, мы этого и ждали, а они сами головы подставили!
Ингвар молчал, меняясь в лице. Ему предлагали первый военный поход, который он возглавил бы как вождь руси. Он не боялся, нет. Имея в виду эту цель, он и боролся за власть в Киеве. Но за эти немногие месяцы он кое-что понял.
– Погоди, Ивор! – Свенельд поднял руку. – Рано пока колотить о щит.
– Почему это рано? – задорно возразил тот. – Мы для того избрали себе другого князя, чтобы он вел нас за добычей, и ты нам это обещал, старик!
Гриди загудели громче: все так и было.
– Мы еще не дождались Асмунда и прочих, кто поехал к грекам! – повысив голос, напомнил Свенельд.
При слове «греки» все разом затихли.
– Дождемся их и послушаем, что нам передали от кесарей. А потом уж будем думать, куда поворачивать штевни: на Миклагард или на Самкрай. Прав я, Ивор?
– Прав, старик! – тот покаянно кивнул.
– Вот то-то же!
«И не хотела бы я увидеть, как вам придется воевать с греками и хазарами одновременно, не имея никакой возможности сбыть дань и получить деньги на поход», – подумала Эльга. Но промолчала: говорить в собрании дружины она могла бы, лишь сидя на единственном престоле в этом помещении. Как сидит теперь, после смерти мужа, королева Сванхейд.
Подумав о Сванхейд, Эльга невольно глянула на Мистину. Оказалось, что он в это время тоже смотрел на нее – впервые за сегодняшний день, – но тут же отвел глаза.
– А с хазарами как быть? – спросил Острогляд.
Его род был тесно связан с родом Вещего уже давно, и среди вернувшихся куниц были и его собственные. По брачному ряду с внучкой Вещего он имел право сам торговать за морем, и Ингвар оставил ему это право. Поэтому, хоть Острогляд и принадлежал к числу сторонников смещения «слишком робкого» Олега Предславича, торговые дела для него тоже были важны.
– Есть один замысел, – ответил Свенельд; Ингвар резко взмахнул рукой, и по этому двойному знаку люди притихли. – Мы возьмем твои грамотки к жидинам, Ранди, но у нас будет и еще кое-что для них…
– Что? – заговорили на скамьях.
– Старик что-то придумал! – многозначительно заметил Ивор.
– Помните то дело с жидином Якобом? Который пять лет назад поручился на сто шелягов за своего брата, что погиб в дороге с товаром?
– Какого ты в порубе держал? – припомнил Острогляд.
– Тот самый. Потом все наши жидины дали мне шестьдесят шелягов и поручились за остальное, и я выпустил его, и он пошел по всем жидинам белого света собирать недостающие сорок. И ведь не вернулся, подлец! Он все еще должен мне сорок шелягов, за которые поручились Козаре.
– И что?
Ингвар внимательно слушал, не сводя глаз с лица воспитателя.
– Хрен в решето! – почти ласково ответил Свенельд. – Под той грамоткой, что они ручаются, их подписалось десяток жидинов. Сам Гостята, Егуда, Рувен, Шимшон, Куфин и прочая их троллева братия[16]. Поручительство есть. Денег нет. Придется мне князю бить челом, – по-славянски сказал Свенельд, – чтобы рассудил меня, беднягу, с этими жадными жуками.
– Бей прямо сейчас! – приказал Ингвар, которому не терпелось постичь поскорее этот замысел целиком.
– Ты рассудишь, что я так ждал слишком долго и на те шеляги наросла большая лихва. Я потребую, чтобы они вернули деньги завтра. И если денег у них нет, я у каждого поручителя заберу из дома жену или девку, смотря кто попригляднее собой. И буду их нажаривать, пока мужья не взвоют.
Гриди загоготали, посыпались уточнения. Эльга из скромности поднесла ладонь ко лбу, не желая видеть этой радости парней, а заодно чтобы никто не видел ее улыбки. Замысел был хорош: вопреки своей грубой внешности, Свенельд умел работать и головой.
– И тогда рахдонитам придется быть посговорчивее, если они хотят спасти от позора своих единоверцев! – закончил Свенельд. – Мы сбудем по хорошей цене нынешнюю дань и выиграем время до будущего года. А за зиму разберемся, куда и как нам идти.
Это решение все одобрили. К радости Эльги, Ингвар явно остался доволен, что его воспитатель предложил обождать и не собираться в поход на Самкрай прямо сейчас, не разобравшись с прочими делами. Он учился на глазах.
* * *
Вечером, когда гриди и воеводы еще пили, Ингвар мигнул Мистине на выход. Они выбрались во двор и отступили за угол.
– В избу не пойдем, там она, – сказал Ингвар, имея в виду жену. – Не хочу, чтобы слышала. Приходила же она к тебе? Вы помирились?
– А вы? – насмешливо осведомился Мистина, радуясь, что в полутьме побратим ничего лишнего не разглядит на его лице.
– Она-то теперь довольна. А я не пойму: вы с отцом рехнулись? Свенельд отдает этому ублюдку Деревлянь?
– Ага.
Однако Ингвар был не так прост и знал этих двоих всю жизнь.
– Долговязый… кого вы обманываете?
– Никого. Он получит то, чего хочет.
– Что ты мне голову морочишь! – Ингвар в досаде несильно заехал побратиму кулаком в грудь.
– Рыжий… – Мистина встал перед ним и с высоты своего роста положил обе руки ему на плечи. – Ты что, дитя? – мягко спросил он.
– Но вы же сами говорите: он поедет в Деревлянь дань собирать…
– Да. Поедет. Но разве кто-нибудь из нас обещал, что он вернется назад?
Ингвар промолчал. Все встало на свои места. Мог бы и сам сообразить… Сообразил бы, если бы в голове не выли троллями сразу десяток разных сложностей княжеской жизни.
Мистина тоже ничего не добавил. Рыжему незачем знать, что сегодня утром Хельги Красный дал ему повод для ненависти, касавшийся уже не семьи старого Ульва, а его самого.
* * *
Никто в Киеве не помнил времен, когда здесь не жили бы хазары. Иные даже говорили, что они-то и основали Киев, но это, конечно, вздор: ведь города всегда строят на горах, а хазары никогда на киевских горах своих дворов не имели, а сидели у Почайны, близ пристани. Но что именно они первыми завели в Киеве торговлю – это наверняка. Хазарские купцы первыми стали привозить сюда заморские товары и менять на мед, воск и меха, а потом, когда здесь появилась русь – на захваченный в походах полон. Оттого и сели у реки. Хазарам принадлежало особое урочище – Козаре, где теснились их дворы, клети для товаров, длинные сараи для полона. Киевские хазары были не все одинаковые: часть из них называлась жидинами, и эти верили в какого-то одного бога, которого называли Всесильным, – как все знатные люди каганата и сам каган. Другие оставались поклонниками старых богов Тэнгри и Умай, имелись среди них и христиане. Иные хазарские роды обитали в Киеве не первый век; сыны Тэнгри уже почти ничем не отличались от славян, ибо роднились с ними на протяжении поколений, и даже домашним языком этих семей давно стал славянский. Только жидины жили замкнуто, роднились лишь между собой и оттого выделялись смуглыми, почти безбородыми лицами, степняцким разрезом глаз и черными волосами под высокими валяными шапками белой шерсти.
В этот день княжья дружина покинула Олегову гору на первой заре. Даже завтрак отложили, но Эльга тоже встала и вышла во двор. Волновалась, будто в ожидании битвы, хотя Ингвар уверял ее, что никакой опасности для города и тем более княжьего двора нет и быть не может. Три дня перед этим князь и воеводы узким кругом обсуждали предстоящее, следя, чтобы слухи не просочились в город, и даже княгиня знала их замысел приблизительно. Удалось ей услышать лишь кое-что. Когда последний совет закончился и Ингвар прислал отрока с разрешением подавать на стол, она уловила, как муж сказал гридям:
– Только не убейте никого. А то еще сами должны останемся.
Это несколько успокоило Эльгу: больших волнений в Киеве она опасалась. Но, судя по веселым лицам гридей и воевод, те ожидали скорее развлечения, чем настоящего столкновения.
Вышла ближняя дружина – шестьдесят человек. Снарядились полностью: шлемы, кольчуги, мечи, топоры, копья. Без шума, держа щиты за спиной, спустились к Почайне и окружили урочище Козаре, отрезав от реки и от остальной части города. И встали за тынами, перекрыв все выходы.
Рассвело, заскрипели ворота, хозяева собрались гнать скотину на луг, женщины и челядь – идти за водой. И тут оказалось, что улицы заняты отроками Свенельда. Выбрав одиннадцать нужных дворов, те ждали знака. И вот раздался рев боевого рога, переполошив всех здешних обитателей. Еще более оглушительный от неожиданности и неуместности на тихих полусонных улицах у Почайны, он прозвучал, будто голос чудовища, Змея Горыныча, вдруг павшего с неба.
Едва у Реувена или Куфина бар Йосефа растворились ворота, как туда немедленно устремились отроки. У торговцев была своя охрана, набранная тоже из русов, но те, лишь увидев, кто им противостоит, предпочли отступить и спрятаться. Крича, молотя топорами по щитам, отроки занимали дворы и сгоняли к воротам всех женщин – хозяйскую семью и прислугу. Над Козарами повисли визг и вопли; веселясь, отроки бегали за женщинами по всем постройкам и закоулкам, норовя шлепнуть по заду плоской стороной клинка в ножнах.
– Ты, Куфин бар Йосеф, поручился за Якоба бен Хануку, который должен воеводе Свенельду сорок шелягов! – объявлял Сигге Сакс, вслед за отроками заехавший во двор верхом. – Воевода пять лет ждал возврата вашего долга, но теперь князь повелел взыскать его.
– Но Якоб ушел собирать эти деньги среди наших единоверцев! – Изумленный хозяин воздымал руки к небу.
– Он собирает слишком долго. Князь повелел в обеспечение долга забрать у тебя со двора девку. Вот эту! – Десятник плетью показывал на какую-нибудь из молодых женщин, которая по виду более походила на родственницу хозяина: дочь, молодую жену или невестку. – Взять!
И если хозяин продолжал противиться, следовал короткий приказ:
– Дайте ему по голове!
Потом отроки хватали женщину и волокли на улицу. Дворы один за другим наполнялись воплями и плачем. Иные из поручителей успевали закрыть ворота, но тогда быстро появлялось заранее приготовленное бревно, и отроки в шесть пар рук принимались колотить им в ворота. Не рассчитанные на настоящую осаду, те быстро начинали трещать и ломаться, и вот уже створки валились наземь под ликующие вопли отроков. Иные жители Козар пытались бежать, но оказывалось, что все выходы из урочища прочно перекрыты уже княжьими гридями: те сами не вмешивались, но, перегородив проходы стеной щитов с выставленными копьями, не выпустили из Козар ни одного человека. Мало кто понимал, что происходит, в урочище у Почайны везде звучали испуганные и горестные голоса. Иным с испугу померещилось, будто князь решил вовсе уничтожить все хазарское население города.
– Это месть, его месть за то, что в Самкрае ему не дали продать товары! – кричали напуганные хазары. – О мой бог!
– Чем мы виноваты, мы же бедные люди!
Тот же переполох происходил и у Гостяты Кавара – главы хазарской общины и старшего священника-когена. К нему явился верхом на коне сам Свенельд и застал хозяина, едва одетого, уже во дворе среди толпы причитающих женщин и побитых домочадцев.
– Что такое ты творишь, Свенельд? – воскликнул Гостята, в негодовании простирая к нему руки.
– Исполняю волю моего князя, – Свенельд смотрел на него с коня, поигрывая своей знаменитой плетью: рукоять ее была сделана из обломка копейного наконечника, отделанного серебром и медью. – Ваши жидины из каганата не пожелали принять наши товары по разумной цене – хотя бы той, что они у себя считают разумной! – и теперь у меня не хватает средств содержать мою дружину. Больше я не могу ждать возврата вашего долга и забираю по женщине у каждого из вас.
– Но это незаконно! С каждого из нас тебе причитается всего по четыре шеляга! Возьми в залог что-то из скота или моего товара – но не человека же!
– Еще лихва накопилась. Сорок лет мне, что ли, за вами ждать? Принесете деньги в три дня – получите своих девок. А нет – их получат мои парни.
– С прибылью вернем! – ржали вокруг оружники.
– Не рыдай, старуха, скоро будут у тебя внуки!
– Да не такие черные, будто в печке родились – голубоглазые, как мы!
– Воевода, это беззаконие! – Гостята шагнул вперед, но отроки мигом сомкнули щиты перед мордой воеводского коня. – Побойся твоих богов!
– Я сказал. Принесешь деньги – получишь свою деву назад. Только не знаю, девой ли… Взяли, пошли, – коротко распорядился Свенельд, кивнув десятнику, и развернул коня.
– Те же, кто поедом ест народ Израиля, будут виновны, и беды настигнут их! – неслось ему вслед. – Так говорит Бог!
На улице уже собирали в кучу захваченных пленниц. Чуть больше десятка молодых женщин и девушек из жидиновских семей, одетых по хазарскому обычаю – в мешковатые льняные платья до колена и порты под ними, в белых шапочках на черных волосах, цеплялись друг за друга и обливались слезами. Свенельд поехал прочь, отроки погнали за ним рыдающих от страха и стыда пленниц. Сзади бежала толпа хазар – отцов, матерей, прочих родственников и домочадцев. Заламывая руки и призывая бога, они могли лишь смотреть, как уводят их дочерей. Даже если бы жители хазарского урочища посмели вооружиться, одолеть воеводскую и княжескую дружины у них не было бы ни малейшей надежды.
Киев бурлил, все прочие тоже закрывали ворота и вооружали домочадцев на случай беспорядков. Ведь стоит где-то загореться двум-трем дворам – начнется переполох, когда уже никто не знает, кого и за что бьют, а дурные людишки норовят под шумок урвать что получится. Слухи по горам полетели самые разные: одни говорили, что князь разоряет хазарский конец, другие – что наоборот, напали хазары, а князь отбивается. Кто-то вещал, что какой-то новый князь явился сразиться с Ингваром, как когда-то Олег сражался с Аскольдом – недаром же шум идет от пристани! Пока дело не прояснилось, киевляне засели за своими тынами.
Но ничего не горело, и вскоре шум улегся. Свенельд с дружиной увел добытых заложниц к себе, княжья дружина разошлась по городу, готовая пресечь волнения. Уже после полудня, видя, что переполох улегся, Киев зажил обычной жизнью. Гриди вернулись на княжий двор, смеясь и обсуждая бурное утро. Им ни в чем не привелось поучаствовать, и они явно завидовали Свенельдовым отрокам, которые так повеселились, гоняя хазарок и вынося ворота жидиновских дворов. В гриднице для них уже была готова каша; десятники рассказывали Ингвару, как все прошло, и Эльга с любопытством слушала.
– Я поеду к Уте, – сказала она, услышав, что десяток захваченных хазарок отвели на Свенельдов двор. – Ни к чему ей сейчас такое беспокойство, может, надо помочь?
– Ну, съезди, помоги, – Ингвар не слишком обрадовался, но не стал с ней спорить, помня недавнюю ссору. – Хрольв! Возьми своих, проводи княгиню.
Когда Эльга приехала на Свенельдов двор, там царило оживление. Еще под воротами она заметила толпу немолодых хазар: видимо, родители и мужья уведенных последовали за ними до самого конца пути, надеясь выяснить их судьбу. Причем толпа далеко превышала двадцать человек – соседи тоже пришли поддержать своих в час тревоги. Слышались причитания. Ворота были закрыты, перед ними стоял десяток отроков, сомкнув щиты и не подпуская никого близко.
При виде княгини хазары заволновались сильнее; иные из женщин с жалобным воплем подались к ней, пытаясь схватить за стремя, но Хрольв резким окриком и взмахом плети предупредил, что не подпустит; отроки Эльги сомкнули щиты. Эллиди, возглавлявший десяток охраны, сделал знак своим людям расступиться и открыть ворота.
Эльга проехала во двор, оставив за спиной полуразборчивые причитания на славянском и хазарском языке. Ей было тревожно: Ингвар не поладил с хазарами из каганата, а расплачиваться за них пришлось здешним, киевским хазарам, подданным самого Ингвара. Причем эти люди были совсем не богаты: одиннадцать человек смогли собрать лишь шестьдесят шелягов, а еще сорок остались должны. Эльга знала, что истинная цель набега находилась гораздо дальше, чем урочище над Почайной, тем не менее ей было жаль невинных людей, которых ожидали такие тревоги.
И хорошо еще, если киевские хазары отделаются одним испугом. В Киеве по старой памяти не любили хазар, хотя нынешние уже были никак не причастны к поборам столетней давности и давно уже жили куда беднее руси, которая прочно забрала в руки торговлю мехами и полоном. Но ведь злобе людской только дай повод: не желая, чтобы киевляне приняли Свенельдов наскок за разрешение делать то же самое, Ингвар оставил три десятка гридей близ Козар, на случай если народ попытается громить дворы. А право на насилие Ингвар оставлял за собой – именно так он понимал свою княжескую власть.
Но бедой грозило не только это. Если расчет Ингвара и воевод не оправдается, набег лишь углубит раздор, разрушит киевскую торговлю и сделает бесполезным расположение города, ради чего за это место уже не первый век сражаются племена и властители.
Думая об этом, Эльга стискивала зубы и мысленно призывала себя к мужеству. Дома в Варягине она и представить не могла таких тревог! Ее родичи по матери, плесковские князья, жили куда спокойнее. Кроме редких набегов чуди и однажды – викингов, они не знали напастей помимо вечного страха неурожая или падежа скота. И даже здесь, в Киеве, пока Ингвар и Эльга были всего лишь парой заложников из Хольмгарда, она тайком завидовала власти и почету, которые имела ее золовка, княгиня Мальфрид, но как-то не замечала тревог и хлопот, которые той приходилось нести.
В Свенельдовой гриднице стоял гудеж: разгоряченные набегом отроки ели, пили и делились впечатлениями. Спешившись, Эльга пошла искать Уту и нашла ее в избе для челяди, куда загнали полонянок. Те еще рыдали, и Ута с Владивой наблюдали за ними в растерянности.
– Ну, что там, в городе? – с беспокойством спросила Ута. – Много шума?
– Нет, уже все успокоилось. Я тебя проведать приехала. Что ты будешь с ними делать? – Эльга окинула любопытным взглядом десяток пленниц. – Сколько их?
– Двенадцать. А что я буду с ними делать – кто бы мне подсказал! – Ута поморщилась, стараясь одолеть расстройство. – Куда я их дену? Клети были свободны – так теперь куниц и прочее назад привезли, там все занято. Придется этих здесь оставить, а своих девок в избу брать. Парни говорят, там все их отцы-матери под воротами стоят…
– Стоят, я сама видела. И вся прочая родня… Чисто игрища!
– Теперь мы вроде как в осаде! Вот навязались на мою голову! Мужики веселятся, а мне забота! Куда уложу всех?
– Тебе не нужны эти девки? – удивилась Эльга. – Отдай мне, я тебе поклонюсь!
Она сама считала это шуткой, но Ута посмотрела на нее с надеждой:
– Правда? Ты их можешь забрать?
– Могу? – Эльга всплеснула руками. – Да я бы их на себе понесла, было бы под силу! У меня хлеба нет на столе третий день – некому молоть! А ты спрашиваешь, не надо ли мне десять баб – двадцать рук!
– Ох, я бы тебе их отдала с радостью! Но они же не мои – Свенельдовы!
– Я с ним поговорю.
Немного времени спустя десяток хазарок вновь вывели во двор. Иные еще всхлипывали и неразборчиво жаловались на своем языке, другие примолкли и озирались. Свенельдовы отроки со смехом окружили их, собираясь провожать на Олегову гору. Ржали, как кони, и отпускали шуточки.
– Это куда вы наш полон ведете? – раздался вдруг удивленный голос.
Эльга обернулась. Мистина стоял перед ней, положив руки на пояс, и насмешливо оглядывал толпу зареванных женщин.
– Я забираю их! – ответила Эльга. – Мне нужна челядь, а у вас они будут только даром хлеб есть.
– Отец с этим согласился?
– Да!
– Ну, ладно. Это его бабы. – Мистина сделал шаг в сторону, но остановился. – Нет, погоди. Одну мне оставь. – Он окинул толпу быстрым цепким взглядом. – Вот эту!
Он кивнул на девушку – довольно рослую, с длинными черными косами, спускавшимися на грудь из-под белой льняной шапочки.
– Тебе до нее что за дело? – Эльга шагнула к нему. – У вас от челяди по двору не пройти – споткнешься об кого-нибудь! А у меня каждая пара рук на счету! Жернова крутить некому.
– А эту оставь, я сказал!
– Зачем?
– Затем! – Мистина выразительно поднял брови и слегка кивнул на Уту. Потом подошел к Эльге вплотную, наклонился к ее лицу и прошептал, чтобы не слышал весь двор: – Дитя ты, что ли? Затем, что у жены живот скоро к носу полезет, и мне еще месяца три при ней холостым ходить.
Эльге кровь бросилась в лицо. Она глубоко вдохнула и сделала шаг назад, чтобы лучше видеть его глаза.
– О-бой-дешься! – отчеканила она. – Ишь чего захотел, глаза твои бесстыжие!
От возмущения ее налило жаром; казалось, с кончиков пальцев сейчас сорвется пламя. Слова теснились, не находя выхода; в ярости она вонзила в него негодующий взгляд.
И вдруг увидела, как он быстро ей подмигнул.
Этого готовая к спору Эльга не ожидала и растерялась. А Мистина двинул бровями, будто говоря: продолжай!
– Не получишь ты ее! – исполнившись воодушевления, воскликнула Эльга. – Я заберу их всех! И эту тоже! Она будет жить у меня, и ни ты, ни другой какой жеребец к ним близко не подойдет!
– Княгиня, не тебе ими распоряжаться! – вызывающе ответил Мистина. – Мой отец волен над ними! Захочу – всех переимею, а потом дружине отдам!
Отроки рядом одобрительно загомонили: именно так, по их мнению, и полагалось поступить.
– Мало ли чего вы хотите! – Эльга не собиралась отступать. – Будто девок нет! Мало – еще купите! А этих нельзя! Они – заложницы, а с заложниками так не обходятся!
– Они не заложницы! Они – возмещение! Жидины клятые пять лет назад должны были принести отцу те сорок шелягов, все сроки давно вышли!
– Много хотите – женщину за четыре шеляга!
– Вот вернут по четыре шеляга со двора – получат своих баб назад!
– Только с прибытком! – крикнул кто-то из отроков.
– С приплодом!
– Пусть жидины спасибо скажут – взяли по одной бабе, вернем по две!
– Они заплатят! – твердо сказала Эльга среди гогота дружины. – Я знаю, у них найдутся родичи побогаче, и избавят этих женщин от позора. Иначе вы им за бесчестье будете должны не по четыре шеляга, а десять раз по четыре! Они будут жить у меня и работать на поварне. И чтоб я никого из вас и близко не видела! Альв, пошли!
Альв, старший оружник Мистины, взглянул на хозяина, но тот лишь улыбнулся. Хрольв подсадил Эльгу на лошадь, она сердито расправила заколотый на плече плащ, прикрывая колени, и двинулась со двора. Во главе шествия из оружников и женщин она имела такой гордый вид, будто вела домой с войны победносное войско с добычей и пленными.
Ута посмотрела на мужа. Тот старался сохранять невозмутимость, но сквозь эту невозмутимость пробивался необъяснимый восторг. Когда Эльга со своей добычей скрылась за воротами, он повернулся спиной и закрыл лицо руками; плечи его затряслись, будто он рыдает. Но вообразить Свенельдича рыдающим, даже из-за ссоры с княгиней, у его жены никак не получалось. Надо было думать, что его душит неудержимый смех. Вот поди пойми их!
* * *
Доставив свой «полон» на княжий двор и расставив по местам у жерновов, Эльга с удовлетворением надзирала за работой и порой зажимала себе рот ладонью, чтобы не смеяться. Дело сложилось удачно, хотя она еще не понимала всего до конца. Сначала ее почему-то очень возмутило намерение Мистины до тех пор, пока жена не родит и не оправится, удовлетворять свой пыл с юной хазаркой. Как выяснилось, ту звали Мерав и она была младшей дочерью самого Гостяты Кавара, последней из детей, кто еще оставался при родителях. Ута беременна в третий раз, раньше Мистина же как-то обходился? А как – Эльга не желала знать. У Свенельда на дворе есть молодые девки… Однако поведение Мистины ее удивило. Она уже достаточно его знала, чтобы понять: он не был по-настоящему возмущен этим грабежом. Наоборот. Обрадовался, когда она стала спорить. Что это значит? Если на самом деле он не хочет эту хазарку, так никто же не заставляет!
– Да благословит тебя Бог, госпожа! – еще когда она привела к себе женщин, сказала ей одна из пленниц, самая старшая на вид – лет тридцати, смуглая, сухощавая и едва с половиной зубов во рту. – Мы будем верно служить тебе, пока наши мужья и отцы не найдут эти проклятые деньги.
– Кто ты?
– Я – Левана, жена Хануки бар Моше, а вот это – его сестра Шуламит. Ты спасла нас от поруганья, мы будем молить Бога за тебя и твоего ребенка.
Прочие женщины стали кланяться.
– Работайте как следует, – нахмурилась Эльга. – У меня не хватает челяди, поэтому мне и правда нужны ваши руки. Если ваши мужчины не найдут этих денег, мы условимся, за какой срок вы их отработаете.
Убедившись, что хазарки усердно вращают жернова и даже запели – явно желая угодить хозяйке, Эльга ушла в избу проведать ребенка. Ей не понравилось, что Левана упомянула о нем, пусть и обещая за него молиться. Впервые Эльге пришло в голову, что зло, которое Ингвар вольно или невольно причинит людям как русский князь, может через их проклятья пасть на голову его дитяти.
Она взяла Святку на руки: здоровый, крепкий, подвижный мальчик, он не оставлял причин тревожиться, и все же Эльга встревожилась. Обычных детских оберегов тут недостаточно. Надо сказать Ингвару, чтобы положил в Святкину постель какой-нибудь свой меч. Вытащить его из ножен и пораниться у двухлетнего мальца еще не хватит сил, зато прославленный рейнский клинок, истинное средоточие силы и отваги, будет надежно держать на расстоянии любое зло.
Вошел Ингвар. Обрадовавшись, Эльга открыла рот, чтобы сказать ему, что надумала, но смолчала: муж взглянул на нее весьма хмуро. Остановился посреди избы, упер руки в бока и воззрился на нее с осуждающе-снисходительным видом, который был у него припасен нарочно для нее.
– Что еще случилось? – вздохнула Эльга.
Да может ли теперь хоть один день пройти гладко!
– Спрашиваешь? Люди говорят, ты опять с Долговязым повздорила. Ну, что ты за баба такая? – Ингвар шагнул к ней. – И прямо у него во дворе! На людях! Говорят, уже весь Киев знает! Весь Киев, йотуна мать, языками треплет, как ты со Свенельдовым сыном побранилась из-за какой-то хазарки! Где эта троллева хазарка, я ей сам шею сверну! Ты его опять псом обругала? И теперь он тебя на двор не пускает? Будто мне без вас мало забот! Что мне делать с вами, йотунов свет!
Ингвар в досаде хлопнул себя по бедру.
– А… это! – Эльга удивилась, потом засмеялась. – Сердца не тревожь.
– Что? Ты меня так и с самим Свенельдом поссоришь, и как мы жить будем? Мало мне твоего братца краснорожего! Он что, укусил тебя? Что мне с тобой делать?
– Да ни с кем я тебя не поссорю!
– Скажешь, вы с Долговязым не побранились на всю улицу?
– Побранились. Но мы не поссорились.
– Это как?
– Да просто. Вы с ним тогда подрались, но не поссорились, а мы – побранились, но не поссорились.
– Зачем? – помолчав, спросил ничего не понимающий Ингвар.
– Не знаю, – вздохнула Эльга. – Он сам так хотел. У него и спроси.
– Йотуна ма-ать…
* * *
Зачем все это было нужно, выяснилось на следующий день. На княжий двор явился Гостята Кавар, глава и священник хазарской общины Киева, и попросил о беседе с княгиней.
С ним самим Эльга была давно знакома: он нередко посещал княжий двор, но дома у него, разумеется, она никогда не бывала и потому его дочь увидела вчера впервые. Услышав о госте, Эльга прошла в гридницу и велела позвать его туда. Старейшина Козар явился в сопровождении еще двоих пострадавших от вчерашнего набега: Манара бар Шмуэля и Иегуды бар Ицхака.
– От имени всех наших людей, несчастных отцов и матерей, я пришел поблагодарить тебя, княгиня, за твою доброту и заботу о наших невинных дочерях и добродетельных женах, что подобны благовониям, как Сара, Ривка, Рахель и Лия! – сказал он, кланяясь и держа перед собой валяную белую шапку. – В твоих руках находится последнее утешение моей старости, моя последняя дочь Мерав, но я благодарю Бога нашего за это, ибо верю, что ты оградишь ее и других жен и дочерей наших от поругания и бесчестья. Да будет благосклонен к тебе Бог и помилует тебя! Пусть явит тебе Свое радостное лицо и сделает тебя приятной в глазах всех, кто тебя увидит!
Все трое вновь поклонились.
– Все наши люди благодарны тебе, княгиня, что вырвала наших овечек из пасти льва, демона пустыни! – подхватил Иегуда, родом не хазарин, а скорее боспорец, рослый старик с длинными белыми волосами и седой пышной бородой. – Да обратит Бог лицо Свое к тебе и даст тебе мир!
При этом он боязливо косился на Свенельда, сидевшего возле князя, но тот лишь ухмылялся, довольный, что его считают львом. Что такое лев, он знал, поскольку бывал в Царьграде и видел там высеченные из камня изображения этого зверя.
– Матери и отцы призывают благословение Божие на тебя, твою семью и твое чадо и молят Бога умножить твой дом, стада и домочадцев! – добавил Манар.
– Я рада помочь женщинам, неповинным в раздоре, – ответила Эльга. – Но я не смогу защитить вас от гнева князя, если вы сами не поможете преодолеть несогласие.
– Об этом мы и хотели с тобой говорить, – снова поклонился Гостята. – Моя жена, добродетельная Бейла, пришла ко мне из семьи уважаемого человека, Авшалома бар Нааман. Не в пример мне и моим киевским собратьям, он был весьма богат и вел выгодную торговлю, поставляя по Кордовскому пути невольников с берегов Днепра и других славянских рек.
– Слыхал я про него, – кивнул Свенельд. – Но если у тебя есть такой богатый родич, что же вы столько времени сорок дирхемов не могли собрать?
– Ведь это часть от стоимости одной молодой девки! – добавил Ингвар.
– Мы не так богаты и не входим в число тех состоятельных людей, что ведут торговлю по путям рахдонитов, – Гостята развел руками. – Ты знаешь сам, княже, как невелики наши здешние возможности в последние сто лет, с тех пор как не каганы, а князья руси стали решать, кто и как будет здесь торговать. Теперь и полоном, и мехами торгуют твои люди, а нам остается лишь перепродавать им собранные у людей излишки, чтобы везли за моря. Поэтому дела наши не блестящи – мы рады, когда у наших семей есть хлеб и наши дети не мерзнут зимой, вот и все.
– Ну так что ты говорил про твоего богатого тестя? – напомнил Ингвар.
– В ближайшее время я жду возвращения с запада его сына, почтенного Рафаила бар Авшалома. Он, конечно, пожелает выкупить свою племянницу, последнее утешение сестры в ее старости.
– Вот как приедет, приводи его сюда, тогда и поговорим, – небрежно бросил Ингвар. – Ну а пока ваши женщины останутся у моей жены. И пусть молят своего бога и работают изо всех сил, чтобы она была ими довольна! Иначе дружине отдам.
– Когда был народ Израиля во власти фараона в Египте, – Гостята поклонился Эльге, – поставил тот надсмотрщиков, чтобы следили, хорошо ли пленники работают, и если они работали плохо, то надсмотрщиков били палками. Но они позволяли избивать себя, лишь бы облегчить работу народу Израиля. И были они названы вождями Израиля и вождями колен. Они удостоились стать вождями, потому что позволяли избивать себя палками за народ Израиля. В том открыто нам: если кто-то поставлен старшим над народом Израиля и позволяет избивать себя за народ, он достоин быть вождем, и Бог воздаст ему великие почести! Помни об этом, княгиня, и не допусти, чтобы были погублены наши девы и добродетельные жены!
Глава 9
– Приехал!
От неожиданности Пестрянка вздрогнула и сердито обернулась: ребенок только что заснул, разве можно так кричать! У двери стояла тринадцатилетняя Дивуша и смотрела на нее вытаращенными глазами, с таким видом, будто за ней гонятся.
– Тише ты! – шикнула Пестрянка, показывая на лежанку, где спала с сыном.
– Асмунд приехал! – вполголоса, но с таким же чувством повторила Дивуша.
Внутри будто что-то оборвалось. Пестрянка услышала ее слова, но не сразу поверила. Дивуша горячо закивала.
Пестрянка встала, но сердце билось так сильно, что она опять села – перевести дух. Так взволновалась, будто ее застали у чужой клети с ворованным полотном. Приехал? Асмунд? Она так долго ждала – сначала дома, в Варягине, а потом здесь, в Киеве. Уже почти перестала верить, что дождется хоть когда-нибудь. И вот… а она не одета… в простом навершнике, в повое…
Она снова встала и сделала шаг к двери. Ей нужно было увидеть его, иначе не поверить, но что она ему скажет? В голове не осталось ни одной мысли, уста онемели.
– Он не здесь! – Дивуша вывела ее из затруднения. – Он на княжий двор приехал, а княгиня к нам отрока прислала. Ута мне велела тебе сказать.
– Н-на княжий двор?
– Говорят, сокровища какие-то привез!
– Сокровища?
– Дары от царя греческого. Говорят, много!
Пестрянка выдохнула и снова села, обрадованная, что не надо никуда бежать прямо сейчас и есть время прийти в себя. И прибраться как следует. И только тут ощутила первый проблеск радости. Муж, чье лицо уже несколько расплылось в памяти – а за три года он, должно быть, сильно изменился, возмужал, – объявился живой и здоровый. Совсем рядом. И вернулся из заморской поездки с большим успехом, если греческие цари дали ему дорогие дары, как давали Олегу Вещему. Ну, а как же иначе? Она же и раньше знала, что Асмунд лицом в грязь не ударит…
* * *
Посреди гридницы лежали три мешка. При свете огня очага в их раззявленных жерлах тускло поблескивало золото. Эльга смотрела на это, прижав руки к груди и судорожно сглатывая: от потрясения ее слегка замутило. Брат Асмунд сидел на скамье, вытянув длинные ноги к очагу, и пил пиво из глиняной кружки с таким видом, будто не лежало у его запыленных черевьев столько золота, сколько лишь сам Вещий получал с греков. За это лето он сильно загорел, похудел, так что щеки немного ввалились и скулы обозначились резче, но стал выглядеть как-то старше и внушительнее. Даже, кажется, в плечах раздался.
Вещему присылали дары больше паволоками, дорогой посудой, оружием, вином, пряностями и прочим красным товаром. Эльга видела цветное платье и узорочья, которые получала Мальфрид. Но столько золотых номисм она не видела никогда в жизни. Не верилось, что это все – золото. Хотелось запустить руку в мешок и убедиться, что там номисмы – до самого дна. До истертых дубовых плах пола, по которому когда-то ходили гриди Вещего – победители Царьграда.
Вокруг в том же изумлении толпились внуки тех старых гридей. Ингвар не мог оторвать взгляда от золота и с трудом подбирал слова. Все лето он ждал, что Ранди Ворон привезет ему серебра из Самкрая – Ранди приехал без денег. От поездки Асмунда он никакой прибыли не ждал – и получил едва ли не больше, чем стоила вся прошлогодняя дань.
Золото в северной половине мира – такая редкость, что цен в золоте за обычные вещи просто не существует. В Греческом царстве одну золотую номисму разменивают на двенадцать серебряных милиарисиев, но вдоль Пути Серебра золото обменивается на что-либо другое лишь по уговору: как сойдутся выгоды продавца и покупателя. Поэтому Ингвар даже не мог сообразить, насколько велико это сокровище, если мерить в зерне, в железе, в конях, в бронзе, в мечах и шлемах, в полотне, в выделанной коже, в шкурах и шкурках… Ясно было одно: это очень, очень много!
– Потом приезжал прямо к нам в стратонес один человек, грек, магистр Евтихий, – рассказывал Асмунд. – Он поедет в Таврию тамошнему стратигу советы давать и за исполнением царской воли следить. С катафрактами. И рассказал: войско стратига в начале лета двинет на Каршу. Мы к тому времени, в месяц иуниус… то есть кресень, должны быть уже в Таврии, где-то возле Сугдеи. Он Каршу если не сумеет сразу взять, то обложит и будет ждать, пока тамошнему тудуну хазары из Самкрая подмогу не пришлют. А как тамошний воевода, из Самкрая, к Карше подойдет, тут будет наш черед – на Самкрай навалиться и захватить. Обещают отдать полностью в нашу волю – берите, сказал, что сможете унести. Хоть всех людей уводите и все добро выносите, чтобы голые камни остались.
Гриди и воеводы загудели: этот замысел всем нравился. Самкрай, торговые ворота каганата на Греческом море, славился своим богатством и всяческим изобилием – от людей до провозимых с Шелкового пути на запад товаров.
– Мы подумали, – Асмунд посмотрел на Вефаста и Кольбрана, – и решили: если добычу обещают и дают денег на поход – надо брать. Ну а если ты, Ингвар, и дружина скажете, что на хазар нам идти незачем, то золото же можно цесарю назад вернуть, так ведь?
Он улыбнулся и качнул в руке кружку. Гридница грохнула хохотом. Будто разбуженный, Ингвар подошел к Асмунду и с размаху обнял; тот смеялся вместе со всеми, что раньше с ним бывало нечасто. Подошел Свенельд и похлопал Асмунда по плечу – редкое отличие. А за ними навалились и остальные: завертели, радостно колотя по плечам и спине, так что вскоре Асмунд стал отбиваться и вышла небольшая потасовка. От возбуждения гриди готовы были сцепиться друг с другом; стоял ор, хохот, рев. Даже Эльга хохотала, зажимая рот ладонью, а из глаз на пальцы текли слезы.
Это был их первый на киевском престоле успех. Первые дары от греков, ведущие к еще более богатой добыче. А ведь совсем недавно здесь уже обсуждали, не пойти ли на Самкрай. Отложили решение до возвращения Асмунда. И Асмунд привез деньги на поход! Ничто иное нельзя было в этом увидеть, кроме как знак судьбы.
– И, сказали, что если с походом все пройдет удачно, то будет нам симфона такая же, какая была у Вещего, – доносился сквозь радостный гул голос Асмунда.
– Чего будет?
– Симфона. То есть договор.
– Ты там чего, по-гречески научился?
– Ну, не так чтобы научился, врать не стану, но иные слова запомнил. Значит, на тех же условиях, что раньше было: дары, прокорм купцам и послам, паруса и прочее на лодьи, и по статьям – сохранят, чтобы наследство умерших родичам на Русь отдавать и все прочее. Только, как Евтихий сказал, докажите, что вы своих дедов не хуже будете.
– Уж мы докажем!
– Не усохла еще наша сила!
– Деды смогли, и мы не посрамим!
Примерно наполовину ближнюю дружину Ингвара составляли внуки и правнуки хирдманов Вещего. Те из них, кто был достаточно удачлив, чтобы выжить в походах и разбогатеть, со временем обзаводился в Киеве своим домом и женой; постройки Олеговой горы сейчас уже были так же многочисленны, как и на Киевой горе, где сидела полянская знать. А иные роды за два-три поколения поднялись настолько, что главы их сейчас содержали собственную дружину и по приказу князя выводили в поход до сотни копий. Но самое молодое поколение этих родов составляло ближнюю дружину уже третьего по счету князя. Не так давно они служили Олегу-младшему; переманив их на свою сторону, Ингвар тем самым перехватил у соперника меч, проложивший ему дорогу к власти. И теперь обязан был не обмануть доверие этих людей.
– Тише вы! – заорал Мистина и даже вскочил на скамью, чтобы всем его было видно и слышно. – А ну тихо! Слушай меня!
Гриди обратили к нему лица, крик поутих.
– Кончай вопить! – многозначительно отчеканил Мистина. – Чтобы за стенами гридницы ни один пес и ни одна курица от вас про это дело не слышали! У нас тут есть свои жидины и свои хазары. И мы с ними сейчас… повздорили малость. – Опять раздались смешки – гриди вспомнили переполох с хазарскими бабами. – Если хоть одна рожа козлиная узнает, что мы на тот год собираемся на Самкрай – уж будьте уверены, тудун будет весной нас ждать. За зиму они войска подтянут, и не достанем мы там хвоста беличьего, только головы напрасно сложим. Не сохраним рот на замке – провалим весь замысел.
– Это ты дело говоришь! – одобрил Ингвар. – Но как же? – Он кивнул на мешки с золотом. – Поход готовить – это тебе… не обмотки перемотать! Такое дело не скроешь!
– Мы же в Таврию пойдем? – Мистина посмотрел на него с высоты своего роста и еще скамьи, будто идол кого-то из воинственных богов. – Вот и прикинемся, будто собрались на Сугдею. Вы, орлы, – он окинул гридей взглядом, – можете своим бабам как страшную тайну рассказать: князь решил весной идти на Сугдею, на греков. Дескать, обиделся, что симо… короче, договор заключать цесари не захотели, и нигде нам торгу нет. Потому пойдем на греков войной. Ты, Хрольв, и ты, Секира, – вы своим бабам нынче же расскажите. И больше не болтайте. Ваши бабы сперва друг дружке расскажут, убедятся, что все правда, и живо по Киеву разнесут.
– Тогда и жидины приободрятся, – кивнул Свенельд. – Решат, что нам ныне не до них.
– Сами еще денег принесут – на греков снаряжаться! – засмеялся Ивор.
* * *
Если бы не известие, что здесь, в Киеве, находится Торлейв, весьма вероятно, что в этот вечер Асмунд и не дошел бы до родни. В гриднице подали ужин, Ингвар велел выставить побольше пива и достать «Романа и Костинтина» – так теперь называли те два серебряных кубка, которым в день составления посольской грамоты выпала честь изображать августов. Их налили Асмунду и Вефасту, а для Кольбрана достали третий и тут же с шумом нарекли Стефаном. Асмунд, непривычно для себя взбудораженный и оживленный возвращением домой, всеобщим вниманием и одобрением, принялся изображать в лицах речи на царском обеде. К этому времени на княжий двор, привлеченные новостью о возвращении посольства, собрались бояре, и было ясно: уже назавтра полгорода будет знать, как непочтительно цари обошлись с послами и как оскорбительно отзывались о князе.
– Йотуна мать, Аська молодец! – в восхищении шептал Мистина на ухо Ингвару. – Теперь, когда зайдет речь, что князь идет на Таврию, они все скажут: а мы так и знали!
Золото уже унесли и спрятали, и само существование царских даров для киевлян осталось тайной.
– Не, ну ты расскажи! Как там гречанки? – Гриди смеялись и подталкивали Асмунда, предлагая поделиться приключениями. – Как тебе девки греческие?
– Да какие девки – мы в стратонесе жили, нас не выпускали оттуда, а там только такие же рожи, как ваши!
– Не все время же сидели! В город же вы ездили? А там в городе, на Великой улице, такие есть лавки… ну, не лавки, а там девки сидят, и если заплатишь, то можно любую… Мне дед рассказывал: если идешь по улице, девки сами набиваются! Правда, Кари, ты тоже помнишь!
Радорм сын Трюгге был одним из троих внуков того Кари, что ездил в Царьград в числе посольства Вещего тридцать лет назад. Кое-что насчет греческих девок Асмунду и правда было известно – невозможно прожить два месяца среди этерии и ничего об этом не узнать, – но сейчас он встал и среди буйства дружинного веселья нашел взглядом Мистину:
– Свенельдич! Ты домой не собираешься? А то я отца своего три года не видал!
Мистина поднял растрепанную голову; под мышкой он сжимал в захвате чью-то шею и размеренно лупил раскрытой ладонью в чей-то лоб.
– Ладно, живи! – Он выпустил отрока, и тот откатился к стене. – Там наши небось уже спать завалились.
– Если я совсем не приду, будет неуважение. Отец все-таки родной. А если спят, мы не виноваты.
Однако на Свенельдовом дворе не спали. Уложили только детей, а взрослые ждали, веря, что Асмунд непременно придет повидаться еще сегодня.
Когда Мистина ввел его в гостевую избу, Торлейв сразу вышел навстречу сыну. Пестрянка ради такого случая согласилась взять у Уты варяжское платье, коричневато-рыжей шерсти, отделанное узкими полосками пестрого шелка, но с непривычки чувствовала себя в нем неловко. Сидя на скамье у стены, куда почти не доставал свет свечей на столе, она слышала голос мужа – изменившийся за три года, – видела, как мелькает над плечами прочих мужчин его светловолосая голова… От волнения ее так трясло, что каждый вдох давался с трудом. Сейчас он подойдет к ней… что она ему скажет? Раньше она думала, что обрадуется встрече, но теперь от потрясения было больно в груди – и ничуть не радостно.
Там у стола Асмунда знакомили с Хельги. Пестрянка вспомнила, что брата Асмунд никогда не видел и теперь, конечно, удивлен. Вот он повернулся и посмотрел на Мистину, будто просил подтвердить: это правда? Тот кивнул, сдержанно ухмыляясь.
– Что же ты мне не сказал? – промолвил потрясенный новостью Асмунд.
– Не до того было. Мы тебе еще много что могли бы рассказать! – многозначительно заметил Мистина.
– Вижу! – Асмунд округлил глаза при виде Уты.
До его отъезда в греки он не знал о ее беременности, но теперь та бросалась в глаза и без слов.
– Брат, ты лучше сюда погляди! – Хельги обернулся и показал Асмунду в сторону лавки. – Посмотри-ка, кто там сидит! Фастрид, что ты в угол забилась, иди встречай своего мужа!
Повинуясь привычному голосу, Пестрянка встала и шагнула вперед. Асмунд взглянул на нее с любопытством: он услышал северное имя и подумал, что сейчас ему покажут жену самого Хельги. И он уже готов был поклониться молодой женщине в варяжском платье с отделкой на свейский обычай, как в лице его что-то изменилось. Любопытство уступило место изумлению. Лицо этой женщины было ему знакомо – только он знал ее под другим именем.
Но Пестрянка приметила эту заминку. Пол под ногами будто растворился, и она зависла на воздухе: муж ее не узнал!
А Хельги взял ее за руку и подвел к столу, где было светлее. Она повиновалась, едва переставляя ноги.
Она и сама узнавала мужа с трудом. За эти три года Асмунд сильно возмужал: прибавил в росте, раздался в плечах, лицо его сильно загорело под греческим солнцем и обветрилось, юношеский румянец щек скрылся под золотистой бородкой. И выражение стало другим: теперь это был не отрок, а зрелый муж, привыкший думать за себя и других. Это был человек, которого Пестрянка едва знала. Настолько не тот, что все ее лелеемые воспоминания трехлетней давности вдруг показались сном. И потому она не удивлялась, ясно видя вопрос в его чертах: кто ты? Неужели та самая… Здесь, в Киеве? Три года спустя? Зачем?
– Тебе что – не сказали? – спросил у брата Хельги и посмотрел на Мистину.
О Пестрянке Асмунду никто на княжьем дворе ничего не сказал. Даже Эльга, захваченная новостями из заморья, не вспомнила о ждущей его плесковской жене, а в мыслях Ингвара, Мистины и прочих мужчин та занимала места не больше, чем дворовая кошка.
И вот теперь он просто онемел. Куда прочнее, чем на царском обеде. На ум приходил один вздор, хотелось спросить: «Откуда ты взялась?», «Зачем ты здесь?» – но Асмунду хватило ума не говорить этого вслух.
– Это Пестрянка, Чернобудова внучка, жена твоя, – с мягкой усмешкой напомнил Хельги. – Язык проглотил от радости?
– Да уж… не ожидал… – наконец Асмунд обрел голос. – Давно ты здесь?
– Недели три уже, с конца жатвы, – вместо Пестрянки ответил Торлейв. – Это мы ее привезли. Думали тебя порадовать, а ты в Греческом царстве оказался.
– У вас и сынку уже два лета, – добавила Ута, надеясь, что теперь-то бестолковый брат оживет и обрадуется. – Только его спать уложили. Хочешь посмотреть?
– Что посмотреть?
– Сына твоего посмотреть! Аська, очнись! Что ты словно корнями обведенный![17]
– Будь жива! – Асмунд опомнился настолько, что догадался поздороваться с Пестрянкой, и даже подошел поближе. – Ну, как у вас дома дела? Вы чего приехали, – он оглянулся на отца, – случилось что?
Торлейв и Хельги стали рассказывать, как получили весть о вокняжении Ингвара и Эльги в Киеве, как решили ехать сюда, как пошли дела и чего они добились. Мужчины уселись к столу, позвали Свенельда, Ута велела подать пива, хотя Асмунд и Мистина хорошо угостились еще у князя. Пестрянка села на прежнее место. Сложив руки на коленях, она почти не двигалась и чувствовала себя как во сне. Асмунд сидел лицом к ней, и она хорошо его видела; время от времени он устремлял на нее взгляд, но скорее недоумевающий, чем радостный. Он понял, что случилось – к нему приехала та «купальская» жена из Варягина, – но никак не мог сообразить, как ему теперь быть. Чего ей дома не сиделось, коли там все хорошо?
А в Пестрянке вскипели все те чувства и мысли, от каких она не раз уже плакала. Вот ведь дура она была, что решилась на эту поездку! Муж не просто ей не рад – он вовсе не понимает, чего ей здесь нужно! Жила бы себе со своим дитем в Варягине – кормят же, не гонят, не обижают. Она, плесковская жена, осталась в его далекой прошлой жизни, откуда он давно уехал и не собирался возвращаться. Здесь, в Киеве, у него сложилась совсем иная жизнь. Особенно с минувшей весны. Здесь он – брат русской княгини, близкий и доверенный соратник князя, посол и воевода! Ему, конечно, полагается жена, иначе люди уважать не будут, но не такая! Воеводская дочь, знатного рода, с богатой и влиятельной родней! Как та черниговская девка, как ее там зовут… И она, Пестрянка, нужна Асмунду, как камень в каше. Проку никакого, только мешает и об ложку скребет! Хотелось встать, забрать свое сонное дитя вместе с одеялом и уйти – прямо так, пешком, в ночь. И идти, пока не придешь домой, в Варягино… или в Чернобудово, к своей родне. Зачем ей теперь в Варягино, где живет семья мужа, если он не желает ее знать?
Но чем она провинилась? Чем заслужила? От гнева и обиды на глазах вскипали горячие слезы, но Пестрянка с усилием принуждала себя погодить горевать. Может, он еще опомнится и все наладится?
Хельги сидел к ней спиной, но два или три раза оборачивался, улыбался, кажется, подмигивал ободряюще. Но она даже не пыталась улыбнуться в ответ. Будто в прорубь провалилась – впервые за восемнадцать лет жизни Пестрянка переживала такое полное крушение всех надежд и ожиданий. Казалось, дальше никакой жизни не будет.
* * *
В эту ночь Пестрянка спала, как и раньше, в девичьей с ребенком, а Асмунд ушел в дружинный дом, где обитал до отъезда за море. Несколько дней миновали без особых перемен. Асмунд и дома почти не бывал: утром они с Мистиной завтракали в гриднице и сразу уходили к Ингвару, а возвращались ночью, если возвращались вообще. С Пестрянкой Асмунд едва обменивался парой слов и явно не знал, о чем говорить. Даже ребенок не помог. Асмунд взял сына на руки, когда ему его дали, и спросил, как зовут.
– Никак! – Ута посмотрела на брата с выразительным упреком. Преданная своей семье, она сердилась на него за пренебрежение родной кровью. – Кто должен был ему имя-то дать? Отец, то есть ты! А ты его впервые видишь!
– Вот теперь и даст! – сказал Торлейв. – Поговорим вечером.
Но вечером Асмунд вернулся, когда и дети, и деды уже спали. В княжьей гриднице имелся более важный повод для разговоров.
До выступления в поход на хазарское царство оставалось около полугода, и это было очень мало. Особенно при том, что всю зиму князь с ближней дружиной и половиной большой проведет в полюдье. Свенельду с его людьми уже на днях предстояло отправляться в Деревлянь, и Ингвар спешил обсудить с ним, человеком умным и опытным именно в таких делах, все предстоящее. Нужно было определиться с потребностями, выбрать людей, кому можно поручить подготовку, распределить между ними дела.
Как обычно, грекам требовался вспомогательный отряд человек в шестьсот. Ранди Ворон и другие, бывавшие в Самкрае, соглашались, что этого вполне хватит – если тудунова войска не будет на месте и удастся войти в город внезапно. Но также было очевидно, что Ингвар не может послать на это дело свою большую дружину. Во всяком случае, всю. Об этом несколько дней шли в гриднице шумные споры. Поначалу ближняя дружина сочла, что князь должен сам вести ее в этот поход – а как же иначе? Это был именно тот случай, которым уже почти сто лет жила русь, ходившая на греков, славян, чудь и сарацин. Собрать войско как можно больше, ударить на выбранную цель, захватить добычу и пленных, продать, обогатиться и хвастать потом на пирах своей доблестью. Считая воеводских отроков, большая дружина и составляла около шести сотен, притом что снаряжение у нее почти все имелось и на греческое золото оставалось лишь оснастить лодьи и набрать съестные припасы. Все было ясно, и внуки Олеговых гридей очень удивились, обнаружив, что в глазах Ингвара все выглядит по-другому.
– Я не могу сейчас уйти из Киева и увести вас всех, – заявил он с Олегова престола. – Слишком много народу ждет со всех сторон, чтобы здесь освободилось место. Те, кто еще не знает, крепко ли я здесь сижу, и ждет случая проверить.
– Ты хотел стать князем, чтобы греть задницей эту троллеву доску? – возмущенно отвечал Асбьёрн, сын Карла и внук Фарлейва, второго по старшинству Олегова посла, показывая на сиденье престола. – Ты стал князем, чтобы водить нас в походы, и мы поддержали тебя именно ради этого!
Гридница отвечала согласным гулом. На почетных местах сидели воеводы, обладатели собственных дружин – Сигфасти, Тейт, Карл, Кари, Ульврик, Тормар, Трюгге и другие, чьи отцы прославились еще в походах Вещего. Это была та «килевая» русь, на которой стояла держава Вещего, – назвать ее коренной было бы неверно как раз из-за ее большей подвижности, чем укорененности. Кое у кого деды и прадеды знавали Аскольда и Дира, первых русинов на берегах среднего Днепра, хотя те дружины оставили на этой земле мало следов как раз потому, что и не пытались пускать в нее корни.
– Чтобы хорошо ходить в походы, надо иметь, куда возвращаться! – отвечал Ингвар. – Я не отказываюсь от похода на Самкрай, раз уж греки дали денег, а иначе стоило бы обождать еще год-другой и укрепиться. Что мы будем делать с той добычей, если останемся на лодьях, а на эту троллеву доску, как ты говоришь, вновь усядется Олег, пока меня не будет дома?
– Что? С добычей мы всегда найдем, что делать! Мир велик, и пока у нас есть корабли, мы найдем себе и землю!
– Мой дед на Гурганское море дважды ходил!
Молодые, а частью и старые дружным криком поддерживали эти слова. Многие еще умели смотреть только вперед, не оглядываясь на пройденный путь и легко забывая то, что осталось за спиной.
– Из Стейнварова похода на Гурган никто не вернулся! – напомнил Тормар. – А сохранив Киев, можно создать могучую державу, и она принесет нам в десять раз больше добычи и славы, чем если мы проживем жизнь на досках корабля!
– Так много нам не надо! – кричали молодые гриди, жалевшие, что не попали в те походы Олеговых соратников. – В Валгаллу надо прийти достойно, но там у Одина для нас все уже готово – еда и оружие для последней битвы!
– Когда попадешь в Валгаллу, Кари, там пусть Один с тобой разбирается! – отрезал Ингвар. – А пока твой конунг – я, дружина будет делать то, что я скажу! На Самкрай пойдет отдельная дружина, из наших там может быть сотни две, не больше. Прочие останутся в Киеве.
– И кому ты хочешь подарить добычу, которую могли бы взять мы? – С места встал Вышеславец, внук Хродлейва.
– До весны придется набрать сотен пять охотников – руси и славян. А нам вот-вот идти в полюдье. Из данников Олега еще не все и знают, что у них сменился князь!
– И многим это может не понравиться! – поддержал Мистина. – Вы все знаете, что сказали греки и хазары в ответ на наши новости – будто сговорились! Дескать, им не по душе, что новый князь отнял власть у прежнего силой. Думаешь, древляне, северяне, дреговичи и прочие не скажут того же самого?
– Если кто скажет, это будут его последние речи в жизни! – крикнул Вибьёрн, внук Кари Старого.
– Истину глаголешь! – Мистина с широким замахом ткнул пальцем в его сторону. – А это значит, что зимой нам придется воевать! Может быть, всю зиму! И после этого выхотите без передышки – отдохнув, только пока не сойдет лед, – воевать и все лето?
– Да мы… – нестройно заорала гридница.
Одни кричали «Хотим!», другие – «Такого нам не надо!».
– И даже если кто хочет, – голос Мистины почти перекрывал этот гул, – откуда вам знать, кто доживет до весны? И если нас к весне останется маловато, поход провалится! Поэтому мы должны набрать для хазар отдельную дружину! На двух ногах ходить сподручнее, чем на одной, да, Кари?
– Греки лукавы! – напомнил воевода Тьодгейр. – А что, если они затеяли это все, чтобы выманить нас из Киева? Что, если, как мы уйдем, они натравят на эту землю печенегов, ведь те – их союзники? И мы вернемся к остывшему пепелищу!
Все примолкли: речь воеводы показалась убедительной. На иных лицах читалось: ну и что? Но большинство нахмурились. За два-три поколения жизни на киевских горах русь привыкла к ним и обзавелась родством с полянами. У половины гридей матери, а то и бабки были славянками, дома говорили на славянском языке, многие имели два имени – тот же Асбьёрн для матери был Кудояр, а у Кари, Вибьёрна и Радорма, сыновей Трюгге, два младших брата звались Любомил и Мысливец. А главное, старые варяжские роды понимали правоту молодого князя: постоянное обладание Киевом могло дать от сбора дани и торговли не меньшие доходы, чем полное разграбление Царьграда – один раз.
– Видно, эта доска проклята! – крикнул Вибьёрн, не желая сдаваться. – Кто на нее садится, тот становится робким и осмотрительным. Сперва Олег, теперь ты…
– Что ты сказал? – С изменившимся лицом Ингвар соскочил с престола и рванулся к Вибьёрну. – Я стал робким? Да я тебе сейчас, рожа жеребячья…
– Та-абань! – с нажимом произнес знакомый голос у него за спиной, две руки легли на плечи и развернули. – Ты – князь! – почти ласково, но очень твердо сказал Мистина, сверху вниз глядя в лицо побратиму. – Тебе теперь нельзя всякую глупую морду своими руками бить. Не стоит она того. Так что обожди. – И, обойдя Ингвара, потянул с себя кафтан.
Гриди заорали, старики засмеялись. Как и сто лет назад, как при Олеге, Аскольде, Харальде Боезубе и Рагнаре Кожаные Штаны, при Хальвдане Старом и Скъельде сыне Одина, этот простой способ решить, кто прав, оставался самым действенным.
* * *
Вскоре Мистина ввалился в избу к Эльге, нагнувшись и зажимая нос ладонью, чтобы кровь не капала на сорочку. Братья Вибьёрна тем временем выпрашивали у Беляницы кусочек сырого мяса – приложить к разбитому глазу. Никто из двоих не собирался причинять сопернику настоящих повреждений, просто камень очага и ножка стола об этом не знали, а у Мистины после полученного в отрочестве перелома носа от любого удара по нему шла кровь.
Но зато никто в гриднице уже не сомневался: за Киев надо держаться крепче. Будет берег – скутары построим, а не будет берега – куда возвращаться зимовать? Князь лучше знает, ему с престола виднее. К тому же именно Ингвар вел свой род от Харальда Боезуба, а значит, Хальвдана Старого, Скъёльда и Одина. И уже поэтому в любом подобном споре он был наполовину прав изначально.
Прошли и для норманнов времена, когда они жили на лодье и обретали могилу в морских волнах…
– Снимай! – Эльга прижала платок к носу Мистины и дернула за рукав сорочки. – Еще чего не хватало – придешь домой весь в крови, Ута увидит, перепугается…
– И ребенок родится с пятном цвета крови на пол-лица… – прогундосил Мистина сквозь платок.
– Тьфу на тебя! От слова не сделается!
– Расстегни! – прижимая платок кносу, Мистина кивнул вниз, имея в виду свой пояс.
– Не на ту напал! – Эльга перехватила платок и освободила ему руки. – Сам справишься.
Если бы она расстегнула ему пояс, это выглядело бы как приглашение на блуд. Но Мистина видел, что Эльга им довольна, и мог позволить себе пошутить.
Стащив с него сорочку и усадив на лавку, Эльга послала Мерав на двор за холодной водой из бочки. Там толпились гриди – вышли подышать и остыть после спора и драки. Сквозь оконце долетел возмущенный девичий взвизг, крик «Качака таки!» – видимо, шлепнули пониже спины или опять предложили: «Пойдем со мной за поварню, чего покажу». Посягать на пленниц Эльга гридьбе запретила, но не запретишь ведь то, что называется: «Да я пошутил просто».
Мерав быстро вернулась, правда, принесла только полкувшина – остальное расплескалось по дороге. И не диво, что пристают: когда Эльга к ней пригляделась, то обнаружила, что дочь Гостяты Кавара и правда самая красивая из всех хазарских пленниц – рослая, стройная, с правильными чертами лица, которым горбинка на носу придавала особую прелесть. При виде ее возмущенно вытаращенных глаз Мистина ухмыльнулся, отчего кровь потекла сильнее. Эльга покосилась на него, вспомнив их стычку на Свенельдовом дворе. Разглядел ведь, даже пока хазарка была вся зареванная!
Вторая девушка, Рахаб, была невысока, с раскосыми черными глазами, хоть и не красавица, но бойка и улыбчива. Обеих Эльга держала поближе к себе, понимая, как важно вернуть их отцам в целости.
– Вы там решали, кто будет вождем похода? – спросила Эльга, когда Мистина зажал нос намоченным в холодной воде платком и наклонил голову.
– Нет, – в таком положении разговаривать было неудобно, и голос его звучал глухо. – Мы решали, пойдет ли туда ближняя и большая дружина.
– А кто будет вождем, если не Ингвар? – Эльга смочила в кувшине другой платок, слегка отжала, подошла и положила Мистине на шею; он вздрогнул и поежился. Мельком она отметила, как красиво выглядят его голые плечи, если смотреть на них сверху (ей это сейчас удалось в первый раз). – Ты?
– Может, отец. У нас с Аськой еще нет такого опыта…
– Отправьте Хельги. Это именно то, что ему нужно – показать себя и отличиться. Основать там свою державу едва ли выйдет – бороться за… – Эльга оглянулась на двух хазарок и кивнула на дверь, – ступайте! – … те края с греками и хазарами ему не по зубам. Но зато он отвлечется на целый год, возьмет добычу, завоюет уважение людей…
Мистина приподнял голову и бросил на нее взгляд исподлобья.
– Это… он тебя просил похлопотать? – «клюй пронырливый», мысленно добавил он.
– Нет, это я сейчас подумала, когда ты сказал про красное пятно на пол-лица. Он ведь хочет Деревлянь, а я была бы совсем дурой, если б поверила, что твой отец так уж прямо готов ему ее отдать. Пусть он Уляшке с Валяшкой рассказывает, что надумал ехать в Пересечен и не знает, на кого покинуть заботы о древлянах. Если бы он и уехал, то Деревлянь отдал бы тебе! Вы ведь надеетесь, что древляне загубят Хельги в первом же полюдье, да?
Эльга подошла к Мистине вплотную и положила руки ему на плечи. От острого ощущения их красоты у нее поджался живот, но она старалась дышать ровно и не думать об этом.
Мистина не смог удержаться и взглянул на нее, радуясь, что мокрый платок закрывает половину его лица и даже отчасти глаза. Это Хельги не знал их с отцом. Эльга – знала. Мистина не собирался признаваться, но от удивления не сумел сразу сказать «нет», и этой заминки было достаточно.
Эльга поднесла палец к его губам, призывая к молчанию: скажи он это «нет» сейчас, она все равно не поверит. И он закрыл глаза, боясь, что она увидит, о чем он сейчас подумал.
Мы не надеемся на древлян. Для важных дел у нас есть люди повернее…
– Пусть Хельги идет на Самкрай, – прошептала Эльга, наклонившись ниже к нему, хотя хазарские девушки уже вышли. Ноздрей ее касался запах его разгоряченного поединком тела, и хотелось вдыхать его как можно глубже, но она старалась гнать эту мысль. – Я скажу ему, что, когда он вернется с победой, тогда я посватаю за него Звездочаду. А пока он ничего не достиг, ему неприлично добиваться такой невесты. Он согласится. Все-таки он сын моего отца, и ему стыдно требовать почестей и отличий, каких не заслужил.
– Подожди, – выдохнул Мистина и сжал ее запястье, словно она собиралась бежать к Хельги прямо сейчас. – У меня голова гудит, а тут сперва подумать надо…
– О чем?
– Я же тебе говорил. Хельги опасен. – Мистина осторожно отнял платок от лица, легонько шмыгнул носом и убедился, что кровь унялась. – Если дать ему волю, он может всю нашу жизнь разрушить.
– Потому что он старший мужчина из наследников Вещего после Торлейва?
– Н… нет. – Мистина колебался. Он понимал, что бессмысленно пытаться ее обмануть, но не желал открывать правды. – Не только.
Эльга вспомнила их недавнюю ссору, странный запрет видеться с Хельги и даже с Утой…
– Вы что-то от меня скрываете? – Она прикоснулась к его подбородку, приглашая взглянуть ей в глаза.
– Да, – прямо ответил он, подняв на нее взгляд, в котором ничего нельзя было прочитать.
– Почему?
– Незачем тебе это знать.
– Но это дела моей родни!
– Почему ты решила…
– Иначе вы бы от меня не таились.
– Эльга! – Мистина отбросил платок и осторожно положил руки с ободранными костяшками ей на бедра, глядя на нее снизу вверх. – Не всякая правда приносит добро. Иная правда может разрушить все, что было улажено, и ничего не дать взамен. Такая правда не нужна никому, и лучше ее зарыть поглубже. Вместе с тем кто не дает ей спать спокойно, если потребуется.
– Правда ничего не разрушает. Разрушает та ложь, на которой все было построено.
– Нельзя вернуться назад и возвести этот дом заново. Мы в нем уже живем, и лучше оставить все как есть.
– И ты думаешь, меня это успокоит?
– Нет. Я думаю, ты будешь сверлить нас с Рыжим, пока не узнаешь все, как Один и великан сверлили гору, где хранился мед скальдов.
Эльга помолчала. Если Ингвар твердо решит ей не говорить, от него она ничего не добьется. И не стоит ссориться с мужем – вслепую, не зная, ради чего. Но вот оружие против Мистины у нее есть весьма действенное. Теперь она об этом знала.
Она подняла руку и кончиками пальцев легонько обвела вокруг его рта. Он задышал глубже, обнял ее за пояс и подтянул ближе.
– Тебя-то я просверлю, – шепнула она, стараясь не замечать дрожи, что пробрала ее саму. – Скажешь, нет?
– Я не поддамся, – он с усилием ухмыльнулся и сделал вид, будто хочет отодвинуть ее от себя, но та же дрожь сказывалась в его голосе и дыхании.
– Не справишься!
– Справлюсь, – вопреки этим словам, он не мог отвести глаз от ее груди, оказавшейся прямо перед его лицом. Глядя немного сбоку, он видел в разрезе сорочки один из белых круто вздымающихся холмиков на такую высоту, что его бросило в жар. – Я сильнее.
– Меня – да, – легко согласилась она, будто подманивая его своей слабостью.
Но было кое-что в нем самом, что могло оказаться сильнее его…
– Ты так любопытна, что готова… – он все не отводил глаз, – целоваться со мной ради этой стариковской тайны?
Эльга запнулась, не зная, что сказать. Оценила бы она эту тайну так высоко, владей ею кто-то другой?
– А она того стоит?
Мистина помедлил, потом выдохнул и отодвинулся от нее.
– Нет. Пусть я сам себе враг, – он усмехнулся и помотал головой, пытаясь выбросить прочь соблазнительные видения, – но она того не стоит. От этой тайны будет худо всем – Ингвару, мне, тебе. Не ищи беды на свою же голову. Забудь обо всем этом, – попросил Мистина с таким чувством, что Эльге захотелось его послушаться. – Та давняя правда давно уже засохла. С тех пор все изменилось. Исправить прошлое нельзя, но… Самая главная правда в том, что Ингвар тебя любит. И никакие тайны сокровенные, хоть возьми ты их прямо из источника Мимира, этой правды не отменят. Может быть, ее тебе хватит?
Сказав, что «худо будет и мне», он отчасти покривил душой. Да, беда побратима – его беда, ибо они связаны, как две руки и две ноги одного тела. Но, как ни старался, Мистина не мог совсем задавить в себе мысль, что разрыв Эльги с Ингваром ему-то мог бы принести кое-что хорошее… Однако помогать этому разрыву для него означало бы предать и побратима, и самого себя. Мистина знал за собой немало недостатков, но надеялся, что подтолкнуть его к предательству не сумеет ни одна женщина на свете. И сейчас еще Эльга в его глазах была собственностью Ингвара, и, разговаривая с ней и даже желая ее, мысленно он видел позади нее тень побратима.
Однако, йотуна мать, эта обладательница лебяжье-белых манящих округлостей показала себя проницательной и твердой… как клинок, входящий под ребра. Переводя дух, Мистина чуть не засмеялся над своим смятением. В первый раз для беседы с женщиной ему понадобилось напрягать весь свой ум, что особенно трудно, когда от вожделения сбивается дыхание и путаются мысли.
Когда он беседовал со Сванхейд, имея на кону судьбу Русской державы, он всего лишь старался, чтобы королева Хольмгарда захотела его. А это совсем иное дело.
Эльга отошла от него и отвернулась. Раз уж речь зашла о любви… Что это за намек – у Ингвара была другая женщина? Он хотел взять другую жену? У него есть побочные дети?
Ну а как же! Его побочный сын, причем старший, сейчас спит на лавке в хозяйской избе на Свенельдовом дворе. Неужели где-то есть еще? Уж кому знать такого рода тайну, как не побратиму…
– Эльга… – Мистина встал и подошел к ней сзади, мягко положил руки на плечи, отчаянным усилием стараясь сосредоточиться на мыслях о благополучии их семьи, связанной двумя перекрестными цепями. – Ингвар любит тебя. И я люблю тебя. Мы хотим, чтобы ты была счастлива и никогда не знала горя. Мы оба умрем за это, если понадобится. Ты веришь мне?
Она обернулась и посмотрела ему в глаза. Взгляд его был прям и открыт, а немного тревоги на дне говорили скорее об искренности, чем о лукавстве. Лгал он куда веселее и увереннее.
Эльга подумала немного. Прямо перед ее глазами оказался оберег, висящий на его груди на кожаном ремешке – медвежий клык, на котором был вырезан тонкий узор. Мистина носил его под одеждой, поэтому сейчас Эльга увидела его впервые.
– Что это?
– Это Ящер, – радуясь передышке, Мистина повернулся к свету, чтобы она могла рассмотреть.
С одной стороны клыка мастер вырезал морду ящера и через дырочку в пасти пропустил серебряное колечко для ремешка. На другом конце был хвост, а пространство между ними покрывали красиво вырезанные чешуйки.
– Откуда у тебя такое?
– У моего отца был брат, он хорошо резал по кости. Он это сделал, когда я родился, чтобы мне отдали вместе с мечом. А когда я получал меч, его уже не было в живых. Если у меня когда-нибудь будет сын, назову Велерадом в его честь.
– А почему ящер… и медведь? Это ведь облики Велеса?
– В тот самый день, когда я родился, тронулся лед на Волхове. Это означало, что Ящер проснулся. Королева Сванхейд сказала тогда, что Ящер и медведь будут моими покровителями.
– Поэтому сила в тебе не уступает твоей ловкости, – Эльга подняла глаза к его лицу.
– И упорству. Я клянусь, – Мистина накрыл ладонью костяного ящера, – что сказал тебе правду. Если уж тебе нужны клятвы…
– Нет, – Эльга прикоснулась к его руке, отдавая клятву назад. – Мне не нужны твои клятвы. Ты сказал… что вы любите меня и желаете мне счастья. Если это правда… тогда ты прав, ненужные тайны не стоит тянуть на свет. А если это не правда… – Он хотел что-то сказать, но смолчал. – То лучше я поверю тебе и дам себя обмануть, чем не поверю и обману себя сама.
Мистина не нашел, что добавить, и лишь глубоко вздохнул от облегчения. Он все-таки сумел направить ее подозрения в другую сторону – в ту, куда мысли женщины устремляются легче всего. Но не солгал в самом важном. И если не вывернулся из петли, которую краснорожий бес накинул ему и Ингвару на горло, то наполовину ослабил натяг.
Но это не значит, что Хельги может отныне жить спокойно. При всей своей беззастенчивости Мистина видел свою честь в преданности вождю – с кем познакомился, когда тот едва учился ходить. Новоявленный брат княгини вздумал угрожать Ингвару и тем приобрел врага, в ком соединились сила медведя, ловкость ящера и упорство текучей воды.
А то он не понимал, что делает, когда метнул сулицу в спину Князя-Медведя – воплощенного пращура северных кривичей! Отосланная в медвежье логово девушка была нужна Ингвару, и ради него Мистина охотно вышел бы на тот мост, где ждет поединщика трехголовый змей из славянских преданий.
Взяв сорочку Мистины, Эльга обернулась, хотела что-то сказать… Но увидела, каким жестким стало его лицо, как прищурились глаза и гневно дрогнули покрытые засохшей кровью ноздри – и поняла: это не все. За три года общей жизни она несколько раз видела у Мистины такое лицо, и всегда это означало готовность к немедленной драке. Не пользы дела для, как сегодня, а от рвущейся из сердца ярости. А еще у нее впервые мелькнуло ощущение, что сама она сделала тот выбор, который Мистина не так давно просил ее сделать. И стало страшно.
Род – это то, что всегда с тобой. А переходя на сторону тех, к кому влечет не общая кровь, а лишь чувство сердечного доверия, по большому счету остаешься с судьбой один на один.
* * *
Свой платок, закапанный кровью Мистины, Эльга спрятала, чтобы завтра сжечь. Подмывало оставить его себе – с человеком можно сделать что угодно, имея лишь каплю его крови, – но Эльга подавила соблазн. Мистина оставил ей этот платок, потому что доверяет. А доверяет – потому что он муж ее сестры и отец ее племянников. Только так она и должна на него смотреть.
Потом Эльга сходила проверить, как там Святка. Ребенок с самого их вокняжения жил с нянькой в другой избе, где раньше обитала Мальфрид и где Эльга в те три года провела столько дней и вечеров. К Ингвару в любое время могли ввалиться двое-трое воевод, чтобы обсудить кое-что, чего не стоит обсуждать в гриднице. И иногда эти разговоры бывали такими долгими и шумными, что Эльга подумывала сама перебраться в избу Мальфрид, построенную как раз из-за этих причин. Не ляжешь и за полночь, а ей до зари вставать смотреть за дойкой!
Но переезжать Эльга не спешила. Ей были любопытны эти разговоры Ингвара с ближайшими соратниками. Муж достаточно доверял ей, чтобы не гнать, а у нее хватало ума не вмешиваться, пока не спросили. И сегодня, когда Ингвар вернулся в избу, она не стала упоминать о замысле послать в Самкрай Хельги. Пусть Мистина скажет. Лишь подумала: вот что значит – ее муж стал князем. Теперь за его правоту кто-то другой обдирает кулаки. И пока цена его правоты – всего лишь разбитый нос побратима. А потом – мертвые тела по всему полю… Не раз, не два и не десять.
– А где твои хазарки? – Ингвар огляделся.
– Они в девичьей ночуют.
– Вечно они тут у тебя крутятся.
– Целее будут. Разве они тебе мешают?
– Да хрен с ними! – отмахнулся Ингвар. – Вот где этот йотунов Рахваил… или как его там, морду козлиную?
– Рахваил? Дядя Мирави? – Зная, что сегодня никто уже не придет, Эльга с облегчением сняла волосник и стала расплетать косы, чтобы расчесать и заплести на ночь. – А тебе какая в нем корысть? Сорок шелягов принесет? Так и те не наши – Свенельдовы!
– Он же рахдонит. У нашего Гостяты родня о-го-го…
– Что ж ему эта родня сорок шелягов подарить не может?
– Потому что эти морды за шеляг удавятся! – Ингвар сел на постель и напряженно уставился в пустоту. – Вертится мысль какая-то… Ведь нам брать этот троллев Самкрай, а Рахваил и прочая его братия туда вхожа, как к себе домой. И пока у нас в руках их бабы и девки… можно из этого кой-какую корысть выжать, да не соображу какую…
«Ингвар любит тебя…» – вспомнила Эльга, водя гребнем по волосам. Сейчас на его лице отражалось напряженное раздумье, и мысли его были далеки от любви.
– А откуда берутся рахдониты? – спросила она, отгоняя мысли о тайне.
Ведь она почти пообещала Мистине больше не допытываться. Не так чтобы словами, но, если она сейчас попытается просверлить гору, это будет нечестно.
– Откуда берутся? – Ингвар посмотрел на нее. – Бес их знает. Они все жидины…
– Хазары?
– Нет. Ты что, рахдонитов не видела? Их возле рабского рынка каждое лето толчется, как мошкары на болоте. Они не хазары, у них другая какая-то страна есть, – Ингвар нахмурился, пытаясь вспомнить. – Или была… Далеко где-то.
– Дальше Царьграда?
– Дальше. Но приезжают они из Царьграда, когда не из Самкрая. Их в Царьграде чуть ли не больше, чем в самом каганате.
– И вы будете Самкрай приступом брать? – прошептала Эльга, присев рядом с ним, хотя в избе никого больше не было.
– Не мы! – Ингвар недовольно нахмурился. – А я еще не знаю кто. Вот, эти рыла говорят: ты стал робким! – Он в досаде ударил себя по колену. – Будто я бы сам не хотел пойти на этот троллев каганат! Да кто же меня пустит! Свенельдич сам первый и не пускает! Ты, говорит, князь, тебе нельзя, сиди дома и правь рулем. Вдруг ты уйдешь, а здесь что случится? Одних послов снаряжай, других встречай, купцов провожай через пороги… Пока все не наладится, года три-четыре мне не до заморья. А так, само собой, приступом придется брать. Сами же нам хазары ворота не отворят. Хорошо если правда тамошний воевода к Карше уйдет.
– Вам не отворят, а кому отворят? Вот, Рахваилу этому и отворят! – Эльга улыбнулась. – Жаль, вы на рахдонитов не похожи. Тут я слышала, пока масло сбивали, Левана девкам сказку рассказывала: дескать, был там у хазар или у сарацин один хитрый разбойник, он свою дружину посадил в большие такие горшки, по человеку в горшок, и провез в город, будто там масло. А ночью они должны были вылезти и ворота открыть. Я не все поняла, у нее слов хазарских много намешано.
– У него дружины-то сколько было? – Ингвар оживленно повернулся к ней.
– Тридцать человек.
– А у нас будет шестьсот! За зиму столько горшков даже моравы не наделают, к тому же чтобы человека спрятать!
– Чтобы перебить стражу и ворота открыть, все шестьсот не надо, – Эльга посмеивалась, сама не принимая эти замыслы всерьез. – Тридцати как раз хватит. Только подумай: вот придет Рахваил просить, чтобы отпустили его племянницу. Сорок шелягов принесет. А ты скажешь: не надобны мне твои шеляги, а хочу вот чего: весной дам я тебе тридцать горшков меда, отвези их в Самкрай и продай. Он согласится, возьмет горшки, привезет в Самкрай, поставит в клеть, а ночью парни вылезут и откроют ворота. Большая дружина и войдет.
Она сама засмеялась – хорошая сказка получилась! Надо бы Мистине рассказать, он повеселится. И еще станет врать на пирах, будто некий древний конунг таким хитрым способом проник в Рум. Целую сагу сплетет, а простаки будут слушать и верить.
Ингвар не смеялся, а сосредоточенно смотрел куда-то мимо нее. На лбу его обозначилась косая морщина, а пальцы двигались, будто он что-то просчитывает про себя.
Не дождавшись ответа, Эльга махнула рукой и стала укладываться спать. Ингвар вскоре лег возле нее, но по его дыханию она знала: он не спит и продолжает думать, глядя в темноту под кровлей.
* * *
С тайным нетерпением Ингвар день за днем ждал приезда рахдонитов, но, когда те наконец появились, им пришлось подождать его. Ворота княжьего двора были открыты, оттуда доносился топот многочисленных ног, стук о дерево и отрывистый крик:
– Щиты ровнее!.. Куда побежал? Ровнее!.. Шаг, шаг, шаг… право шаг, шаг… Стой! Воротись!
Старшим сторожевого десятка у ворот сегодня был Кари Третий. Такое прозвище он носил потому, что приходился внуком Кари Старшему – одному из Олеговых воевод, и тем же именем звался сын другого Олегова воеводы, Вильмунда – тот был Кари Щепка.
– Княже! – закричал он от ворот. – Твои жидины пришли! Пускать?
– Чего? – Ингвар обернулся.
В сером кюртиле некрашеной шерсти, раскрасневшийся, он управлял строем отроков – был час обычных упражнений. Уразумев, о чем речь, кивнул Гримкелю, чтобы продолжал вместо него, и пошел в избу переодеваться.
Беляница побежала за Эльгой – та была в поварне, где свои и хазарские девки толкли в ступах просо на кашу.
– Княгиня, жидины пришли, князь просит кафтан сыскать! – доложила она.
Злополучная вдова оказалась женщиной толковой, и спустя два месяца Эльга поручала ей то припасы, то готовку, то стирку, выдавая другую челядь в помощь. Даже подумывала позже передать все ключи от дома и волю над женской прислугой.
Услышав про жидинов, хазарки опустили песты. К Эльге обратились два десятка темных глаз: уже полмесяца пленницы жили в княгининой челяди, и вот явились люди, способные решить их судьбу!
– Погляди здесь! – велела Эльга Белянице и шепнула на ухо: – Может, отроков пришлю за кое-кем, тогда отпусти.
И вышла. «Чего замерли, работайте!» – долетел ей вслед строгий окрик.
В избе Ингвар сбросил пропотевшую за утро сорочку и обтирался намоченным концом полотенца. Эльга устремилась к ларю, вытащила чистую сорочку и старый красный кафтан. Вздохнула: в этом кафтане Ингвар явился на их обручение три года назад, сшить новый у нее так руки и не дошли, а шерсть, шелк и тесьма, присланные Сванхейд, лежат скучают. Нужды нет, что баб теперь полон двор – работы еще больше! А вот привезут из полюдья тканину, надо будет шить сорочки на ближнюю дружину, у кого нет своих женщин. Матушка Мокошь! Хоть на киевских баб особую повинность возлагай.
Гостей тем временем повели в гридницу. Опасливо скучившись, жидины прошли через двор, стараясь как можно дальше обогнуть строй в три ряда глубиной, наступавший на них под неизменное: «Шаг! Шаг!»
Но вот наконец князь и княгиня вступили в гридницу. Вместо серого платья для работы на Эльге теперь был красивый синий кафтан, от ворота до подола отделанный полосой коричневого с золотисто-желтым узором шелка, в разрезе виднелся красный хенгерок. Румяное, свежее лицо обрамлял белый шелковый убрус, на шитом золотом очелье покачивались серебряные подвески. Только пальцы еще немного пахли чесноком – делала подливку к печеному мясу для княжьего стола, не успела отмыть как следует.
Гости ждали их, стоя у входа. Подошли Карл, отец Хрольва, Трюгге и Тьодгейр. Им идти было недалеко: воеводские дворы по большей части стояли вблизи от княжьего, где их поставили еще Олеговы соратники. Явился плесковский княжич Бельша: в Плесков рахдониты от веку не заходили ни разу, и ему было любопытно на них взглянуть.
Четверых гостей Ингвар знал: это были Гостята Кавар Коген, Авраам Гапарнас, Ицхак Гапарнас и Манар бар Шмуэль Коген. Сходство прозвищ, как русы уже знали, означало вовсе не родство этих людей, а одинаковые звания в хазарской общине: коген – служитель бога, гапарнас – помогающий общине средствами. Заодно с ними князю поклонились двое немолодых, важного вида мужчин: Рафаил бар Авшалом и его товарищ, Симха бар Тувия. Может, Ингвар и видел их раньше, когда те приходили к Олегу-младшему, но не обращал внимания.
Эльга с любопытством разглядывала загадочных рахдонитов, которые знали дороги через весь обитаемый мир от Кордовы до шелковой страны Сина, торговали самыми дорогими товарами и считались людьми как очень могущественными, так и постоянно гонимыми. Лицами они совсем не походили на привычных киевских жидинов: крупные носы, темные глаза, не раскосые, как у многих хазар, а наоборот, большие и широко раскрытые. Из-под белых валяных шляп на грудь спускались длинные, седые, волнистые кудри.
Поздоровавшись, Ингвар позволил им сесть, и они уселись на длинную скамью слева, напротив воевод. Глотать дым пока не приходилось: осень стояла теплая, в гриднице можно было днем не топить очаг.
– С божьей помощью благополучно возвратясь из страны саксов, поспешили я и мой спутник, Симха бар Тувия, принести наше почтение тебе, Ингер, князь русский, – начал Рафаил. Он изъяснялся по-славянски медленно, но вполне свободно, и лишь выговор выдавал, что ему привычнее иные языки. – Господь сохранил в пути нас, наших людей, товары и наш вьючный скот, и мы во имя бога спешим поднести тебе дары в знак нашей дружбы и уважения. Твои слуги не допустили нашу повозку во двор, но если ты прикажешь, то их принесут.
Дарами оказалось десять корчаг с вином и мужской плащ из шерсти, покрытой синим шелком с серебряной вышивкой. Эльга уже почти без усилий сохраняла невозмутимый вид, но в душе дивилась: людям, подносящим такие дары просто ради знакомства с новым князем, не составило бы труда помочь с выплатой сорока шелягов. Один этот плащ, пожалуй, стоил больше!
Теперь придется их отдарить чем-то, еще большей стоимости. Дать два сорочка куниц – это добро, слава богам и Олегу Вещему, киевский князь получает бесплатно. А серебра или паволок лишних нет: привезенное Вещим он сам почти все успел раздать. И не так скоро еще у нынешнего князя руси появятся дорогие вещи, сотворенные греческими умельцами.
– И что известно нынче о стране саксов? – спросил Ингвар.
Мистина в это утро оказался у себя дома; Ингвар послал за ним и теперь не спешил начинать беседу, давая побратиму время добраться.
– Немало событий происходит в той стране, – начал Рафаил, привыкший, что торговых гостей всегда расспрашивают о новостях далеких краев. – Возможно, ты знаешь, два года назад умер тамошний король Генрих, и сын его Оттон был выбран по праву наследования преемником отцовской власти…
Ингвар слегка нахмурился: уж не пытаются ли его и тут укорить, что он захватил свою власть силой? Но подумал: плевать. Раз уже все, греки и хазары, знают, что он захватчик и разбойник, болтовня торговцев дела не ухудшит.
– Но был в то время устроен заговор против него, и умышляли на Оттона его родич Танкмар, Эберхард, герцог Франконии, и Вихман Саксонский. Но он вовремя узнал об этой опасности и расправился с врагами: Танкмар был убит, другие повешены, Эберхард лишен почестей. Вихман лишь уцелел, ибо успел броситься к ногам короля и молить о прощении.
Эльга слушала, погрузив в платочек пахнущие чесноком кончики пальцев и сохраняя невозмутимый вид, но в душе содрогнулась. Зря греки и хазары их попрекают: во всех краях одно и то же! Сильные люди борются за власть, не считаясь с родством, и казнят проигравших.
Будь Олег Предславич попроницательнее и порешительнее, разгадай он вовремя замысел Ингваровой дружины… От этой мысли у Эльги оборвалось сердце. Стал бы Ингвар, будучи схвачен, падать к Олеговым ногам и просить о помиловании? Но Мистину уж точно повесили бы, и говорить не о чем… Эльга сглотнула и прижала руку к груди. Почему она раньше не думала об этом? Только от юной веры, что все будет хорошо…
– Но Эберхард, не оставив дурных умыслов, минувшим летом захватил в плен Генриха, дядю короля, и заковал в оковы, – продолжал Рафаил.
Эльге вспомнился рассказ Асмунда о какой-то беседе с царьградским патрикием: тот был уверен, что Олега Предславича они, победители, заковали, или ослепили, или оскопили, словом, приняли сильные меры, дабы обезопасить себя от его соперничества. Стало дурно от одной мысли – сотворить нечто такое с племянником, родным внуком Вещего, но… все так делают! Вблизи престола или ты – или тебя… Эльга не жалела, что Ингвар позволил Олегу – и своей родной сестре! – уехать невредимыми и с честью, но стало тревожно: а что, если им эта доброта еще аукнется?
– А про угров что-то слышно там? – спросил у Рафаила Трюгге.
– О да, немилостив Бог к саксам! В те же лета пришли язычники-угры и опустошили Тюрингию, затем пробрались и в страну саксов, но погибли в болотах и густых лесах.
– Ну, где ж им на конях через болото! – хмыкнули воеводы, переглядываясь.
– И лишь часть их воротилась домой. Издавна угры разоряют не только страну саксов, но и Лотарингию, и страну франков. Также и даны, с помощью тамошних славян, повергли саксов в великий ужас, опустошили области по обе стороны Лабы. А правит данами, как рассказывают, Горм, сын Хардекнута. Его прозвище Вурм, что значит червь, но он не червь, а истинный змей, ужасный дракон, кровожадный и безжалостный.
При упоминании угров Эльга снова подумала об Олеге-младшем. Именно нашествие угорских орд выгнало его отца, князя Предслава, из Моравы и вынудило искать прибежища в Киеве. Если угры понесли потери в саксонских лесах – пожалуй, это хорошо, это даст Олегу возможность укрепиться хотя бы в какой-то части наследственных владений. И ему больше не понадобится Киев. Моравы – христианский народ, они не ищут себе счастья в военных походах, и для них миролюбивый Олег Предславич – хороший князь.
А тот голос, что она уже не раз слышала в глубине души, добавил: если угры сохранили достаточно сил для борьбы, это тоже хорошо. Ведь если они просто убьют Олега-младшего, беспокоиться о нем не придется больше никогда. Но этой мысли Эльга устыдилась и задвинула оконце, из которого этот голос звучал.
– Куда же вы направляетесь отсюда? – спросил Ингвар у рахдонитов.
Судя по мрачноватому лицу, он тоже подумал об Олеге.
Со двора долетел стук копыт и шум, будто кто-то приехал верхом. В дверном проеме появился Свенельд, за ним Мистина – с гладко зачесанными волосами, в кафтане работы Сванхейд и Альдис, причем две последние пуговки он застегивал на ходу. За ними вошли Торлейв, Асмунд и Хельги. Все пятеро поздоровались, почтительно поклонились княжьей чете и сели на свободные места на ближнем к хозяевам краю скамьи.
Ингвар незаметно вздохнул с облегчением. Он не привык принимать важных путешественников и вообще вести переговоры; в незнакомых делах князь полагался на опытность Свенельда и ловкость Мистины. Побратим живо оглядел гридницу, оценил гостей и их подарки, бросил взгляд на Эльгу и чуть заметно подмигнул. Она подавила улыбку: ей уже стал привычным этот знак, больше даже взгляд, когда глаз лишь чуть прищуривается на миг, не закрываясь полностью. Потом перевел дух и стал слушать.
– Из этих пределов мы намерены направить свои стопы в Самкрай, что на берегу Боспора Киммерийского, – отвечал князю Рафаил. – Там мой дом, там проживает моя семья под покровительством Господа и ребе Хашмоная, тамошнего тудуна.
– Мы надеемся, ты найдешь твой дом и семью в благополучии, – приветливо кивнула ему Эльга, зная, что Ингвар не догадается проявить любезность.
– Да благословит тебя бог за твое доброе пожелание, госпожа!
– Так с чем вы прибыли к нам? – небрежно осведомился Ингвар.
С появлением Свенельда и Мистины пришла пора вести настоящий разговор. С самого начала Ингвар держался так, будто его оторвали от важных дел и он сидит здесь только потому, что таковы обязанности правителя. Весь вид его давал понять, что рахдонитам что-то нужно от него, но ему ничего не нужно от них, поэтому и труд заговорить о причине встречи он переложил на гостей. И этому его тоже научил ловкий побратим. Не сказать чтобы у Ингвара уже хорошо получалось, но он старался. Эльге с самого начала лучше давался вид непринужденной властности.
– Едва прибыв в Киев, мы услышали весьма важные вести! – начал Рафаил, переглянувшись со своими спутниками. – Всему городу известно, что будущей весной ты, княже, собрался вести твое войско в поход на земли Романа в Таврии.
– Вот как! – усмехнулся Ингвар. Он ожидал другого. – Мы еще ни одного скутара не снарядили, а о походе уже весь белый свет знает!
– Славные деяния имеют громкий голос.
– А вам что за дело? – спросил Ингвар, будто сам не догадывался.
– Мы будем просить бога, чтобы он послал тебе победу над греками. Ибо эти люди – наши старинные враги, как тебе, может быть, известно. Многие мои соплеменники и единоверцы бежали в Кустантину[18] из сарацинских пределов, желая найти приют и покой для своих семей, но Роман, будто безжалостный лев, притесняет наших единоверцев и разрушает наши дома для молитв. Поэтому все сыны Израилевы будут молить бога о ниспослании тебе победы над нашим общим врагом. Я же спешу, в знак моей нерушимой веры в будущую твою победу, предложить тебе хорошие условия для торга. Ведь ты возьмешь там множество пленных, и тебе понадобятся верные люди, которые смогут сбыть их дальше на Восток, на Гурганское море, где на пленников и пленниц всегда есть хороший спрос.
– Право первым выкупать полон получают те, кто помогал снаряжать войско, – вступил в беседу Мистина, – о чем тебе, при твоей мудрости, несомненно, известно. И если ты желаешь предложить князю некую сумму серебром, то назад ты получишь ее полоном, выбирая, кого хочешь.
– Разумеется, мне известен этот мудрый порядок, – кивнул Рафаил. – Дела мои в стране саксов шли не так чтобы хорошо – угры перерезали все пути, а это всегда плохо сказывается на торговле. Если бы не убытки, я и не решился бы пойти на такое ненадежное дело…
– Мой уважаемый спутник хочет сказать, что торговать полоном – всегда дело ненадежное, – поправил его Симха. – Среди пленников часто вспыхивают болезни, иной раз выкашивают половину, прежде чем довезешь их до места, где дадут хорошую цену. Иной год ездишь через полсвета, чтобы с трудом вернуть вложенные деньги!
– Мы знаем, как суров бывает к вашему племени ваш бог, – участливо кивнул Мистина.
Свенельд немало дел имел с жидинами, поэтому Мистина хорошо знал, что от них можно услышать.
– И поэтому я мог бы дать, – предложил Рафаил, – скажем, две тысячи шелягов в предварительную уплату за пятьдесят пленников по моему выбору.
– Пятьдесят! – Мистина сам чуть не воскликнул: «Мой бог!» – Это же получается по сорок шелягов за человека! И это при том, что мы возьмем их в Таврии, откуда тебе совсем не трудно будет перевезти их по морю до Самкрая, а оттуда по землям кагана прямо на Гурганское море, где тебе за каждую пленницу дадут столько серебра, сколько она весит! Я не купец, я хирдман и даже не могу подсчитать, во сколько крат прибыль ты получишь. В Царьграде пленник стоит двадцать золотых номисм, а это в двенадцать раз больше серебряных шелягов!
– Но ты ведь не повезешь в Кустантину продавать христиан, захваченных на земле самого Романа. А край, где идет война, изобилует разными опасностями. На море может разразиться буря и разом погубить все мое достояние. Среди полона может начаться мор, и сколько раз бог судил умереть в такой мор самому хозяину товара, оставив его жену и детей без куска хлеба! Я не могу сейчас дать больше, мне это не по силам. Но если все пройдет хорошо, то после продажи полона я смогу рассчитаться с вами и по более высокой цене.
– Мы поговорим с тобой о цене позже, чтобы не занимать этим время князя. У него есть более важные дела, чем пересчитывать греческих девок в шеляги. И возможно, – Мистин глянул на Ингвара, – мы охотнее пойдем навстречу твоим условиям, если ты сумеешь оказать нам еще одну услугу.
– Хотелось бы узнать, какую, – настороженно отозвался Рафаил. – Все, что в моих слабых силах, я охотно…
– Пока у меня нет договора о торговле с тудуном Самкрая, – заговорил Ингвар, – мои люди не могут продать мои товары по цене, ради какой стоило бы ходить за море.
– Да, таков порядок, хотя это весьма прискорбно, – кивнул Рафаил.
– Но тебя же этот порядок не касается. Если ты привезешь любой товар в Самкрай, никто не помешает тебе продать его, уплатив ту пошлину, какую платят все подданные кагана.
– Ты ведь говоришь уже не о добыче с земель Романа?
– Я говорю о том товаре, который уже сейчас лежит в моих клетях. Это шкурки бобра, куницы, лисы, белки, зайца, горностая, льняная тканина, телячьи и свиные кожи, мед, воск. Если ты хочешь получить мою будущую добычу по такой цене, по какой я сбываю ее друзьям, сначала стань моим другом.
– Ты хочешь, чтобы я купил твой товар?
– Я хочу, чтобы будущей весной ты взял мой товар и отвез в Самкрай, где продал, будто свой. Ты все равно едешь туда, тебе не придется изменять свой путь. Я же дам свою охрану, которая оградит от опасностей тебя и твой собственный товар.
– Какую же долю прибыли ты предлагаешь мне? – осторожно спросил Рафаил, прикидывая, возможное ли это дело.
Конечно, тудуновы люди, собирающие пошлину, не дураки и поймут, что это за меха и кожи. Но жить всем надо, даже тудуну. За небольшое подношение и тудун прикинется глупее, чем есть.
– Никакую, – улыбнулся Ингвар. – Хотя постой! – Он поднял руку, видя, что рахдонит готов возразить. – Есть у меня кое-что для тебя. Княгиня! – Он повернулся к Эльге. – Прикажи позвать твоих новых служанок, пусть подадут меда нашим гостям. А то сидим, как чащобы неученые, в горле уже от разговоров пересохло.
Эльга подозвала отрока и отдала приказанье. Вскоре в гридницу вошли пять женщин с кувшинами и кубками. При виде их киевские жидины вполголоса загомонили по-своему: впереди шла Левана, за ней Мерав, потом Шуламит, Рахаб и Хадасса – жены и дочери киевских должников.
– Моей жене нужны служанки, а моим гридям нужны жены, – продолжал Ингвар, пока хазарки наливали меда в кубки и подносили гостям: жидинам – каждому отдельно, а русам – в братину, которая в таких случаях неспешно плавала вдоль скамьи. – Если вы поможете мне выгодно сбыть дань, я могу купить ей челядинок, а этих вернуть отцам и матерям. Если же нет, то эти девы и молодые жены останутся у меня. И дети, каких они родят, будут причислены к русскому роду.
– Я слышал об этой небольшой неприятности, – Рафаил оглянулся на Гостяту, не показывая особого волнения. – Все эти жены и девы присходят из хороших родов, и мы не можем оставить в столь бедственном положении наших единоверцев, честных людей, кои сами всегда приходили на помощь нуждающимся. Я дам тебе сорок шелягов и наросшую лихву. Просто чтобы уладить это дело и не допускать раздора между русами и сынами Израиля в Киеве.
– Нет, – Ингвар покачал головой. – Мне не нужны сорок шелягов, и даже с лихвой. На них не купишь двенадцать женщин, а именно столько служанок моей жене требуется, чтобы дом хорошо вести.
– Но если мне будет позволено напомнить, всякий заимодавец по закону обязан принять долг, если ему платят его сполна, и вернуть взятый залог в целости…
– А я тебе в ответ напомню другое, – Ингвар положил руки на подлокотники и наклонился ближе к гостям, – что закон в Киеве – это я и моя воля. А волю свою я уже тебе объявил. Если же между жидинами и русами в Киеве не будет мира, кто будет возить отсюда полон на Гурганское море?
– Если между нами будет нарушен мир, торги Самкрая окажутся для вас закрыты, в то время как Кустантина…
– У нас отсюда открыт путь хоть на запад, хоть на север. Вас же мы не будем пускать никуда. И даже если вы станете пробираться через Волгу и Булгарское царство, Волжский путь все равно выходит в мои северные владения. Даже Олег Вещий не имел такой власти над всеми путями, какую имею я, а это кое-что меняет для таких, как вы. Не ссорьтесь со мной. Мы свое мечом возьмем всегда, а вот ваше дело без мира… не дышит.
Никто из видевших его сейчас уже не подумал бы, что на Олегов престол уселся отрок. Невысокого роста и с простым лицом, Ингвар, однако, был полон внутренней силы; при взгляде на него всякий понял бы, что этот человек верит в себя, знает свою цель и не отступит. В такие мгновения Эльга любовалась им: эта сила и вера в себя делали его почти красивым, а вернее, были куда важнее красоты. Запрети Ингвар жидинам торговать – он потерял бы часть дохода, но рахдониты потеряли бы больше. В Киеве давно продавался и перепродавался полон – другие столь же крупные рабские рынки были лишь в Праге, Бьёрко и Хейдабьюре, за месяцы пути отсюда.
Рафаил переглянулся со своим товарищем Симхой, потом с киевскими жидинами. Те принялись горячо шептаться. Ингвар спокойно ждал, попивая мед, когда братина снова до него доходила. У Мистины тоже вид был вполне невозмутимый. Эльга старалась прикинуться, будто думает о другом, но в тишине, разбавляемой легким гулом голосов, слышала только свое громко стучащее сердце.
Она знала, до чего додумался Ингвар той ночью и что потом обсуждал с Мистиной и кое-кем из воевод. От решения, которое жидины примут сейчас, зависела удача руси на год вперед.
– Однако близится зима, путь по Греческому морю уже представляет опасность… – начал Рафаил.
– Вот поэтому я и сказал: будущей весной. К тому времени у меня будет больше товара: ведь этой зимой я соберу новую дань.
– Но будущей весной меня не будет в Киеве!
– Поэтому мы хотим предложить наши услуги, уважаемый Рафаил, – вступил в беседу Гостята Кавар, одновременно кланяясь Ингвару и Эльге. – Мы понимаем, что ты не можешь отложить твои дела и задержаться в Киеве до весны, но мы могли бы сами, получив от тебя должным образом составленную грамоту, отвезти русские товары в Самкрай. Мы не хотели бы обременять тебя нашими делами сверх необходимого, но также мы стремимся доказать нашу дружбу князю и уладить этот раздор…
– Тогда так! – Ингвар хлопнул ладонью по подлокотнику. – Ты, Рафаил, пиши грамоту, будто товар твой и они – твои доверенные люди. И можешь ехать своей дорогой. Вы будущим летом с той грамотой продадите мой товар в Самкрае. Тогда мы вам ваш долг с лихвой прощаем. Заключаем уговор, я вам ваших баб возвращаю, оставляю девок. Отцы девок едут с товаром. Их верну, когда вы с деньгами приедете. Ну, если все хорошо пройдет, подкину еще шеляг-другой для утешения. Любо?
Рафаил кивнул с довольным видом: от него требовалось лишь составить грамоту, но даже пошлины уплачивать придется не ему, а продавцам чужого товара. Киевские жидины огорчились, ибо Гостята, Ханука и отцы еще двух девушек могли получить их назад лишь почти через год. Но любые попытки предложить иные условия Ингвар отвергал легким качанием головы.
На этом дело не кончилось. Еще довольно долго обсуждали условия: что делать, если грядущая война русов и греков в Таврии помешает вовремя привезти деньги, кому жидины должны будут передать их, если с Ингваром случится какая беда, сколько оставить себе за беспокойство, если придется пересекать путь воюющих отрядов.
Наконец все было решено. Мистина от лица Ингвара поцеловал меч, потом приложился к нему лбом и обоими глазами поочередно, предавая свою жизнь и зрение во власть клинка; Рафаил и Гостята подняли руки и сказали: «Жив Господь!», призывая своего Бога в свидетели клятвы. Договор был заключен. Лица наконец прояснились и отразили удовлетворение; жидины откланялись и попросили разрешения удалиться.
И едва за ними закрылась дверь, Ингвар встал со своего места и подошел к Мистине. Не говоря ни слова, они разом врезали друг другу кулаками по плечу. Воеводы переглядывались и ухмылялись. Но все молчали, издавая разве что бессвязные восклицания: один намек на то, чего же они достигли на самом деле, мог погубить всю затею.
* * *
Вечером был пир – ближняя дружина и бояре отмечали удачный уговор с жидинами, позволявший обойти самкрайского тудуна. Толпящимся у ворот хазарам вывели восемь женщин, и над объятиями воссоединенных семей возносились к небесам ликующие крики и благословения. Четыре матери призывали бога, ибо четыре девушки остались у Эльги: Мерав, Шуламит, Емима и Рахаб. Пятнадцатилетняя Мерав была из них старшей. Эльга сожалела, что отдать пришлось молодых жен: от взрослых женщин больше пользы в хозяйстве, а этих, тринадцати-четырнадцатилетних, еще и учить придется. Но как заложницы они были дороже, и она смирилась. Вот пройдет все как надо, дадут боги удачи – и у нее будет хоть двадцать крепких работящих челядинок.
Как обычно, Эльга удалилась из гридницы раньше мужчин. Но когда пришел Ингвар, она еще не спала: ей хотелось поговорить с ним без чужих ушей.
– Неужели вы одурачили рахдонита? – прошептала она, забрав его кафтан.
Она восхищалась и не верила.
– Вот чтоб мне глаз потерять – они там прикидывают, как бы им одурачить нас, – усмехнулся он. – Может, и уже придумали. Ну да пусть. Главное, чтобы товар взяли и до Самкрая довезли. А там уж сколько у нас удачи хватит!
– Я вот что хотела… Послушай… – Эльга и боялась, и не могла удержаться от вопроса, который не давал ей покоя.
– Что?
– Ты знал… Ты понимал… Помнишь, жидин рассказывал, на Оттона саксонского его родичи и другие хёвдинги умышляли, он одних убил, других повесил… Ты знал, что и тебя, и Мистину, и Свенельда… что вас убьют или перевешают, если Олег раскроет ваши… игрища с вупырями?
Ингвар несколько мгновений смотрел ей в глаза, будто не понимая, потом хмыкнул:
– Да само собой! Но ты же не собираешься оскорбить меня вопросом, не боялись ли мы? Нет! – Он поднял ладонь, видя, что она собирается что-то сказать. – Мы твердо знали, что вас с Утой никто не тронет. Мы нарочно старались, чтобы вы ничего не ведали, не волновались и потом могли поклясться, что нет на вас вины. Кровная родня Олегу – вы, а не мы. Вас бы он пожалел.
Эльга открыла рот и закрыла, не зная, что сказать.
– Имеет цену не всякая жизнь, – пояснил Ингвар. – А достойная жизнь.
– Но ведь Ульв уже умер тогда… Мы могли вернуться в Хольмгард и жить как князья в своей державе…
Но, произнося эти слова, Эльга осознала: она совершенно не представляет себя живущей на Волхове. Только здесь ее судьба.
– Зачем брать половину, когда можно взять все? Мы все здесь, потому что наши предки думали так. Но ты зря волнуешься! – Ингвар успокоительно потрепал ее за плечо. – Меня бы не повесили, потому что я не собирался сдаваться живым. Мы же всю весну даже в нужной чулан выходили с оружием! А Олеговы люди верили, будто мы вупырей боимся!
Да, припомнила Эльга. В те дни, когда весь Киев дрожал перед «вупырем», она постоянно видела у своих мужчин мечи или топоры у пояса, но ей не пришло в голову, будто здесь что-то не так…
Глава 10
Над Святой горой дул ветер. Листва Перунова дуба, чуть тронутая желтизной, шумела над головой Эльги, почти заглушая прочие звуки. И Эльга вслушивалась изо всех сил, чтобы не пропустить ни слова.
– Я, Ингвар, князь русский, при свидетельстве моей дружины, бояр киевских и воевод русских, плесковских и черниговских, старейшин полянских и всех наших родичей, объявляю Эльгу из рода Олега Вещего, мою жену водимую и княгиню русскую, моей соправительницей, равной со мной в правах управления державой, в делах дома, суда и совета…
Эльга стояла у самого подножия дуба. Перед бурым широким, как пол-избы, стволом княгиня в красном платье и красном кафтане издалека бросалась в глаза, будто язык живого пламени. Ветер раздувал края белого шелкового убруса, и под восхищенными и почтительными взглядами сотен глаз ей казалось, что сейчас сам Стрибог подхватит ее на руки, усадит на спину своего незримого коня-вихря и умчит куда-то ввысь.
Широкая площадка святилища была так плотно набита народом, что свободным оставалось совсем небольшое пространство перед жертвенником. Собралась вся ближняя дружина Ингвара, старейшины полянского племени со всех десяти городков по Днепру и окрестных сел. Ближе всех стояли самые знатные родичи: Торлейв и Хельги, Свенельд и Мистина, Белояр плесковский с Гремиславом и другими родичами Уты. Возле них был и молодой черниговский воевода Эрленд Грозничар. Вчера он наконец приехал со своей дружиной встречать невесту и тем дал возможность завершить многие важные дела. За спинами мужчин тянулись, стараясь выглянуть через плечи, женщины знатных родов.
– В знак того вручаю ей секиру, – Ингвар взял из рук Торлейва небольшой боевой топорик на украшенной резьбой рукояти и повернулся к Эльге, – и призываю богов и чуров наших, прежде всех – дух славнейшего из них, Олега Вещего, дать ей и силу, и мудрость, и защиту.
Князь подал Эльге топорик. Способный поместиться на женскую ладонь, тот был, однако, настоящим и грозным оружием в умелых руках; на обухе искусный мастер выложил золотой проволокой сложный узор в виде змея-дракона во вкусе Северных Стран.
Эльга взяла «Малого Змея», глубоко дыша от волнения. Греческие цесари, избрав жену, возлагают на нее царский венец, а уж потом сочетаются с новой царицей браком. У русских князей никаких венцов в заводе не было, и знаком власти им, по доставшемуся от Киевичей обычаю, служил боевой топор. Обговаривая ход этого события, дружина сначала посмеялась. Предлагали выковать княгине золотое веретено из греческих номисм, но Мистина сказал: соправитель есть соправитель, даже если женщина. И раз уж мы признаем женщину носительницей удачи Вещего, знак ее власти должен быть достоин его. У Скольда Кузнеца выбрали небольшой топорик, заказали змея на обухе, выдали две номисмы: одну – на проволоку, вторую – в уплату за спешную тонкую работу. И к приезду Грозничара все было готово.
На площадку святилища вывели жеребца. Его заранее опоили зельями, чтобы впал в полусонное состояние, и прикрыли ему глаза повязкой, но по двое отроков держали его с каждой стороны. Эльга взяла бронзовый молот – орудие, которым оглушают крупных жертвенных животных. Сделала замах над головой жеребца, потом передала молот Ингвару, и тот уже нанес удар. У Эльги не хватило бы сил оглушить животное, а это должно быть сделано разом, иначе жертва будет неугодна богам.
Жеребец рухнул, и крик сотни голосов взлетел над вершиной Святой горы. Ветер понес его в самые небеса – до слуха богов. Жертву зарезали, голову отделили и возложили на белый камень, отроки стали снимать шкуру, чтобы разделать тушу. Предназначенные для людей части сложили в большие котлы и впереди толпы понесли на княжий двор, где уже закипала в поварне вода над очагами. Взлетающие к небу густые клубы дыма обещали гостям обильный пир.
Для простых киевлян выставили угощение прямо возле площадки святилища, выкатили пива. Гриди угощались во дворе, возле рабочих столов поварни, шутками отвлекая девок от работы. В гридницу попали только самые знатные из гостей – старейшины, бояре, воеводы.
Стены были увешаны шкурами, коврами, дорогими одеждами. Войдя, Эльга окинула быстрым взглядом столы. На этот день Ута предложила прийти помочь, и Эльге пришлось согласиться. Она не хотела, чтобы сестра за два месяца до родов толкалась в гуще чужих людей, но не могла же она сама одновременно приносить жерву в святилище и готовить столы дома! Ута обещала захватить Владиву, опытную и расторопную женщину, и часть собственной челяди, поэтому Эльга вполне положилась на них. Конины приходилось подождать, но на столах уже был разложен хлеб, сало, копченые окорока, соленая и вяленая рыба, соленые грибы, вареные яйца, дымились в котлах готовые каши и похлебки.
Среди женщин, хлопотавших у столов, взгляд Эльги зацепился за чье-то лицо. Но отроки уже разводили гостей по местам, ей нужно было присматривать, чтобы все остались довольны, а это непросто, когда набралось столько разного народу! Дружина знала, кто в ней старше, а кто младше, полянская старейшина тоже. С Олеговых времен тех и других сажали за два разных стола, напротив друг друга. Но теперь были еще плесковцы и черниговцы, и этим, как нынешним или будущим родичам княжьей четы, требовалось выделить особые почетные места. Поэтому поставили третий стол – поперек, и вышел он длиной во всю ширину палаты. Хорошо еще, Свенельд и Мистина согласились сесть с дружиной, а Избыгневичи – с киевской старейшиной, хотя те и другие тоже входили в число княжьих родичей.
Спорили, как быть с женщинами: несправедливо было бы не позвать их на пир в честь провозглашения полноправным правителем первой из них, но куда сажать? Женского стола в конце концов решили не ставить, а рассадить гостий среди ближайших их родичей-мужчин. Женщины попадали на пиры только по случаю разных семейных дел: обручений, свадеб, имянаречений, и их присутствие, – яркие платья, блестящие ожерелья, белые убрусы, красные очелья, шитые серебром и золотом, а пуще того сияющие оживлением глаза, улыбающиеся губы, румяные щеки, – придавали гриднице особенно торжественный и радостный вид. Сегодня княгиня, первая среди жен русских, стала соправительницей, и каждая из них в этот день ощутила себя немножечко княгиней.
* * *
Проходя вслед за отцом к своему месту, Асмунд вдруг нос к носу столкнулся с какой-то боярыней и замер. В глаза бросилось знакомое лицо, но он не сразу узнал ее – вернее, не сразу поверил своим глазам. Это была Пестрянка – но такая, что Асмунд едва сдержал возглас изумления. Она казалась совершенно другой женщиной с едва знакомыми чертами. Он привык видеть ее в сорочке и поневе, а теперь на ней было варяжское платье из желтой шерсти с шелковой серебристо-голубой отделкой на груди, травянисто-зеленый женский кафтан, ожерелья из желтых, синих и зеленых стеклянных бус и серебряных подвесок. Все это делало ее рост еще выше, а осанку еще горделивее и внушительнее.
– Будь жив! – Пестрянка улыбнулась, изумление на его лице принесло ей горьковатую радость. – Или не признал?
Платье и кафтан ей из своих запасов сшила Ута – ее собственные Пестрянке были коротки и узковаты, а какая женщина не знает, до чего неприятно выходить на люди в платье не по росту! Ожерелья к платью долго составляли всей девичьей – Ута, Володея, Владива, юные Дивуша и Предслава по одной подбирали бусинки из богатых хозяйкиных запасов, прикладывали, спорили – идет, не идет. Все они очень жалели Пестрянку, у которой никак не налаживалось с мужем, и хотели как-то помочь.
Но как? С самого приезда Асмунд почти не бывал дома, пропадая на княжьем дворе. Если вечером он приходил, пока женщины еще не спали, Ута раз или два шепотом пеняла ему: жена приехала, что ты как чужой? – и подталкивала к двери девичьей избы. И Асмунд раз хотел было туда пойти, но Мистина придержал его за локоть и шепнул:
– Дело твое, но если она сейчас на радостях понесет, то уже не отделаешься. Прощай тогда, Звездочада, свадьбу сыграет Хельги!
Асмунд с неловкостью и сомнением глянул на него:
– А сейчас еще разве можно… отделаться?
– Тебя ровно три года не было дома. Ты сгинул, и уже ей решать, она все еще твоя жена или нет. Если больше ее не хочешь, не давай ей повода вернуться. Так, может, еще получится развязаться.
– Отец мне не позволит. Я с ним и заговорить об этом не смею.
Асмунду самому было стыдно, что он так обращается с женой, но появление Пестрянки стало для него неожиданностью отнюдь не приятной. Тогда, три года назад, он пошел на Купалии за невестой лишь ради матери – уже зная, что уедет из дома, возможно, на полгода, на год или больше, – и мать останется в доме почти одна. Собирайся он на самом деле жить с молодой женой – не выбрал бы первую встречную, лишь потому, что ему понравилось лицо ее, честное и открытое. Желай он жениться для себя, так вовсе отложил бы выбор до возвращения из Киева.
Но уже тогда что-то ему подсказывало: не вернется он. Пестрянка была прощальным подарком для матери. Он добыл Кресаве невестку, как добрый сын в сказке добывает для больной матушки звериное молоко. Исполнил сыновний долг – и ушел своим путем. И теперь ничуть не обрадовался появлению в Киеве поминка из давно забытой прежней жизни, которой здесь было не место. Он стыдился этих мыслей, не знал, как примирить обязанности чести и свои желания. Трудно было поймать воспарившую к небу мечту о знатном родстве и высоком положении, приковать обратно к земле. Конечно, братом княгини и воеводой он будет и без Чернигиной внучки, но жена богатого, знатного рода – это честь и удача не только себе, но и будущим детям. Вдвойне более могучий корень рода, который мог бы вырасти на этой земле. Совесть шептала: на Пестрянке-то какая вина, не она тебя в дом привела, а ты ее, она своего долга ни в чем не нарушила, теперь живи… А киевские родичи, с которыми он мог бы посоветоваться, и не думали об этом – у них хватало забот поважнее.
– Что, ты и не знал, что женат на такой красивой женщине? – рядом с Пестрянкой появился Хельги. – Это просто глупо – прятать от людей такую красоту. И раз уж ты никак не находишь времени повидаться с ней у себя дома, ей пришлось самой прийти сюда, где тебя можно застать.
– Кто это придумал? – Асмунд смерил Хельги неприязненным взглядом.
Даже ему, человеку в целом доброжелательному и расположенному к родне, постепенно становилось тесно рядом с новоявленным братом. Казалось, Хельги занимает на Свенельдовом дворе все больше и больше места. Торлейв, Ута и Володея всегда и во всем с ним соглашались, дети с радостными визгами повисали на его плечах, стоило ему появиться. Если самому Асмунду случалось с ним говорить, он тоже чувствовал неодолимую склонность во всем признать его правоту. Спасало лишь то, что гораздо больше времени он проводил у Ингвара, с Мистиной, Свенельдом и прочими боярами.
– Это мы с Утой привели ее, чтобы весь Киев и гости наконец ее увидели.
– Ты, кажется, присваиваешь право распоряжаться моей женой? – процедил Асмунд, сдерживая гнев.
Сегодня эта молодая, привлекательная женщина предстала перед ним, как сама Недоля. Совсем рядом Грозничар и его племянница. Если они сейчас увидят Пестрянку… услышат, как ее называют его женой… С мечтами о новой женитьбе придется проститься. Какая-то прежняя жена где-то там, за тридевять земель, – не так уж это страшно, у многих русов есть что-то подобное, и это Чернигость и Грозничар поймут без труда. Самому Черниге обладание знатной женой северянского рода не мешало иметь еще двух-трех попроще. Но, явившись на пир в дорогом платье, под покровительством родичей, Пестрянка заявила о таких своих правах, которые не оставляли рядом с Асмундом места для другой.
– Ах, так ты помнишь, что она – твоя жена? – Хельги словно бы удивился.
– Видя вас со стороны, недолго и подумать, будто она – твоя жена! – раздался рядом голос неведомо откуда взявшегося Мистины. – Мало какой деверь так заботлив и добр с женой брата.
– Я знаю еще одного! – Хельги многозначительно ему улыбнулся.
– Садитесь, родичи любезные, не стойте тыном, на вас уже глаза таращат! – Мистина понял его, но сейчас было не время.
И повел Уту за почетный стол княжьей родни.
Асмунд отвернулся и сел рядом с отцом. Хельги пропустил вслед за ним Пестрянку, а сам устроился с другой стороны от нее. Ему казалось, даже сквозь шум движения и голосов сотни человек он различает рядом отчаянный стук ее сердца. Хотелось взять ее за руку, поддержать, подбодрить. Но этого он не мог сделать на глазах у ее мужа, которого пытался ей вернуть.
* * *
Но вот наконец все гости расселись по местам, Эльга налила братину и вручила Ингвару, чтобы начал пир. «Малый Змей» так и лежал перед ней на столе: на пиру иметь при себе оружие не полагалось, но она не могла с ним расстаться.
Князь первым поднял чашу в честь богов, потом пустил ее дальше. Вот братина дошла до Грозничара, и тот встал. Лет двадцати пяти, младший сын престарелого воеводы Чернигостя уже был женат, но овдовел. Вдовец не считается завидным женихом для девушки, однако старших братьев Грозничара не было в живых, и он оставался прямым наследником отца, что, конечно, делало такой союз весьма привлекательным даже для племянницы Вещего. Сам Олег основал город возле впадения Стриженя в Десну и посадил там воеводу, своего соратника Траусти, которого окрестные поляне звали Тростенем. Его сын Чернигость не так давно закончил строить детинец на мысу – теперь это был настоящий город, откуда собирали дань с саварян. Свою часть дани тамошние воеводы имели право продавать в заморье сами, на них Греческое царство присылало долю даров. Для Володеи этот брак обещал не меньше чести и богатства, чем имеет всякая княгиня, кроме киевской.
Приехавшая с другого края белого света, чтобы выйти за Грозничара замуж, Володея только сегодня впервые его увидела и теперь разглядывала во все глаза, пытаясь понять, нравится он ей или нет. Выглядел он неплохо: рослый мужчина с продолговатым лицом, широким носом и светло-русыми усами, скобой спускавшимися в небольшую бородку. Узковатые глаза выдавали примесь степной крови: еще сам Траусти взял жену-заложницу из местной саварянской знати. Не красавец, Грозничар тем не менее выглядел человеком сильным, упорным и решительным, и Володея, отчаянно волнуясь, все же склонна была отнестись к нему хорошо. Дочь воеводского рода больше всего боялась получить в мужья какого-нибудь рохлю, но, похоже, в этом суденицы ее не обидели.
– Князя Ингвара мы от рода нашего поздравляем с такой женой, – среди прочего сказал Грозничар, держа обеими руками большую серебряную братину, – однако надобно нам и о себе подумать. Была нам обещана невеста, княгини сестра родная, и надеемся мы нынче ее заполучить.
Все взгляды обратились к Володее; у нее перехватило дух от волнения. Грозничар задорно провел рукой по усам и подмигнул ей, давая понять, что невеста ему нравится. Володея улыбнулась, невольно радуясь и краснея. Народ за столами восторженно загомонил, приветствуя происходившее на глазах сложение нового воеводского рода, еще одного из тех союзов, что рождают славных витязей и вливаются новым ручьем в могучий поток русской силы.
Отпив из братины, Грозничар передал ее Торлейву. На него Грозничар смотрел как на будущего тестя: поскольку отца Володеи не было в живых, замуж ее отдавал дядя.
– Невеста у нас готова, – ответил ему Торлейв. – Но теперь, как сестра ее княгиней стала, и невестам нашим цена подросла.
– Какого же выкупа желаешь? – Грозничар горделиво засунул пальцы за пояс, выпятив грудь. – Есть у нас и шелка греческие, мечи и шлемы хазарские, жеребцы угорские, гривны и обручья серебряные, а про скот и челядь даже не говорю. Без счета!
– Цена лебеди нашей высока – ни гривнами, ни паволоками не измерить. Если желаете у нас невесту взять, то другую взамен нам дайте – тогда сладится дело.
Все воззрились на девушку, сидевшую возле Грозничара. Не в пример Володее, она под этими взглядами лишь ровнее выпрямила спину и гордо подняла голову. Звездочада приходилась Грозничару племянницей – дочерью его давно покойного старшего брата. Ей было уже шестнадцать лет, но Чернигость не спешил с ее замужеством, выжидая жениха получше и познатнее. Родство с вождями кочевых родов у нее было более близкое, чем у Грозничара, и степная кровь ярче сказывалась в разрезе глаз и очертании губ. Но при этом кожа у нее была белая, а волосы рыжие, что делало ее внешность особенно яркой и необычной. Но в остальном она ничем не отличалась от дев русских родов: на ней было варяжское платье ярко-синей шерсти с шелковой отделкой, синяя же шелковая лента в косе, красное очелье с серебряными подвесками. Яркая, довольно рослая, она притягивала и не отпускала взгляды мужчин.
Эльга окинула взором стол своей родни, и у нее дрогнуло сердце. Она сама впервые сегодня увидела Звездочаду и теперь поняла: за эту невесту женихи будут бороться. Если раньше за этим именем стояли лишь выгоды родства с Тростеневичами, то теперь оно стало означать женщину, которую всякий мужчина захотел бы увидеть своей женой.
Невольно она бросила взгляд на Мистину на ближнем краю дружинного стола. Голубой кафтан работы Сванхейд, отделанный золотисто-желтым коричневым узорным шелком и серебряной тесьмой тонкой работы, по последним веяниям конунгова двора Адельсё, выделял его среди даже самых богатых бояр и воевод. С нескрываемым любопытством он переводил взор между мужчинами за почетным столом. Похоже, лица возможных женихов Звездочады забавляли его больше, чем волновала ее собственная красота. Тут он вдруг взглянул на Эльгу, поймал ее взгляд и подмигнул, слегка качнув головой, будто говоря: ой, что будет! И она с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. Хотя смешного не было ровно ничего.
– Так и за нашей невестой дело не станет! – Грозничар подбоченился, зная, что может гордиться племянницей. – Дева у нас подросла, всякому искусству обучена, приданое изготовлено – рассказал бы, да долго перечислять. Какого же нам даете жениха?
При этом он ободряюще посмотрел на Асмунда, который сидел бледный и замерший. И очень удивился, когда Торлейв ответил:
– Вот жених – мой племянник, старший сын моего старшего брата Вальгарда. Его имя Хельги.
Среди удивленных возгласов Хельги поднялся с места. На нем был новый кафтан, тоже изготовленный ему в подарок Утой с помощницами – из светлой рыжевато-коричневой шерсти, с тонкой отделкой красного шелка и нашитой на грудь широкой полосой другого шелка, с коричнево-красным узором. Ута сшила его, подражая работе Сванхейд; делать серебротканую тесьму ей, имея столько детей на руках, было некогда, но и так кафтан Хельги оказался из лучших в гриднице. С тщательно расчесанными и заплетенными в косу волосами, рослый, осанистый, Хельги был бы просто красавцем – если смотреть на него с правой стороны. К несчастью, черниговские гости сидели от него слева – со стороны родимого пятна, и на гордом лице Звездочады отразился ужас, когда она поняла: ее сватают вот за этого человека!
– Какой еще Хельги? – нахмурился Грозничар. – Мы же… – он в недоумении посмотрел на родного брата Уты, – насчет Асмунда уговор имели! Кто такой этот Хельги? Откуда он взялся, да еще сразу – такой взрослый? Твой брат уже три года как погиб – не с того света ли он тебе сына прислал?
Бояре за столами, кого это все напрямую не касалось, засмеялись. Асмунд молчал, стиснув зубы. Ясно, зачем Хельги привел на этот пир Пестрянку. Вздумай он, Асмунд, сейчас притязать на Звездочаду – Хельги укажет, что у соперника уже имеется водимая жена, и ничего, кроме свары и срама, из этого не выйдет.
– Можно сказать и так, – согласился Торлейв. – Я сам не знал, что у моего брата есть сын.
– И чем же он отличился? – положив руки на пояс, Грозничар с несколько пренебрежительным видом наклонился вперед, будто хотел получше разглядеть предлагаемого зятя. – В какие походы ходил? Каких ворогов одолел?
– Я служил конунгу Южной Ютландии, Кнуту сыну Олава, – ответил Хельги. – И вместе с его дружиной побывал не в одном сражении с дружинами Генриха Саксонского или Горма сына Хердакнута.
– Человек такого рода сумеет отличиться, ему нужен лишь случай, – поддержал племянника Торлейв.
– Случай? Слышали мы, что скоро у нас у всех будет хороший случай. Ведь это не брешут, – Грозничар повернулся к Ингвару, – что ты, княже, на то лето собираешься вести войско на греков в Таврию?
– Не брешут! – усмехнулся Ингвар. – Но только я не смогу пойти туда сам, мне хватит дела здесь, на Днепре.
– И кто же будет возглавлять твое войско? Вот этот новый родич? – Грозничар показал в сторону Хельги.
– Нет, – Ингвар качнул головой, и теперь уже Эльга в удивлении повернулась к нему. – Мое войско будет возглавлять другой брат моей жены – Асмунд.
– Но как… – ахнула Эльга, однако Ингвар несильно ткнул ее кулаком в бедро под столом и шепнул:
– Молчи!
Голос его был так суров, что Эльга прикусила язык. А ведь ей хотелось закричать: «Как же так, мы ведь договорились!»
* * *
Разговор состоялся наутро после того, когда Ингвар утвердил свое решение не вести на Таврию ближнюю дружину, а Эльга пересказала ему хазарскую сказку про разбойников, спрятанных в горшках. Наутро он послал за ближними воеводами – обсудить предстоящий поход. Притом велел гостям идти не в гридницу, а в избу, где никто больше не услышит. Даже приказал сторожить оконца снаружи, чтобы кто не вздумал погреть уши. Эльга устроилась с шитьем на ларе, куда падали из окошка последние яркие лучи осеннего солнца. Мужчины расселись вокруг стола.
– И вот еще что пора нам решать, – сказал Мистина, когда самое главное было обговорено. – Кто всю эту пляску заводить станет?
При этом он бросил взгляд на Эльгу, давая понять, что не забыл их вчерашнюю беседу.
– То есть кто воеводой пойдет? – нахмурился Ингвар. – Сам хочешь? Как раз по тебе гудьба.
Князя все еще огорчало то, что ему лично поход возглавить нельзя. Но в чем он охотно признавал полное превосходство побратима, так это в искусстве морочить головы.
– Нет! – выразительно заверил Мистина. – Не поверишь, но не хочу.
Все за столом воззрились на него с удивлением.
– Есть человек не хуже меня. Отважный, опытный, знатного рода…
– Не тяни, не сватать пришел! – нетерпеливо крикнул Ингвар.
– Его зовут Хельги Красный.
Удивление превратилось в откровенное изумление.
– Йотун меня ешь! – весело воскликнул Свенельд, не ждавший, что сын уступит такое многообещающее дело другому, да еще тому, кого охотно удавил бы собственными руками.
– Он старший внук Олега Вещего, – напомнил Мистина. – Кому исполнить такое сложное и опасное дело, как не ему? – Он совсем слегка выделил голосом слово «опасное», через стол глядя в глаза Ингвару и надеясь, что тот поймет. – Строго говоря, он, как побочный сын Вальгарда, не имеет здесь особых прав, но все же в нем кровь Вещего, и ее мы должны уважать. Мы дадим ему случай показать себя. Все решит судьба. Если он унаследовал удачу Вещего, то все пройдет как надо, Хельги возьмет богатую добычу, прославится и сможет снарядить дружину для следующего похода уже без нашей помощи. Но никто не попрекнет его, что он взял то, чего не заслужил, как было бы, если б ему передали право на древлянскую дань. Правда, отец?
– Да уж, что-то я его не видел, когда мы с Добронегом и Маломиром рубились, – хмыкнул Свенельд. – Ты, стало быть, решил обойтись с ним по-доброму? – Он положил на стол руку, где не хватало двух пальцев, и подался к сыну. – Чтобы он сам завоевал себе богатство и мог смело им гордиться?
– Решает князь. Я лишь подаю совет, – уточнил Мистина. – И как же мне не быть добрым к этому человеку, ведь он брат сразу и моей жене, и нашей княгине.
– По-твоему, так будет лучше? – Ингвар тоже помнил, о чем они говорили однажды ночью за углом гридницы.
– А по-твоему, княгиня? – Мистина глянул на Эльгу.
Кроме него, никто на нее не смотрел. Она поцеловала ладонь и сдула поцелуй в его сторону[19].
– Княгиня согласна, – объявил Мистина мужчинам за столом, ничуть не переменившись в лице.
– А справится ли он? – усомнился Тьодгейр. – Я с ним говорил, он в Хейдабе служил у конунга, но из хирдманов так сразу в воеводы не ставят. Как знать, на что он годен?
– У нас впереди еще полгода. Пока будем готовить людей, как раз и посмотрим, на что он годен.
Видя, что самое главное решено, Эльга соскользнула с ларя и вышла: пора было идти распоряжаться в поварне. Мистина проводил ее взглядом, обождал, пока отроки на крыльце плотно затворят дверь, добавил:
– Но я вас прошу пока держать этот наш уговор в тайне.
– Почему? – спросил Ингвар.
– А можно, я не буду отвечать? – Мистина улыбнулся. – Пока никто об этом решении не знает, у меня тоже есть кое-какое дельце на уме.
– Торговое? – насмешливо уточнил Ингвар.
– Откуда ты такой умный, конунг? – с досадой воскликнул Мистина под смех воевод. – Прямо вот сразу обо всем догадываешься!
* * *
Но об этом последнем условии Эльга не знала и потому удивилась, услышав, что вождем похода Ингвар называет другого ее брата! Но сдержалась и смолчала: даже «Малый Змей» не давал ей права спорить с решениями мужа по части военных и дружинных дел.
– Вот это мы понимаем! – воскликнул Грозничар. – Асмунд сын Торлейва – человек отважный и надежный, это мы давно уж знаем. А Хельги сына Вальгарда мы пока не знаем никак! Как так вышло, что он объявился уже после смерти отца?
– Останови их! – торопливо шепнула Эльга Ингвару. – Иначе худо будет.
От тревоги сердце обнимало холодом: если сейчас Торлейв при всех скажет, что Хельги – побочный сын, о котором отец даже не знал, черниговский воевода будет так оскорблен, что не только пир пойдет прахом.
– Эй, Торлейв, что-то у тебя братина застряла! – крикнул Ингвар. – Встала, будто лодья у причала! А родич наш Белояр Воиславич сидит скучает, ему и горло промочить нечем! Отправляй-ка уточку дальше, а кому за кого свататься, в другой раз поговорим!
Князь отдал прямой приказ прекратить разговор, и Торлейв повиновался: передал братину Бельше, тот встал, все прочие сели. Эльга под столом благодарно сжала руку мужа, переводя дух, но и понимая: это ненадолго.
Обе невесты переглянулись с одинаковым выражением тревоги. Они тоже сегодня увиделись впервые, но хорошо понимали друг друга. Там, где замышлялись две свадьбы, может не сладиться ни одной.
Эльга думала о том же. И старалась не смотреть на свой новенький «Малый Змей». Потому что ей хотелось взять его и со всей силы… ушатать, как говорят гриди, любезного братца Хельги прямо по лбу. А бросив взгляд на Асмунда, поняла: он разделяет ее чувства.
Боги, что же это такое! Хельги Красный, сын ее отца, так похожий на него, что при виде этого лица, при звуке этого голоса у Эльги щемило сердце! Нареченный именем Вещего – пусть женщина, давшая сыну это имя, осознавала лишь малую часть его значения! Сильный, умный, находчивый, решительный, упорный человек, дружелюбный и по-своему привлекательный, он мог бы принести честь и благополучие любой семье. Но почему-то их семье он пока нес только раздор, разлад и крушение замыслов. Торлейв и Ута на его стороне из чувства справедливости, а Ингвар и Мистина… чего-то опасаются.
Глядя на Мистину, Эльга угадывала его скрытое напряжение и понимала: та правда, которую он просил ее не отыскивать, далеко не так беззуба, как он пытался ей представить. Было чувство, будто столбы и балки Олеговой гридницы трещат, готовые рухнуть.
Захваченная всем этим, Эльга почти забыла о главном событии сегодняшнего дня, и лишь от красоты «Малого Змея», лежащего возле нее на столе, становилось чуть легче на сердце.
* * *
Вернувшись на Свенельдов двор после пира, Пестрянка села на лавку в гостевой избе и сложила руки на коленях. Не сняла даже нового цветного кафтана и ожерелья. На беглый взгляд, она была совершенно спокойна, но вид этого спокойствия приводил Уту в трепет.
Асмунд не поехал с ними домой, остался ночевать в Ингваровой гриднице, не желая видеть никого из родни. Торлейв настаивал, что утром пошлет за ним и отцовской властью прикажет заканчивать это баловство. Обычно человек мирный и мягкий, сейчас воевода был очень сердит.
– И, Ута, я завтра сам поговорю с Ингваром, – сказал он дочери. – Легко догадаться, что Чернигость не очень обрадуется незаконнорожденному зятю, но я хочу, чтобы Ингвар устроил этот брак. Князю киевскому это вполне по силам. В конце концов, Чернигость ему служит! Хватит уже пятиться и обещать. Пора что-то сделать. Этим они хотя бы возместят то зло, какое нам причинили. Свенельд обещал все устроить, но если так и не выбрал времени, я займусь этим сам!
– Батюшка, какое зло? О чем ты говоришь?
– Не стоит об этом сейчас! – Хельги поднял руку.
Поглядев на Грозничара и его сестру, он понял, что добиться своего будет нелегко, но не собирался отступать. Главного он уже достиг: Асмунд отказался свататься к черниговской невесте, освободив ему дорогу.
– Мы все уладим! – убеждал он Уту, сев рядом и ласково взяв ее за руку. – Сестра, не думай об этом, для тебя главное – благополучно доносить твое дитя!
– Но как я могу не думать! Что происходит с моей семьей! – Ута готова была заплакать и крепилась изо всех сил. – Они знают что-то дурное, но мне никто ничего не говорит! Даже Эльга! Мы всегда доверяли друг другу, но теперь… даже со Свенельдичем у нее какие-то общие тайны завелись, а от меня все скрывают!
– Да будь проклят этот Киев! – в сердцах воскликнул Торлейв. – Будь проклят тот час, когда я впустил в дом этого… извод побери… твоего будущего мужа! – Приличие не позволяло ему все же назвать вслух своего зятя так, как хотелось. – Он украл сперва одну нашу дочь, потом женился на второй, и… что происходит? Мой сын уехал за ними, и вот что вышло! – Торлейв в негодовании указал на неподвижную Пестрянку. – Забыл жену, не желает знать сына, не слушает отца, будто я не отец ему, а пес, что под тыном лает! Все уважение к нашему роду здесь пошло прахом – а ведь только род и дал им все, что они имеют! Боги! Что делать?
– Я останусь без мужа! – в голос ревела Володея. – Ничего не будет! Эльга мне объя… яснила – теперь можно только обменяться, меня одну отдать, а другую не взять, – нельзя! Если Аська не женится на Звездочаде, меня не отпустят за Грозничара!
– Успокойтесь все! – призывал Хельги, стоя посреди избы. – Все уладится! Ингвар не может себе позволить ссору с Грозничаром. Олегов стол под ним еще шатается, и если Чернигость откажется ему повиноваться, объявит свой берег Днепра отдельной державой – она уже достаточно велика, говорят! – то Ингвар потеряет очень много! Ему нужны эти свадьбы, и твоя, Володея, и моя! Он это устроит!
– Устроит! – с решимостью подтвердил Торлейв. – Иначе я заберу вас всех – Ута, и тебя! – и увезу назад домой. А Эльга и Аська пусть делают что хотят, но если они отказываются от нас, то я откажусь от них!
– О боги… – Ута едва переводила дух, чувствуя, как дитя ворочается в животе. Еще не родившись, оно могло остаться без отца.
Сердце колотилось. Пробрал озноб, потом бросило в пот, и впервые ей подумалось: из-за всех этих беспокойств она может не доносить до срока.
– Я с тобой уеду, батюшка! – вдруг подала голос Пестрянка. – Правду ты говоришь: проклято это место. Кто сюда попадет, тот пропадет, как в чаще глухой. Мужья жен знать не хотят, отцы – сыновей, дети – отцов. Уеду и… хоть бы мне умереть!
– Что ты говоришь? – пробормотала сквозь слезы Володея.
– Никому из вас я не нужна! – Пестрянка встала, и всех заново поразило, как внушительно она стала выглядеть в ярком цветном платье. – Загубили вы, варяги, жизнь мне! Один замуж взял – бросил! Другой сюда завез, за тридевять земель… зачем? Правду ты тогда говорил, когда мы с тобой в лес к ручью ходили, в Купалии, – обратилась она к Хельги. – Надо было мне тогда тебя послушать. Три года мужа нет – считай, все равно что умер. Ушла бы я от него, приданое бы назад взяла да нового мужа нашла себе, простого человека, что жил бы, как все живут. Зачем ты повез меня сюда? Чтобы поглядела, как мой муж к той степнячке сватается?
– Фастрид! Не говори так, я же хочу тебе счастья!
– Счастья? – Пестрянка уперла руки в бока. – Какого? К мужу немилому, кому я постыла, силой меня в руки впихнуть, чтобы та степнячка тебе досталась? Не обо мне ты печешься, а о себе!
– Нет!
– Какого тут счастья, если муж и не глядит на меня, в одном доме побыть со мной ему невмоготу! Среди гридей живет, как отрок холостой, лишь бы от меня подальше! Хочешь такого счастья мне?
– Я завтра его за шиворот приведу! – пригрозил Торлейв. – Научу, как жену любить!
– Любви палкой не учат! – горестно засмеялась Пестрянка. – Не выйдет – он уж не отрок. Он брат княгини, воевода, посол, его рукой не достать! Нет, отец, не надо мне его! Лучше я в Днепр брошусь, чем буду немилой с мужем жить!
– У тебя дитя, опомнись! – вскрикнула Ута.
– Или погожу, – не слыша ее, Пестрянка долгим взглядом посмотрела на Хельги. – Упустила я, дура, счастье свое, что же теперь вдогон бежать? Помнишь, ты тогда, в лесу, предлагал мне… Отказалась я, думала… А, что теперь-то думать? Погожу, еще камнем на шее у муженька повешу, пока ты степнячку себе высватаешь. А потом – все едино, хоть к Ящеру! Он всех примет!
Махнув рукой, она пошла из гостевой избы в девичью. Хельги оглянулся на Уту, будто спрашивая, как теперь быть.
– Пойти за ней, а то не сотворила бы чего… – Торлейв тоже шагнул к двери.
Хельги хотел идти за ним, но Ута окликнула его.
– Хельги… – повторила она, когда брат вернулся и подошел к ней. – Не ведаю я, что у вас там было… что ты ей предлагал и отчего она отказалась… я знаю, она жена честная… но ты… ты не думаешь, что она тебя любит?
* * *
В девичьей избе еще горела лучина над лоханью. Пятеро детей и челядинки спали на полатях, кое-кто из девок – на полу. Пестрянка подошла к лавке, где челядинки уложили ее сына, и теперь он посапывал, привалившись к стене. Даже вид родного дитяти сейчас причинял ей боль. Она расстегнула серебряную застежку кафтана с тремя узорными круглыми листочками, бросила на стол, будто простой камешек, повесила кафтан на колышек в стене. Села, будто забыв, что дальше. Перед мысленным взором была пустота.
Чем она или родня ее Долю прогневили? Сотни девок мужей на Купалиях находят и живут потом, как все люди. Кто поладнее, кто похуже, но по-прежнему, тем же путем и понятием, что дедами завещан.
Ей одной варяг достался – и все пошло не как у людей. Отец Асмунда приехал в кривскую землю из-за моря и здесь взял жену. Асмунд родился над Великой, но устремился еще дальше. У варягов каждое поколение ищет себе новую жизнь, вот и весь их покон. А она, девка глупая, не заметила, не поняла, что у этого парня, как бы ни был он хорош, корни в родной земле держатся еле-еле. Подул ветер – и унесло его. Он свои корни пускает в этой земле, киевской, и жену ищет здесь, среди такой же руси, как он сам.
Пусть даже все будет, как обещает Торлейв: завтра он вызовет сына сюда, отцовской властью велит выбросить из головы «степнячку» Звездочаду и жить с плесковской женой. Даже если у Асмунда не хватит духу на разрыв с отцом и он послушается – это ли счастье? Уныние, тоска, взаимная обида и досада. Муж так и будет видеть в ней подводный камень, об который разбилась лодья его упований. Но куда ей деваться – придется терпеть.
А на «степнячке» женится Хельги. Вспоминая ее восточные глаза и рыжую косу, Пестрянка кусала губы от негодования и невольной зависти. Та недотепа, как его увидела на пиру, аж в лице переменилась. Не понравился! Чем такой может не понравиться? Где еще найдешь такого, в ком столько силы, ума, ловкости, упорства и притом готовности к любви?
Снова открылась дверь, вошел Хельги. Пестрянка вздохнула: она не хотела говорить ни с кем, даже с ним. Что еще он мог ей сказать? И все же от его присутствия стало легче. Он всегда приносил Пестрянке ощущение ее нужности и достоинства – именно того, чего ей так не хватало.
– Фастрид! – Хельги подошел, взял ее за руку и поднял со скамьи. – Ты не правда… не права. Я не для себя старался. Я хотел, чтобы твой муж к тебе вернулся. Ты красивая и достойная женщина. Я хотел, чтобы это увидели все – и князь с княгиней, и вся родня, и все люди в Киеве, и твой муж. Но если он слепец, это его беда, а не твоя.
– Куда я денусь? – Пестрянка с тоской посмотрела на него. – Нету мне никуда дороги. Родня меня назад не примет: скажут, хороших жен мужья не покидают. Поедем со свекром-батюшкой домой, будем по-старому жить, как те три года жили. Может, судьба мне смерть пошлет поскорее. Дитя только жаль, – она взглянула на мальчика.
– Ты твердо знаешь, что не желаешь больше Асмунда? – Хельги пристально взглянул ей в глаза.
У нее защемило сердце – так красив он ей казался, и не важно, с какой стороны смотреть. Ну почему судьба связала ее с тем, кому она не нужна, а того, кому нужна, привела с таким опозданием?
– Какого Асмунда? – вздохнула Пестрянка. – Того, что я три года назад повстречала, уже на свете нет. Теперь-то вижу, а то все были одни мечты. А того, что есть, я и не знала никогда. Нету у меня мужа, морок один. Но сей морок меня весь век мой теперь держать будет, не отпустит.
– В Северных Странах свободная жена имеет право развестись. И ты имеешь: ты не рабыня, у тебя было приданое, Асмунд давал тебе свадебные дары.
– Мы тут не в Северных Странах. У нас такого не водится. Свела судьба – так тому и быть. Живи теперь… хоть умри. Асмунд может себе других жен взять еще хоть трех, а жене другого мужа не видать. Такая наша бабья доля.
– Это не трудно. – Хельги не понимал, как «бабья доля» может помешать, когда есть утвержденный обычаем способ обрести свободу. – Нужно при свидетелях объявить о разводе – у постели, у порога дома и у ворот усадьбы. Трудновато бывает получить назад свое имущество, но Асмунд, я думаю, не станет с этим упрямиться. И ты будешь свободна.
– Где та постель? – Пестрянка глянула на лавку, где с самого приезда в Киев спала со своим ребенком и куда Асмунд ни разу даже не присел. – Где тот дом и двор? За тридевять земель!
– Тем лучше!
– На что мне воля, коли дурной славы потом вовек не избыть? Как я домой ворочусь? Как родичам, да и прочим людям в глаза взгляну? Загуляла, скажут, баба, наблудила, род опозорила. О боги, хоть бы мне умереть по пути!
Пестрянка закрыла лицо руками, будто все те сотни осуждающих и презрительных взглядов уже впивались в нее, точно стрелы.
– Фастрид, пойми! – Хельги взял ее ладони и отвел от лица. – Мир велик. Тебе не нужно возвращаться домой, туда, где все знали, что ты была женой Асмунда.
– Не возвращаться? – Пестрянка взглянула на него с изумлением. – Но Торлейв по зимнему пути назад поедет, я с ним. Иначе куда?
– Послушай! – Хельги обнял ее. – Я родился в Хейдабьюре, это на юге Ютландии. Там поблизости живут разные народы – даны, саксы, славяне, фризы. Оттуда я ехал сюда по морю через Бьёрко и Готланд, я видел земли стольких племен и народов! Я клянусь тебе – в Хейдабьюре или на Готланде ровно никому нет дела до того, живешь ли ты с мужем, который не сумел тебя оценить.
– Но я…
– Ты уже не в том селении… прости, забыл, как это назывется, где живут твои родичи.
– Чернобудово.
– Да. Ты давно ушла оттуда ногами – уйди оттуда мыслями и будь счастлива.
Пестрянка молча прижалась к нему. Лишь тепло его объятий, проникая в каждую жилку и прогоняя мрак из души, позволяло забыть обо всех ее бедах. Хотелось, чтобы это продолжалось вечно. Здесь никаким печалям было ее не достать.
Только краешком сознания она посмела вообразить, будто Чернобудово и вся толпа родни и предков не видит ее, не смотрит на нее, не судит, что она сама вольна решать, как ей жить – и захватило дух от испуга и от пьянящего чувства свободы.
Но тогда получается, она может сама выбрать, кого ей любить? Уже давно Пестрянка осознала, что мысль о воссоединении с мужем радует ее куда меньше, чем положено, а огорчает не столько равнодушие Асмунда, сколько намерение Хельги взять за себя черниговскую невесту. Асмунда, какой он есть сейчас, она почти не знает, зато в Хельги за этот уже почти год, особенно последние полгода, привыкла видеть самого близкого, расположенного к ней человека.
– Фастрид, я не возьму другой жены, если это тебя опечалит, – шепнул ей Хельги. – Я еще не знаю, где я буду жить и чего сумею достичь, но я хочу разделить все это с тобой, если ты пожелаешь.
– Что… – Пестрянка подняла голову. – О чем ты говоришь?
– Ты можешь быть моей женой, если хочешь. С родичами я все улажу.
– Но так не бывает… – прошептала изумленная Пестрянка.
– Асмунд не станет тебя удерживать, а родичи согласятся, если уж ты, твое приданое и дитя останетесь в той же семье. Если мне хватит удачи, через год-другой мы получим во владения Деревлянь, а там никто и не узнает, какого ты рода и был ли у тебя другой муж. Я никогда не покину тебя. Я не такой дурак, как Асмунд, и понимаю, чего стоит такая жена. Ты согласна?
Пестрянка не находила слов. Забыть об Асмунде и остаться с Хельги – это было бы самым большим счастьем, какое она могла придумать. Но такого просто не может быть! Нельзя второй раз выйти замуж при живом муже!
Не дождавшись ответа, Хельги поцеловал ее. И она забыла, о чем они говорили; все в ней вспыхнуло и потянулось ему навстречу. Если только представить, что она сама вправе решать свою судьбу… то она давно все решила.
* * *
На княжьем дворе утро выдалось бурным. Грозничар явился в гридницу завтракать, мрачноватый с похмелья, а потом попросился переговорить с князем наедине.
«Наедине» означало в присутствии княгини и Мистины, но против их общества Грозничар не возражал.
– Я все понял, – почти с порога отрезал он, не тратя лишних слов. – Этот ваш Хельги – побочный сын твоего отца, да, княгиня?
– Истину глаголешь! – подтвердил Мистина, пока Ингвар и Эльга с досадой переглядывались.
– За ублюдка племянницу не отдам! – так же решительно продолжал Грозничар. – Мы себя не в дровах нашли! И девка у меня получше других будет! Да только свистну – женихов сорок человек набежит, знай выбирай! Для вас мы с отцом берегли. А вы нам что подсунуть хотите? Обидеть задумали нас, Тростеневичей? Или мы вам, русским князьям киевским, не слуги верные? Не надежные? Такой свадьбе не бывать. А с моей невестой что? Я сюда жениться поехал, там в Чернигове отец пива наварил, медов наставил. А я как уехал холостой, так и приеду? Всему городу, всей Саваряни на посмешище? Поссориться хотите?
– Не серчай, воевода! – вежливо, но твердо попросил Мистина. – Ссориться никто не хочет.
– Мы же про Асмунда речи вели! Сговорились обо всем! И он сидит, как пень, молчит! А я как дурак перед всем народом! Передумал? Девка не понравилась? Да пусть где получше найдет, а я погляжу!
– Асмунд хочет жениться! – воскликнула Эльга. – Это его отец… всю пряжу нам перепутал. Он, Торлейв, хочет сперва старшего женить – Хельги. Вот и сватает вам его.
– Ублюдка в род не приму! А если мы с вами поссоримся, то моих дружин с собой в Таврию, Ингвар, не зови!
– Да троллеев этот ублюдок! – рявкнул Ингвар и грохнул кулаком по столу. – Помнишь, я тебе говорил? – Он обернулся к Мистине. – Прав я был! А ты говоришь – нет! Мы думали, он только одно, а он еще с Заднепровьем меня рассорить хочет! Да чтоб его йотун взял!
– Ублюдка в род не приму, вы что хотите делайте! Хоть рожайте мне для племянницы жениха достойного, а мою невесту мне отдать извольте! Я к отцу назад, как дурак холостой, не поеду!
– Нам в поход идти, готовиться надо, людей собирать, учить, снаряжать, а тут этот твой краснорожий навязался мне на голову! Что он по дороге шею не свернул?
Мужчины кричали, перебивая друг друга, а Эльга не знала, плакать ей или гневаться. Она сердилась на Торлейва, на Хельги, на Грозничара, который пришел браниться с ними, когда они в своем роду разобраться не могут. И та пугающая тайна, которая было ускользнула от нее, вдруг вновь прошла где-то рядом. Она видела, что Ингвар дрожит от ярости при одном упоминании о Хельги. Только желанием жениться на Звездочаде тот не мог так досадить знатным родичам. Почему Ингвар, человек прямой и решительный, просто не откажет наотрез во всех его притязаниях?
Сейчас и ей уже хотелось, чтобы Хельги просто исчез. Мелькнула даже мысль: если он исчезнет, я не буду задавать этим двоим вопросов… Но тут же Эльга устыдилась этого. Вспомнилось свержение Олега Предславича – это случилось полгода назад, а кажется, с тех пор миновали многие годы. Один раз они преступили честь ради власти. Обездолили свою кровь. Но нельзя делать так постоянно! Боги не будут долго терпеть тех, у кого война с родичами вошла в привычку.
– Пора мне! – Мистина встал. – Пойду займусь моим делом торговым.
– Каким еще делом торговым? – Эльга повернулась к нему. – Опять ты нам головы морочишь?
– Каким делом? Невыгодным, йотун меня ешь! Если все сложится, как задумано, два знатных мужа получат знатных жен, один человек получит дружину для похода. А я сам что получу?
– Что? – огрызнулся Ингвар. – Я скажу тебе! Когда я зимой уйду в полюдье, ты останешься здесь вместо меня! И получишь мирную Деревлянь, мирное Заднепровье и кучу родичей, которые не хотят убить друг друга! Мало тебе, Долговязый?
* * *
Посреди княжьего двора Мистина встретил Асмунда: остыв и почти смирившись с судьбой, тот собирался домой. Однако Мистина посоветовал ему пока задержаться здесь.
– Я попробую выторговать тебе невесту. Думаю, у меня получится, – пообещал он, ободряюще трепля Асмунда по плечу.
«Ну а если не получится, с человеком ведь всегда может что-нибудь приключиться», – подумал он, но говорить этого вслух не стал.
Бывает так, что все решения по-своему нехороши, но что-то выбирать надо. А если не укротить слишком бойкого родича, то Хельги Красный, пытаясь урвать себе кусок Олегова наследства, развалит весь его дом.
На Свенельдовом дворе Мистина зашел сперва к себе – проведать жену и разузнать, что происходит.
– Свенельдич! – Ута встретила его бледная и невыспавшаяся. – Ты-то чего ночевать не приходил?
Выглядела она плохо: лицо осунулось, под глазами появились темные полукружья.
– Будь жива! – Мистина поцеловал ее. – Здорова? Не очень? Зачем встала? Лежала бы. А если родичи покоя не дают, только скажи – я их всех выгоню.
– Свенельдич! – Не думая о себе, Ута с волнением вглядывалась в его лицо, в очередной безнадежной попытке прочитать его истинные намерения. Не зная всего, она, однако, понимала, насколько все плохо. – Вы ведь не сделаете этого еще раз?
– Чего? – спокойно спросил Мистина, сверху вниз глядя на запрокинутое к нему лицо жены.
– Того, что сделали с Предславом… с Олегом… Я больше такого не вынесу. Боги вам больше не спустят…
– Нет, что ты! – легко ответил он. – И в мыслях нет. Мы ж не звери какие, договоримся. Обещаю тебе. Где мой любезный родич Хельги Красный?
– Он с отцом.
– Поди посиди с отцом, а его пришли ко мне.
– Вы не будете…
– Будь спокойна, драться мы не будем. Сегодня до обеда все уладится.
– Правду говоришь?
– Чтоб у меня рука отсохла!
Когда Хельги вошел, Мистина ждал его, сидя на том же месте, что и в прошлый раз. Оружия при нем не было. Окинув избу быстрым взглядом, Хельги не нашел ничего подозрительного, но расслабляться не спешил.
Отказавшись от притязаний на Звездочаду, он в одном выигрывал, в другом проигрывал. Однако теперь Пестрянка связана с ним, а значит, делит все угрозы. Ради нее требовалась особая осторожность.
– Будь жив! Ты хотел со мной говорить?
– Да, – кивнул Мистина. – Садись. Я не собираюсь тебя убивать прямо сейчас, здесь никого нет, кроме меня, и даже ничего пить мы не будем – просто для спокойствия.
– А мы удивительно хорошо понимаем друг друга! – засмеялся Хельги, будто не заметил этого «прямо сейчас», и сел напротив. – Между нами должно царить полное родственное согласие!
– Скоро мы его обретем! – заверил Мистина. – Знаешь, говорят, родичи лучше всего ладят, когда между ними лежит море.
– Ты хочешь предложить мне вернуться в Хейдабьюр? – При этой мысли Хельги вновь обрел решимость сражаться до конца. – Не думаю, что это мне подойдет.
– Не угадал. Я хочу предложить тебе возглавить наше войско в походе на Таврию.
– Что?
Мистине все же удалось его удивить. О Таврии он сейчас думал меньше всего.
– Но ведь во главе похода поставлен Асмунд!
– Да. Но мы поговорили… Эльга попросила его за тебя… Он может уступить эту честь, если взамен ты окажешь кое-какую услугу ему.
– Это какую же?
– Ты отказываешься от Звездочады. Черниговцы все равно тебе ее не отдадут, так что здесь ты ничем не жертвуешь, но нам хотелось бы сохранить мир с Торлейвом, а он держит твою руку. Асмунд даст свободу своей жене Пестрянке и вернет приданое. Ты женишься на ней и получишь войско для Таврии. Асмунд откажется от чести возглавить поход, зато получит Звездочаду. Это выгодно всем. И мы обретем родственное согласие, какое дороже всякого золота. Что скажешь?
Хельги молчал, пораженный этой речью. На миг подумалось, что Мистина каким-то образом узнал о его ночной беседе с Пестрянкой. Но тут же понял: нет. Мистина как раз не знает об этом. И подталкивает к решению, которое Хельги уже принял и без него. И дает за Пестрянкой «приданое» в виде целого войска и воеводского звания.
Захватило дух – такая удача выпадает раз в жизни и меняет эту жизнь сверху донизу. Судьба и боги на его стороне. Не зря он решился уехать из Хейдабьюра на поиски отцовского рода и не случайно его с самого начала так влекло к покинутой жене двоюродного брата.
– Почему ты думаешь, что жена Асмунда… – начал он, из осторожности прикидываясь удивленным.
– Об этом знает весь двор. Не у тебя одного есть глаза.
– Но войско для похода… – Этой щедрости Хельги мог найти одно-единственное разумное объяснение. – Вы хотите от меня избавиться?
– Само собой, хотим, – Мистине больше не было нужды перед ним лукавить. – Я слыхал, христиане любят своих врагов, но пока не понял, как они при этом умудряются выжить. Однако тебе ведь нужна не моя любовь, а польза дела, верно?
– Да, твоя любовь уже отдана кое-кому другому, – засмеялся Хельги, будто разговор у них был самый дружеский. – Моей прекрасной сестре…
– Что? – выразительно спросил Мистина, будто недослышал.
В один миг исчезла вся его решимость спокойно довести дело до конца; не меняясь в лице, он уже готов был вскочить и схватить Хельги за горло. Еще одно слово…
– Твой жене, конечно! – воскликнул Хельги, будто иного ответа и быть не могло. – Моей сестре Уте, кому же еще!
Мистина незаметно перевел дух. С самого начала Хельги собирался лишь пошутить, или увидел вдруг, как стремительно расступается темная вода, выпуская наружу исполинское чешуйчатое тело? Самое прочное терпение все же не беспредельно. Во внутренней зоркости Хельги не откажешь; он смел и ходит по краю, но соображает, когда пора отскочить.
– Так вот, – продолжал Мистина, будто никакой заминки не было. – В этом деле наши выгоды сходятся. Ты исчезаешь из Киева и не тревожишь покой мертвецов. А взамен получаешь верную возможность обрести славу, богатство, уважение людей и занять по праву положение, приличное племяннику Вещего. Причем нам с Ингваром ты почти ничем не будешь обязан. Случая для тебя нам не жаль, но как ты им воспользуешься – дело твоего ума, отваги и удачи. Идет уговор?
– Это надо обдумать…
Хельги пытался побыстрее осмыслить это предложение. В чем подвох?
Пестрянка… Хельги не жалел о том, что из-за нее отказался от возможности поискать жену с более полезной родней. Обладая твердым духом, он тем не менее имел мягкое сердце и не мог отвергнуть любовь достойной женщины. Да и стоит ли привередничать, когда неясно, будешь ли жив через год? Ведь как честь и счастье ему предлагали возможность показать себя в сражении.
– Нет, хватит топтаться, мы здесь не ладой ходим[20], – Мистина качнул головой. – Мы сегодня должны заверить Грозничара, что он справит свадьбу. Пойми, он ее справит по-всякому, – Мистина наклонился к Хельги. – Но обидно было бы ее откладывать, если вдруг придется носить «печаль» по родичу.
– Ты мне угрожаешь?
– Нет, я тебе напоминаю главный завет удачи: не зарывайся. Бери то, на что имеешь право. Разумный человек всегда поймет, когда кончается упорство и начинается упрямство. Собственно, умением их разграничить он и отличается от неразумного. Все наследие Вещего было завоевано без тебя и даже без твоего отца. Ингвар и Эльга объединили свое наследство и создали державу, какой еще не бывало между Восточным морем и Греческим. И порушить ее мы не дадим никому. Чего бы нам это ни стоило. Но ты можешь пойти дальше. Поискать себе славы и добычи не там, где их уже брал Вещий, а там, где он еще не был. Сделай его державу не меньше, а больше, и заслужишь славу в веках.
– Ну, что ж… – Чуть помедлив, Хельги протянул ему руку над столом. – Я готов пойти туда, где еще не был Вещий. И докажу, что во мне тоже течет его кровь.
Мистина пожал ее, глядя Хельги в глаза.
– Стыдно мне было бы малодушничать, если уж ты, человек нашему наследству посторонний, ради этой державы от моря до моря готов отказаться… Знаешь, а я рад, что у моей сестры есть такой преданный человек! – не сдержался Хельги. – Ты готов убить ради княгини, да?
– Убить? – Мистина отнял руку и усмехнулся. – Я готов на куда большее. Ты сам в этом убедился… поскольку остался в живых.
Глава 11
Падал снег, и двое отроков вели под уздцы идущую шагом лошадь, чтобы не споткнулась на тропинках в гору. Покрытая плащом с головой, Эльга ехала, как в шалаше, и с трудом одолевала дремоту. Хотелось закрыть глаза и заснуть прямо в седле. По пути от воеводской бани, стоявшей в ряду других в низине у Днепра, она уже побывала на Свенельдовом дворе, но не застала там никого, кроме челяди и детей, за которыми присматривала тринадцатилетняя Дивуша Дивиславна. И теперь Эльга ехала на княжий двор, надеясь найти Мистину там. У нее были для свояка новости. Уте с новорожденным чадом предстояло провести в бане еще три дня, и с ней остались на ночь Владива и Пестрянка. А Эльга отправилась домой – очень довольная, что все кончилось хорошо и сестра в третий раз прошла через ворота Нави благополучно. Но очень усталая.
Шел последний месяц перед солоноворотом: в кривской земле он назывался студен, а здесь – грудень. Дни были так коротки, что редко и солнце успевало хоть одним глазком глянуть сквозь тучи на землю, как серая хмарь снова сгущалась и на Киев опускалась длинная слепая ночь. При свечах, лучинах, факелах и кострах вставали, жили, делали дела и снова ложились, укутанные тьмой, как бесконечным покрывалом.
Ингвар уже почти месяц как ушел в полюдье с ближней дружиной и половиной большой. Эльге он оставил двадцать человек – охранять двор, под началом Хрольва и Кари Третьего. На нее ложились почти все городские дела, требовавшие участия князя. К счастью, без Ингвара и большой дружины дел по хозяйству стало меньше, а Беляница так навострилась, что с повседневными хлопотами справлялась и сама.
Почти уже забылись две свадьбы – Асмунда со Звездочадой и Грозничара с Володеей. Внезапно все устроилось, все пришли к согласию, и Эльга, сидя на свадебном пиру сразу сестры и брата, едва верила, что это правда. Даже когда пришла пора провожать молодых на покой, когда сама она заводила песню под перезвон Борелютовых гуслей, – и тогда еще облегчение лежало на сердце огромной пуховой подушкой, так что она едва переводила дух.
Не по погребу бочонок катается, Лебедин мой лебедин, Лебедь белый молодой, Грозничар-от женой величается, Лебедин мой лебедин, Лебедь белый молодой…Женщины подхватывали припев, а она плавно кружилась между очагами, кланяясь обоим парам новобрачных. Гнала от себя невольные воспоминания о Мальфрид, что три года назад пела эту песню на ее, Эльги, свадьбе.
Уж ты ладушка, разуй, Молодая, разобуй. Лебедин мой лебедин, Лебедь белый молодой. Я бы рада разобуть, Да не знаю, как зовут. Лебедин мой лебедин, Лебедь белый молодой…И медленная, как спокойная светлая река, свадебная песня будто уносила Эльгу в какие-то солнечные луга, где нет всех этих хлопот, тревог, раздоров и сомнений. Белый лебедь кружил перед ее мысленным взором, и от светлых его крыльев на сердце веяло теплым отрадным покоем.
Подпоясочку сняла, Милым дружком назвала, Лебедин мой лебедин, Лебедь белый молодой. Подпояску на крючок, Сама к ему под бочок. Подкачуся, подвалюся, Никого я не боюся. Лебедин мой лебедин, Лебедь белый молодой…Но вот кончилось свадебное веселье, Грозничар с женой уехал – ему еще предстояло собирать княжескую дань с подчиненного Киеву левобережья Днепра. Асмунд сначала жил у Свенельда – старый воевода как раз отбыл в Деревлянь, – а недавно перебрался на свой новый двор. Киевская знать занялась предстоящим походом. Дел было невпроворот. Пока не встал Днепр и большая дружина не ушла в полюдье, Ингвар занялся починкой дружинных домов для ополчения, которые остались еще от Олеговых дальних походов. С десяток просторных построек, каждая из нескольких срубов со своей печью и полатями во всю длину, стояли в предградьях, в окружении княжеских огородов, где летом растили репу, морковь, лук и горох. Как всякие здания, где не живут постоянно, дружинные дома быстро ветшали, и теперь пришлось перекладывать печи, заново конопатить щели и крыть крыши. Чтобы своя челядь управилась – нечего и думать, наняли плотников и печников в городе, благо щедрость василевсов позволяла расходы. Дружинные дома требовалось подправить первым делом – они понадобятся раньше весны.
За зиму нужно было набрать, вооружить, подготовить и снабдить всем необходимым шесть сотен человек. Сколько-то будут уже все уметь и даже кое-что принесут с собой – русины из разбросанных от Киева до Варяжского моря русских городков. Но набрать более двух сотен наемников воеводы не рассчитывали. Остальные будут славяне. Живущие близ торговых путей роды уже давно, еще в Олеговы времена, осознали, что удачный поход за море даст больше, чем урожай за пять лет, и охотно отпускали парней, если не испытывали большого недостатка в рабочих руках. Но эти снарядятся только боевым задором и рабочим топором, которому даже рукоять понадобится новая.
Набранных «охотников» приходилось учить воевать. Не зная, на что способен Хельги, и не полагаясь вполне на опыт Асмунда, Ингвар оставил присматривать за этим Мистину, а главой ближней дружины на время полюдья назначил Гримкеля Секиру. И по полдня, во всякую погоду, Свенельдича можно было видеть на площадке у дружинных домов, перед строем новоявленных копейщиков.
Для похода требовались лодьи – не менее тридцати-сорока, чтобы в каждую помещались по двадцать человек со всем нужным грузом. Весла, канаты, веревки, паруса, смола… Строили их на Днепре и Десне, за чем приглядывал сам Ингвар по пути, Грозничар и местные старейшины. Весной, как сойдет лед, их спустят сюда, к Любечу. Требовались припасы: зерно, вяленое мясо, соленая и сушеная рыба, топленое сало в горшках, сухой горох и просо, лук и чеснок. Все это частью собиралось в виде дани, частью покупалось за греческое золото.
За время полюдья оставшимся в Киеве воеводам предстояло приготовить оружие и походное снаряжение на пять сотен человек. Что-то сохранилось еще с Олеговых времен: наконечники копий, сулиц и стрел, которыми вооружают ополчение, умбоны для щитов. Почти все это требовалось почистить, подправить, заточить. Олеговы дома для ополчения пока превратились в склады и мастерские. Нанятые ремесленные дружины целыми днями сколачивали щиты.
Кузнецов в Киеве, опять же с Олеговых времен, было много: княжеская дружина всегда дает им работу. Теперь для них закупали железо, раздали по окрестным городам и селениям заказы на уголь, и всю зиму кузнецам предстояло ковать наконечники копий и секиры – основное оружие ополчения.
Присмотром за всем этим занимались Мистина, Асмунд и Хельги. За делом они поладили не так плохо: Эльга видела, что между мужчинами наступил если не мир, то хотя бы перемирие.
Как и ожидалось, она всех застала в гриднице.
– Путь на Гурганское море и Шелковые Страны известен уже лет сто или больше, – рассказывал Ранди Ворон. – В тех краях хорошо покупают и меха, и полон, и можно было бы привозить оттуда серебро и золото возами, если бы на дороге не стояли целых три кагановых заставы. Одна – это Самкрай, мимо него надо идти из Греческого моря в Меотийское. Вторая – хазарский Саркел на Дону. И третья – на переволоке от Дона к Волге, что ведет уже в само Гурганское море. Еще при Вещем русы хорошо знали этот путь и все, что на нем можно раздобыть. Я знавал многих людей, которые при Вещем прошли на Гурганское море. Из них мало кто вернулся, сарацинские наемники кагана перебили их на Волге на обратном пути. Даже когда каган берет лишь десятину с каждого купца и товара, он все же на своей земле собирает ее по три раза. Поэтому так мало охотников туда ездить. А ведь этих мехов и полона на реках до Ладоги можно собирать сколько угодно! Олег Вещий и прежние конунги Хольмгарда знали, что делали. У них в руках был и товар, и пути его сбыта. Теперь же, когда все эти края принадлежат одному человеку, выгодный сбыт нам просто необходим, чтобы себя уважать. Так что даже если бы Роман и не решил изгнать хазар из Карши, чуть раньше или чуть позже нам пришлось бы сделать это самим.
– Возможно нам закрепиться в Самкрае – если все пройдет хорошо? – спросил Хельги. – Что там за народ?
– Живут там по большей части торговцы – хазары, жидины, армяне, греки, ясы. Вокруг города выращивают хлеб и виноград. В целом это народ мирный, сражаться предстоит только с тудуновыми войсками. Но просто так каган этот город не отдаст – это его ворота на Греческое море и западную половину мира.
– Но если мы захватим Самкрай, а греки – Каршу, то каган вовсе потеряет выход на Греческое море! – заметил Асмунд.
– И тогда уже мы будем брать с хазар пошлины за проезд к Царьграду, – засмеялся Хельги.
Увидев княгиню, засыпанную снегом, мужчины прервали разговор, встали и поклонились. Сразу двое или трое устремились к ней – помочь снять платок.
– Сидите, мне нужен только мой свояк, – улыбнулась она и кивнула Мистине: – Я пойду к себе, проводи меня.
Остальные снова сели, а Мистина взял со скамьи свой шлем и пошел за Эльгой через снегопад к княжеской избе. Без Ингвара она снова взяла к себе Святку, но тот уже спал, лишь его нянька, Добрета, дожидалась княгиню и не ложилась, сторожа свечу возле приготовленной постели.
Эльга отдала ей мокрый платок и шубу, махнула рукой, отсылая, и в изнеможении села на скамью. Рядом на ларе лежал наполовину сшитый кафтан для Ингвара – из присланной Сванхейд ткани. Лишь теперь у Эльги дошли руки заняться шитьем, хотя дело подвигалось медленно.
– Не видела еще? – Мистина положил свой шлем прямо посреди стола, ближе к горящей свече.
Эльга сперва удивилась, не сразу поняв, в чем дело и чем таким невиданным ей предлагается любоваться. А потом сообразила: старый, с выправленными вмятинами и поцарапанный шлем Мистины украсили новой, позолоченной узорной полумаской. Позолотой покрылись и все четыре накладные полоски, соединяющие четверти купола, и короткий шип на макушке. Обновленным она его еще не видела. И теперь Мистина смотрел на нее с ожиданием, и в глазах его светилось хоть и по-мужски сдержанное, но той же природы чувство, с каким женщина ожидает восхищения новым платьем или узорочьем.
Эльга выросла в семье воеводы и знала, что важно. Поэтому она с усилием, оттолкнувшись от скамьи, встала, прошла к столу и восторженно всплеснула руками:
– О боги, как красиво! Скольд делал?
Мистина кивнул. Откуда золото, Эльга не спрашивала: само собой, из того же мешка с Романовыми номисмами, откуда вели свой род и ее новые подвески к очелью. Но было здесь нечто более важное, чем красота или богатство.
– Ингвар мне велел перед отъездом, – ответил Мистина на вопрос, заданный одними глазами. – В этот раз пойду, не пойду – пока не ясно. Но уже ясно, что не век мне ближнюю дружину водить. Сегодня учил паробков в строю следить за золотым шлемом, а там, глядишь, и на поле поведу.
– Как же иначе? – тихо сказала Эльга. – Я ничего другого и не ждала.
Ей Ингвар перед отъездом об этом не упомянул, но она не удивилась. И сейчас была очень рада. Даже больше, чем решалась показать. Давно стало очевидно, что Мистина не останется на всю жизнь сотским ближней дружины. Это должность весьма важная, но он ее перерос. И Эльга чуть не прослезилась от облегчения, осознав, что Ингвар не побоялся слишком много дать побратиму, который, как он знал, умнее его и куда лучше умеет нравиться людям…
Не зная, что сказать, желая скрыть влажный блеск глаз, она потянулась и поцеловала его под нижнюю губу. Ощутила тепло его дыхания и свежий запах немного влажной от растаявшего снега бороды. Мистина обнял ее одной рукой и ткнулся носом ей в волосник над ухом. Эльга задрожала от волнения: не от поцелуя, а от проскользнувшей в нем искры понимания и доверия, такого глубокого, что стало страшно. Было чувство, будто его душа касается ее души, и столь огромная бездна перед ней открывалась, что теснило дыхание.
Эльга отошла от него и села.
– А я ведь тебе хотела про еще одну обновку рассказать.
Мистина смотрел на нее, то ли ожидая слов, то ли желая сказать что-то еще. Эльга вздохнула: от утомления и волнения не находила сил заговорить. Нужно было скорее разорвать это облако, заключившее их в отдалении от всех прочих, но оно не поддавалось. Так нельзя… Уж точно не сегодня!
Не дождавшись продолжения, Мистина опустился на колени и стянул с ее ног черевьи сместе с поршнями из толстой кожи – их надевают зимой или в слякоть поверх черевьев, чтобы те не сразу промокли. Мягко сжал в ладонях ее ступню, словно проверяя, сильно ли промок вязаный чулок. Эльга молча смотрела на его склоненную голову. Не хотелось ни говорить, ни двигаться, но вид Мистины на коленях перед ней был приятен, и она не спешила его поднимать.
Происходило что-то невероятное, казалось, она видит сон. Всегда веселый, разговорчивый, легко откликающийся на любой вызов, Мистина тем не менее был человеком жестким и, как Эльга иногда с тревогой подозревала, довольно бессердечным. Любострастия в нем было предостаточно, но, когда он у стола поцеловал ее в висок через ткань волосника, в этом была искра нежности, яркая и внезапная, как падучая звезда на черном небе. У Эльги захватывало дух, она терялась, трепетала, восхищалась и тревожилась, как перед чем-то совершенно неожиданным и огромным. Она плохо его узнала за три с лишним года? Или эта искра была новостью и для него самого?
На серой шерсти чулка остались от растявшего снега крошечные круглые капельки. Будто стирая их, ладонь Мистины медленно двинулась вверх по ее ноге. Едва дыша, Эльга не шевелилась. Насколько далеко он зайдет, пока она его не остановит? Вот он коснулся ее кожи под платьем, там, где кончался чулок, и ее пробрала дрожь. Медленно, будто нарочно давая ей время подать голос, он поднял подол, склонил голову и прижался губами к ее колену…
У Эльги словно что-то оборвалось внутри; перехватило дыхание, в животе разлился жар. Это выходило далеко за грань их привычных шуток, а заодно и признанных отношений родства. Сердце дико застучало и пробудило ее от этого чудного оцепенения. При мысли о родстве она вспомнила, зачем позвала его к себе этим вечером.
– Уже все, – едва сумела выговорить она.
Мистина вскинул голову, тоже будто проснувшись.
– Закончилось благополучно, – выдохнув, добавила Эльга.
По глазам его было видно: он мучительно пытается вернуть свои мысли оттуда, где они сейчас, и сообразить, о чем она говорит. Потом блеснуло понимание.
– Уже? – хрипло спросил он. – Так быстро? Я думал, к утру разве что…
– Так третий раз же.
– И? – Он обеими руками требовательно сжал ее колени. – Что ты молчишь?
– Была бы «шишечка», я бы тебя в гриднице повеличала.
– Опять девка? Тьфу! – Мистина тряхнул головой, потом поправился с досадой: – Прости. От радости себя не помню.
Он поднялся и сел рядом с Эльгой. Глубоко вздохнул, пытаясь выбросить из груди разочарование. Эльга хотела заступиться за сестру, но молчала: не диво, что он огорчен. Какому же мужчине не хочется сына, а его жена обманывает надежды уже второй раз. Опять Велерад не получился…
– Ута не виновата! – сказала Эльга наконец. – Она может приносить сыновей. Ну, просто в этот раз не вышло. Дадут Рожаницы, не в последний. А?
Пытаясь вернуть их прежние игры, она толкнула свояка коленом: дескать, ты знаешь, что для этого нужно. Однако тут же пожалела: широкая ладонь мгновенно упала на ее бедро, будто мышь ловила, и Эльга отбила его руку. Это походило на ловкую игру или стремительный обмен выпадами в поединке, и Эльге стало легче; она невольно засмеялась, закрыла себе рот, чтобы не разбудить Святку.
– Может-то может, – Мистина оглянулся на нее, – а я слышал, бывают такие женщины, что у них сын получается только один раз – самый первый. А вдруг Ута из таких?
Эльга нахмурилась. Он прав, есть такое поверье. И ой как дурно выйдет, если единственного сына, что припасли для нее Суденицы, Ута родила не от мужа… Но в том не ее вина!
А потом Эльга вспомнила еще кое-что и прижала руки к груди. Кое-что касавшееся ее самой. Как раз в эти долгие зимние ночи, когда год близился к перелому, ей часто вспоминались предания ее лесной кривской родины. И самое страшное из них – то, прямо из которого она и убежала.
– Ой! – выдохнула она. – Сохрани Доля! Не говори так… Ты не знаешь…
– Чего?
– Помнишь… – Невольно Эльга придвинулась ближе к Мистине, желая чувствовать рядом живого надежного человека. – Да как это забыть! Ты знаешь, зачем у кривичей девок к медведю в лес посылают?
– Известно зачем! – Мистина приобнял ее.
– Которая у медведя побудет, та потом всю жизнь станет сыновей приносить! Вот и меня за этим посылали. А ты меня увел оттуда…
– Стало быть, я все испортил? – Мистина покосился на нее, впрочем, без раскаяния.
– Нет. Я не жалею. И у меня же есть сын, – Эльга глянула на спящего Святку. – Это род Вещего мне наследника послал, а материны чуры меня знать не хотят. А как бы я хотела иметь много сыновей!
Мистина молчал, не сотрясая воздух обычными в таких случаях заверениями: дескать, молода еще, успеешь нарожать. Эльга всегда ценила в нем и эту способность, но сейчас в этом молчании уж слишком красноречивой казалась его рука, обнимающая ее стан. В его объятиях Эльге стало слишком жарко, и она высвободилась.
– Я еще одну новость знаю, – она улыбнулась, переводя дух и стараясь отвлечься. – Пестрянка хочет тоже в поход идти.
– В Таврию?
– Да. С войском. Она нам сегодня сказала, там, в бане, пока ждали. Говорит, я одного мужа от себя отпустила, так три года дождалась, едва вовсе на козе не осталась[21]. Второго, говорит, уже не отпущу.
– Она не глупая женщина! – Мистина усмехнулся. – А то поход, там пленные хазарки-гречанки…
– Владива ей говорит: ты хочешь духом руси превзойти саму русь. Я бы тоже пошла в поход, – задумчиво сказала Эльга. – Да на кого все это покинуть?
– Кто бы тебя взял туда? – со сдержанной нежностью ответил Мистина. – Ты, смарагд наш многоценный, слишком хороша, тебя надо в ларце окованном хранить.
– Но не стыдно ли мне, что какая-то понева кривская меня обскачет! Я не просто – русь, я – из рода Вещего!
– А Вещий был мудр и знал: иногда можно уступить кое-что из малого, чтобы выиграть побольше. Я тоже уступил этот поход Хельги, хотя терпеть не могу твоего братца любезного. Думаешь, я не хочу славы и хазарского золота?
– Но почему ты его так не любишь? – настойчиво спросила Эльга.
Мистина молча покачал головой, глядя на нее тем взглядом, в котором ничего не отражалось.
– Я уже сказал тебе один раз…
Эльга отвела глаза.
– Я очень жалел тогда, что этот товар не продается.
Она поняла, о чем он, и смутилась еще сильнее. Оба они ясно вспомнили тот вечер, когда ему разбили в гриднице нос, а Эльга намекала, что если захочет, то выудит из него тайну, которую от нее прячут…
Его взгляд соскользнул с ее лица на грудь; плотно укрытая серой тканью теплого платья, она высоко вздымалась от взволнованного дыхания. А Эльга чувствовала, как от жара волнения в ней тает некая стена, разделяющая «нельзя» и «можно» – тает и растекается блестящими лужицами, как свинец близ огня.
Они молчали, но и в молчании оба слышали то, о чем не хотели говорить. О чем не могли перестать думать, даже силясь поддерживать беседу о других делах. Эльга подняла на него глаза, и он отвернулся. Его непривычный вид, задумчивый и немного потерянный, трогал сердце. Словно его придавило некое чувство, с которым даже он не вдруг сумеет справиться. Нечто такое, что он не стряхнет с себя с обычной беззастенчивостью, будто гусь воду.
Она так остро ощущала его близость, как будто он и сейчас ее обнимал, хотя его руки были сцеплены между колен. С усилием Эльга направляла свои мысли к сестре и ее новорожденной дочке, но и сейчас ясно чувствовала, как его губы прикасаются к ее колену; живот мягко сжимало и перехватывало горло, и ни одного толкового слова не шло на ум. Именно в этот вечер, когда родился его второй законный ребенок… Ее племянница… Может, ее сглазили и она сошла с ума? Разроняла где-то разум, стыд и честь? Хотя вернее, именно рождение ребенка сестры так растревожило в ней жажду жизни. Что-то внутри толкало доказать, что и она – не верба сухая, она – яблоня сладкая и может плодоносить… Мучительно, невыносимо стало сознание, что у нее всего одно дитя, а муж невесть где и вернется не скоро – это кричала молодая женская сила, влекомая к теплу жизни и равнодушная к людским законам, разделяющим «можно» и «нельзя»…
Не говоря ни слова, Мистина каким-то образом давал ей понять, что готов любить ее – этой готовностью был полон сам окружавший его воздух. И предощущение близкого, так легко доступного наслаждения обожгло Эльгу с такой силой, что она невольно закрыла глаза, будто прячась, и поспешно прогнала несбыточную мысль прочь из головы.
– Приютишь меня здесь на ночь? – небрежно спросил Мистина. – Неохота домой ехать, и там все равно никого нет, одна челядь.
Эльгу обдало жаром: он как будто ее мысли чует! Неохота ему, как же!
– И не стыдно тебе… – ответила она на то, что он на самом деле имел в виду, притом сама смущаясь показать, что поняла его.
– Так не было ж ничего! – Он глянул на нее с явным сожалением.
– Ты полез ко мне под подол! – сердито прошептала она, устыдившись своего молчаливого потворства. – А если бы я тебя не остановила?
– Попробуем заново?
– Мы не должны… – начала Эльга и осеклась: а то он сам не знает!
Мистина лишь глубоко вздохнул, будто пытаясь этим вздохом измерить всю глубину противоречия между его влечением к жене побратима и своей честью, что не допускала такого посягательства на честь Ингвара.
В пору дерзкой юности, лет восемь назад, он сделал ребенка челядинке, с которой обычно спал его отец. Кстати, мальчик получился. Но в шестнадцать лет бурление крови заглушало в нем голос разума и совести, и ведь то была просто челядинка. За полтора года до его женитьбы в Киеве много шума наделало головное дело[22]: боярин Осока ударил ножом жену молодую, а на Мистину кивал как на виновника своего бесчестья. Нехорошо вышло, и бабу было жалко, но старого мужа молодая жена – чужая корысть.
Иная стать – Эльга, водимая жена его побратима, с недавних пор – княгиня руси. Он желал ее с первой встречи, забавлялся, заставляя ее думать о том же, но сам не думал, что когда-нибудь дойдет до дела. Все его поползновения до сего дня были всего лишь шуткой. Вздумай Эльга в первые годы замужества сделать шаг навстречу – он сам отказался бы от этого дара, бесчестящего князя.
Три года назад Мистина поступил, как и подобает верному побратиму: раздобыл для князя невесту, привез и теперь служил госпоже и оберегал ее наравне с прочим имуществом и достоинством Ингвара. Тогда она была просто девой – пусть очень знатной и красивой. И все эти три года была просто женой, живущей при муже.
Но в последний год что-то изменилось. С весны, когда он увидел, что Эльга догадывается об их замыслах насчет киевского стола для Ингвара и его, Мистины, части в этом деле, но молчит. Понимающе молчит, как мужчина, без бабьих страхов и лишнего любопытства. И чем больше за последний год в нем росло уважение к ее уму, тем почему-то настойчивее делалось и желание. И теперь его представления о допустимом и запретном словно раздваивались: он отчетливо понимал, как должен, а как не должен поступать, и в то же время убежденность эта вдруг утратила над ним власть.
Он осознал, что с некоторых пор говорит с Эльгой так, как будто она сама по себе – как сам по себе живет мужчина. Это удивляло его, даже приводило в растерянность. Никогда раньше он не смотрел так на женщину и теперь не мог уместить в душе это странное отношение – для него там не находилось подходящей емкости. За всю свою жизнь он знал только двух человек, с которыми по-настоящему считался и потому стремился быть с ними честен, – отец и Ингвар. Теперь к этим двум мужчинам прибавилась женщина, и Мистина не знал, как с этим быть.
Глубокая тишина в избе давила на обоих, Эльга жаждала нарушить это тяжкое молчание, но ничто не шло на ум. Кроме испуга от мысли, как далеко зашло дело. Их двойное свойство позволяло близость, какая и многих других толкает на блуд между деверями и невестками. Но там, где в простой семье дело кончится, может, бранью и дракой, раздор в семье княжеской мог привести к гибели державы. Эльга сама сделала свой выбор – дважды, сначала дома в Варягине, потом здесь, в Киеве. Она выбрала Ингвара и ту державу, которую создавал их брак. Но чем более явно она по слабости своей поощряет устремления Мистины, тем сильнее подрывает его преданность Ингвару. А значит, мощь своей державы, и без того едва встающей на собственные ноги. И ради этого она бежала из плесковских лесов, оскорбила чуров, погубила Князя-Медведя? Чтобы позволить Свенельдову сыну искать дружбы ее бедер?
Золоченый шлем на столе, ярко блестящий под свечой, будто упрекал их, напоминая о доверии, что оказано князем Мистине… им обоим.
Вдруг ей пришло в голову: понимает ли Ингвар, как и чем рискует, на всю зиму оставляя побратима в Киеве со своей женой? Только ли своей честью мужа? Или гораздо большим?
И от мысли о крушении, которое вызовет разлад их союза, Эльгу бросило в холод с той же силой, как недавно в жар. Это было так ужасно, что немыслимо даже думать.
– Отнести тебя? – Мистина кивнул на ее необутые ноги, потом на лежанку в другом конце избы.
– Сама доберусь! – Эльга сердито толкнула его плечом. – Ступай отсюда!
Мистина усмехнулся, встал со скамьи и шагнул к двери.
– Домой не поеду, – на полпути он обернулся. – Раз уж княгиня меня гонит… будто пса… – он усмехнулся, намекая на их летнюю ссору, – в гриднице лягу.
Эльга сделала плачущее лицо. Его бесстыдство ее и бесило, и восхищало. Главное, чтобы он видел только первое.
– Ну уж коли тебе без жены дом родной не мил, ложись в гриднице. Сладких снов!
– Смеешься? – Он приподнял бровь. – Среди этих упырей да сладкие сны? Вот если бы…
На лице его более чем ясно отражалась мечта: заснуть в тепле, источаемом женским телом…
– Я сейчас в тебя рушником брошу, – изнемогая, пообещала Эльга.
Почему-то предчувствие наслаждения на его лице колебало ее решимость даже сильнее, чем собственное влечение к нему.
– Чулком? – оживленно предложил он: рушника у нее под рукой не было. – Давай?
Готовая на все, лишь бы отделаться от него прямо сейчас, Эльга стянула серый вязаный чулок и швырнула в него. Но неудачно размахнулась и не добросила.
– Второй! – приказал он, будто отроку, мечущему сулицы в цель.
Такой голос Эльга у него постоянно слышала на дворе во время учения отроков. «Выпад – отход! Выпад – отход!»
Второй чулок упал еще ближе первого: от смеха она не могла сосредоточиться.
– Рано тебе в поход! – с сожалением сказал Мистина, окинул взглядом ее белые ноги, забрал со стола свой золоченый шлем и вышел, смеясь.
Когда за ним закрылась дверь и стихли на крыльце шаги, Эльга перевела дух. Она смеялась, стыдилась – он делает с ней что хочет! – досадовала на себя и радовалась его решению ночевать в гриднице. Пусть спит у всей дружины на глазах. А то начнут болтать…
Но что, если уже болтают? Эта мысль пригасила ее веселье. Три года назад их с Мистиной уже подозревали, а тогда она была ни в чем не виновата. Что же будет сейчас, если люди заметят эти вольности?
Но куда больше возможных сплетен ее волновало другое. Эти привычные шутки вдруг вплотную приблизились к тому, чтобы обернуться настоящей бедой. Эльга будто подошла к огромной реке, где за током темной воды угадывается движение исполинского чешуйчатого тела. «Я родился в тот день, когда тронулся лед на Волхове…» В Мистине было что-то от его покровителя, господина северных вод, бравшего в былые времена дань красными девушками. И хотя по сути он прав – ничего особенного не случилось, – что-то между ними изменилось, и это открытие пугало Эльгу. Ящер лишь бросил на нее взгляд из-под воды, а она уже ощутила себя в его власти. Нет, она не предаст себя, не изменит своему долгу. Она – внучка Вещего, «смарагд многоценный», и никому не даст повода себя упрекнуть.
Эльга встала, подобрала чулки, но надевать снова не стала. Босиком прошла по шкурам на полу к скамье, где спал Святка. Посмотрела на дитя, надеясь в нем почерпнуть твердости духа. Постаралась яснее вызвать в памяти лицо Ингвара. Да, он не так хорош собой, но лицо его, смышленое и решительное, казалось ей привлекательным. И пусть он не так умен и ловок, как побратим, зато прямодушен и честен. Сидя на киевском столе, он вынужден порой хитрить, как тогда с рахдонитами, но лишь по обязанности заставляет себя делать то, что Мистина делает не только играючи, но и с удовольствием.
Что за человек Мистина, она не смогла бы уверенно сказать. Зато очень хорошо знала: Ингвар человек хороший. Очень честный, отважный, решительный и справедливый. И, пожалуй, добрый – в той мере, в какой судьба позволяет ему быть добрым. А главное, Ингвар ее муж, с кем она стояла на свадебном полотенце, на стволе родового древа, отдавая ему свою жизнь перед лицом всех поколений предков и потомков. Она сгорит со стыда перед людьми, богами, чурами, перед ним и перед собой, если еще раз допустит нечто подобное… хотя бы в мыслях…
Эльга была полна решимости бороться, но ощущала и всю трудность борьбы. Особенно в эти сумрачные дни и долгие ночи, когда Ингвар так далеко и до встречи с ним еще так долго.
И до какой степени она может Мистине доверять? Кто докажет, что он и с ней не играет? Женщины склонны верить собственным чувствам, а куда эта вера заводит – давно всем известно. Она, княгиня русская, ставит на кон куда больше, чем ее собственная честь и благополучие.
Они оба обязаны Ингвару верностью и честью – и жена, и побратим. И Мистина знает это не хуже нее. Даже лучше – он ведь мужчина и связан с Ингваром всю жизнь. Глупо думать, что он решится на предательство ради бабьего подола! И все это – просто шутки.
Эльга осторожно поцеловала Святку, вдохнула нежный запах разогретого во сне детского тельца. Поправила на нем одеяло бьярмских соболей, успокоенная, улеглась и велела Добрете прикрыть ее медвежиной поверх куньего одеяла. К утру изба остынет, и тогда нянька принесет ребенка к ней, пока будет топить печь, чтобы дым ушел в оконца, прежде чем они встанут.
Но уже засыпая, Эльга с трудом отгоняла невольно встающие перед глазами видения. А если бы она его не остановила?
* * *
Когда Пестрянка сказала, что хочет пойти в поход вместе с Хельги, княгиня лишь усмехнулась, а ее сестра встревожилась: «Дитя мне оставишь? Не позволю мальца по четвертому году за море тащить с дружиной!» Но неожиданно этот краткий разговор получил продолжение.
Дня через три Пестрянку вдруг позвали к княгине. Прямо в избу, куда допускали только родичей. Кроме Эльги, там сидели Мистина и Асмунд. И все смотрели на вошедшую, будто только сейчас разглядели в ней некое чудо. Пестрянка смутилась – ей и так в эти дни казалось, что в нее весь Киев пальцами тычет, – и захотелось спрятаться за Хельги. Но она сдержалась, взяла себя в руки и с достоинством поклонилась. Принимая то решение, она знала, что будет нелегко.
– Думаешь, она сумеет? – с сомнением спросила Эльга, не сводя глаз с невестки.
– А мы у нее спросим, – предложил Мистина, но обратился к Хельги: – Я слышал, родич, что ты подумываешь взять свою жену в поход?
– Так и будет, если она не передумает, – подтвердил Хельги, по знаку Эльги подводя Пестрянку к скамье и усаживая. – Видишь ли, я еще там, в Варягино, однажды пообещал ей, что возьму ее с собой за теплые моря, если она пожелает. Эту достойную женщину в прошлом обманывали без всякой ее вины, и я постараюсь, чтобы больше этого не случилось. К тому же неизвестно, сколько продлится наш поход, а я не хочу, чтобы она хотя бы один день опасалась, будто ее покинули опять.
Асмунд отвел глаза. Все устроилось так, как ему и хотелось, никто не остался обижен. Даже Торлейв смирился, что в его семье происходит такое: невестка разводится с сыном и выходит за племянника. Зло смягчалось тем, что все случилось в кругу одной семьи и не выносилось на всеобщее обозрение, но тем не менее всем еще было неловко. Перед тем как, по обычаю, объявить о разводе «перед постелью», Пестрянке и Асмунду пришлось вдвоем присесть на скамью – в Киеве не было лежанки, которую они когда-либо делили. И при этом оба чувствовали себя куда глупее, чем в давнюю брачную ночь. Особенно потому, что обряд их разделения совершался на глазах у всей киевской родни, где кое-кто с трудом сдерживал ухмылку.
– Ты намерен взять ее с собой, со своей малой дружиной в Самкрай, когда поедешь туда с жидинами? – спросил теперь Мистина.
– Нет, это слишком опасно для женщины. Она останется с большим войском. Думаю, мой брат, – Хельги дружелюбно улыбнулся Асмунду, – позаботится, чтобы с ней ничего не случилось.
– Ты ведь, помнится, однажды сказал, что это смелая женщина?
– Еще бы нет! Не всякая решается поехать на другой край света.
– Поехать на другой край свет иной раз бывает мало, – заметила Эльга.
Все это время она пристально смотрела на Пестрянку, будто примеряя ей что-то в мыслях.
– Княгиня, что ты хочешь от меня? – Пестрянке надоел этот загадочный разговор, ведшийся так, будто ее здесь нет.
– Я хочу… Мы подумали… – Эльга оглянулась на Мистину в поисках поддержки, но подняла руку, призывая его помолчать. – Хельги, ты уже рассказал ей, как все пойдет?
– Я рассказал, что поеду с жидинами, как воевода охранной дружины при товаре. А Асмунд будет вести большую дружину и называться старшим воеводой всего похода… на Таврию. Ну а потом… – Хельги огляделся и убедился, что челядь и всех лишних выпроводили перед их приходом, – мы соединимся, и старшим над всем войском стану я. И она войдет ко мне в город вместе с Асмундом.
– Чтобы Асмунд сумел войти в город, сперва придется дать ему знак…
– Но мы же это обсуждали на днях. Стрела с синим оперением. Означает «следующей ночью в полночь у ворот».
– Стрела многого не расскажет, – возразил Мистина. – У каких ворот – их ведь в Самкрае двое. Численность войска внутри, где расположены, как вооружены, кто старший, насколько боевиты, чего ожидают, какой порядок дозоров…
– И вот мы подумали, – подхватила Эльга, – а что, если пустить другую стрелу… говорящую? Раз уж ты все равно хочешь взять с собой жену.
– Ты хочешь, чтобы я привел ее с собой в город?
– Это все вышло очень удачно! – поспешно добавил Мистина. – Если мы сейчас подпустим слух, будто вы с Асмундом в ссоре из-за того, что его жена развелась с ним и ушла к тебе…
– Главное, чтобы у нее смелости достало, – снова подхватила Эльга и с вызовом глянула на Пестрянку. – Сможешь ты стать не только женой Хельги, но и его бойцом?
– Раз уж так вышло… – начала Пестрянка, и все, умолкнув, посмотрели на нее, – что я дважды вошла в род Вещего… у меня достанет смелости на все, лишь бы доказать, что я сделала это не зря!
– Если муж позволит, – Мистина бросил насмешливый взгляд на Хельги.
Пестрянка было подумала, что ей придется обучаться владеть каким-нибудь оружием. Но дело состояло вовсе не в этом…
* * *
Трое мужчин еще долго спорили, обсуждая подробности, так что у Пестрянки загудела голова: она устала следить за их мыслью, хоть ее это напрямую касалось. Зато Эльга живо входила во все мелочи и сама даже раскраснелась, прикидывая на себя всю опасность и славу, что предстояло перенести и стяжать Пестрянке.
– Не много ли мы от нее хотим? – усомнился Асмунд, когда все уже прощались.
Не желая зла бывшей жене, он ради своей совести предпочел бы больше не подвергать ее никаким сложностям жизни, а тем более войны. У него до сих пор не укладывалось в голове само то, что она, Чернобудова внучка из кривского сельца, собралась на другой конец света белого – в Самкрай!
– Я хочу от нее не больше, чем сделала бы сама! – горячо ответила Эльга.
– Но ты останешься здесь, в безопасности, – улыбнулся Хельги, – а ей придется через это пройти!
Ему очень нравилась сестра-княгиня, но он считал, что ее решимость – это отвага ребенка, воображающего себя сыном бога и не знающего, чего стоят подвиги на самом деле.
– Настоящий вождь не пошлет людей туда, куда не решился бы пойти сам, – тут же ответил ему Мистина, с трудом отведя взгляд от Эльги. – А наша княгиня – настоящий вождь. Она способна идти навстречу страху.
Слыша по голосу, что это не шутка, Хельги повернулся к нему: он не понял, о чем речь.
– Я это видел своими глазами, – добавил Мистина, но при этом лицо его и голос ясно давали понять: подробностей не будет.
О походе Эльги в медвежью чащу и спасении оттуда знали всю правду только трое: Эльга, Ута и Мистина. Ну, еще четверо Мистининых отроков, но на этих можно было положиться.
Хельги лишь покачал головой – не все еще тайны киевских родичей он раскусил! – и повел жену наружу. За ними удалился Асмунд, и лишь потом Мистина подошел к Эльге проститься.
Все еще думая то о Самкрае, то о медвежьей чаще, она по обыкновению подняла к нему лицо, не ожидая ничего особенного – как вдруг ощутила, что он обнимает ее и крепко прижимает к себе всем телом, а его губы не просто касаются ее губ, но приникают к ним и размыкают. Вместо легкого дуновения родственного привета на нее обрушилась волна горячей, нетерпеливой страсти.
Сегодня они увиделись впервые с того вечера. Тогда Эльга, выгнав свояка ночевать в гридницу, все же убедила себя, что это были просто шутки. Те же, что водились меж ними почти все эти пять лет. Мистина шутит, потому что при виде красивой женщины его всегда одолевают блудливые мысли, она тоже шутит… просто потому что это весело. Хотя Эльга и сознавала в глубине души, что пытается сама себя обмануть, а эти шутки – те самые, которые бывают между деверями и невестками, между зятьями и свояченицами, что дошучиваются в конце концов до беды. Уж сколько такого случалось: каждую зиму на павечерницах про что-нибудь такое болтают. Можно бы, казалось, извлечь немного ума из чужой глупости…
Дав себе слово впредь быть благоразумнее, она почти успокоилась. А оказалось, что зря.
Уверенным, страстным поцелуем Мистина без слов сказал ей: я так хочу и так будет. В свояке, игриво-дерзком, но в целом покорном ее воле, проглянул совсем другой человек – тот решительный и даже безжалостный, какого она видела лишь издалека.
С усилием рванувшись на свободу, Эльга отпрянула и возмущенно взглянула на Мистину – и встретила требовательный взгляд, ужаснувший ее своей хищной целеустремленностью. Похоже, для него тот вечер все еще продолжался, и он успел пожалеть, что так легко отступил. Ута с дитем должна была лишь сегодня вечером вернуться домой из бани, и в эти долгие зимние ночи, пока он в одиночестве ворочался на лежанке, ему только и оставалось воображать, как оно все могло бы быть, если бы он тогда не ушел…
– Ты что? – с возмущением воскликнула Эльга. – Ты… правда готов… со мной…
– Потрогай, как я готов, – тихо сказал он, взял ее ладонь и потянул к своему паху.
Эльга отдернула руку, будто ее влекли в огонь; кровь бросилась в лицо. И за миг его объятий она успела почувствовать, что там за зверь пробудился. Тот самый, которого она уже столько времени дразнила.
Шутки кончились. Напрасно она себя баюкала, отмахиваясь от мыслей об опасности – больше нельзя было забавляться этим, как игрой, приятно будоражащей кровь. Оставалось или распахнуть дверь и шагнуть вперед, или захлопнуть и спрятаться.
– Не смей мне говорить об этом! – в негодовании выдохнула Эльга. – Ты… – на уме у нее был Ингвар, – вы же побратимы!
– У братьев с невестками везде такие дела водятся. Не слышала разве?
Задыхаясь от возмущения, Эльга не находила ответа; почему-то дела, казавшиеся вполне житейскими где-нибудь в лесном займище, между Ингваром и Мистиной, родовитыми людьми, к тому же побратимами, то есть избравшими друг друга по доброй воле, превращались в предательство. Глаза ее широко раскрылись и сияли, как два зеленовато-голубых самоцвета, лицо пылало, и она не понимала, что сам вид ее мешает Мистине вслушиваться в ее доводы.
– А если тебе этого мало… – Он снова придвинулся к ней, – то вспомни: Ингвар ведь спал с моей женой. И не раз! Мы можем сделать то же самое, и этим лишь получим долг.
Эльга не сразу поняла, о чем он. Даже хотела спросить: «А разве у тебя раньше была другая жена?» – ничего такого она не слышала. А потом сообразила: да ведь речь идет об Уте! И да, это правда…
– Но это совсем другое! – тем не менее возразила Эльга. – Она тогда не была твоей женой. А Ингвар не был моим мужем.
– Что это меняет сейчас? Я знаю, ему передо мной совестно.
И с каким-то злобно-веселым выражением двинул бровями: дескать, я знаю, как делу помочь!
– Не смей! – Эльга попятилась. – Ты что – отомстить ему хочешь?
– Вот еще. Я простил бы ему тот случай, будь его жена какой-то другой. Но тебя я добивался бы, чьей бы женой ты ни была. Ухитрись на тебе жениться кто-нибудь из бояр, до того как я тебя увидел… он мог бы и умереть из-за этого.
И это тоже не была шутка – уж настолько-то Эльга за три года научилась его понимать!
– Нет! – твердила она, сжимая кулаки перед грудью в знак своей решимости, но отчетливо понимая: вздумай он применить силу, она ему не соперник.
Мысли лихорадочно метались, Эльга не могла решить: кричать, звать на помощь отроков с крыльца – или молчать, не срамить на весь город себя, мужа, всю семью… и пусть Мистина берет на себя тайный позор предательства и бесчестья…
А решать надо сейчас – ему остался один шаг… Если он правда намерен не отступать, то стопчет ее сопротивление одним махом, как тур – цветок полевой. Вот к чему привели их шутки и забавы – разбудили зверя, который шутить не умел.
– Уходи, – выдохнула она, как последнее заклинание.
Мистина не двигался с места. На лице его застыло ожесточение, кулаки опущенных рук тоже были сжаты, но он будто сдерживал сам себя. Или того, кто жил в нем и еще не получил полной воли. Пристальным взглядом Мистина смотрел ей в лицо, оценивая, насколько тверда ее решимость. Потом он вдруг повернулся и без единого слова вышел, оставив Эльгу унимать колотящееся сердце.
И только глядя на затворенную дверь, среди тишины Эльга осознала, что мешало ей сосредоточиться. Горячее лихорадочное биение между ног. Вернулось ощущение, как его губы прильнули к ее губам, вспомнился вкус его рта и вновь, как в тот миг, ее пробила молния от затылка до низа живота. Она отчаянно пыталась избежать бесчестья для себя и для него – но как мужчину была готова принять его. И наверное, он чувствовал это, оттого и был так настойчив.
Это колдовство. Эльга села на скамью и еще раз пыталась вспомнить, не доедала ли она когда-нибудь за Мистиной хлеба или он за ней, но ничего такого на ум не приходило. Что такое с ней случилось за последний год? Его голос, его запах сводят ее с ума, один взгляд на его сломанный нос заставляет ее внутренне вздрогнуть от страстного восторга. Она не владеет собой, она больна!
«Он мог бы и умереть из-за этого…» Нет, ради желания владеть ею Мистина не поступит с Ингваром так, как мог бы поступить с кем-то другим… Нет, нет, это уж слишком!
О боги! Сжимая руки на коленях, будто пытаясь таким путем обрести власть над собой, Эльга дала себе слово: больше она никогда не позволит ему подойти настолько близко, чтобы вновь накинуть на нее эти чары.
* * *
С этого дня обращение Эльги со свояком решительно изменилось. Она перестала звать Мистину в жилую избу (разве только вместе с Утой), виделась с ним лишь в гриднице, здоровалась и прощалась издалека, а если он приходил без зова, то при ней всегда был кто-то из женской родни или челяди.
В первые дни и даже недели она тревожилась – второй человек после князя, к тому же такой настойчивый и изобретательный, отыскал бы способ добиться своего. И в то же время раздор с ним мучил ощущением большой, почти невосполнимой потери. И ни с кем она не могла поделиться. Не с Утой же!
Она лишилась человека, чьему уму полностью доверяла. Мистина, конечно, останется ей предан как княгине, но это желание быть нужным ей она сама в нем погасила. А как иначе? Оставь она все по-старому – и ее потерей стала бы честь.
Но Мистина предпочел отступить.
– Эльга, не бойся меня, – шепнул он ей однажды, почтительно помогая сойти с лошади на глазах у всего двора. – Ты же не думаешь, что я стану тебя принуждать. Я просто хотел, чтобы ты знала: я весь твой. А дальше как ты сама захочешь.
– Чтобы я знала… – Она задержалась возле него, и сама желая избавиться от этой тяжести, и мягко закончила: – Что у тебя совести нет?
– Совесть я еще мальцом где-то обронил. Но тебе я не враг.
Мистина поцеловал кончики пальцев и коснулся костяной рукояти скрама на боку. Улыбнулся. И хотя взгляд его оставался напряженным, этот привычный клятвенный знак успокоил Эльгу. Она улыбнулась в ответ. И даже сейчас при виде его лица ей приходилось давить в себе страстный восторг, одолевать шум в пылающей голове и навязчивую мысль: попытайся он в тот раз снова ее обнять… кричать она не стала бы.
– И еще я знаю, – прошептал он, отвернувшись от людей во дворе, чтобы никакой излишне проницательный взгляд не смог угадать его слова по движению губ, – меня отвергает то, что у тебя в голове… а не то, что между ног.
Одолевая мучительный стыд – хотя его проницательность для Эльги новостью не была, – она заставила себя поднять глаза и встретиться с ним взглядом. И увидела тоску и жажду – но не злобу, и у нее несколько отлегло от сердца.
– Никогда не говори мне об этом, – невольно подражая ему и едва шевеля губами, ответила она. – Я тебе запрещаю, слышишь? Раз и навсегда. Иначе мы поссоримся… и даже Ингвар в другой раз меня с тобой мириться не заставит.
Ничего не сказав, Мистина склонил голову, будто княгиня дала ему поручение, а он изъявил готовность служить. Что бы там ни было, ссориться с Эльгой он не хотел. А к тому же знал: то «никогда», что живет в голове, далеко не так неумолимо, как другое…
После этого гнетущее чувство ссоры и потери прошло, однако возвращаться к прежней короткости было бы неразумно. Вежливые поцелуи между ними с тех пор бывали только по торжественным случаям, при народе, когда никакой вольности Мистина себе не мог позволить, зато немилость княгини к свояку была бы замечена и вызвала бы пересуды. Ко времени возвращения Ингвара между ними опять все шло гладко, и даже князь, ежедневно видевший жену и побратима, не заметил никакой перемены.
Глава 12
Хазария, город Самкрай,
во дни царя Иосифа
Мытный двор располагался перед воротами Самкрая – города, что сам служил торговыми воротами каганата на Боспоре Киммерийском. Городской холм был самой природой хорошо защищен со всех сторон, и торговцы с грузами заходили со стороны ручья, через который имелся мост. Если ручей не пересыхал от жары, здесь они могли напоить животных и освежиться за время ожидания, пока их не допустят к Мытным воротам. Самкрай лежал на Хазарском Пути – здесь сходились дороги между Греческим царством, каганатом, Хорезмом и даже далекой страной Сина, откуда везли шелк с вытканными драконами. Летом, в пору путешествий, широченный пустырь, огражденный с одной стороны городской стеной из сырцовых кирпичей, а с других – такой же оградой в человеческий рост, был заполнен повозками, вьючными верблюдами, ослами и людьми. Хазары, греки, жидины стояли, сидели и лежали возле своих повозок и животных, спорили, бранились; хозяева товара расхаживали с важным видом, тощие загорелые до черноты возчики дремали в тени поклажи.
Три десятка русов в этой толпе не слишком выделялись – разве что красноватой кожей лиц и рук, обожженных солнцем еще при переходе через Греческое море. Почти у всех головы были покрыты хазарскими «ушастыми» шапками из льна, которые защищали от жгучих лучей заодно и шею.
У ворот стояла стража, подчиненная тудуну – в островерхих шлемах, в пластинчатых доспехах, с щитами и однолезвийными мечами на боку. Русы с любопытством разглядывали хазарский доспех: он прикрывал не только грудь, но и плечи, и бедра по бокам до колен. И тяжко же по такой жаре под железом и в шлеме с бармицей, закрывающей лицо до самых глаз!
– А щит-то слабоват у них, – Хавлиди наклонился к уху Хельги. – Вдаришь по нему раз – только доски полетят.
– Йо-отуна мать! – протянул рядом Скари, меряя взглядом высоту стены и башню над воротами. – Видал?
Хельги тоже осмотрел их и задумчиво присвистнул. Когда они вошли в гавань Самкрая, на взгляд с моря укрепления не казались такими уж грозными, но там и не было нужды: с той стороны город защищал неприступный обрывистый берег. Здесь же стена на каменном основании, из глиняных кирпичей, сероватых внизу и грязно-желтых – наверху, в пять-шесть раз превышала человеческий рост. Нижняя ее половина была укреплена каменной кладкой.
– Посмотрел бы я на тех орлов, которые стали бы это брать приступом! – К ним подошел Раннульв, рослый и плотный дан. В обрамлении островерхой хазарской шапки его круглое красное лицо выглядело забавно. – Это надо летать уметь.
– Тут и лестницы сделать не из чего, – добавил Бёрге, озираясь, будто надеялся все же увидеть хоть одно приличное дерево.
– И бревно для ворот пришлось бы с собой везти, – поддержал Ольвид.
Даны, уроженцы далекого Хейдабьюра, стояли возле возов, которые киевский купец Иегуда бар Ицхак нанял для переправки товара из гавани в город. Сам он вместе с Ханукой ушел к начальнику заставы, возле товара и охраны остался третий из киевских жидинов – Синай, самый молодой.
– Не знаешь ли ты, этот город был взят приступом? – обратился к нему Хельги по-славянски, ибо это был единственный язык, на котором киевские хазары и русы могли общаться между собой.
К этому времени Хельги Красный провел на Руси уже полтора года и мог изложить почти любую свою мысль. Особенно легко он запоминал слова, разговаривая с Пестрянкой.
– Нет, сколько мне ведомо, ни разу этот прекрасный город не подвергался разорению, – покачал головой Синай. – В нем живут люди разной веры, – сыны Израиля, люди Христа, идолопоклонники, – но Бог хранит от напастей их всех.
– И каждый думает, что это заслуга его собственного бога! – засмеялся Раннульв.
– Эй, отойди! – Мангуш схватил его за плечо.
К воротам мимо русов шествовала вереница верблюдов, но за общим шумом, разноголосым криком, ревом и блеянием они не расслышали их приближения. Многие, особенно даны, впервые видевшие этих животных, смотрели во все глаза.
– Лошадь – не лошадь, медведь – не медведь… – бормотал Ольвид. – А они не кусаются?
– Они плюются и лягаются, – просветил его Мангуш, не раз видевший верблюдов. – А когда у них гон – могут затоптать насмерть. И еще терпеть не могут лошадей. Их стараются не подпускать близко друг к другу, а то начнется драка, и плохо будет тому, кто под горячее копыто попадет!
Пестрянка сидела на возу, среди мешков со шкурками. За это время она набралась от Хельги достаточно слов северного языка, чтобы понимать разговоры хирдманов. Раньше, пока жила в Варягино и часто виделась с родней из Чернобудово, она говорила и думала, что русь – это «они», то есть Торлейв и прочие родичи со стороны мужа. Но теперь Пестрянка, когда никакой иной стороны у нее не осталось (дед Чернобуд, пожалуй, только плюнул бы в сторону внучки, которая сменила мужа на его же брата), а семьей стал «хирд», поневоле стала думать, что русь – это «вэр». То есть «мы».
От солнца и любопытных взглядов она почти целиком укуталась в греческий мафорий – большое покрывало из тонкой некрашеной шерсти, купленное в Таврии, но тем не менее все проходящие таращили на нее глаза. Видно было: эта женщина не из здешних, но и на пленницу, доставленную для продажи, она не походила. Как многие жены русов, Пестрянка теперь носила варяжское платье с наплечными застежками, в то время как здешние хазарки одевались в широкие льняные рубахи до колен. Конечно, Пестрянка не собиралась наряжаться в этакий мешок, но пряталась под мафорий, стараясь поменьше привлекать внимание.
Сама она тоже рассматривала городские стены сквозь щель между краями покрывала.
До чего же непохож этот край на ее родные места! После выхода из устья Днепра три недели они шли по морю, огибая Таврию. Волны – то голубые, то зеленоватые, – сверкали под жарким солнцем так, что было больно глазам. Днем ветры дули с моря на сушу, а ночью – наоборот; на удалении в пять поприщ от берега корабль мог идти под парусом хоть круглые сутки. Как обычно летом, погода стояла довольно ясная, бури не случилось ни разу, и весь путь занял меньше месяца. Но и эти недели для Пестрянки растянулись на годы – настолько жизнь на скутаре между морем и скалами отличалась от того, к чему она привыкла, и даже от перехода вниз по Днепру, где все же ночевали каждый раз в шатре на суше.
Слева тянулись желтые, черно-серые, бурые скалы, полого сбегавшие к воде, с мелкой зеленью на склонах. Росли там искривленные ветром, невысокие и тонкие сосны или дубки, но Пестрянке все хотелось спросить: а где же лес? Леса не было, зато было много камня. От непривычной свободы глазу захватывало дух. Скутары шли мимо гор, и в их каменных складках проглядывали лица спящих великанов. Различив такого, Пестрянка еще долго всматривалась, не в силах оторвать от него глаз, пока очередной великан не скрывался за кормой. Порой по вечерам, на стоянках, они поднимались на прибрежную гору, откуда открывался широкий вид на море и небо – и тогда ей казалось, что великаном стала она сама. Та Пестрянка, что жила когда-то в Варягине над бродом Великой, теперь казалась ей совсем другой женщиной: морской ветер вытеснил из ее крови дух леса и реки. И теперь она больше не удивлялась тому беспокойному влечению, что вечно тянет племя русов куда-то вдаль.
В нынешнем походе ей предстояло доказать на деле, что она – достойная жена этого племени, хоть и родилась в обычном кривском роду.
* * *
Лишь когда Рафаил бен Авшалом уже уехал, обитателям киевского урочища Козаре стало ясно, что за «охрана» будет сопровождать княжеский товар. Разговоры о военном походе на греческие владения Таврии оказались чистой правдой. Княжьи люди скупали железо, смолу, уголь, различные съестные припасы. Кузницы дымили и стучали почти непрерывно: задолго до рассвета Киев просыпался от перезвона молотков. Вскоре после Коляды начали подходить дружины «охотников», набираемых для похода: сначала из ближних мест, потом из более отдаленных от Киева. Началась новая забота для оставшихся в городе воевод и оружников: обучать бою и строю, отбирать пригодных быть старшинами и обучать уже их водить свои малые дружины. Задымили печи в Олеговых домах для ополчения – сперва в одной, потом в двух, потом в трех…
Из полюдья Ингвар привез дань и закупленные на греческое золото припасы. С ним пришли около двух сотен русов из смолянской земли, из Хольмгарда и его окрестностей. В это время «охотники» из славян под руководством Свенельда, Асмунда, Мистины, Хельги уже выучились довольно ровно ходить, держа «стену щитов», попадать сулицей в цель и действовать топором на длинной боевой рукояти против человека, а не дерева. Киевляне толпами собирались посмотреть, как эти воинства выходят на поле друг против друга и молотят по щитам дубовыми палками, заменяющими топоры, как тычут во «вражий строй» древками копий без наконечников под окрики воеводы:
– Голову не отклоняй назад – в бороду получишь! Копейщики, не бежать! Из-под щита работаем! Уколол – убрал! Не тянись, без пальцев останешься! Выпад – отход, выпад – отход!
Одним войском руководил Хельги, другим – Асмунд. То, что истинным и главным вождем всего похода избран Хельги, не знал никто, кроме ближайшего окружения князя. Замысел требовал хранить это в тайне, и старшим воеводой считался Асмунд.
Весной, когда сошел лед, по Днепру и Десне сплавили полсотни лодий. Поставили у Любеча и стали снаряжать. В этот раз они были сделаны куда лучше обычного: лодьи для перевозки товара в Царьград строились из расчета на путь в один конец, назад возвращались не более половины, но в этот раз каждая лодья была предназначена для нескольких переходов и выстроена тщательно.
Но вот выросла трава на склонах киевских гор, зазеленели листья, и настал обычный срок отправления в заморские походы. Князь и воеводы принесли коня в жертву Перуну на Святой горе, утопили черного барана в омуте – для Велеса, чтобы хранил людей и добро в долгом водном пути.
В день отплытия дружины из Киева Хельги явился на причал, где стояли скутары с княжеским товаром, вместе с женой и ее служанкой. Трое купцов – Иегуда, Ханука и Синай – ничуть не удивились. Навещая своих дочерей, живущих среди княгининой челяди, они не раз уже слышали рассказы об этой женщине.
– У брата княгини, Асмунда, который женился на сестре Грозничара, была до того другая жена, – рассказывали родичам Мерав, Шуламит и Емима. – Но она развелась с ним и вышла за его брата – Хельги, того, который недавно приехал. Княгиня и ее сестра часто говорят об этом и очень сокрушаются, что их два брата поссорились из-за жены.
– Нехорошо такому высокородному человеку жениться на разведенной, – качали головой отцы.
– Вот и княгиня говорит: нехорошо! Она же хотела, чтобы Хельги женился на черниговской невесте, а он вместо этого отнял жену у брата. Вся семья на него за это разгневалась. Князь сначала хотел поставить Хельги главным военачальником над войском в Таврию, а из-за этого передумал и отдал должность Асмунду – чтобы его утешить. А Хельги будет всего лишь старшим над теми людьми, кого князь пошлет охранять товар по пути в Самкрай. И, говорят, он возьмет свою новую жену с собой, потому что боится оставлять ее дома одну.
– Много греха в браке с разведенной! – приговаривал Иегуда. – А за грех Бог воздает человеку мерой за меру!
Это был старший из троих жидинов, отправлявшихся в поход: рослый худощавый старик, с продолговатым худым лицом и острым носом, зато борода у него была густая и пышная, почти седая, лишь по сторонам сохранилось несколько черных прядок.
– Опасно нам ехать с таким человеком, – добавлял осторожный Ханука. – Ведь горе злодею – горе и соседу его.
Этому было лет тридцать, но выглядел он старше: густая борода осеняла смугло-бледное лицо с длинным носом; слабые узкие глаза все время щурились, их густо-серый цвет казался мутным, пыльным.
Самым молодым из троих был Синай бар Шмуэль, младший брат когена Манара. Он немного горбился, что скрадывало его средний рост до небольшого, в чертах лица явно сказывалась степняцкая кровь; хоть и некрасивое, оно имело живое выражение, и в повадке Синая природная бойкость сдерживалась воспитанной привычкой уступать всякому, кто старше годами либо выше родом. Скромный, он тем не менее не был робким и сам вызвался участвовать в этой поездке вместо своего дяди Манара. Рахаб, дочь Манара, осталась в заложницах у княгини, но возраст и здоровье не позволяли ему пускаться в путешествия. Когда-то Синай уже ездил в Таврию и немного знал те края; судя по бодрости, с какой он оглядывал лодьи и отроков Хельги, он сам был из тех, кто не прочь постранствовать.
– Весы и чаши правдивые у Господа, как говорил царь Шломо! – утешал собратьев Гостята Кавар. – И великое, и малое взвешивает Господь и судит каждого справедливо.
– Но если два сухих полена горят, загорится и третье с ними, пусть бы даже оно было сырым! Как бы и нам не загореться заодно с этими людьми, раз уж Господь поместил нас в одну печь, то есть лодью!
– Помните, как говорил Бог Моше: «Ты делай свое дело, а Я буду делать свое».
Укоряя себя за излишнее любопытство, купцы по пути тайком приглядывались к Пестрянке: чего такого в этой женщине, если из-за нее поссорились два брата столь знатного рода? Почему старший уступил большую честь и славу младшему, лишь бы владеть ею? Спору нет, она хороша собой – молода, свежа и миловидна. Но не так уж, чтобы от красоты ее слепли глаза и мутился разум.
Впрочем, много думать о чужих женах почтенным киевским купцам было и не к лицу, и недосуг. Дабы вернуть в семьи своих дочерей, им предстояло совершить нелегкое дело: выгодно продать товар русского князя и привезти ему деньги, в то время как война охватит пламенем море и берег между Самкраем и Киевом.
Войско тронулось вниз по Днепру. Миновали пороги, жерло Днепра, вышли к берегам Таврии. Здесь дружина Асмунда разбила стан и встала на отдых, а Иегуда со своими товарищами и поклажей продолжил путь. Ингвар еще в Киеве пообещал пропустить его вперед и дать время если не добраться до Самкрая, то хотя бы одолеть полпути, прежде чем в Таврии вспыхнет война, грозящая купцам всевозможными опасностями. Иегуда торопился, позволяя своей дружине отдыхать лишь самое необходимое время. Им предстояло обогнуть три четверти побережья Таврии и пересечь Боспор Киммерийский, не давая огненной стене себя догнать, и вовремя укрыться под защитой неприступных стен Самкрая и войск ребе Хашмоная.
В устье Днепра жили греки – рыболовы и солевары, подданные Царьграда, и скрыть выход из русских пределов целого войска было невозможно. Иегуда и прочие жидины разъяснили своей челяди, как важно сохранять в тайне имя истинного хозяина везомого товара: ведь если их настигнет весть о набеге, греки захватят Ингварово имущество. И даже при самом благоприятном раскладе, как вздыхали между собой жидины, возможно, лишь на будущий год, когда все так или иначе закончится, они сумеют пересечь море в обратном направлении.
Русы охранной дружины, уж конечно, сами будут помалкивать. Но в остальном их присутствие купцам ничем не грозило. Таких людей нанимали самые разные купцы, и у самих греческих василевсов состояли на службе многосотенные отряды таких же точно русов, как те, что намеревались этим летом напасть на их владения. В каких-то случаях – даже их кровные родичи.
Но вот Греческое море осталось позади. За Боспором Киммерийским раскинулся западный берег каганата. Кустарник и буйное разнотравье на глинистых холмах над морем сейчас, в разгар лета, пестрели всеми переливами зеленого, желтого и бурого. Сине-голубые волны морские плескались под изрезанным берегом, поросшим жесткой травой. И, как ворота самого царства Хазарского, возвышался над проливом холм, сложенный из древних черепков и развалин.
Город Самкрай стоял здесь так давно, что никто не мог сказать, какие народы при каких царях его основали. За жизнь свою он сменил несколько названий: у хазар его называли Туман-Тархан, Самкерц, Самкрай, у греков, бывших его хозяев – Гермонасса, потом Таматарха. Еще неведомые боги древних племен позаботились сделать его надежным и неприступным убежищем: с одной стороны под высоким обрывом плескалось море, с другой – раскинулось пресноводное озеро, с третьей тянулись крутые овраги, а с четвертой протекал ручей. Вокруг города лежали хлебные поля и виноградники, но население самого Самкрая – булгары, хазары, греки, ясы, касоги – занимались по большей части ремеслом и торговлей. На западной окраине обитали кочевники – печенеги и гузы, прибывавшие в город по торговым делам. Ибо здесь русские меха и полон встречались с сарацинским серебром, греческим золотом, маслом, вином, шелками, посудой, разными изделиями из Царьграда, Сирии и страны Сина.
У начальника заставы Иегуда и Ханука надолго не задержались.
– Отчего это почтенный Рафаил бен Авшалом занялся русскими куницами? – спросил тот, просматривая грамоту, покрытую ломаными значками хазарского письма. – Его товар – это челядь или шелк из Сирии.
– Он заключил эту сделку минувшей зимой, когда был в Куяве, – пояснил Ханука. – У тамошнего князя скопилось много куниц и прочих мехов, но сейчас он не может никуда сбыть их по хорошей цене.
– Да, я помню, его люди приезжали сюда год назад, но увезли все обратно. Как мы им напомнили: если кто не хочет отдать десятину как положено, то десятина останется ему самому, то есть поле принесет лишь десятую часть урожая. Но эти язычники не приемлют мудрости Бога, вот и уехали ни с чем.
– Тем самым Бог заботится о тех, кто почитает Его, – улыбнулся Иегуда.
– Но Рафаил не из тех, кто купит себе в убыток. Выходит, за зиму русы набрались ума и продали товар по цене, не противной Богу?
– К тому времени они убедились, что на рынок Кустантины их тоже не так уж спешат допустить. Их посольство вернулось осенью с неудачей. А в таких случаях приходится использовать ту возможность, что пошлет Бог, – развел руками Иегуда.
Никто не мог знать, купил ли Рафаил этот товар в Киеве или нет, но на сердце у купцов было неспокойно. В этой поездке ценой неудачи стал бы не просто убыток, а судьба дочерей.
Пока хазарские мытники осматривали товар, дабы взять десятую часть от каждого вида, Хельги подошел к возу, где сидела Пестрянка, и оперся о край. Она улыбнулась: при каждом взгляде на него у нее сладко замирало сердце.
– Знаешь, что я вспомнила?
– Что?
– Ведь уже скоро – Купалии. Ну, там, у нас! – Она слегка махнула на северо-запад, понимая, что отсюда до дома не то что рукой не достать – и мыслию не дотянуться. – И не верится, что там над бродом сегодня все как раньше: девки венки плетут, отроки костры складывают, бабы зеленого Ярилу вяжут…
Все как тысячу лет перед этим. И только у нее все решительно переменилось. Здесь, за морем, не знают таких обычаев… да и березок что-то не видно. Пестрянка вдруг испугалась, что без этого лето не придет и само годовое колесо собьется с хода, но сообразила: над Великой ведь Купалии будут. Только без нее. А здесь лето давным-давно пришло: вон как солнце печет. И нету этим стенам из желтовато-серого кирпича, этому зеленоватому морю ни малейшего дела – разводили над Великой костры, пели «голубочка» или нет. Мир оказался куда больше и куда сложнее устроен, чем она раньше думала, и это тревожило.
– Ты не жалеешь, что не там? – Хельги положил руки ей на колени.
– Нет, – уверенно ответила она. – Мне по сердцу, как оно сейчас.
С прошлых Купалий миновал всего лишь год, и тогда они тоже встречали велик-день вместе с Хельги, но как все изменилось! Вспоминая себя тогдашнюю, Пестрянка видела какой-то жалкий, брошенный комок сплошной обиды – пусть ей и удавалось хранить вид гордой молодой боярыни. Тогда она еще думала об Асмунде и не подозревала, чем для нее станет Хельги. Что всего лишь через год она окажется на другом краю земли, у самых ворот царства Хазарского – с ним и ради него.
Немолодой хазарин остановился возле воза и сказал что-то, в добродушной ухмылке показывая обломки зубов. Мангуш ответил ему по-хазарски, весело, но решительно.
– Что он хочет? – окликнул Хельги.
– Спросил, не на продажу ли везут эту женщину, и предложил ее взвесить, дабы высчитать десятую часть ее веса в серебре.
– А ты что ответил?
– Я ответил, что если бы даже эту женщину продавали, то высчитывать стоимость пришлось бы в золоте. Но столько золота в городе нет, поэтому мы увезем ее обратно.
Осмотр товара был закончен, десятина выгружена и перенесена в складские помещения таможенного двора.
– Да принесет вам ваше поле девять десятин! – пожелал начальник, прикладывая свою печать к грамоте.
– Амен! – с облегчением поклонились оба купца.
Однако приходилось еще обождать: в этом городе Иегуда, старший над купцами, сам был всего лишь второй раз и уже послал слугу на поиски дома Рафаила. Наконец на мытном дворе появился смуглый большеглазый подросток лет четырнадцати – Моше, младший сын Рафаила.
– Я отведу вас к складам, где можно ставить товар, его примет управляющий, – сказал он, поклонившись Иегуде. – А потом отец приглашает вас к себе в дом.
Мысленно призвав Бога, Иегуда предъявил грамоту с печатью десятнику стражи у городских ворот. Тот сделал знак своим людям, те посторонились, и вереница возов, с тремя купцами во главе и тридцатью русами позади, потянулась в город.
Когда воз приблизился к створу ворот, Пестрянка ахнула: перед ней оказался длинный ход в черноту. От испуга она уцепилась за мешки. Воз въезжал в проем, как в черную пасть; вот на Пестрянку упала густая тень, вот тьма сомкнулась вокруг.
– Что это? – невольно вскрикнула она. – Куда мы едем?
– Не бойся, госпожа! – долетел спереди голос Мангуша. – Крепостная стена толщиной шагов в пятнадцать, сейчас мы внутри.
Они двигались через выложенный камнем проход внутри стены, похожий на пещеру или длинную темную нору. Где-то далеко впереди резало глаза яркое пятно света – выход на ту сторону. У Пестрянки захватило дух, будто в подземелье; все затеянное русами показалось безумием. Умышлять против города, у которого одна только крепостная стена толщиной в три хорошие славянские избы?
Но вот пятно света впереди выросло и превратилось во второй воротный проем. Возы прошли мимо распахнутых внутрь створок из толстого дуба, обитого железом, и наконец выбрались на свет – на улицы Самкрая…
* * *
Числом обитателей Самкрай не уступал Киеву – здесь их насчитывалось пять-шесть тысяч человек. Но жили они куда более тесно: теснились на холме между морем и озером, да еще кузнецы и гончары помещались снаружи, у озера и ручья. Каждый язык занимал свою часть города, но жилища строили похожие – из сырцовых кирпичей. Лишь у тех, кто побогаче, кирпичи клали на каменное основание: своего камня в окрестностях не было, его привозили по морю, и стоил он дорого. Если же дом рушился, его немедленно растаскивали, а камни и глина снова шли в дело. Найти просто валяющийся кусок камня было так же мало надежды, как в Киеве – кусок серебра. По всему городу виднелись остатки старинных построек: то основания домов, то вымощенные камнем заброшенные пруды, то засыпанные мусором колодцы.
Трое купцов-жидинов поселились в доме самого Рафаила: помня о заключенном с Ингваром договоре насчет полона, тот не уехал на восток этим летом, а остался дома. Охрана жила в длинных помещениях из сырцовых кирпичей, где Рафаил обычно держал рабов перед продажей. Лишь под кровлей тянулась череда маленьких окошек, а внутри от пола до верха были выстроены нары в три яруса – чтобы в одно помещение впихнуть как можно больше людей. Пестрянке было так неприятно там находиться, что она содрогалась, когда заходила внутрь, и предпочитала проводить время во дворе, на глинобитной скамье под одиноким персиковым деревом, в тени стены. Внутри было уж слишком темно, душно, жарко; висела застарелая вонь множества немытых человеческих тел, а главное, воздух полнился застывшим в нем отчаянием и горем людей, навек разлученных с родиной, волей и будущим. Сколько таких же молодых женщин, как она, ожидали здесь продажи на Гурганское море и знали, что наилучшей долей теперь будет скорейшая смерть!
Хирдманы переносили здешнюю жизнь легче, хотя тоже кляли жару, духоту, палящее солнце, непривычную еду, недостаток воды, мух и вонь от скученности. Вино делали здесь же, в городе, тут имелась своя давильня для винограда, поэтому оказалось оно недорого, но пить много Хельги своим людям не позволял, да и на жаре вреда от вина выходило больше, чем пользы. Его хирдманы, из которых десяток прибыл с ним еще из Хейдабьюра, томились и с тайным нетерпением ждали. Чего ждали – не говорили вслух. Даже на северном языке, даже когда рядом были только свои, упоминалось об этом лишь в словах навроде «когда уже…». Еще десяток человек во главе с Мангушем дал ему Ранди: эти не раз сопровождали его в поездках на теплые моря, знали эти места и понимали по-хазарски и по-гречески.
Люди Хельги были поделены на две части: тридцать человек жило в городе, охраняя товар, столько же оставалось в гавани при лодьях. Через день менялись. Днем выходили человек по десять послоняться по улицам: где узким, земляным, плотно утоптанным, а где широким, хоть двадцать человек в ряд пройдет. Не имея дерева для построек, боспорцы возводили дома из глиняных кирпичей на каменном основании. По старому, еще греческому обычаю, камни – известняк, песчаник, ракушечник – укладывали хитрым образом наискось, отчего кладка напоминала огромные каменные колосья. Причем камни и плиты служили не первый век: их добывали для новых построек из старых развалин, так что они помнили много разных хозяев, владык и языков. Иной раз в основание дома попадало чье-то старое надгробие со стертыми письменами, мраморный блок или обломок величественной колонны. Самкрайский холм, будто удивительный бессмертный великан, век за веком рос вверх над останками былых поколений, вытаскивая из собственного прошлого свои же старые кости и давая им новую жизнь.
Хирдманы слонялись по базарам – поглядеть на верблюдов, лошадей и ишаков, на товары – ковры, ткани, медную, бронзовую и глиняную посуду. Много посуды ввозили из Греческого царства: глаза разбегались от изобилия кувшинов, чаш, мисок и блюд из белой расписной глины, с прозрачной, зеленой или желтой поливой. В амфорах красноватой глины привозили вино и оливковое масло. В обратном направлении везли добываемое в окрестностях Самкрая «земляное масло». Здесь этой довольно вонючей черной жидкостью заправляли глиняные светильники, опуская в нее фитилек. Запечатанную в высокие узкогорлые кувшины с ручкой, ее грузили на корабли для вывоза в Царьград, и за этим делом наблюдал особый греческий чин.
Хазарские кувшины обликом напоминали стройную красавицу с тонкой талией, что горделиво уперла руку в крутое бедро. Хватало и самих красавиц, что носили эти кувшины и амфоры на плечах, с синими, серыми, голубыми, черными стеклянными браслетами на тонких запястьях – хазарок, гречанок, булгарок-бохмиток, укутанных в покрывала по самые глаза, ясынь. Но и приставать к девкам Хельги запретил тоже: шум и драка с местными, хоть и входили в число любимых развлечений русов в торговых городах, решительно не вязались с его замыслами.
– Потерпи, Торбен, – говорил он своему давнему товарищу, который чуть шею не вывихнул, глядя вслед одной гречанке. – Потом будет у тебя десяток таких красоток.
– Вот эта будет моя! Смотри, запомни!
Слоняясь по городу, однажды наткнулись на христианский храм. Христову веру в Самкрай принесли греки, бежавшие сюда лет полтораста-двести назад, когда при василевсах Льве и Константине противники почитания икон боролись с их поклонниками. Греки, наследники прежних владельцев этого края, составляли в городе чуть ли не половину населения. Самкрай издавна был столицей епархии, и здесь имелся свой епископ.
Каждый день к русам являлся кто-то из троих жидинов: привозил с рынка припасы на день, свежую воду, проверял сохранность товара, спрашивал, все ли хорошо. Двое других тем временем ходили по домам и лавкам купцов, к которым имели письма от Рафаила, отыскивая покупателя. Обиталища купцов-жидинов можно было узнать по присутствию мезузы – прикрепленному справа от входа куску пергамента с речениями из Торы. Богатые их дома были выстроенные целиком из камня, с мощными плитами в основании углов; перед ними, на мощеных двориках, дымили печи для готовки и особые обмазанные изнутри глиной ямы, где пекли хлеб. В доме имелось помещение с печью и ямами-хранилищами, где занимались своими делами женщины и челядь, а хозяева принимали гостей в более просторном помещении, с глиняным полом, устланном коврами или кошмами, с двумя глинобитными скамьями вдоль стен, обложенными камнем и покрытыми тоже коврами либо шкурами. Прежде чем усадить, гостям предлагали омыть руки в облицованной камнем яме-водостоке, потом подавали угощение – свежие пшеничные лепешки, сыр, вино.
Киевские гости носили с собой мешки с образцами товара: по две-три шкурки куницы, бобра, лисы, получше и похуже. Как принято у хазарских торговцев, сперва гости показывали из товара что похуже, потом доходило и до лучшего. Купцов сопровождал десяток русов, и обычно возглавлял его сам Хельги. В дом их не приглашали, оставляя ждать во дворе, где отроки от скуки перемигивались со служанками, занятыми возле мукомольных жерновов или хлебных печей.
– Что за народ эти русы? – иной раз спрашивали местные купцы киевских. – Ходят слухи, будто они снова собрались воевать с греками, но достаточно ли они сильны для этого?
– Как говорил Моше: если народ живет в хорошо укрепленных городах, за прочными стенами, значит, он слаб и боится войны, – отвечал старик Иегуда. – Русы же живут в небольших, слабо укрепленных городах, а такой мощной стены, как здесь, нет даже в самом Куяве. Но они не боятся войны, ибо полагаются на свое мужество.
– Многие любят похвалиться подвигами, которые совершат в будущем. Но если слухи о войне окажутся правдивы, вскоре мы узнаем, велико ли мужество русов на деле… Однако если Ингер рассорится с Романом, рынки Кустантины окажутся для русов закрыты надолго, и здесь меха и полон должны будут подешеветь. Поэтому не кажется ли тебе, уважаемый Иегуда, что два дирхема за куницу – это многовато?
– А если Бог обернет к русам радостное лицо свое, желая наказать греков, и отдаст победу идолопоклонникам – тогда Ингер и Роман заключат договор, выгодный русам, куницы и бобры хлынут на рынки Кустантины, а здесь их никто не увидит еще тридцать лет! Разумно было бы сделать запас товара, тебе так не кажется, уважаемый Эсав?
Вести о войне себя ждать не заставили. Но оказались не такими, как ожидалось.
Однажды утром город загудел. Войско Романа, выйдя из Херсона, обложило Каршу! Греческие войска и хеландии окружили крепость на том берегу пролива с суши и моря! Ребе Хашмонай получил об этом точное донесение и просьбу о помощи.
На городских рынках поднялся переполох. Торговцы сворачивали дела, навьючивали верблюдов и спешно уезжали на восток, прочь от моря и опасности. Ребе Хашмонай – тудун, наместник кагана в городе и военачальник – поднял свое войско и приказал готовиться к выступлению. В тот же день к нему позвали Иегуду и его двоих товарищей.
– Вы видели военные приготовления, когда шли мимо берегов Таврии? – спросил их тудун.
Был Хашмонай уже порядком стар – пожалуй, ему шел седьмой десяток, но при виде него думалось невольно: вот ведь железный старик! Годы согнули его спину и сделали меньше ростом, кожа плотно обтянула худощавое лицо, но серо-стальная седина усов и бороды, твердый взгляд запавших глаз из-под угольно-черных густых бровей давали понять, что дух его тверже железа и не даст телу разболтаться.
– Мы видели, но полагали, что грекам известно о замыслах русов напасть на них, – скрывая ужас, отвечал Иегуда. Ему казалось, что он, как подданный князя русов, сейчас будет призван к ответу за дела язычников. – Как жив Господь, Всесильный наш…
– Рассказывайте, что вы знаете о приготовлениях Ингера! – прервал его Хашмонай. – Сколько у него людей, хорошо ли они выучены, чем вооружены? Кто возглавляет их?
Голос его от старости стал высоким и даже немного визгливым, но в нем по-прежнему звучала твердая властность.
Купцы переглянулись и не сразу собрались с мыслями для ответа. Впервые у них мелькнула догадка: а случайно ли их сопровождал сюда сводный брат самой княгини? Но только упомянуть о том, кем является их начальник охраны, означало сунуть голову в петлю. Поэтому, через слово призывая Бога, они пересказали то, что им было известно: о возвращении Асмунда из Константинополя с неудачей, о гневе Ингвара, о его желании силой заставить греков заключить выгодный договор.
Хашмонай слушал, временами впиваясь в купцов испытующим взглядом. Приехавшие из Киева, подданные Ингвара, они могли оказаться разведчиками. Но способны ли сыны Израиля предать единоверцев ради идолопоклонников, тем более что и Рафаил бен Авшалом, уважаемый человек, ручался за них?
– И вам ничего не известно о сговоре между русами и греками?
– Но как это возможно? – Иегуда развел дрожащими руками. – Весь Киев говорил, как разгневан был князь, когда приехали назад его послы и пересказали, какой дурной прием им оказал Стефан, сын Романа, как бранил их и оскорблял прямо на обеде, за столом! Все слышали о тех речах: что, дескать, русы обжоры и пьяницы, а князь их отнял власть у родича силой, и потому он не законный правитель, а просто разбойник!
– Я знаю об этих речах, – обронил Хашмонай. – На том обеде присутствовали послы ясов и сами слышали Стефанову брань. Говорили даже, русский посол едва не полез в драку – он был еще очень молод…
– Это брат самой княгини – конечно, он был оскорблен таким обращением. Поэтому Ингер вручил ему руководство войском, которое и послал для мести грекам!
Упоминать о жене, которую Асмунд был вынужден уступить брату, Иегуда посчитал неразумным. В самом деле, что значит какая-то женщина в раздоре держав?
– Возможно, русы еще ударят в спину грекам, пока те увели войско из Херсона в Каршу, – робко заикнулся Ханука, но поклонился, извиняясь, ибо судить о таких вещах было не его ума делом.
Однако Хашмонай отпустил их, больше ничего не сказав. Лишь упомянул, что в его отсутствие Самкрай будет нуждаться в защите каждого, кто сам укрывается со своим имуществом за его стенами.
Несколько дней войско тудуна готовилось к выходу. За это время его люди поднимали городское ополчение: всех ремесленников, купцов и особенно купеческие дружины. Из них собирали отряды, которым предстояло оборонять городские стены, если возникнет в том нужда. Ребе Хашмонай еще при себе приказал собрать телеги и завалить ими Мытные ворота.
Но вот Хашмонай погрузил свое войско на взятые у торговцев лодьи и увез на северо-запад – к Карше, запиравшей пролив с западной стороны, перед выходом в Меотийское море. За старшего в городе он оставил своего молодого родича, Элеазара.
Еще несколько дней Самкрай жил в тревоге, но без происшествий. А потом однажды в полдень снова поднялся переполох: за проливом показались многочисленные паруса. К стенам подошло войско русов…
Глава 13
Над Самкраем висел запах дыма. Пылали две деревни, еще две погибли ночью и теперь чернели обгорелыми глинобитными стенами под пеплом соломенных крыш. Многосотенное войско русов вошло в гавань и окружило город. Они заняли предградья, дома убежавших за стены гончаров и кузнецов, но поместились там не все, и прямо за оврагами и ручьем везде виднелись выцветшие пологи шатров. Котлы висели над кострами из порубленных виноградных лоз. Русы варили и жарили мясо захваченных в предместьях коз и овец. Часть войска, разбившись на дружины по сотне человек, растекалась по округе, грабя селения. Сейчас, пока виноград не созрел, а хлеб едва начали убирать, взять удавалось мало что, но зато все жители, не успевшие убежать, попали в плен. Пленных сгоняли к стенам и держали в оврагах, где их охраняли стражи с копьями. До городских стен днем и ночью долетали крики женщин.
Часть боспорцев покинула свои дома заранее, и теперь они, со своими козами и овцами, с чумазыми детьми и причитающими женами, с наспех собранными узлами жили на площади и улицах, на опустевшем рынке и прямо возле чьих-то домов. Сидели и лежали под глинобитными стенами, в жидкой тени виноградных плетей.
Молодой Элеазар каждый день собирал к себе в дом купцов и городских старшин, которые теперь стали воеводами ополчения. Главные городские ворота, выходившие на противоположную от моря сторону – к мелководному пресному озеру, – тоже завалили изнутри телегами, глиняным кирпичом и всяким хламом, какой сумели найти в городе. Собранное из жителей и купеческих дружин ополчение разделили на отряды, между ними распределили стражи по охране стен и ворот. Часть отрядов несла дозор на улицах и на рынке – вместо торговцев его теперь занимали беженцы. Воды не хватало, и пришлось поставить стражу к двум колодцам, чтобы воду распределяли по частям города и беженцам справедливо. При такой скученности могли вспыхнуть и болезни, и пожары, и драки.
На второй день осады Иегуда и Синай явились на склад, где жили русы. Имея под началом целых шесть десятков человек, Хельги был призван Элеазаром к службе в числе первых, и теперь охранял ворота в две стражи. Из его людей на месте всегда находилась лишь половина. Отряд, порученный Раннульву, сейчас нес стражу на рынке, а Хельги спал: его люди все три ночные стражи охраняли озерную сторону стены, а он проверял их, поэтому не выспался.
Жена не сразу согласилась его разбудить. Наконец он вышел во двор, к скамье под персиковым деревом – в помятой одежде, на ходу приглаживая спутанные волосы. Красное пятно придавало ему такой вид, будто он в крепком сне сильно отлежал щеку.
– Послушай, Хельги! – Старик Иегуда едва не плакал. – Прикажи своим людям следить, чтобы никто нас не подслушал!
– В этом нет нужды! – Хельги благодарно кивнул жене, которая поднесла ему греческий желтый кувшин с теплой, немного затхлой водой, и отпил. – Мои люди и без приказов проследят за этим.
– Даже я и мои товарищи уже поняли, что за войско стоит по ту сторону стены! Всемогущий Бог! Ты тоже это знаешь!
Пестрянка, держа кувшин, отвернулась. Выглядела она усталой и встревоженной – впрочем, как почти все женщины в городе.
– Я знавал этих людей по Киеву! – восклицал Иегуда. – Я видел, как они всю зиму собирались в путь! Я проделал вместе с ними всю дорогу вниз по Днепру до самого устья! И теперь я вижу их под стенами Самкрая! Я видел стяг твоего брата Асмунда! Того самого, который должен был сейчас осаждать Херсон или Сугдею! Почему он здесь? Поверь, если бы не страх о моей семье, я уже рассказал бы Элеазару, кто находится здесь с этими товарами! Неужели ты обманул меня и заставил стать предателем моих единоверцев? О мой Бог!
– Ты очень мудр, если вспомнил о своей семье! – кивнул Хельги, потирая щеку и стараясь полностью проснуться. – Должен сказать тебе кое-что об этом. Моя сестра, киевская княгиня, поручила мне передать: если я не вернусь или со мной случится нечто дурное, то все ваши родичи в Киеве будут проданы уграм. Все, от стариков до младенцев, кто состоит хоть в каком-либо родстве с тобой, Синаем и Ханукой. А ведь ваши семьи живут в Киеве лет двести, да? Чуть ли не все Козаре – ваша родня?
– Так вы с самого начала это задумали! – Иегуда едва не задохнулся. – О мой Бог! Да возгорится гнев Твой…
– Но ты в наших руках! – с негодованием добавил Синай. – Мы расскажем Элеазару, кто ты такой, и он прикажет схватить тебя! Он пригрозит Асмунду твоей смертью и велит уйти, а взамен выдаст тебя живым! И не думай причинить нам вред – Ханука сейчас у Элеазара, и если мы до вечера не вернемся туда благополучно, он все ему расскажет!
– Я не собираюсь причинять вам вред! – Хельги поднял ладони, показывая, что в них ничего нет. – И замысел ваш был бы мудр, если бы…
– Что?
– Если бы мог осуществиться.
– Отчего же ему не осуществиться, если в наших руках брат вождя наших врагов?
– Да потому что я – куда худший враг Асмунду, чем даже сам Хашмонай! Неужели не понимаете?
– Ты – его враг? Как это возможно? Ты же его брат!
– Я и сам не ждал, что мой брат Асмунд объявится здесь со своим войском, – признался Хельги.
– Не ждал?
– Да. Он ведь должен был осаждать сейчас Херсон, это вы верно сказали.
– Но как же он тогда очутился здесь? – Купцы изумленно переглянулись.
– Похоже… – Хельги посмотрел на свою жену, которая сидела, отвернувшись и прикрыв лицо краем покрывала, – кроме обиды на Стефана и греков, у Асмунда есть на сердце и другая обида, и она оказалась тяжелее…
– Ты хочешь сказать… – Иегуда в изумлении воззрился на Пестрянку. – Это из-за… этой женщины?
– Не могу сказать тебе точно, пока не поговорю с Асмундом или его посланцами. Но если есть весомая причина, которая заставила его изменить и мне, и Ингвару, то лишь обида на меня и желание получить назад свою любимую жену. Он, похоже, не смог смириться с ее потерей, и даже та новая жена, которую ему нашла княгиня, его не утешила. Он пришел сюда, желая вернуть ее. А войску все равно, где взять добычу – в Херсоне или здесь.
Купцы молчали, пораженные этой новостью. Они сами привезли в Самкрай беду и погибель. Но кто мог знать, что жена снова погубит человека, как это уже когда-то сделала Хава по наущению змея?
– Если вы выдадите меня Элеазару, а тот – Асмунду, вы, конечно, обрадуете Асмунда, но осады он не снимет, – продолжал Хельги. – Меня он, скорее всего, казнит, но цели своей этим не достигнет и будет осаждать город, пока не возьмет его и не получит мою жену. Однако если он погубит меня, то в Киеве погибнут и десятки ваших родичей.
– Но это значит… – Синай посмотрел на Пестрянку, – что ты мог бы спасти себя и город, вернув эту женщину ее первому мужу!
– Нет! – воскликнула Пестрянка, впервые за это время подав голос.
– Нет! – почти одновременно сказал Хельги и успокаивающе сжал ее руку.
– Лучше мне умереть, чем вернуться к этому человеку! – Она сердито взглянула на купцов.
– Я женился на ней не для того, чтобы подержать у себя и вернуть хозяину, будто лошадь, взятую внаймы, – продолжал Хельги. – А чтобы жить и умереть вместе с ней. Но вы не спешите оплакивать себя и город. Ведь Карша недалеко отсюда, а войска кагана сильны. Может быть, сейчас, сегодня, Хашмонай уже разбил войска Романа, а завтра он вернется сюда и уничтожит Асмунда.
– Как говорил царь Шломо: «Конь подготовлен на день войны, но победа – от Господа!» – вздохнул Синай.
– Эй, пришел парень Рафаилов! – крикнул Тубби, стороживший у ворот. – Говорит, зовут вас всех к Элеазару!
– Русы прислали людей для переговоров! – выложил задыхающийся от бега отрок, когда два купца и Хельги вышли к нему. – Нужны люди, понимающие их язык!
Иегуда и Синай переглянулись. Они еще ничего не решили, не поняли даже, можно ли верить услышанному. А Бог уже прямо сейчас, не дав времени на раздумья, повелел что-то решать.
Хельги вернулся во двор и вслед за Пестрянкой прошел в пустой темный сарай с глиняными стенами, который в эти дни служил им домом. Пестрянка обернулась, подняла к нему встревоженный взгляд. Хельги ласково сжал ее лицо в ладонях и несколько раз поцеловал. Произносить вслух даже одно слово сейчас было опасно, но в поцелуях его сквозила самая искренняя любовь.
* * *
До поздней ночи в доме у молодого Элеазара заседал совет всех городских старейшин и купцов. Предводитель русов потребовал выкуп – двадцать тысяч золотых. Иначе обещал в ближайшие же дни взять город приступом, и тогда ни один человек не сохранит ни свободу, ни имущество, ни саму жизнь. Старейшины хазар-иудеев, греков-христиан, булгар-сарацин, ясов, гузов, печенегов и прочих язычников призывали каждый своих богов, спорили, сходясь в одном: собрать столько золота в городе невозможно. Можно отдать часть товарами – дорогих шелков, посуды, специй, благовоний, серебра, коней, оружия и прочего в городе немало. Но бедным общинам пришлось бы отдавать людьми, а на это никто не соглашался.
И только ночью, когда все уже изнемогли от жажды и охрипли, когда прибежали с вестью, что загорелись еще две деревни и измученный Элеазар распустил совет до завтра, Иегуда обменялся горестным взглядом со своими товарищами и поклонился:
– Позволь, досточтимый Элеазар, нам сказать тебе несколько слов наедине. Возможно, в этом городе находится некое сокровище, которое вождь русов согласится взять взамен хотя бы части выкупа.
* * *
– В городе ополчения пять с половиной сотен человек, считая беженцев. Из них две сотни – купеческих дружин, эти вооружены хорошо и обучены, но из них шестьдесят наших, значит, чуть менее полутора сотен, – шептала Пестрянка, положив голову Хельги на плечо, так что даже сам он едва ее слышал.
Они сидели на низкой глинобитной лежанке нижнего яруса нар, почти в темноте; со двора доносилось негромкое пение русов, свободных от стражи. Под кровлей жужжали мухи.
– Разбиты на отряды по тридцать человек, управляют старшины, из них только человек восемь имеют опыт сражений. В каждой башне несут стражу по два человека, три ночные стражи и пять дневных. Тайный выход – в третьей башне от озера, если идти по стене вдоль оврагов. Два человека стражи…
О существовании тайного выхода из города – помимо двух ворот – все догадывались, но обнаружить ее местонахождение удалось лишь при помощи Мангуша, сына Ранди. Ингвар не зря послал его вместе с Хельги. Мангуш уже не раз бывал с отцом в Самкрае и неплохо знал город; похожий на свою мать-печенежку, невысокий и смуглый, он ничем не выделялся среди местных жителей, свободно говорил по-печенежски и по-хазарски, и немного – по-гречески. Снабдив парой шелягов, Хельги день за днем, когда Мангуш был свободен от службы, отправлял его в харчевню, ближайшую к помещению стражи. В обычное время в воинском доме жила дружина тудуна, а сейчас Элеазар держал там сотню ополчения, чтобы была под рукой. Ходили туда и люди из собственной дружины молодого тудуна – пожалуй, самые лучшие воины из оставшихся в городе. Многие были не прочь поболтать с молодым бойким парнем, который очень хотел поступить на службу к тудуну и жаждал узнать побольше о нелегкой жизни доблестных стражей, которые, конечно, заслуживают гораздо лучших наград и обращения.
Глядя, как распределяются дозоры, Хельги скоро уловил одну странность: его людей расставляли по башням, куда вход был только сверху, с боевого хода, но ни разу не поставили их на ту единственную башню, кроме надвратных, куда можно было войти изнутри крепости прямо с уровня земли. С чем связано это отличие, он и сам скоро догадался. А Мангуш уловил, что в разговорах между собой стража называет эту шестиугольную башню «калиткой».
Судя по всему, там находился тайный ход, предназначенный для вылазок. По ту сторону городской стены протянулись овраги – неудобная, складчатая местность, поросшая кустами. Среди зарослей под стеной нетрудно было спрятать дверь. Вот только выяснилось все это уже после того, как подошел Асмунд и двое городских ворот были завалены, поэтому Хельги не мог выйти и посмотреть, как она выглядит снаружи.
Осталось передать весть Асмунду, чтобы его люди в назначенное время были готовы и ждали под стеной со стороны оврагов, возле третьей башни от озера.
– Все так, – Хельги погладил Пестрянку по голове под покрывалом. Лоб взмок от пота, и он сдвинул покрывало, чтобы ей было не так жарко. – Не бойся. С тобой будут обращаться бережно. Ты – их выкуп. Цена их жизни и свободы.
– Я боюсь не за себя, – Пестрянка отстранилась и посмотрела ему в лицо. – Ты уверен, что они нас не предадут?
– Хазары?
– Я больше опасаюсь наших. Киевских родичей.
– Но почему? – Хельги приподнял брови. – Ты-то знаешь, что Асмунд…
– Речь не о нем. Асмунд – честный человек. Я знаю, ему было очень стыдно, что он так со мной поступает. И он уже было смирился, что Звездочады ему не видать и придется жить со мной. Вы со Свенельдичем сторговались через его голову, но он, я думаю, и сейчас еще тебе благодарен, что ты взял меня и тем дал ему свободу. Я боюсь самого Свенельдича. Я плохо его знаю, но мне сдается, у него ни сердца, ни совести нет. Ради Ингвара он и его отец загубили Олега-младшего. С чего им жалеть тебя?
– Но в чем ты его теперь подозреваешь? – Хельги погладил ее по шее под ухом, пытаясь заставить расслабиться и успокоиться.
– Когда Асмунд войдет в город, здесь будет драка, резня… Ты… – Пестрянка с трудом решалась вслух сказать о своих подозрениях, будто могла тем вызвать эти ужасы к жизни, – когда город окажется в руках, ты будешь им уже не нужен. Они могут сделать так, чтобы больше никогда не пришлось с тобой торговаться… Понимаешь?
– Ты думаешь, Свенельдич мог приказать убить меня, пока в городе будет резня?
Пестрянка кивнула.
– И я не знаю – стоит ли нам помогать Асмунду войти в город! – добавила она.
– Стоит, потому что мы обещали и взялись за это. Понимаешь, мы должны быть отважны перед богами и судьбой. И если свои же люди на нашу отвагу ответят предательством, то нашего подвига это не принизит, а они за свою низость ответят перед Одином. Он не любит предателей. Как и трусов. Каждый отвечает за свои дела. И если мы сейчас отступим, то будем унижены еще при жизни. Хашмонай и правда может вернуться. И даже если наши жидины не выдадут меня, стоит ли нам тогда возвращаться в Киев? Если мы не сделаем этого дела, там сочтут предателем уже меня. И тем выбьют оружие из моих рук. То, что я знаю, почти не будет иметь цены, моим словам не будет веры.
– Но все то, что ты мне рассказал, останется правдой!
– Да, но княгиня не посмеет в это поверить, не захочет ссориться с мужем и его побратимом, если уже не сможет опереться на меня. Асмунд не простит мне, если по моей вине лишится добычи и славы. А дядя Торлейв без поддержки молодых ничего не станет делать.
– Но неужели княгине плевать на убийство ее собственного отца!
– Она может из-за этого бросить мужа, но тогда потеряет все. Их держава развалится, потому что ни Ингвар, ни Эльга и Торлейв не удержат ее по отдельности. Может, не так уж плохо, что владения Ульва с Волхова и Олега Вещего с Днепра теперь в одних руках. Я даже готов смириться с этим, если сам не буду обижен долей. Ингвар и Свенельдич поклялись мне на мечах, что не обманут. Не такие они люди, чтобы пренебречь силой собственного оружия. Однако… – Хельги подумал немного. – Имеет смысл держать кое-что про запас. И есть кое-что, что стоит между ними – Ингваром и его побратимом. Ты заметила, что Свенельдич желает ее?
– Княгиню? – Пестрянка округлила глаза.
– Да. Неужели не замечала?
– Я… не следила за ними, – она нахмурилась, пытаясь что-то вспомнить. – Да я их почти и не видела вместе…
– Догадаться не так трудно, если уметь наблюдать за людьми. Что бы со мной ни случилось… когда в городе идет сражение, и правда может случиться всякое… Однажды я намекнул Мистине, что наш род мог бы отдать Эльгу ему, если ей придется расстаться с мужем. По глазам его было видно: его так прельщает эта мысль, что он ненавидит себя за это. Ну, и меня, конечно. Запомни это. Ты слишком тесно связана с нашим родом, чтобы даже моя гибель…
– Не говори так! – Пестрянка вцепилась в его руку.
– Чтобы даже моя гибель оторвала тебя от прочей нашей родни. Твой сын – наследник Торлейва, кто бы его ни вырастил, это у нас обговорено. Если ты вдруг потеряешь меня, но сумеешь вернуться в Киев – держись княгини. Помни две эти вещи: про смерть ее отца и про склонность к ней Свенельдича. Если будет нужно – открой ей глаза. Она сумеет найти себе другую защиту, кроме мужа, а заодно и тебе.
– Если я не последую за тобой, потому что слишком много знаю, – Пестрянка усмехнулась и закрыла Хельги рот рукой, видя, что он хочет возразить. – Разве я сказала, что боюсь этого? Я и по доброй воле последую за тобой. И задержусь лишь, чтобы разобраться, кому следует за тебя мстить.
Хельги улыбнулся и поцеловал ее. Кто бы мог подумать, что в глуши кривских лесов вырастет такая женщина!
– Ольвид! Тубби! – крикнул он во двор. – Поглядите, чтобы никто не входил, пока я не выйду.
* * *
Еще день Хельги выжидал; его дружина вела себя как обычно. Пестрянка не покидала жилище, что естественно для разумной женщины в чужом осажденном городе: и без вражеского приступа в такое время может случиться всякое. Хельги уже выбирал мысленно, каким же образом ей повести себя не разумно, когда свой ход сделал Элеазар.
Прибежал посыльный от Мытных ворот: отряд Раби Булгарина снимается, пора на смену. Однако Раннульв со своими, несший дозор на стене со стороны ручья, еще не вернулся.
– Что же делать? – Хельги озабоченно посмотрел на Альрика и Рамби. – Мы не можем больше ждать, но на кого оставить женщин?
– Со мной ничего не случится, – заверила Пестрянка. – Мы с Ивкой закроемся в доме и дождемся Раннульва. Он же скоро придет. Никакого шума не слышно, ничего не случилось. Надо думать, там задерживается смена, вот он и не может уйти.
– Хорошо, – с неохотой кивнул Хельги. – Заприте дверь и не открывайте никому, пока не услышите Раннульва и других наших.
Пестрянка обняла его и прижалась изо всех сил. Она всегда так делала, когда он уходил.
Похоже, наступал тот час, ради которого ее привезли сюда.
Лежавшая перед ней дорога превратилась в клинок меча. Она могла погибнуть на этой дороге – завтра, сегодня, сейчас. Хельги мог погибнуть – даже еще вернее. Пусть Иегуда со товарищи смолчали и скрыли от Элеазара, кто таков их начальник охраны – тархан мог сам решить, что для успеха дела лучше избавиться от «лишнего» мужа. И тогда она, может быть, будет невредимой выдана Асмунду, которому нисколько не нужна, но Хельги больше никогда не увидит.
«Мы должны быть отважны перед богами и судьбой», – вспоминала Пестрянка, жадно вдыхая запах его пропотевшей сорочки, желая наполниться им целиком. Запах этот был для нее слаще любых индийских благовоний. Она по доброй воле согласилась на это все. Уехать из тихого Варягина в беспокойный Киев. Отправиться оттуда в настоящий военный поход на другой край света. Стать «живой стрелой» – знаком приступа. Согласилась, потому что для Хельги такая жизнь и устремления были естественными, а она хотела разделить его судьбу во всем. Наверное, как ей сейчас казалось, она и в Киев поехала не ради Асмунда, а за ним. И предпочла бы не расставаться, даже если придется вместе сесть в узилище. Но сейчас требовалось, чтобы она была отважна перед богами и судьбой – причем в одиночку.
– Не бойся, Фастрид! – Хельги прижал ее к себе и поцеловал в затылок под покрывалом. – Все пойдет как надо. Удачи у нас хватит.
Она отстранилась. Ни к чему его задерживать – судьбы не избегнуть. А чем скорее все начнется, тем скорее кончится.
Выходя из ворот, Хельги обернулся и махнул рукой. Стихли на улице между глинобитными стенами шаги и голоса, растаяли в гуле переполненного города.
Пестрянка вернулась в сарай, закрыла дверь на засов, села на низкую лежанку. Кроме нее, на первый взгляд, в помещениях склада осталась только ее служанка Ивка.
Было душно и почти темно: лишь в крошечные оконца под кровлей проникало немного яркого солнечного света снаружи. Прислушиваясь к жужжанию мух, Пестрянка отгоняла мысли о Хельги и старалась думать о своем сыне. Когда все между родичами было обговорено, Асмунд нарек его Вальгардом – такое имя мальчик мог бы получить, будучи сыном любого из племянников Вещего, и оно закрепляло его права в роду. О его будущем она почти не тревожилась: он признан законным наследником всего, что Асмунд должен был получить от Торлейва, и даже если ни она, ни оба брата княгини из похода не вернутся, дед и бабка вырастят его. Вот только ее, свою мать, он будет помнить очень смутно…
И что сын станет думать о ней, зная, что она покинула его отца и уехала на край света вслед за отцовым братом, да там и сгинула? А она не сможет ему объяснить, как это вышло? Да и как такое объяснишь?
Сквозь жужжание мух до нее долетел легкий шум во дворе. Кто-то не хотел быть услышанным, но, когда вместе идут много людей, им сложно не издавать совсем никаких звуков. Пестрянка вскинула голову, махнула служанке: прячься! Сама вскочила и неслышно скользнула к двери: так она сделала бы, даже если б никого не ждала.
Прислушалась. Дверь склада богатого купца была сделана на совесть: из толстых досок, обитая железными полосами. Вот только наспех пристроенный засов не внушал доверия – ведь рабам запираться изнутри не полагалось.
Снаружи легонько постучали.
– Кто там? – на северном языке окликнула Пестрянка. – Раннульв, это ты?
– Это я, Иегуда! – по-славянски ответил ей голос, приглушенный толстыми досками. – Госпожа, открой, у меня важное известие! Это касается твоего мужа!
У Пестрянки упало сердце. Она знала, что ее так или иначе будут принуждать открыть, но не могла прогнать невольного испуга: а вдруг это правда? Вдруг Элеазар начал с Хельги…
Она еще раз махнула рукой служанке, чтобы та получше спряталась за оставшимися мешками, и решительно подняла засов.
Двустворчатая дверь распахнулась, в помещение разом ворвались с десяток человек. Все это были хазары, незнакомые Пестрянке. Прижавшись спиной к стене, она молча смотрела, как ее окружают.
– Пойдем с нами, госпожа! – Между незнакомцами пролез Иегуда, Пестрянка узнала его пышную седую бороду с черными прядками по сторонам. – Это для твоей же безопасности!
– Что с моим мужем?
– С ним тоже все будет хорошо, если ты пойдешь с нами.
– Кто эти люди?
– Это люди Элеазара. Они все равно не понимают ни по-славянски, ни по-русски, так что не задавай им вопросов.
– Но тебе я могу задать вопросы! Что происходит? Что это значит? Зачем вы врываетесь ко мне, пока мужа нет… Ты так и не сказал – что с моим мужем?
– Пока еще с ним все хорошо. Я умолчал о том, кто он такой, ибо не желаю, чтобы пострадали наши родственники в Киеве. Но чем больше шума из этого выйдет, тем труднее нам будет скрыть… И он может пострадать, ведь здешним властям, о мой Бог, безразлична судьба каких-то киевских бедняков! Пожалей мою жену и детей, госпожа! Им грозит смерть, а твоя участь будет куда легче!
– Участь? Какая еще участь?
Двое хазар, стоявших ближе, знаком предложили Пестрянке идти за ними.
– Уберите руки! – Она дернула плечом. – Скажи им, чтобы не смели меня трогать! Что вы от меня хотите?
– Мы просто отведем тебя в дом Элеазара, и там он поговорит с тобой.
– О чем мне говорить с тудуном? Я хочу увидеть моего мужа!
– Думаю, он скоро придет туда. Ты его увидишь.
Двое хазар, не понимая их беседы, вновь попытались взять Пестрянку за руки. Она отстранилась и шагнула к выходу.
Хазары и женщина ушли, Иегуда закрыл за ними дверь. Когда все стихло, мешки зашевелились и из-под них вылез невысокий, щуплый хирдман по имени Тови.
– Эй! Ивка! – окликнул он. Потом встал и сбросил мешки, за которыми пряталась служанка. – Беги!
– Они ушли?
– Беги на стена! Говори Хельги: твоя фру увел.
Не слишком хорошо владевший славянским языком, Тови вытащил служанку из-за мешков и подтолкнул к двери. Та навалилась на створку… раз, другой…
– Что такое? – Тови подошел и тоже надавил на дверь. И выбранился: – Троллева мать! Они нас заперли!
* * *
Однако сидеть взаперти Тови и служанке долго не пришлось: вернулся Раннульв со своим отрядом. Им и впрямь пришлось задержаться, поскольку Игезбай Медник со своей дружиной, кому полагалось их сменить, по неизвестной причине не явился вовремя. После этого Ивка побежала следом за Хельги не одна, как предполагалось, а с самим Раннульвом и тремя хирдманами. Пробившись через заполненные людьми улицы, они добрались до стены и поднялись на боевой ход, где выстроились цепью воины городского ополчения: греки, хазары и русы.
Эта была та часть стены, что выходила на море и пристань с восточной стороны. Внизу виднелся зеленовато-голубой простор Боспора Киммерийского, а в гавани – десятки русских лодий с убранными веслами и свернутыми парусами. Сверху было видно, что часть из них уже заполнена добычей из окрестностей: мешками, бочонками. Блестела на солнце медная посуда.
– Госпожа! Госпожу какие-то люди увели! – закричала Ивка, увидев наконец Хельги. – Ворвались к нам… Егуда с ними… Хазары… увели, сказали, к самому набольшему!
Еще по пути к дому Элеазара Хельги видел, что молодой заместитель тудуна ожидает неприятностей. На площади русов встретил хазарский отряд с мечами и щитами, готовый к бою – лучшие в городе воины, дружина самого Элеазара. Но с Хельги было всего три человека – Бёрге, Торбен и Хавлиди. Поэтому до порога дома русов пропустили беспрепятственно, хотя по лицам хазар Хельги читал, как епископ по книге: ждали именно их.
Перед каменными плитами порога их встретил сам Шмуэль-тархан, старший над дружиной Элеазара: крупный, тяжеловесный мужчина лет пятидесяти, со смуглым, круглым, скуластым степняцким лицом, украшенным жидкими усиками и такой же бородкой. Со дня начала осады Хельги уже не раз с ним встречался. Сейчас хазарин был без оружия, лишь с однолезвийным мечом у пояса, но по бокам его стояли несколько человек в полном вооружении. И при них Иегуда. Когда Хельги приблизился, щиты приподнялись, из-за них выразительно выглянули жала мечей.
– Мне сказали, что мою жену увели люди Элеазара, – Хельги остановился перед Шмуэль-тарханом. – Я хочу говорить с ним. По какому праву он похищает свободную замужнюю женщину?
Иегуда перевел его слова хазарину.
– Оружие оставьте, – Шмуэль-тархан кивнул на своих людей.
– Почему?
– Чтобы не вышло какой потасовки в доме тудуна. Вас же всего четверо – это благоразумно с твоей стороны, – так что оружие вам и не сильно поможет в этом деле.
Хельги кивнул и снял перевязь с мечом. Его люди отдали топоры, и Шмуэль повел их внутрь.
Богатый дом, целиком сложенный из беловатого ракушечника и покрытый не соломой или морской травой, а плоской глиняной черепицей, состоял из нескольких частей: по сторонам помещения для челяди, жилые покои для женщин, а в середине – самый просторный покой, богато убранный коврами и медными светильниками. Там русов ожидал Элеазар, здесь же сидели с десяток городских старшин, в том числе и Рафаил. Лица были разными: скуластые степняцкие, носатые греческие, узкоглазые хазарские, более красивые – аланов и касогов. Пестрели шелковой отделкой богатые греческие кафтаны – с мелкими пуговками посередине, и хазарские – с прямым запАхом.
Хельги вошел один: троих его спутников задержали у входа. При нем не было даже поясного ножа, однако стражи возле сиденья тудуна выставили щиты, а другие нацелили на него копья и даже луки.
Элеазар был одет в кафтан целиком из шелка – желтый, с зелеными крылатыми птицами; шапка его тоже напоминала шлем из красного узорного шелка. Сидя, он опирался на однолезвийный меч в богато отделанных серебром и самоцветами ножнах. Нынешнему тудуну было не более двадцати пяти лет; это был стройный, весьма красивый человек с тонкими чертами лица и довольно светлой кожей. Даже глаза у него были не карие, как у большинства соплеменников, а серо-голубые. Видимо, он принадлежал к той части хазарской знати, которая на протяжении поколений брала в жены самых красивых пленниц – славянок, гречанок, аланок, – и в конце концов начала походить на них и внешностью.
– Здравствуй, Элеазар! – Хельги с презрением оглядел клинки и наконечники, нацеленные на него со всех сторон, и протянул к тудуну пустые ладони. – Почему ты встречаешь меня как врага, как будто это я силой захватил и увел из дома твою жену! Мои люди сказали, что моя жена – у тебя. Что это значит?
– До меня дошла весть, что твоя жена ранее была женой того военачальника, который сейчас осаждает Самкрай. Это правда?
Элеазар пристально взглянул на стоявшего перед ним рослого идолопоклонника. Не зная закона Божьего, они навлекают беды на себя, а с тем и на других. Верно было сказано: горе злодею, горе и соседу его! Элеазар сердился на Хельги, из-за распутства которого весь город подвергся такой опасности, но старался этого не показать. Все-таки под началом руса шесть десятков хорошо вооруженных, опытных в сражении бойцов; очень полезно иметь их на своей стороне, но будет беда, если страже тудуна придется драться с ними внутри переполненного города. Драка приведет к всеобщему смятению, давке, а к тому же уменьшит число защитников, возможно, и на сотню человек. И сама по себе может послужить для врага поводом к приступу. Элеазар стремился избежать этого, потому не менее самого Хельги желал, чтобы тот вернулся к своим людям живым и невредимым. И по возможности – не став из союзника врагом.
– Это правда, – подтвердил Хельги. – Я не похитил ее, она передана мне с согласия родни. Этот человек не имеет на нее никаких прав. А вот ты, господин, совершил похищение свободной замужней женщины. Ты оскорбил меня, а ведь я был готов с моими людьми сражаться за тебя! Неужели именно сейчас, когда у ворот стоит наш общий враг, тебе понадобилась чужая жена! Или у тебя нет своей? А я ведь слышал, что поклонники вашего бога стараются не причинять незаслуженного зла другим людям! Неужели ваши законы не охраняют приезжих от таких случаев?
– Законы… – проворчал Элеазар. Этот идолопоклонник еще будет учить его законам! – У войны свои законы! По твоей вине это войско явилось сюда и напало на нас, вместо того чтобы напасть на греков и тем предотвратить их набег на Каршу! Теперь этот Асмуси требует двадцать тысяч динаров – Всесильный Бог, откуда мы возьмем ему такие деньги! Он думает, мы тут чеканим золотые из морского песка? Мы не можем собрать даже и половину! И чтобы он не погубил невинных людей, лучше отдать ему то, за чем он сюда явился.
– Ты хочешь выдать мою жену Асмунду? – Хельги в негодовании шагнул вперед.
Острия копий почти уперлись в его грудь, прикрытую только льняной сорочкой и льняным же хазарским кафтаном, но он будто не заметил.
– Да! Сегодня же она будет выведена за ворота и передана, с условием, что русы снимут осаду и уйдут. Тем самым мы сохраним жизнь людей в городе, и твою в том числе. Не будь глупцом и не теряй жизнь заранее. У нас втрое больше людей. Вздумай драться – и погибнешь прямо сейчас. Но если ты проявишь благоразумие и останешься в живых, то потом сможешь отыскать себе другую жену, не хуже.
– Даже трех жен! – добавил Раби Булгарин.
– Но, чтобы ты не счел меня грабителем, я готов возместить тебе потерю прямо сейчас, – продолжал Элеазар. – Я дам тебе трех молодых рабынь взамен этой женщины.
Он сделал знак, стража у стены расступилась. Раздался легкий звон стекла и меди: поднялись на ноги три молодые женщины, сидевшие до того на полу на кошме. Смуглокожие, чернобровые, на взгляд Хельги, они были не так уж красивы, а одна носатым лицом с грубыми чертами и вовсе напоминала ворону. Тем не менее они были молоды, стройны, на тонких руках звенели стеклянные браслеты. Иные из старейшин на скамьях издали одобрительные возгласы.
Хельги окинул девушек долгим оценивающим взглядом. Не шутя представил, что может с ними сделать, дабы утешиться в своей потере, чтобы эти мысли отразились на лице. А потом презрительно скривился.
– Рабынь? – Он перевел взгляд на Элеазара. – Ты предлагаешь мне этих рабынь вместо свободной женщины, белой, как лебедь в небе? Которая могла родить мне сыновей, достойных наследников моего имени и достояния? Рабыни эти годны лишь… известно для чего, но как они заменят мне жену?
– Если все пойдет хорошо и Асмуси уберется от города, мы подыщем тебе и жену, – вступил в беседу грек Исидор, глава христианской общины. – У многих уважаемых людей в городе есть дочери. Правда, не всякий отец отдаст дочь за идолопоклонника… но, к примеру, у печенегов или хазар-тенгрианцев нет причин уклоняться от родства с тобой. А там есть очень уважаемые люди… к примеру, Сабанай, – он кивнул на одного из сидящих на длинной скамье.
– Почему именно я? – откликнулся плосколицый, рыжебородый Сабанай, торговец лошадьми. – Может быть, уважаемый Хелгу захочет принять вашу веру, как многие русы до него. Тогда и вам будет не зазорно породниться с ним!
– Если он примет нашу веру и познает единого истинного Бога, то сможет рассчитывать на очень хорошее родство и положение! – добавил Элеазар, взглянув на самого Хельги. – Пока же мы предлагаем ему вполне достойный выкуп за потерю жены… возможно, временную. Ведь когда Асмуси уйдет от города, ты сможешь попытаться вернуть ту женщину…
«И больше никогда уже сюда не войдешь!» – эту его мысль Хельги услышал и понял без помощи толмача.
– Молю тебя, соглашайся! – добавил вполголоса переводивший эту беседу Иегуда. – Подумай о своих людях, подумай о нас и наших родичах! Если ты поссоришься с тудуном, то погибнем и мы все, пропадут наши невинные жены и дети! Я знаю, у вас считается доблестным и почетным пасть в сражении, но зачем тебе тянуть с собой нас, мирных бедняков!
– Я не хочу погибнуть сейчас, пока жена моя в руках чужаков, – угрюмо ответил ему Хельги.
– Хорошо! – громче добавил он, обращаясь к Элеазару. – Я беру этих трех рабынь. Когда Асмунд снимет осаду, я пойду за ним следом. Но ты, господин, должен пообещать мне при всех этих свидетелях, что, если мне не удастся вернуть мою жену, ты поможешь мне подыскать другую – молодую, хорошего рода и с приличным приданым. А насчет веры… я посмотрю, родство с какими людьми понравится мне больше, тогда и выберу бога.
Элеазар вздохнул с облегчением. Эти русы боевиты и отважны, но не только отвагу свою, а и душу охотно продают тому, кто больше заплатит.
– Жив Господь! – кивнул он.
– Возможно, сам Бог послал тебе это испытание, чтобы в конце наградить тебя не только женой и богатством, но и долей в будущем мире! – добавил Рафаил. – А это, поверь мне, дороже всех жен в этом городе!
С тремя хирдманами, ведущими трех рабынь, Хельги вышел из дома тудуна. За порогом им вернули оружие. Парни пересмеивались по дороге по поводу взятой добычи. В душе Хельги тревога мешалась с облегчением. Все еще не закончилось – по-настоящему, только начиналось. Но он сумел остаться в живых и на свободе, без чего весь замысел с похищенной женой пропал бы даром. Важно было показаться возмущенным, но не слишком, чтобы не очутиться в узилище именно тогда, когда пришло время действовать.
Элеазар и его приближенные видят в нем идолопоклонника, которого легко купить молодыми девками и посулами насчет далекого будущего. Ну, что ж – они купили именно то, за что торговались.
* * *
Повидаться с Хельги Пестрянке не позволили. Ее привели в дальнюю часть дома, откуда она не могла ни видеть, ни слышать происходящее на дворе и в передних покоях. Видимо, это были помещения для женщин: кругом пестрые коврики, мягкие подушечки, медные кувшинчики и чаши, бронзовые светильники, резные лари. В оконца были вставлены пластины, как ей показалось поначалу, тонкого, почти прозрачного зеленоватого льда. Изумленная, как он не тает на такой жаре, Пестрянка прикоснулась к нему кончиками пальцев: нет, не мерещится! Лед был гладким и теплым. Да это же стекло, сообразила она вдруг – на Свенельдовом дворе в Киеве она видела бокалы из точно такого же зеленоватого греческого стекла. Но кто бы мог подумать, что им закрывают оконца! Должно быть, зимой удобно: и светло, и тепло не выходит.
Куда дели хозяек этой клети? Испугались, что жена сразу двух русов их покусает? А впрочем, на каком языке она стала бы с ними разговаривать?
Стоя под оконцем, Пестрянка прислушивалась изо всех сил. Но оно выходило в сад, на персиковые деревья и яблони с зелеными мелкими в эту пору плодами, обвитые плетями тоже незрелого винограда, и кроме шума ветра, до нее не долетало никаких звуков. От чуждости всего вокруг, одиночества и тревоги болело сердце. Посреди жаркого дня ей было неуютно, словно в одной сорочке на осеннем ветру. Больше всего на свете она сейчас хотела оказаться рядом с Хельги – и не важно, опасно ли это. За свою участь Пестрянка не боялась: если уж тудун, как ожидалось, прислал за ней людей, значит, наживку хазары заглотнули и все пойдет по тому хитрому замыслу, который породили княгиня Эльга и ее первый советчик, а потом додумал вместе с ними сам Хельги. Хазары обращались с ней почтительно, однако снаружи у двери стояли сразу двое вооруженных тудуновых отроков. Просто на всякий случай. Куда она побежит – в незнакомом, чужом, осажденном городе, где никому, кроме своих, даже не может сказать понятного слова?
Правда, они, вероятно, ждут, что Хельги придет за ней во главе своих шести десятков.
Открылась дверь, и Пестрянка вздрогнула всем телом. Вошел хазарин и положил перед ней широкое блюдо – хлеб, овечий сыр, сушеные смоквы. Поставил кувшинчик. Поклонился и ушел. Но у Пестрянки от испуга так колотилось сердце, что она лишь отпила немного вина, разведенного водой, а на еду ей и смотреть не хотелось.
Чуть позже она заставила себя поесть. Не ела она с самого утра – но и тогда ей от волнения предстоящего ничего не лезло в горло, – и ее уже начинало мутить от голода. А силы ей, наверное, понадобятся. Она не представляла, чем может кончиться для нее сегодняшний день. Возможно, он весь уйдет на советы и переговоры, тогда ей придется переночевать здесь, на этих коврах и подушках. Закрыв глаза, она сидела на низкой лежанке и думала о Хельги – его образ придавал ей сил.
И едва она успокоилась, как дверь открылась снова. Вошел Ханука и поклонился:
– Госпожа! Идем со мной.
– Что происходит? – Пестрянка встала, прижимая стиснутые руки к груди. Он волнения ее трясло, и она не скрывала этого – всякую трясло бы на ее месте. – Где мой муж?
– Он был здесь и ушел.
– Ушел?
– Они поговорили с Элеазаром и пришли к соглашению.
– Какому еще соглашению?
– Хельги согласился, что ради всеобщего спасения ты вернешься к твоему первому мужу… – Ханука вскинул руки, видя, как раскрылись ее глаза, – временно, госпожа, только до тех пор, пока Асмунд не снимет осаду и не уведет отсюда свое войско. Тогда твой… – бедный купец сам не знал, кого из двух русских воевод сейчас надлежит называть мужем Пестрянки, – тогда твой господин Хельги пообещал последовать за тобой и вернуть. Взамен ему были даны… э… возмещение за его потери и неудобства…
– Какие еще возмещения? – Пестрянка едва не добавила «йотуна мать».
– Достойные! Также и тебе Элеазар и его семья поднесли подарки. Вот они.
Они уже вышли в переднюю часть дома, где Элеазар собирал старейшин на совет. Сейчас здесь оставалось не много людей, но сам господин сидел на своем месте в окружении стражи.
– Вот! – Ханука указал на сундук, и слуга открыл его. – Посмотри! – Купец вынул отрез двухцветного шелка и развернул; перед глазами засверкали синие птички, тяжеловесно порхающие по коричневато-золотистому полю среди резных листиков. – Это тебе! И вот это покрывало тебе! И вот это египетское ожерелье тебе! И вот эти серьги с эмалью, от лучших мастеров Крита, – любая жена в этом городе отдаст два зуба за такие серьги! И вот это греческое блюдо – сама царица ест с такого! Если не похуже!
Пестрянка в недоумении смотрела на сундук. Что он ей показывает? Зачем? Нахваливает, будто в лавке на торгу сидит – не думает ли этот спятивший от всех тревог жидин, что она сейчас будет у него покупать серьги и блюда?
– Все эти вещи мы подарим тебе, – раздался голос Элеазара. Ханука умолк, но тут же торопливо перевел речи тудуна. – Если ты будешь благоразумна и исполнишь волю твоего мужа.
– К… какую волю? – пробормотала Пестрянка, подавив первый порыв спросить: «Какого мужа?»
– Твой… господин Хельги пожелал, чтобы ты вышла к господину Асмуси и была покорна ему. За свое благоразумие он получил достойные дары. А это получишь ты, если последуешь его примеру, как подобает хорошей жене.
– Так он что же… продал меня за дары?
– Он спас свою жизнь! – нахмурился Элеазар. – Вздумай он противиться, я приказал бы убить его на месте! Прямо здесь! – Он в гневе показал пальцем на глинобитный пол перед своим сиденьем. – Вы навлекли на Самкрай это несчастье! Покорность и благоразумие – вот единственное, чем вы можете исправить зло и заслужить прощение! Чего ты боишься, глупая женщина? Ты пойдешь к мужу, который так любит тебя, что ради тебя изменил господину! И еще получишь такие подарки, какие я дал бы своей сестре, выдавая ее замуж за достойного человека! А если тебе так уж дорог твой… здешний муж, то знай: своей покорностью ты спасешь его жизнь! Я прикажу убить вас обоих, если наша сделка не состоится, понимаешь ты?
– Пора идти, господин! – сказал Шмуэль-тархан. – А не то те русы решат, что мы передумали, и еще сильнее обозлятся.
– Ступайте! – Элеазар махнул рукой.
Высокий, грузный Шмуэль придвинулся к Пестрянке.
– Слушай, женщина! Если ты пойдешь сама, то мои люди понесут за тобой вот эти вещи! – Он ткнул пальцем в сундук. – А если ты вздумаешь упираться, то они понесут тебя, а это цветное тряпье и всякие позвякушки останутся здесь. Потому что я, – он для наглядности показал пальцем себе в грудь, – их не понесу!
– Пойдем, госпожа, молю тебя! – Ханука легонько прикоснулся к ее локтю, подталкивая к выходу. – Если мы не успеем дотемна, сегодня ничего не выйдет, в сумерках ворота отворять нельзя.
По городу Пестрянку вели, закутав с головой в покрывало, и еще четверо тудуновых стражей шли по бокам, спереди и сзади, прикрывая ее щитами. Предосторожность была не лишней: по городу уже разнесся слух, что русы пришли за беглой женой своего военачальника, и вот ее собираются им выдать. Горожане и беженцы не столько радовались, что есть средство спасения, сколько негодовали: всю дорогу Пестрянка слышала возмущенные крики толпы, несколько раз в щиты над ее головой ударило что-то – видимо, комки навоза и незрелые яблоки. Она не понимала ни слова, но догадывалась, что честят ее последними словами. Надо думать, в глазах жидинов и христиан она – распутная жена из бесед вероучителей, навлекающая всякие беды на свой город.
Но вот это не волновало Пестрянку ни на волосок. Жалела она лишь о том, что из-за покрывала и щитов не может оглядываться по дороге. Она не знала, где сейчас должен быть Хельги, будет ли он провожать ее, попытается ли увидеть напоследок – но очень хотела увидеть его, даже понимая несбыточность этих желаний.
Привели ее к уже знакомым воротам – Мытным. Сам мытный двор уже давно, в первый же день, был занят русами Асмунда – им не составило труда преодолеть невысокую стену, которая всего лишь защищала от воров купеческий товар, не успевший до ночи пройти досмотр. Перед воротами громоздилась куча перевернутых повозок, пара срубленных деревьев, засыпанных битыми глиняными кирпичами. Все это немного отодвинули, чтобы освободить узкий проход к щели между створками. И наверху, на стене и башне над воротами, и вокруг ворот толпилось не менее сотни вооруженных хазар. Два десятка лучников держали луки наготове.
Глиняная и каменная крошка скрипела под ногами. Когда Пестрянка с Ханукой и стражей приблизилась, десятник глянул вверх и что-то крикнул; ему ответили с башни. Он сделал знак. Его люди вынули засовы, навалились, сдвигая тяжелую створку наружу. Когда щель раскрылась на ширину трех ладоней, десятник взял Пестрянку за плечо и выпихнул за ворота.
Она оказалась в уже знакомой длинной пещере: через нее они попали в город в день приезда. Но сейчас здесь было темно, как в настоящем подземелье: ведь наружный выход был закрыт. Пестрянка попятилась в испуге, вскрикнула, метнулась назад: казалось, сейчас ее замуруют в каменном мешке внутри стены, отрезав оба выхода наружу.
Хазары тоже сообразили, что одна она не выберется; стражи обменялись несколькими словами, в голосах их звучала досада. Потом створку открыли шире, и весь десяток, приведший Пестрянку, тронулся в черноту. Ее вели позади. Она шла на ощупь, спотыкаясь о неровности плит. Единственный источник света остался за спиной, а впереди царила глухая тьма. Но вот там послышался стук: стражи вынули засов внешних ворот, и между створок блеснул свет. Кто-то, неразличимый в темноте, вытолкнул Пестрянку в сияние солнечного дня.
Перед ней оказался мытный двор. Сейчас там было пусто – лишь разбросанный навоз, всякий мусор и щепки от разбитых ворот складов. Собранная в последние дни перед набегом десятина уже переместилась в русские лодьи. На противоположном конце, у ворот, стояли, прикрывшись щитами, человек пять в варяжских шлемах.
– Иди, иди! – крикнул кто-то за спиной Пестрянки.
Она пошла вперед, не оглянувшись. Черная пещера позади казалась частью того света, с которого она чудом вырвалась живой, но было страшно, хотелось поскорее пересечь это пустое пространство между живыми и мертвыми. В груди повисла холодная пустота; будто Навь, отпуская ее тело, оставила себе душу. Ворота позади нее уже закрылись, скрежет и грохот засовов звучали так, словно упустившая ее Марена с досады скрежещет своими железными зубами. И Пестрянка побежала, забыв о том, что ей полагается бояться Асмунда сильнее, чем оставленного за спиной; так и мерещилось, что пасть стены рванет вслед за ней и вновь поглотит.
Лица русов, ждавших ее у ворот двора, казались знакомыми, но она не помнила никого по именам. Когда ей оставалось шагов десять, двое устремились вперед. Она в испуге застыла; двое хирдманов забежали ей за спину, сомкнули щиты и подтолкнули ее.
– Шагай вперед! – сказал один.
– Гакк! – поддержал второй.
Они вышли за разбитые ворота мытного двора и двинулись к стану. Здесь уже толпилась сотня человек – ее ждали и все хотели видеть ее появление. От толпы отделилось несколько человек, и вот тут Пестрянка различила в гуще людей Асмунда: он выделялся среди хирдманов благодаря шлему с богатой позолоченной отделкой и красному плащу.
Он первым подошел к ней, глянул на нее, потом на стены Самкрая.
– Будь жива! – сказал он, нарочито хмуря брови под шлемом. – С тобой все хорошо?
– Да. – Пестрянка опустила голову.
– Идем!
Асмунд взял ее за руку; Пестрянка невольно вырвала руку и попятилась.
– Да идем же, боги, что я тебе сделаю! – проворчал Асмунд. – Они там все со стены пялятся на нас!
Он снова взял ее за руку и потащил к шатрам. Пестрянка оглянулась, но заметила на стенах лишь островерхие шлемы хазарской стражи.
Сердце упало: эти стены от земли до неба казались ледяной горой, что навек отрезала ее от Хельги. Он остался там – в черном царстве Марены.
* * *
Вытянув ноги перед собой, будто отдыхающая на поле жница, Пестрянка сидела на кошме – единственная женщина среди полутора десятка зрелых мужчин. Они сошлись в Асмундов шатер, когда стемнело, чтобы хазары на стенах не увидели этого собрания. И слушали ее, ловя каждое слово. Посередине стоял глиняный светильник, огонек опущенного в «земляное масло» фитилька позволял различить сосредоточенные бородатые лица.
Это было так непривычно, что казалось нелепым. Пестрянка стыдилась бы этого неподобающего женщине поведения, но утешалась тем, что эти люди слушают вовсе не ее речи. Это Хельги говорит с ними. Это он рассказывает им, вождям славянских и русских дружин, составлявших войско Асмунда, где завтра ночью должен будет находиться каждый из отрядов городского ополчения и что им, русским воеводам, делать сразу после того, как они войдут в Самкрай.
А перед тем, как они туда войдут, Хельги придется сделать самое трудное.
Оказалось, что тайный выход из города со стороны оврагов они уже нашли: Асмунд каждую ночь посылал ловких парней осматривать стены вблизи. Кое-кто из русов сам имел опыт взятия укреплений в Бретланде или Стране Франков или слышал от старших, и они были уверены: подобный выход просто обязан быть. Но от этой находки было мало толку без знания того, что ждет по ту сторону «калитки». Она ведь могла оказаться просто заложена камнем изнутри.
– Я только вот чего боюсь, – сказала Пестрянка Асмунду, когда воеводы выслушали ее и разошлись готовить своих людей. – Хазары не насторожатся, если до завтра не увидят, что вы собираетесь уходить? Или вы будете собираться?
– Нет, – Асмунд усмехнулся. – Я когда с Егудой о тебе договаривался, мы условились, что я уведу войско через пять дней.
– Почему?
– Чтобы убедиться, что меня с тобой не обманули.
– Но как они могли обмануть? – удивилась Пестрянка. – Ты же видишь, что это я!
– Они могли отравить тебя перед тем, как выдать. Каким-нибудь медленным ядом. Говорят, греки по этой части великие хитрецы.
– Не… ой!
Пестрянка вдруг вспомнила вино и сыр, которыми ее угощали в доме Элеазара. В груди разлился холод. А что, если… зачем она это пила и ела, не хотела ведь! Кажется, у вина был неприятный привкус, поэтому она и глотнула лишь два раза. Но Хельги говорил, греки в вино добавляют сосновой смолы и еще какой-то белой пыли, чтобы не скисало. И откуда ей знать, какой вкус должен быть у правильного вина?
Хазары легко могли бы погубить ее. Кто она для них?
И ладно бы, если только хазары…
– Ложись, – Асмунд кивнул ей на кошму у стенки шатра. – Поздно уже.
Пестрянка пристально посмотрела на него.
К своему первоначальному удивлению, после развода она очень быстро перестала смущаться при виде Асмунда, и уже зимой видела в нем лишь родича – двоюродного брата своего мужа. «Ничего удивительного! – сказал ей Хельги, когда она поделилась с ним. – Ты была его женой всего неделю, не успела ни узнать его по-настоящему, ни привыкнуть к нему. К тому времени как мы приехали в Киев, ты меня уже знала куда дольше и лучше, чем его. А потом просто все стало так, как и должно быть».
С тех пор Пестрянка обращалась с Асмундом, как со всяким родичем. И лишь вспомнив порой, что этот человек – отец ее ребенка, испытывала тайное смятение и стыд, как если бы родила дитя от брата. И этим не делилась ни с кем.
– Да я тебя не трону! – Он по-своему понял ее взгляд. – У нас тут девок сколько хочешь… Или давай из парней кого позовем, чтобы Хельги потом не думал, что ты была тут со мной вдвоем.
– А что я была в шатре сразу с многими парнями, думаешь, его успокоит? – Пестрянка в задумчивости подтянула ноги и обняла колени. – Знаешь, Хельги сказал мне кое-что…
– Что? – Асмунд взглянул на нее.
– Что мы должны быть отважны перед богами и судьбой. Мы должны достойно пройти свой путь, а если на нашу отвагу люди ответят предательством, то ваш Один спросит за это с них. Один не любит предателей, как и трусов.
– Ну… – Асмунд не понял, к чему это. – Все правильно сказал.
– Ты тоже думаешь, что Один не любит предателей?
– А кто же их любит?
Пестрянка смотрела ему в глаза, но видела там лишь некоторое недоумение. Нет. Асмунд не такой человек. Но в войске могут быть совсем другие люди. Не состоящие с Хельги в родстве и лишь исполняющие приказ тех, кому он мешает.
Однако что она могла сделать? Поделиться своей тревогой с Асмундом означало без прямых оснований обвинить Ингвара, Мистину, даже Эльгу – их ближайших родичей и вождей всей руси.
– Как по-твоему, – не в силах молчать, Пестрянка снова взглянула в глаза Асмунду, – это был честный уговор?
– Какой? – Асмунд отвел взгляд, и ее тревога вспыхнула с новой силой.
– То, что Хельги получил меня и войско, а взамен…
Она запнулась, сообразив, что Асмунд ведь тоже может не знать о сути того уговора.
– Обещал убраться из Киева и больше ничего не требовать? – докончил он.
– Да…
– С чьей стороны – честный?
– Ну… – теперь уже Пестрянка отвела глаза. – Их…
Не поворачивался язык обвинить княгиню и ее соратников перед Асмундом, который был с ними очень близок в те три года, которые она, тогдашняя жена, прожила от него на другом конце света.
– Слушай! – Асмунд придвинулся к ней ближе. – Мы с тобой мало что в их игрищах понимаем. Ну и нечего нам лезть не в свое дело. Мы все – кровные родичи. Я, Хельги, Ингвар и Свенельдич. Даже сам Свенельд – родной дед моих родных сестричей. Я ему доверяю, потому что родне надо доверять. Ты погляди, – он махнул рукой в сторону стенки шатра, – здесь кругом наших шестьсот человек, а из них кровной родни нам с тобой – никого! Все чужие! А рядом – хазары, то и вовсе… я не знаю, люди они ли кто. Разве так мы с тобой раньше жили – ну, дома? Там незнакомого искать будешь целый день, а кого найдешь – со всяким можно дедами посчитаться, и отыщется кто-нибудь.
– Тогда проще было! – вырвалось у Пестрянки.
– Ну, проще. Только как тогда было, уже у нас не будет. Надо среди чужих приучаться как-то жить. И верить родне, потому что иначе, выходит, верить вовсе некому. И как быть? Если я дурак, что своякам верю – ну, пусть я буду дурак. А они тоже знают, что Один не любит предателей. Вот скажи мне: Хельги будет выполнять то, что обещал?
– Да! – Пестрянка вскинула на него глаза. – Он честный человек!
– Ну, так и другие тоже не в дровах найдены. Давайте каждый честно выполнять то, за что взялся, а в остальном на судьбу положимся. Пока Красный делает, что обещал, и не пытается разваливать то, что свояки строят, ему и бояться нечего.
– Хельги делает, что обещал! И он ничего не боится!
– Так чего ты мне здесь… мозгу толчешь?
– Это я боюсь, – со стыдом пробормотала Пестрянка и отвернулась.
– Ну и глупая баба.
Она улеглась на свою кошму, покрывшись мафорием с головой. Одеяла жаркой ночью не требовалось, но комары над ухом жужжали.
А ведь Асмунд прав. Пока Хельги честно выполняет уговор и молчит о том, о чем обещал молчать, с чего ему опасаться предательства своей же родни? Это то же самое, что и он ей сказал. Будь отважен, а за чужое зло с тебя боги не спросят.
– Йотуна мать! – вдруг сказала Пестрянка, уже закрыв глаза.
– Что такое? – со своей кошмы спросил Асмунд.
– Эти морды верблюжьи оставили себе мой сундук! А там, чтоб ты знал, был греческий шелк, египетские ожерелья и критские серьги!
– Ты носишь серьги? – Асмунд в удивлении даже поднял голову.
– Нет. Но они – ворюги подлые!
– Ладно. – Он снова лег. – Считай, что весь Самкрай – сундук с добром, и скоро он будет наш!
Глава 14
Следующий день прошел, как и прежние. В Самкрае жители и беженцы молились каждый своему богу с удвоенной силой, воодушевленные надеждой на скорое избавление. Русы забрали сундук с добром, который никто не решился вынести из крепости вслед за женщиной, выменяли в харчевне эмалевые критские серьги-полумесяцы на десять амфор вина, отшибли им горлышки, и всю ночь из склада, где они жили, доносилось пение.
Утром часть дружины под началом Раннульва вышла, как и полагалось, нести стражу на рынке. Лица были помятые, но спокойные.
Те русы, что снаружи, тоже вели себя обыкновенно: часть их рыскала по окрестностям и пригнала несколько лошадей, остальные сидели в стане. Постепенно стемнело. Горели костры перед шатрами. От костров доносилось нестройное пение на непонятном никому в Самкрае языке.
Хельги со своими людьми вышел вечером, чтобы нести стражу на овражной стене. Вид у него был, как и подобает человеку, который сутки пил неразбавленное вино.
– Вижу, ты не очень-то здоров сегодня! – Грек Антонис, которого он сменял, сочувственно похлопал его по плечу. – Думаю, тебе куда больше хотелось лежать в прохладе, чем тащиться на проклятую стену!
– Тело говорит: лежи подыхай, а дух воина говорит: вставай и иди! – прорычал Хельги. – Это и есть дружинный дух, и изменить ему меня не заставит ничто! Ни вино, ни бабы, ни сама Хель!
Антонис не понял, кто такая Хель, лишь засмеялся и пошел прочь. Русы растянулись по стене, вглядываясь в темноту внизу, где не так уж далеко виднелись костры вражеского стана.
– Мы катали медведя́… – доносилось оттуда.
Всходила луна – до полнолуния оставался всего день. И если при ее свете русам со стены и привиделось, будто внизу что-то тускло поблескивает, навроде бликов на верхушках шлемов, а кусты в оврагах как-то уж очень сильно шуршат, то они оставили эти странные наблюдения при себе.
Настала полночь, все стихло. Улица, примыкавшая к городской стене со стороны оврагов, была пуста: сюда не допускали беженцев с их повозками, пожитками и ослами, чтобы не мешали страже передвигаться. Поэтому никто не увидел, как из-за угла появились два десятка русов при полном вооружении. Даже шлемов у них вдруг оказалось больше, чем они показывали раньше. Это были люди Хельги, которым полагалось сейчас отдыхать; русы под началом Раннульва несли дозор на прилегающей крепостной стене над башней.
Мангуш постучал в дверь.
– Эй, молодцы! – закричал он по-хазарски. – Сермек! Срочный приказ от тудуна!
– Кто там? – послышалось изнутри.
Приоткрылось маленькое смотровое оконце, за ним блеснул свет внутри башни.
– Да я это, Мангуш! Пайтукан, ты? Шмуэль-тархан прислал человека, нужно его выпустить наружу!
Рядом с Мангушем стоял Ханука.
– Зачем это его надо выпустить наружу? – усомнился Пайтукан, один из дозорных внутри башни.
– Всемогущий Бог, а мне почем знать? – Мангуш присел и хлопнул себя по коленям. – У него приказ! Позови Сермека, пусть примет! Он же умеет читать! Я только знаю, что здесь печать тудуна и мне передал грамоту Шмуэль-тархан!
– Давай приказ в оконце!
– Нет! – возразил Ханука после короткого молчания, когда Мангуш толкнул его в бок. – Я не выпущу ее из рук! Шмуэль-тархан запретил отдавать ее кому-либо.
– Что за дурака прислали! – проворчали внутри. – Зачем такому ослу наружу!
Дверь приоткрылась.
– Давай при… – начал Сермек.
В тот же миг Рамби, скрытый от стоявшего внутри самой дверью, рванул ее на себя, а в проем прыгнул невесть откуда взявшийся Исольв. Сермек успел издать лишь хрип, когда нож вошел ему под дых, и упал под ноги.
Дверь распахнулась, и два десятка русов мгновенно оказались внутри. Как и ожидалось, стражей внутри башни было лишь двое; второй успел схватиться за свой меч, но не успел даже взмахнуть им.
– Вон она! – Взгляд Хельги тут же упал на деревянную, из толстых дубовых плах, обитую железом дверь в противоположной стене башни.
Теперь было дорого каждое мгновение. Хирдманы живо вытащили железный брус, служивший засовом. В это время Исольв, бегом поднявшийся на башню, дал знак, и люди Раннульва помахали со стены факелом.
Люди Асмунда устремились к башне.
Часть их уже ждала у самой двери снаружи. Едва она распахнулась, как внутрь просунулся чей-то щит и округлый нурманский шлем.
– Башня и стена наша, заходим быстро! – распорядился Хельги. – Вверх на стену, направо.
Обладатель нурманского шлема – Стейнтор Глаз – проскочил в дверь, быстро огляделся, при свете пары факелов увидел лестницу на стену и устремился к ней. За ним дружно топала Стейнторова дружина.
– Вверх на стену, налево! – приказал Хельги, когда вслед за Стенторовыми людьми появился Гудмар Чайка.
Русы бежали, как муравьи: нужно было как можно быстрее пропустить шесть сотен человек через дверь, куда одновременно могли с натугой пройти двое.
* * *
Еще сегодня вечером имевший в распоряжении лишь шесть десятков, Хельги стал вождем шестисотенного войска. Первым делом заняли стену. В каждой башне двое подчиненных тудуна стояли на страже, еще четверо сменных отдыхали. Все они выскочили на шум, но русы, сильно превосходившие числом, после короткой схватки порубили их и посбрасывали вниз, за стену. На каждой башне осталось по двое русов, по двадцать человек встало перед заваленными воротами, чтобы не подпустить к ним никого изнутри.
В разных местах зазвучали знаки тревоги: гул медного била, крики. Не считая тех, кто был на стенах, сотня ополчения ночевала в воинском доме тудуновой стражи, остальные были отпущены по домам. Каждый знал, куда ему бежать в случае тревоги и что делать, и теперь из дверей сыпались полуодетые люди, не успевшие обуться, сжимающие в охапке свое оружие и снаряжение. Но к тому времени бежать им было уже некуда: их места на стенах заняли русы, и враг оказался куда ближе, чем боспорцы рассчитывали – прямо на улицах, которые им требовалось миновать. Не ожидая встречи, многие напарывались на вражеские мечи, не успевали даже взяться за свои.
Русы разбегались по улицам от стены над оврагами, рубя всех, кто несся им навстречу. Ночь разорвали сотни криков – ярости, боли, ужаса, отчаяния. На улицах закипела суматоха и давка. Ни воевод, ни строя, ни понятия, чего делать: видя впереди блеск вражеских шлемов и клинков, одни из числа ополчения бросались вперед с безумной и безнадежной отвагой, другие в смятении поворачивали назад, в напрасной надежде спастись в глинобитных стенах своего дома. Кричали беженцы, оказавшиеся прямо на улицах, где разыгралось сражение; им было некуда деться, некуда спрятаться между кирпичных стен, а русы рубили всех, кто двигался, не разбирая, кто это и что пытается делать. Как всегда в таких случаях, на пройденных ими улицах оставались лежать десятки мертвых тел, раненые стонали среди кровавых луж. Шум нарастал и ширился, и вот битва шла почти по всему городу одновременно – кроме тех мест, где уже закончилась.
Во главе отряда из двух-трех сотен человек Хельги устремился к торговой площади, где стоял дом Элеазара – тот самый, куда вчера пришел всего с тремя спутниками. Там он ожидал настоящего сопротивления – и не ошибся. Шмуэль-тархан успел поднять, одеть и вывести из воинского дома сотню тудуновой стражи, и Хельги столкнулся с ними еще в конце главной улицы, ведущей от ворот к торговой площади.
Здесь началось настоящее сражение. Ближняя дружина Элеазара была дополнена ополченцами, куда хуже вооруженными и выученными, но под толковым руководством Шмуэль-тархана и самого Элеазара и они проявили стойкость. Но хазарские воины сильны в седле, вынужденные же сражаться пешими и в тесноте города, они уступали русам, привыкшим именно к пешему строю. Хазарские щиты, меньше по размеру и менее прочные, не выдерживали удара меча или топора.
Постепенно стражу вытеснили с улицы на площадь и прижали к воротам тудунова двора. Из темноты полетели и стрелы, но больше для устрашения: противники уже сошлись слишком плотно, чтобы знаменитые хазарские лучники могли прицелиться, тем более при свете луны. Чтобы отличить своих от чужих, Хельги заранее приказал русам обвязать правое предплечье белым лоскутом; каждый кричал имя своего бога, дабы не попасть под клинки своих же. И белые лоскуты мелькали все ближе к воротам: русы теснили стражу. Прижали к стенам и створкам, потом ворвались во двор. Перед входом в дом пали последние его защитники. Когда русы, поскальзываясь в лужах крови на мощеном дворе, наконец вошли, внутри не оказалось уже никого из воинов – лишь женщины и забившаяся в углы безоружная челядь.
Никто не знал, где Элеазар. Хельги приказал искать его, но в темноте, при свете факелов, десятки трупов на площади и во дворе казались лишь грудами беспорядочно сваленной мятой одежды.
Нашли его, только когда рассвело и стало можно разглядеть лица. Не будучи очень хорошо с ним знакомы, русы выбрали из груды тел и принесли к Хельги троих – молодых хазар с тонкими чертами, и еще одного, у кого удар широким лезвием ростового топора пришелся поперек лица и сделал опознание невозможным. К счастью, Хельги узнал Элеазара в одном из трех тел со смертельными ранами в других местах. Тот был едва одет, в ночной суматохе успел натянуть кольчугу прямо на сорочку, но ему подрубили ногу под коленом, а потом нанесли смертельный удар топором в основание шеи. Никто не знал, чьи руки это сделали, и никто не решился приписать себе эту заслугу.
* * *
К рассвету голову Элеазара выставили на шесте на торговой площади. Наступившее утро открыло взорам ужасное зрелище: по всем улицам валялись трупы, а перед домом тудуна – около сотни. Ночью русам было не до пленных, и они убивали всех, кто стоял к ним лицом с оружием в руках. Лишь часть ополчения успела разбежаться по домам; женщины с детьми прятались в ямы для припасов. Многие пытались вырваться из города, но это оказалось невозможно: ворота по-прежнему были завалены, но теперь их охраняли русы. На стенах тоже везде стояли они. Все из пришельцев, кому не хватало шлема или доспеха, успели снарядиться за счет добычи, причем в темноте никто не успел отчистить эту добычу от крови; у иных бармица или кольчуга оказалась с прорехами, на железных колечках засохла кровь, что придавало русскому войску вид восставших мертвецов.
Пестрянка пережидала эту ночь в скутаре, на некотором отдалении от берега. Асмунд велел посадить ее туда: уводя всю дружину в город, он мог оставить для охраны женщины не более десятка человек, а неприятностей можно было ожидать от кого угодно: от пленных, которых стало некому охранять, от прорывающихся из города воинов или жителей. На пленных махнули рукой: их и брали больше для отвода глаз, но теперь, после захвата города, в руках воевод оказалось в сто раз больше полона, чем они смогли бы увезти.
Всю ночь Пестрянка изводилась от беспокойства, напряженно прислушиваясь к шуму внутри города. Утром, когда рассвело, на стене показался Альгот и призывно замахал.
– Город наш! – объявил Альгот, встречая их у причала. – Идем, хозяйка, я отведу тебя к конунгу.
Пестрянка не сразу поняла, о ком он говорит, хотела переспросить. Но сообразила: поскольку Хельги принадлежал к княжескому роду Вещего, имел под началом целое войско, да еще и захватил город, хирдманы между собой наградили его званием конунга. Того парня с усталым лицом и спутанными волосами, который когда-то ходил с ней под дождем в лес, неся на плече короб с припасами для Буры-бабы… И Пестрянка с новым чувством взглянула на башню Самкрая – как на свою новую державу, где будет править. И засмеялась, зажимая себе рот рукой. Править! Тоже, княгиня – внучка деда Чернобуда!
Вид города живо прогнал неуместную смешливость. Альгот пришел за ней с тремя десятками хирдманов, и это было не лишним. Везде валялись тела. Все оружие и снаряжение стражников русы собрали в первую очередь, еще до исхода ночи, но попадались среди мертвецов и женщины, и явно не способные к бою бедняки в драных кафтанах, кто просто оказался на пути губительной лавины. Горожанам уже объявили, что никто не покинет Самкрай, пока Хельги конунг не определит выкуп за их жизнь, свободу и имущество. Вид выставленной на шесте головы тудуна убеждал, что власть и правда сменилась. Тем не менее люди постоянно пытались прорваться наружу, с имуществом и с пустыми руками, но их всех отгоняли от ворот копьями, и кое-кто в давке лишился жизни.
Богатые дома уже были захвачены и разграблены. Всю добычу несли в дом тудуна, куда вели и Пестрянку. Но она не слишком стремилась смотреть по сторонам: ей не терпелось увидеть Хельги. Альгот уже заверил ее, что конунг жив, но беспокойство не проходило. Горожане под присмотром русов собирали трупы, и Пестрянка шла, закутав голову мафорием, чтобы в узкую щель видеть только дорогу под ногами и больше ничего. Но и так постоянно натыкалась на пятна крови, сохнущей на утоптанной земле.
И вот ее привели на двор – как и день назад, в сопровождении вооруженных воинов. Тела убрали, но пятна крови еще темнели на плитах песчаника. Пострадали даже деревья и виноградные лозы, ползущие по каменной стене к черепичной кровле. Внутри дома Пестрянка едва могла пройти: кухонные горшки расшвыряли и растоптали, а взамен успели натащить наспех собранной с самых богатых домов добычи. Больше всего было оружия: сваленные грудами чуть изогнутые однолезвийные мечи, пластинчатые хазарские доспехи и островерхие шлемы. Везде она натыкалась на сундуки и ларцы, на кучи цветного платья, ковров, бронзовой и серебряной посуды…
– Вот сюда, – Альгот открыл дверь в уже знакомое ей помещение. – Это у них женская клеть, но мы здешних баб вывели. Конунг велел тебе здесь побыть, а он придет, как будет время. Если тебе надо чего услужить, скажи, мы этих баб вернем.
У стены были свалены серебряные и позолоченные сосуды, светильники. В глаза бросился большой позолоченный крест с самоцветами и эмалью, широкое платье лилового шелка с вышитыми золотом и жемчугом крестами, большая книга в золоченом окладе, похожая на плоский ларец. Пестрянка вспомнила разговоры хирдманов: церковь первым делом, там добычи много… Видимо, уже успели. По всей клети были разбросаны мешки – небольшие, но тяжелые. Пестрянка споткнулась об один – ушибла ногу обо что-то твердое. Наклонилась – сквозь горловину белели серебряные шеляги…
– Конунг велел пока деньги в одно место сложить, – пояснил Альгот. – Это от купцов, от епископа и с мытного двора немного. Они тебе мешают?
Пестрянка зажала рот рукой. Мешают ли ей груды серебра и золотых сосудов? Казалось, она сходит с ума.
– Мне надо передохнуть. – Пестрянка подошла к знакомой лежанке и села.
Подстилки и покрывала были смяты и вздыблены, подушки разбросаны по всему помещению. В складки ткани завалился серебряный браслет с голубыми камешками. Глянув на этот беспорядок, Пестрянка вдруг сообразила, отчего так, и вскочила, будто случайно уселась на горячее.
– Я с ребятами здесь, в доме и во дворе, так что зови, если что, – сказал Альгот и вышел.
Пестрянка осторожно села на край лежанки. Постаралась ощутить себя княгиней, владычицей этого города, но пока мысли ее и чувства были в таком беспорядке, что тревога оставалась среди них главной. Странно было сидеть сложа руки, когда у всей дружины есть дело, но чем заняться в чужом городе, когда все идет вверх дном? И где же Хельги? Он пропал где-то в недрах жарких улочек среди саманных и каменных стен, где именно ему теперь надо одновременно собирать добычу и наводить хоть какой-то порядок – уже совершенно не тот, что прежде.
А если он погибнет? Пестрянка гнала эти мысли, но не могла отделаться от чувства собственной беспомощности. Здесь не то что дома, где родни сорок человек. Здесь Хельги – ее единственная защита среди совершенно чужого мира. Без него она пропадет, как зернышко под копытами орды. Одиночество угнетало ее сильнее, чем страх – Хельги не мог умереть, потому что без него не существовало и ее нынешнего мира.
После бессонной ночи навалилась усталость. Посидев немного, Пестрянка встала, открыла один сундук, другой, нашла чистое покрывало, спихнула мятые прямо на пол – еще не хватало ей ложиться на постельники, на которых возбужденные битвой хирдманы торжествовали победу над женщинами тудуновой семьи. Покрыла лежанку чистым и прилегла, накрывшись мафорием.
Но заснуть не смогла. Когда за дверью послышались шаги и голоса, подскочила. Она узнала голос Хельги, и от этого ее затрясло. Будто она была одной из здешних хозяев-хазарок, кому приход вождя русов не обещал ничего хорошего.
Хельги вошел, и она взглянула на него, как впервые. Нет, не как впервые. Когда он появился в Варягине, полтора года назад, она смотрела на племянника своего свекра лишь с некоторым любопытством и не сразу разглядела черты лица – родимое пятно отвлекало. К тому же он тогда мог сказать по-славянски всего несколько слов: «добро», «давай выпьем», «пес твою мать» и еще кое-что в этом роде, поэтому лишь улыбался ей.
И сейчас, встав ему навстречу, Пестрянка заново осознала, как же все для нее изменилось. Он изменился, она, вся жизнь вокруг них. И это было чудом. Почти для всех, кого она знала раньше и среди кого выросла, ничего не менялось веками. И это он, будто тот серый волк из сказки, на своей спине занес ее в этот глиняный и каменный город – за тридевять земель.
И будто они не виделись не два дня, а два месяца – таким изменившимся он ей показался.
– А! Ты уже здесь!
Увидев ее, Хельги переменился в лице. И Пестрянка угадала: за последние сутки он вообще не вспоминал о ней, и для него это время, плотно заполненное движением и борьбой, и впрямь растянулось на целый месяц.
– Все хорошо? – Хельги пошел ей навстречу, наклоняясь и вытягивая шею, чтобы поцеловать ее, не прислоняясь.
Шлем он держал в руке, спутанные волосы из сбитого набок хвоста рассыпались по плечам. На нем еще была кольчуга и поверх нее пластинчатый доспех, на плече перевязь с мечом, за поясом секира в чехле. Не повторяя ошибки Элеазара, он не собирался расставаться со всем этим даже на лежанке.
Пестрянка позволила ему поцеловать себя; на нее повеяло потом, железом, еще какими-то незнакомыми, чуждыми запахами. По виду Хельги был невредим, не считая красного пореза на кисти правой руки. Это железо, этот запах поставили между ними стену, которую она не сразу смогла преодолеть. Это был не совсем ее Хельги, не тот, которого она знала. Он как будто постарел сразу лет на пять, черты лица отяжелели и застыли. Взгляд его казался суровым и отрешенным, сосредоточенным на чем-то далеком.
Она молча стояла, прижав руки к груди, пока он снимал все это и сбрасывал на глухо звенящие мешки с серебром. Возбуждение битвы прошло, бессонная ночь и усталость теперь сказывались в каждом движении. В пропотевшей сорочке, с брызгами крови на грязных руках, он был почти страшен, и даже красное пятно на шее, лице и горле сейчас казалось засохшим пятном пролитой крови.
Будто к ней явился восставший мертвец… Вот в чем дело. От него веяло смертью. Он весь еще был окутан ее дыханием и оттого стал таким чужим. Не только Пестрянке – всем живым.
– Надо бы мне помыться, – пробормотал он. – Но я так умотался… Мне надо поспать, а потом соберут всех здешних стариков, кто уцелел, и надо будет с ними перемолвиться. Ну, поди ко мне.
Он обнял ее и прижал к груди; она даже удивилась невольно, ощущая полотно сорочки и его разгоряченную кожу, а не холод твердого железа. Потом поцеловал – осторожно, будто за эту ночь разучился обращаться с хрупкой женской сущностью и боялся ее повредить. Она слышала, как стучит его сердце, вдыхала запах пота и войны, и дрожала от потрясения, и все же не отстранялась. Все-таки это был ее Хельги, тот же самый, который ровно год назад, в ее последние Купалии дома, положил голову ей на колени, пока она смотрела на горящие вдали высокие костры. Тогда она казалось себе умудренной печалями взрослой женщиной, а он был кем-то вроде беззаботного отрока, даже не умеющего говорить как следует.
Теперь его уже называли Хельги конунг – он стал человеком, взявшим многотысячный заморский город и способным сделать с ним что угодно. Но изменился ли он сам за этот год? Пожалуй, нет. Просто теперь она знала о нем и его племени куда больше, чем прежде.
* * *
К полудню Хельги конунг вышел в переднюю часть дома, где на длинных обложенных камнем скамьях его уже ждали собранные со всего города старейшины общин и застигнутые набегом богатые купцы. Было их менее половины от того количества, что сидело здесь, когда Элеазар предлагал Хельги трех рабынь взамен похищенной жены. Будучи воеводами ополчения своих общин, старейшины ночью пытались найти своих воинов и возглавить; часть погибла еще по пути, часть – в сражении. Раби Булгарин и хазарин Ильмуха были убиты на стенах, где несли дозор со своими людьми. Но русы восполнили число старейшин, похватав хозяев богатых домов. Христиан было мало: они искали спасения в храме, пытаясь там закрыться. Но, уповая на помощь бога, не сообразили, что потомки «морских конунгов» уже более двухсот лет в любом городе, где есть христиане, первым делом ищут здание с крестом на кровле…
Выглядел Хельги довольно бодро – умытый, с тщательно расчесанными и собранными волосами, хотя припухшие веки выдавали усталость. Поспал он явно меньше, чем ему хотелось бы, но на сон у него сейчас не было времени. Пытаясь сделать его более похожим на конунга, Пестрянка отыскала в сундуках Элеазара кафтан с богатой отделкой пестрым персидским шелком, правда, на широкой груди Хельги застежки сходились с натугой. Меч на плече был его собственный – с простым бронзовым навершием и потертой рукоятью рыжей кожи. Вместе с ним вошли человек десять русов; двое вытянулись по сторонам сиденья, опираясь на ростовые топоры. Перед сиденьем встал Мангуш, готовый переводить речи конунга на печенежский или хазарский язык.
– Поговорим, мужи боспорские, – начал Хельги, усевшись на место Элеазара и окинув взглядом лица – бородатые, усатые, широкие, продолговатые, узкоглазые. Лишь смуглость кожи была у всех здесь схожей. – Город Самкрай в моих руках, и я могу сделать с ним что захочу. Вы уже об этом знаете, иначе не сидели бы тут передо мной.
– Кто ты такой? – спросил Сабанай. – На самом деле?
Еще вчера они думали, будто знают, кто этот широкоплечий рус с красным пятном на пол-лица. Теперь уже поняли, что ошибались.
– Мое имя Хельги Красный. Я – племянник того Хельги, что был князем русов и завоевал с ними много земель. Даже почти захватил Константинополь.
– Ты русский князь? – спросил кто-то из греков.
– Я князь моей русской дружины, и мой род правит в Киеве. Этого вам достаточно. Теперь давайте поговорим о том, что с вами будет дальше.
Ему было видно, как при этих словах два десятка его слушателей переменились в лице. До этого на них было изумление, недоумение, недоверие – за ночь не все разобрались, кто же стоит во главе вражеского войска, возникшего внутри города без приступа и битвы у ворот. Даже понявшие, что город во власти русов, думали увидеть на этом месте какое-то иное лицо, незнакомое. Теперь же недоумение сменилось напряженным тревожным вниманием.
– Я предлагаю вам, старейшины Самкрая, выкупить жизнь и свободу себе, своим домочадцам и единоверцам. В городе есть общины жидинов, христиан, хазар-тенгрианцев, булгар-бохмитов, касогов, ясов и греков, то есть всех христиан. Сколько человек в каждой общине? Ты первый, Исидор.
До этого дня Хельги несколько раз присутствовал на совете у Элеазара и знал всех глав городских общин. Жидин Ханука сидел на полу и царапал писчей палочкой по восковой табличке, записывая ответы. Вид у него был глубоко несчастный. Ночью его вынудили участвовать в захвате башни, напомнив, что если в Киев не вернется Хельги, то и вся его родня в Козарах покинет их навсегда. Теперь ему приходилось служить Хельги, как по пути сюда Хельги якобы служил ему.
Старик Иегуда и вовсе был так потрясен этими событиями – поняв, что уже год был игрушкой в руках коварных идолопоклонников, – что слег больной. Лишь Синай, сидевший на полу с другой стороны от хозяйского места, держался бодрее товарищей, и в его темных глазах блестело любопытство: и что дальше?
– В городе сейчас около пяти тысяч человек, – сказал Хельги, когда все ответы были получены и записаны. – Считая женщин и детей. Я устанавливаю выкуп по двадцать шелягов за каждого мужчину, то есть с семьи.
По скамьям пробежал ропот.
– Это не так много для города, что служит торговыми воротами каганата с западной стороны, – перебил боспорцев Хельги. – И вполне вам по силам. Вы сами знаете, что я очень добрый, потому что в Константинополе за хорошего раба дают двадцать золотых номисм, и у меня есть корабли, чтобы отвезти вас всех туда и продать. И тебя самого, Исидор, ты еще достаточно крепок, чтобы за тебя дали двадцать номисм! А еще вывезти все товары и имущество, а город выжечь. Ну, то, что здесь может гореть… Но я не хочу этого делать. Мы желаем сохранить возможность торговать с каганатом через Самкрай. Поэтому, если мы придем к соглашению, я не стану никого убивать и даже забирать пленников для продажи.
– Соглашение! – Яс по имени Асах – рослый худощавый мужчина с черными усами и впалыми щеками, яростно взмахнул правой рукой и ударил себя по колену (левая у него была перевязана и подвешена к груди). – Ты явился сюда, как волк, обманом или колдовством ночью проник в город, убил сотни людей, даже женщин, и хочешь соглашения!
– Да, – невозмутимо ответил Хельги. – Вы, уважаемые, забыли кое-что. Прошлым летом сюда приезжали наши люди – люди от киевского князя Ингвара, моего родича, хотели продать вам хорошие товары. Ваш тудун даже не пустил их в город, потребовал четыре десятины. Я слышал от моих спутников жидинов, – он оглянулся на Хануку, – что ваш жидинский бог положил брать со всякого прибытка десятину. А кто не желает, тому он оставляет на поле лишь десятую часть урожая. Ваш тудун забыл завет своего же бога и запросил с нас четыре десятины вместо одной. Теперь вы убедились, что с нами лучше не ссориться и поступать по справедливости. А неумно убивать людей, которые уже все поняли. Поэтому я сохраню ваш город и лишь возьму выкуп – для лучшей памяти.
– Ты хочешь двадцать пять тысяч дирхемов! – Охантей, старейшина общины хазар-тенгрианцев, выставил вперед обе растопыренные ладони, будто желал показать, что пальцев на руках не хватает для такого числа. – Даже если ты порубишь нас на куски, мы не сможем достать в городе таких денег!
– Проверим? – предложил Хельги. – Скари!
Старший над десятком шагнул вперед.
– Возьмите этого, выведите на двор и порубите на куски. Посмотрим, не прибавится ли денег у остальных.
Мангуш перевел эту речь, чтобы все в помещении поняли. Охантей услышал перевод, когда двое рослых русов уже взяли его за локти. Вскинулся, в недоверчивом ужасе выпучив глаза, и его поволокли из палаты, не слушая возмущенных криков. Люди на скамьях зашевелились, иные вскочили, но навстречу выходящим вбежало еще десятка полтора и нацелили на безоружных боспорцев острия копий.
– Всем сидеть! – крикнул Мангуш по-хазарски.
При виде блестящих наконечников, смотрящих прямо в горло, боспорцы осели на места.
Со двора послышались отчаянные вопли. Вскоре умолкли.
Старейшины на скамьях сидели застыв, не смея даже переглядываться. Христиане крестились, почти у всех прочих тоже шевелились губы в беззвучной молитве.
– Левый борт греби, – Хельги посмотрел на скамью, что стояла слева от него. – То есть продолжим. Ты… э… – Двоих булгар, заменивших Раби, он не знал.
– Как ваши имена? – спросил Мангуш.
– К-казанай… – прохрипел один.
– Ш-шахбан, – судорожно вытолкнул второй.
Вернулся Скари со своими людьми. Все в палате зачарованно воззрились на блестящие, свежевытертые лезвия их секир.
– У вас, булгар, в общине сколько людей? – Хельги глянул на Хануку.
– Сто тридцать две семьи.
– Это будет…
Дрожащими руками Ханука передвинул несколько камешков на расчерченной полосами доске:
– Две тысячи шестьсот дирхемов.
– Итак, э…
– Казанай и Шахбан, – подсказал Мангуш, которому было легче запомнить эти имена.
– Да. Вы даете за ваших людей две тысячи шестьсот шелягов?
– М-мы… – Двое булгар в ужасе переглянулись.
– Причем если внутри ваших тел денег не окажется, я просто возьму ту же сумму людьми, так что разница будет только для вас лично. Что скажете?
– Д-даем! – перебивая друг друга, воскликнули оба булгарина. – Но часть ты возьми имуществом!
– У меня есть два коня!
– А если с кого-то мы не сможет взыскать денег, то часть отдадим людьми!
– Ну, это уже ваше дело, – покладисто кивнул Хельги. – Мне главное, чтобы было чем вознаградить дружину.
Дело пошло веселей. Каждый из старейшин хорошо знал число людей в общине и их достатки, поскольку отвечал за своевременный и полноценный сбор налогов в казну тудуна. Ханука высчитывал, Синай записывал, сколько с кого причитается. С кем была достигнута договоренность, того русы уводили: старейшину отпускали собирать выкуп со своих, взяв в заложники его собственную семью. Заложников доставляли в сараи для полона, каковых в Самкрае было настроено много, ибо полоном здесь торговали в немалых количествах. Те домохозяева, что уже за себя рассчитались, получали кусок глины с оттиснутой печатью Хельги, который с этого мгновения служил им щитом от всяких посягательств.
В следующие несколько дней Пестрянка почти не видела Хельги. Опомнившись, она принялась за хозяйство: десяток женщин из дома Элеазара, его родственницы и служанки, теперь оказались у нее под началом, и вместе с ними она почти беспрерывно готовила еду, варила баранину и кашу в больших котлах для хирдманов, заходивших поесть и отдохнуть между делом. Раньше им привозили с рынка готовые лепешки, а теперь она увидела, как их пекут, прилепляя тесто внутрь зарытой в землю печи. Каменные жернова для размола зерна в муку от привычных ей не отличались, и Альгот каждый день привозил ей десяток женщин из числа пленных, чтобы вращали их.
Хельги часто выезжал в город, осматривал выкуп, отбирал пригодное, следил, чтобы русы не увлекались грабежом и не схватывались между собой из-за красивых греческих и хазарских девок. Каждый день Пестрянке приносили сундуки с дорогим шелковым платьем – хазарским и греческим, – ларцы с украшениями, дорогую посуду.
– Куда мне столько? – беспокойно смеясь, сказала она Хельги на второй день, когда он пришел немного поспать. – Здесь уже не пройти!
Шелка всевозможных цветов, далматики и покрывала валялись под ногами, и на каждом шагу она наступала на ожерелья и браслеты. Даже не радовалась: сложно ценить то, что приходится топтать, как речной песок.
– А помнишь, ты печалилась, что у тебя нет греческого платья? – устало усмехнулся Хельги. – Помнишь, я обещал, что у тебя его будет больше, чем у княгини? Я это сделал. Все это твое, и у Эльги нет даже половины. Даже четверти этого. Когда мы вернемся в Киев, ты сможешь просто ради дружбы подарить ей платьев пять-шесть. Тебе же не жалко?
Он обнимал ее и склонял голову, прижимаясь лицом к плечу. Словно лишь в этом месте мог ненадолго обрести покой и уют. А потом опять уходил.
– Да ну, чего возиться, давайте заберем полона побольше, да и ладно! – то и дело слышались в дружине разговоры. – Чего высчитывать?
– Берем, что сможем унести, и на лодьи!
– А тут хоть провались все!
– Да убивать надо этих жидинов да хазаров! Попили крови у наших дедов, теперь мы у них попьем!
Однажды даже вышла драка: боярин Благожа как-то решил, что некий купец утаивает свои сокровища, и велел сунуть его связанные ноги в горящий очаг. На вопли купца и его жены прибежал Ангер со своими людьми. Благожа поднял шум: «Жидинов-де жалеть нечего, и все эти хазары узкоглазые наших дедов двести лет мучили, а вас, русов, там не было и вы в нашу месть не встревайте».
– Мы четко обговорили условия перед выходом из Киева, и все поклялись на оружии соблюдать их, – напомнил Хельги. – Ты при этом был. На первый случай ваша доля в общей добыче будет уменьшена на десятину.
– Я такого не клялся терпеть, чтобы воевода моих людей грабил!
– Мы при князе условились, что здесь можно делать, а что нельзя. И вы поклялись повиноваться мне. Спорить я с тобой не буду. Но еще раз такое повторится – я тебя и всю твою дружину просто оставлю здесь, когда буду уходить.
Боярин Благожа не знал, что именно это и есть единственное принятое среди викингов наказание тем, кто ослушался вождя в походе. И не сразу понял, чего такого в этой угрозе. А потом сообразил – от Киева сюда добирались пять недель, и все по воде, а вокруг тысячи людей, обиженных русами и жаждущих снять с них живьем кожу…
– Вам, русам, эти жидины нас, полян, дороже! – процедил он. – За их шеляги вонючие вы нас, родичей своих, продадите!
– Продавать мы им будем бобров, которых вы наловите. А шеляги за это привезем вам же. Вы уж там их нюхайте сами, вонючие они или какие.
* * *
Условия похода обсуждали еще в Киеве, на многочисленных пирах между возвращением Ингвара из полюдья и отплытием дружины.
– Греки хотят, чтобы Самкрай разорили полностью, – рассказывал Асмунд, когда о предстоящем деле впервые заговорили подробно. – Сказали, берите, чего хотите, людей, скот, добро, но кого не сможете увезти – убейте, скот перережьте, город подожгите.
– Только он не сгорит – там кирпич и глина, – возразил Ранди. – Крыши из травы и соломы, и те глиной замазаны.
– Ну, хоть обуглится.
Кудря, Ознобиша, Мякина и другие славянские вожди оживленно переглянулись. Обходя с полюдьем владения – и бывшие Олеговы, и свои наследственные на Волхове, – Ингвар везде звал людей присоединиться к походу на теплые моря, поначалу не открывая, что речь идет о каганате. Поскольку он обещал кормить всех и помочь со снаряжением, желающие находились легко. Каждая волость собирала совет по этому поводу, решала, участвовать или нет. Большинство склонялось поддержать князя – живущие вдоль торговых путей давно знали, что такое серебро, шелка, красивая поливная посуда, вино и приправы. Возражали лишь приверженцы дедовых обычаев, но и они, сидя на братчинах в простых портах домашней работы, чувствовали себя неуютно среди щеголей с шелковой отделкой на крашеных свитах, хвалившихся серебряными перстнями и узорочьями жен. И девки на Купалиях сбегали замуж в те роды, где покупали снизки.
Но все это нужно было выменивать у княжеских людей – на шкурки, мед, полотно и прочее. А льняная тканина, годная на сорочки, менялась на гладкий некрашеный шелк из расчета один локоть к ста. Теперь же сами русы предлагали пойти за море и набрать всего этого даром – сколько сможешь унести. Поэтому в каждой волости старейшины выделяли «охотников»: где пять человек, где десять. Особенно тех, кого не жаль, если сгинет – в каждом роду есть такие. Лишь те, кто посмелее, отправляли толковых парней и молодцов. Назначали над ними старшего, кто и вел своих людей по замерзшим рекам в Киев. И уже по возвращении из полюдья князя эти старшие были рады узнать, что цель похода – западная окраина каганата. Та страна, что виделась Золотым царством из сказаний, полным сокровищ.
– Это мы мигом! – заговорили они.
– Там одного полону сколько будет!
– Девок себе наберем!
– Все бабы в паволоки оденутся, еще работать не захотят!
– Вот пусть хазарские девки и работают!
Но иные из русов, услышав о полном разорении Самкрая, покачали головами.
– Роман хочет, чтобы мы уничтожили соперников греческим купцам, – с пониманием кивнул Ранди Ворон. – Чтобы на Боспоре Киммерийском больше негде было торговать рабами и шкурками и все это везли только в Царьград.
– Евтихий еще сказал, жидинов режьте, как курей, – добавил Вефаст. – У них, греков, со своими местными жидинами нелады в последние годы, вот и хочет, видно, припугнуть.
– Так чего не порезать-то? – воскликнул Благожа с реки Рупины. – Мало хазары эти жидинские наших дедов резали, мучили? Теперь-то мы за них спросим!
– Ранди, объясни им, – предложил Ингвар.
– В прежние годы хазары сами губили свои торги тем, что запрашивали с нас две десятины, – начал тот. – Поэтому мы возили свой товар к грекам, но у нас все же был выбор. Греки знали об этом, и потому Олег Вещий добился от них таких выгодных условий договора о торговле. Не только потому, что однажды сжег поселения на Боспоре Фракийском. Теперь же греки хотят, чтобы мы уничтожили Самкрай, безнадежно рассорились с каганатом и сами себя лишили выбора. Если мы это сделаем, то сможем продавать свои куницы только грекам. И тогда они уже спросят с нас хоть три десятины – нам будет некуда деться.
– Ну, так чего? – спросил Ознобиша. – Мы ж добычу уже возьмем!
– А коли возьмем, греки не отнимут! – подхватил Требигость.
Было видно, что он и его товарищи не понимают, к чему это все.
– Греки хотят нашими руками победить не только хазар, но и нас самих тоже, – пояснил Мистина. – Мы сами лишим себя выбора, и они смогут драть с нас три шкуры. Но мы не такие дураки. Потому, княже, – он посмотрел на Ингвара, – думаю, будет умнее взять с жителей Самкрая выкуп, но сохранить город и его торговлю.
– И предложить им за это договор, который нас устроит, – подхватил Ранди. – Когда наши люди будут в городе, уже у хазар и рахдонитов не останется выбора.
– А что грекам скажем? – спросил Ингвар.
– Скажем, что нам пришлось очень тяжело, в городе оказали большое сопротивление, – ответил Хельги. – У нас, я думаю, не найдется очень много времени на все, когда тудун со своим войском будет всего лишь через пролив, под Каршой?
– Ну, так взять всего побольше и восвояси! – воскликнул Требигость.
– Меха и прочее нужно сбывать каждый год, – напомнил Ранди. – И чем более выгодных условий торга мы добьемся от хазар, тем больше серебра и шелков за каждый сорочок шкурок будут получать ваши бабы.
Судя по лицам славянских старейшин, они его не понимали. До Олега Вещего заморская торговля находилась в руках хазар, после него – русов, а славянам хазарские и греческие города пока виделись лишь сундуком с сокровищами, куда надо поглубже запустить руку, раз крышка приподнята. Первый на их памяти поход за море казался единственным. Что такое «каждый год»? Сейчас раздобыть бы чего-нибудь, чтобы потом хвалиться на братчинах!
Не так на это смотрел Ранди, для которого даже военный набег был всего лишь средством улучшить условия торговли. Причем крайним средством, к которому прибегают лишь в последнюю очередь. Но этот случай настал, поэтому он без колебаний послал с Хельги своего родного сына, зная, что тот будет очень полезен.
Хельги тоже хватало ума смотреть дальше нынешнего дня. Поэтому он следил, чтобы с первого же дня после соглашения со старейшинами Самкрая о выкупе прекратились убийства и совсем уже беззастенчивые грабежи. Не возбранялось рассовывать по пазухам красивые диковинки и задирать бабам подолы, но и эти вольности кончались, едва та или иная община выплачивала свой выкуп полностью и получала глиняные печати. С этого дня старейшины имели право приходить к Хельги конунгу с жалобами на незаконное притеснение – и не раз этим правом пользовались.
Когда уже почти все было собрано, Хельги вновь велел привести к нему старейшин.
– Могу вас порадовать доброй вестью, – начал он, вновь усевшись на сиденье тудуна. – На днях мы уходим отсюда. Но надеюсь, в будущем увидимся вновь, и тогда наши сердца откроются навстречу друг другу.
Даже напуганные и удрученные потерями на грани разоренья, старейшины и торговцы не удержались от горьких ухмылок.
– Ты имеешь в виду раскрыть наши сердца при помощи секиры? – Отважный Асах бросил на него гневный взгляд голубых глаз.
– Нет, я имею в виду, когда между нами установятся добрые и справедливые отношения. – Хельги будто не заметил взоров, ясно выражавших, о какой справедливости для него мечтают боспорцы. – Нам пришлось прийти сюда с оружием, чтобы прорубить себе дверь, когда ее не захотели открыть добром. Но теперь, я думаю, все поняли, что это была ошибка, вы же неглупые люди. Поступим так: я забираю детей у каждого из вас, – все разом вскинули головы и впились в него глазами, – но обещаю, что им не будет причинено никакого вреда, урона здоровью и чести. Я увезу их с собой. Когда же вернется тудун, то есть ребе Хашмонай, или кто-то от кагана, кто вправе заниматься этими делами, он пошлет ко мне послов с условиями договора о торговле. И когда мы заключим договор, вы получите своих детей назад.
Старейшины громко зароптали: они уже свыклись с надеждой, что их семьи, сейчас сидящие взаперти в сараях для полона и терпящие там всякие лишения, с уходом русов получат свободу.
– И если вы, уважаемые люди, не желаете, чтобы ваши сыновья выросли вдали от вас, вы уговорите тудуна не затягивать с этим и выставить справедливые условия. И тогда торговля нашими куницами и бобрами быстро возместит вам все понесенные убытки. Если же нет – дети покажутся вам небольшой потерей по сравнению с ущербом всему каганату, если мы будем торговать только в Царьграде.
– Уж не Роман ли, ненавистник наших единоверцев, послал тебя сюда? – с негодованием воскликнул рахдонит Эфраим.
– Мне предложил этот поход князь Ингвар, мой близкий родич. Но я не сомневаюсь, что Роман не пожелает увидеть наши дружины на своих землях и вскоре между нами будет заключен справедливый договор. Не будьте глупцами, что своим горем оплачивают чужие выгоды.
– А наше добро, которое забрали твои люди? – угрюмо спросил Сабанай.
– Добыча есть добыча! – Хельги развел руками. – Хочу я или не хочу, но я должен вознаградить своих людей за их доблесть.
В тот же вечер в гавань вошла небольшая лодья с восемью гребцами, пришедшая с северо-запада. В ней сидел Торд Железная Шея – человек Хельги, которого тот отправил вместе с греческим войском к Карше. А причалив, немедленно отправился во дворец тудуна…
* * *
И вот настал день – такой же ясный, полный зеленовато-голубого сияния моря, – когда русские скутары отошли от причалов Самкрая. Теперь они сидели в воде куда ниже, чем когда пришли сюда каких-то десять дней назад, ибо были нагружены добычей до последней возможности. Что будет, если на море поднимется волнение, даже думать не хотелось.
Пестрянка сидела на корме «конунговой лодьи», как ее стали называть, и смотрела на пять огромных ларей, набитых цветным платьем, шелками, серебряной посудой и разными украшениями. Все это было ее. Как объявил людям Хельги, «доля королевы» исключается из числа добычи и не подлежит учету при разделе, ибо ее смелость позволила всему войску войти в город. Ворчали вполголоса только бояре, сами желавшие для своих жен таких же паволок – не многовато ли ей одной-то? Да еще челядь!
Пестрянка и сама думала, что ей столько всего не надо, но Хельги успокоил ее, сказав:
– Это здесь кажется много. А когда приедем в Киев и ты будешь раздавать знатным женам подарки – начиная с княгини и ее родственниц, – окажется, что надо бы и побольше.
В той же лодье сидели пять человек заложников – девушки и отроки из семьи Асаха и еще двоих старейшин общин ясов и касогов. Им предстояло ехать с Хельги и Пестрянкой в Киев и жить с ними год или два – пока не закончатся переговоры и не будет заключен договор. Она старалась запомнить их имена: Баччири, Дакко и Дебола, а сестры их – Кабахан и Салимат. Всего заложников было человек сорок: хазары, булгары, греки, жидины. Самой весомой добычей, конечно, был епископ Никодим, глава здешней епархии, и к нему была приставлена особая стража. Пестрянка пыталась вообразить, как будет жить следующие пару лет среди этого разноязыкого сборища, – и не могла.
И это после сельца Чернобудова, где ее первые пятнадцать лет жизни окружали только родичи и разные свойственники!
Усиливался ветер. Подняв паруса, тяжело нагруженные лодьи, будто раскормленные гуси, двинулись через Боспор Киммерийский на север – к берегам Таврии, во владения своих союзников-греков.
* * *
После ухода русов боспорцы, причитая, начали наводить порядок в разгромленном и ограбленном городе. Когда вскрыли сараи, где были заперты заложники, не увезенные русами, и те наконец обрели свободу, в одном, ко всеобщему изумлению, обнаружился старейшина Охантей – весь в синяках и с двумя сломанными ребрами, но живой и не по кускам. Оказалось, его только избили, чтобы кричал погромче, а потом увели и заперли. Однако за дни господства русов Самкрай так привык к мысли о его страшной смерти, что теперь пошли слухи, будто его и правда изрубили, а потом оживили страшным колдовством идолопоклонников. В конце концов он перебрался с семьей в Дербент, спасаясь как от проклятых русов, так и от славы оживленного мертвеца.
Глава 15
Хельги так скоро избавил от себя боспорцев вовсе не по доброте сердечной. Торд Железная Шея прибыл к нему из-под Карши с вестью, что дела греков плохи: с севера, из степей за соленым Меотийским озером, пришло большое конное войско. Греки снимают осаду и уходят. А значит, пора и русам оставлять Самкрай.
Несколько дней их тяжело нагруженные лодьи шли на запад вдоль побережья Таврии. Всем хотелось домой – отдыхать и хвалиться славой и добычей. Русы и славяне ехали веселые: вражеский берег остался позади, опасность погибнуть в сражении, как казалось, миновала, впереди был лишь путь вдоль Таврии и по Днепру, а потом – веселые пиры у князя, похвальба славой и добычей, почетная, богатая жизнь. Молодые мечтали о женитьбе на невестах из уважаемых родов, зрелые – о хорошем хозяйстве для сыновей.
– Про нас, поди, и песни теперь сложат, да? – смеялись те, кто слышал дружинные сказания о походах Вещего. – «Как ходили мы во царство во Хазарское…»
Но Хельги остудил радостные ожидания.
– Возвращаться в Киев еще рано, – пояснил он как-то на стоянке. – Мы ходили на каганат, Ознобиша, не просто ради добычи. Весь этот поход был нужен для того, чтобы вынудить греков заключить с нами договор о торговле. Правда, Асмунд? Ради этого мы ввязались в их войну с каганом.
– Да, таково было условие греческих цесарей, – подтвердил Асмунд. – Василевсы хотели, чтобы мы напали на Самкрай, и после этого они обещали заключить с нами договор. И мы не можем сейчас ехать прямо домой. Сначала мы должны встретиться в Таврии с царевыми мужами, с Евтихием: пусть он подтвердит, что договор исполнен и на следующее лето греки в Царьграде ждут наше посольство.
Отроки и бояре приуныли, но уговор есть уговор, а Хельги был за князя: спорить с ним не приходилось. Однако Пестрянка, слышавшая разговоры Хельги, Асмунда и старших их оружников, знала, что дело еще сложнее. Если Песах, тудун Карши, с его конницей не ограничится тем, что отогнал греков от своей крепости, а пойдет следом за ними в Таврию, весьма возможно, что впереди ждут очередные битвы. И уже очень скоро.
– Как мы будем воевать с конницей? – говорил Асмунд, когда хёвдинги и бояре собрались на совет в тени под дикой сливой. – У нас был уговор только насчет Самкрая. Помогать грекам дальше мы не брались.
– Мы заключили с ними военный союз, и они могут потребовать от нас помощи до самого конца войны, – возражал Хельги. – Чем лучше мы покажем себя сейчас, тем более выгодных условий сможем требовать. Подумай об этом, Асмунд, ведь тебе и придется на другое лето ехать в Царьград!
– Почему это мне?
– А кому? – Хельги выразительно огляделся. – Ты думаешь, у Ингвара за зиму откуда-то возьмется еще целая дружина разумных и сведущих мужей?
– Из снега налепит, что ли? – усмехнулся Вермунд, которого воеводы держали при себе ради его опытности и знания языков.
– Ну… Свенельд… Мистина… Бояре киевские. Из дружины старшие…
– Асмунд, брат мой! – Хельги подался к нему ближе и положил руку на плечо. – Прости, но ты меня огорчаешь! Ты сражался за Самкрай, наверное, будешь сражаться с хазарами в Таврии. Твоими руками будет вспахано поле для будущей торговли и союза с греками. Неужели ты позволишь, чтобы урожай собирал кто-то другой – Свенельд, или наш зять Мистина, или Тормар, или Острогляд, или Грозничар? Мы с тобой своими мечами добудем право на этот договор, мы и получим всю честь и выгоду от его заключения. Никому иному мы ее не отдадим. Я, как твой брат, ради нашего рода не позволю тебе ее отдать. Где твое честолюбие? При такой отваге и уме, в коих никто не усомнится, у тебя его удивительно мало!
– Зато у тебя на двоих хватит! – Асмунд улыбнулся.
– И я с тобой поделюсь! – заверил Хельги. – Мы, род Олега Вещего, не уступим никому! Ни Свенельд, ни прочие не принадлежат к роду, имеющему право на власть над Русской землей. А мы с тобой – племянники Вещего и шурья Ингвара. Никто не должен стоять к киевскому столу ближе, чем мы, и право решать самые важные дела принадлежит только нам. Поэтому ты ездил в Царьград, поэтому сейчас мы с тобой здесь. От нас двоих зависит самое важное – союзы и торговля с греками и хазарами, богатство нашего рода и процветание Киева. Кого теперь знают василевсы в Царьграде? Тебя. Кого запомнили хазары как русского князя? Меня. И мы отлично себя показали: с наименьшими потерями взяли Самкрай, вывезли хорошую добычу, заложили основу будущего соглашения с каганатом. Теперь нам важно не упустить греков. И тогда, – Хельги понизил голос и склонился почти к уху Асмунда, – какими делами Ингвар похвалится против наших?
– Ты о чем? – Асмунд нахмурился.
– Ни о чем. – Хельги сел прямо. – Лишь о том, что наши заслуги, как наследников Олега, не уступят его заслугам. Нас обязывает стремиться к этому честь рода и священная память Вещего. Ты согласен?
Объезжая Таврию по морю, русы не знали положения дел на суше. Однако временами видели вдали над берегом дымы: наступающий Песах жег таврийские деревни. Когда русы прибыли в бухту близ Сугдеи, их там ждал внушительный греческий отряд. Навстречу русам вышла лодка, и передали приказ: пусть пока основные силы остаются на воде, а на берег сойдут только вожди. Здесь сейчас находились основные силы греков: фемное войско и остатки ушедших от Карши катафрактов со своими начальниками. Как видно, русам союзники не очень доверяли, чему Хельги вовсе не удивился.
– Нас в Царьграде тоже чуть ли не в узилище держали и выпускали только со стражей, – усмехнулся Асмунд. – Не нравится грекам, чтобы русы по их земле с оружием ходили.
На переговоры отправился Хельги со своими людьми, оставив Асмунда на лодьях. На причале его встретил доместик фемы[23] Марк – мужчина средних лет с густыми черными бровями и лысиной среди коротко остриженных черных волос. Глубоко посаженные глаза вкупе с угрюмо-замкнутым выражением смуглого лица придавали ему сходство с псом.
Поздоровались между собой их толмачи – Вермунд от Хельги и юный, лет семнадцати, светловолосый парень с миловидным лицом, сопровождавший доместика фемы. Сами полководцы лишь кивнули друг другу.
– Почему вы ушли от Таматархи? – спросил Марк, окидывая Хельги не слишком любезным взглядом. – Вы сталкивались с хазарами?
А Хельги своим видом мог бы вызвать и чуть больше восхищения: на нем был зеленый шелковый кафтан с вытканными светло-желтыми львами, с золочеными пуговками, шелковая островерхая хазарская шапка, хазарский «хвостатый» пояс с золотыми накладками и отделанный шелком красный плащ – сразу было видно, что это человек знатный и удачливый.
– Мы сделали то, зачем ходили к Самкраю, – Хельги развел руками, и Марку бросился в глаза золотой браслет. – Для чего же нам было оставаться, если вы отступили из-под Карши?
– Сделали то, за чем ходили? – нахмурился Марк. – Не хочешь ли ты сказать, что вы взяли Таматарху?
Звучало это так, будто он спрашивал, не залезли ли они на небо.
Вместо ответа Хельги слегка повел рукой, будто предлагая обратить внимание на свой кафтан. А заодно на два золотых перстня – один с красным самоцветом, другой с многоцветной эмалью.
– Но этого не может быть! – вопреки увиденному, Марк не верил. – Взять Таматарху! Имея шестьсот человек, без осадных орудий, без машин! Я знаю, каковы тамошние стены! А у вас даже нет никаких приспособлений, я не видел, чтобы вы везли с собой тараны или хотя бы лестницы! Что ты мне рассказываешь?
– Я рассказываю тебе чистую правду, – улыбнулся Хельги, – и ты сам увидишь доказательства, то есть нашу добычу и пленных, когда моя дружина высадится и устроит стан. Среди наших пленных, кстати, находится Никодим, епископ Таматархи, а уж он не солжет – были мы в городе или не были.
– Епископ Таматархи! – Марк вытаращил глаза, едва не задохнувшись от изумления. – Вы взяли… в плен епископа!
– Мы хорошо с ним обращались. Всем ведь известно, что за столь выдающихся людей можно получить немалый выкуп, а за епископа, пожалуй, захочет заплатить сам патриарх в Константинополе. И поскольку мы не причинили ему ни малейшего вреда, я рассчитываю взять за него как за невинную деву – серебром по весу.
Русы вокруг подавили ухмылки, вспомнив разговоры, коими это пленение сопровождалось. Намеки на «деву» и на то, что хоть увесистая попалась – серебра выйдет много…
– Дья… Клянусь головой Богоматери! – от изумления и возмущения Марк не находил слов. – Да как вы посмели?
– Это мое право! – Хельги перестал улыбаться и положил руки на бедра, расправив широкую грудь. – Все, что находится во взятом городе, – наша добыча. Таковы правила всякой войны, и таков был уговор, который мы заключали с вами перед этим походом. Когда на берег сойдет мой брат Асмунд, он это подтвердит. Принимая на себя это дело, я выспросил у него все условия, и я уверен: там не было такого, что мы не имеем права брать в плен кого-либо в захваченном городе!
Марк стиснул зубы так, что они едва не заскрипели.
– Да кто же знал… Кто мог подумать, что вы войдете в город!
– А василевсы посылали нас на Самкрай, думая, что мы в него не войдем? – Хельги поднял брови. – Чего же они хотели?
Но Марк уже опомнился. Сейчас было не время обсуждать, кто чего хотел и на что рассчитывал.
– Об этом позже, – процедил он. – Есть более насущные дела. Пусть твои люди располагаются, сегодня отдыхайте, а завтра для вас найдется дело. Вечером приезжай в Сугдею. Патрикий Кирилл, стратиг Херсона, приглашает тебя на ужин. И будет очень уместно, если ты привезешь епископа… если он и правда у тебя.
Под постой русам отвели долину несколько восточнее Сугдеи – близ перевала, где был выход из горной Таврии в степную. Скутары вошли в бухту. Русы перенесли поклажу, стали устраивать стан вдоль речушки. Опытные люди посоветовали ставить шатры под деревьями, но там на всех не хватило места. Снова назначив главным Асмунда, Хельги с двумя десятками отроков сел в лодью и отправился в Сугдею. Епископа он оставил с прочими пленными, вместо него прихватив лишь епископскую печать как доказательство истинности своих слов. Зато взял с собой Пестрянку – без нее, как он догадывался, их рассказу о взятии Самкрая греки не поверят.
– Ты не побоишься поехать со мной? – спросил он у нее. – Имей в виду: греки, как я понял, вовсе не рады нашему успеху. Мало ли чего они придумают с досады…
– Не рады? – удивился Перезван, молодой боярин смолянских кривичей. – А чего же посылали-то?
– И правда! – сообразил Асмунд.
Вожди дружин переглянулись. Когда шли сборы в поход, замысел проникновения в Самкрай знал только узкий круг ближайших к Ингвару людей. Вся дружина не знала, каким образом им предстоит выполнить задачу – но и не задавалась этим вопросом, поскольку никто из «охотников» ранее Самкрая не видел и представлял его по образцу привычных славянам городцов с частоколом на валу. И уж конечно греки не ведали, каким образом отряд в шестьсот человек намерен без осадных орудий и прочих приспособлений проникнуть за высокие и прочные стены многолюдного города. А ведь греки, не в пример «охотникам» из полян и кривичей, отлично знали, каков Самкрай и его укрепления. Так на что они рассчитывали, посылая туда русов?
Так бывает: некое обстоятельство висит прямо перед глазами, но ты, занятый своими мыслями, долго ухитряешься смотреть мимо него. Пока не стукнет прямо по носу. Осознав это все, Асмунд вдруг засмеялся, но скорее изумленно, чем весело.
– Нет, он правда так сказал? – Асмунд повернулся к Вермунду. – «Да кто же знал, что вы войдете в город»?
– Сказал, – подтвердил Вермунд.
Толмач Марка по знаку начальника не стал переводить вырвавшиеся с досады слова, но Вермунд их расслышал.
– Выходит, они рассчитывали, что мы просто обложим Самкрай… и вынудим Хашмоная вернуться, оставив хазар оборонять Каршу лишь ее собственными силами, – прикинул Хельги.
– А Хашмонай не спешил назад, потому что тоже получил донесение, что нас всего шесть сотен и нет осадных орудий, – подхватил Мангуш. – Греки пытались обмануть нас и хазар, но мы обманули их всех!
– И твои царьградские друзья теперь не рады, что мы взяли город, получили добычу, да еще захватили епископа, – Хельги пристально посмотрел на Асмунда. – Может, они в этом деле желали победы вовсе не нам?
– А и думал: и не жаль им христиан-то самкрайских? – вздохнул Вермунд. – Свои же все люди, греки, и в городе собор всей епархии… Купцы опять же их попали…
Вожди помолчали; ближайшие к ним отроки, кто слышал разговор, озадаченно переговаривались. Весь поход и его успех вдруг предстали перед русами и русичами совсем в другом свете. Асмунд хмурился, сосредоточенно вспоминая разговоры с греками в Царьграде: не сглупил ли он где?
Но нет! В надежность своей памяти Асмунд верил. И Феофан, и Евтихий говорили ему совершенно четко: возьмете город и заберете любую добычу! И другие послы тоже это слышали.
– Давай-ка лучше я туда поеду, – он посмотрел на Хельги. – Мне этот Тихий не посмеет сказать, что нам не полагалось брать Самкрай.
– Достаточно, что я слышал об этом от тебя, – Хельги покачал головой. – Но ваши переговоры – это уже дело прошлое. Теперь важно, что будет дальше. Думаю, об этом у нас пойдет речь, и об этом я должен говорить с ними сам. А на тебя я оставляю войско: хотя бы один из нас должен быть с людьми, на случай, если в Сугдее у нас не заладится.
– Ну и куда ты бабу с собой тащишь? – Асмунд с намеком постучал себя по лбу.
– Я предупрежу их, что, если мы к утру не вернемся, епископ будет повешен.
– А ты куда? – Асмунд повернулся к Пестрянке. – Этот сумасшедший, а ты вроде умная баба была.
– Давно это было, – Пестрянка вздохнула и улыбнулась. – Дома я была умной. А как с вами, варягами, связалась, так и последний ум потеряла.
В этой новой жизни, оторванной от родных краев и привычных понятий, она, как и многие, совсем перестала понимать, что умно, а что глупо. И просто следовала за своим мужем, веря, что он-то знает верную дорогу.
Хельги помог ей забраться в лодью. Подстелив пустой мешок, чтобы не пачкать платье, Пестрянка села на носу. Глядя на нее сейчас, никто не догадался бы, что еще полгода назад эта женщина не знала иного платья, кроме сотканной своими руками поневы и вершника: сейчас на ней была роскошная греческая далматика трехцветного шелка, белый шелковый убрус, греческое ожерелье из золотых петелек, соединяющих крупные жемчужины, а на очелье – золотые подвески тонкой булгарской работы. Гребцы то и дело поглядывали на нее, и в их взглядах отражалось восхищение и гордость за свою «королеву».
Дружина Хельги уже видела Сугдею, когда плыли в Самкрай, но в самом городе не были. Даже после Самкрая, с его сложенным из черепков холмом и стеной шириной в три избы, греческий город Сугдея поражал своим видом. Над бухтой-полумесяцем высилась исполинская гора черновато-серого камня; из того же камня высокие стены на известковом растворе ограждали гавань и часть горы. Пестрянка уже почти привыкла, что здесь, на южных морях во владениях греков и хазар, нет ни леса, ни деревянных стен из мощных бревен, к которым она привыкла дома. В лесных краях человек расчищал небольшое пространство и те же срубленные деревья ставил себе на службу: они занимали почти прежние места, только иным порядком. Здесь же леса не было, а каменные и глиняные постройки вырастали из той почвы, на которой стояли – каменистых сухих земель, скал. Здесь люди брали то, среди чего жили – глину и камень, как славяне брали дерево, придавая иной облик, заставляя служить себе.
– О чем ты так глубоко задумалась? – окликнул ее Хельги.
– В Самкрае дома строят из глины, здесь – из камня, – она подняла на него глаза. – Может, есть такие края, где люди делают себе дома из песка? Из льда?
– Посмотрим, – усмехнулся Хельги. – Края земли мы ведь еще не видели. Может, в Серкланде дома строят из шелка. И мы все это затеяли, чтобы проложить туда дорогу. Вот и посмотрим!
Пестрянка недоверчиво усмехнулась, но подумала: да, от Самкрая на восток лежит Серкланд, и в его существовании она теперь уже не сомневалась. Да есть ли у обитаемой земли какой-нибудь край?
Снизу стены на горе казались невысокими, и позади них можно было разглядеть каждую крытую глиняной черепицей крышу. Голая каменистая вершина упиралась в самое небо, и Пестрянка подумала было, что там должно быть святилище небесных богов – до них оттуда рукой подать. Но Хельги ей напомнил, что у греков всего один бог – по имени Кристус, и святилища его не обязательно устраиваются на горах.
– Там наверху есть церковь, – подтвердил Вермунд, взятый как толмач. – В ней крестился князь Бравлин, что первым из руси ходил набегом на Таврию. Очень давно, лет, может, двести, а может, триста назад. Он первым, еще задолго до Аскольда и Олега, прошел от Варяжского моря до Киева, первым отогнал от киевских гор хазар – а тогда-то они в полной силе были, – заключил с ними мир и пошел в союзе с ними грабить здешних греков. И весьма преуспел: взял большую добычу, разорил чуть ли не все побережья до самой Карши. Даже Сугдею взял приступом.
– Тут еще не было этой стены?
– Говорят, стена была, и ворота железные были. Десять дней бились, а все же изломали ворота железные…
– Разнесли железный тын… – невольно подхватила Пестрянка, мельком вспомнив старые сказки и даже Буру-бабу.
– И вот вошли русы в город, смотрят – церковь стоит. А там гроб святого Стефана, епископа здешнего. Взяли они с гроба покров шелковый, сосуды и светильники золотые. Как вдруг, рассказывают, сам Бравлин упал наземь и закричал: «Умираю! Огромный святой муж схватил меня и держит!» Лицо его обратилось назад, будто ему свернули шею, изо рта пошла пена, и все его люди увидели, что он и правда умирает. Хотя никто больше не видел, чтобы на него кто-то напал. Тогда люди Бравлина хотели поднять его и вынести, но он возразил: «Не трогайте меня, оставьте здесь, иначе этот огромный святой муж убьет меня немедленно! Пусть все войско выйдет из города». Его люди вывели из города все войско и вернули горожанам все взятое. Но и после того невидимый святой муж не отпустил Бравлина и потребовал, чтобы он крестился. Позвали священников и просили их окрестить Бравлина…
– А он так и лежал со свернутой шеей? – уточнила Пестрянка. – И еще разговаривал?
– Со свернутой шеей люди не разговаривают, я это точно знаю, – усмехнулся Хельги.
– Это было чудо Господне, которое сотворил Божьей силой святой Стефан, – пояснил Вермунд и продолжал: – И когда Бравлина окрестили, пена из его рта перестала идти, а лицо снова стало смотреть вперед, только шея, говорят, у него еще болела. Бравлин приказал освободить весь полон греческий и всем вернул отнятое добро, а его люди крестились вслед за ним. Только, как говорят, обращение его было притворное, от страха перед святым Стефаном, который мог его убить. Ибо не слышно, чтобы по возвращении дружины Бравлина в Киев там появились христиане… Вон греков самих корабли! – Вермунд показал на крупные суда у причалов гавани. – Видать, из Царьграда.
С кораблей сгружали множество амфор с вином и оливковым маслом, которое дальше продавали в каганат, в те области, где виноградников не возделывали.
Лодья прошла мимо каменных молов, защищавших корабли в бухте от бурь, а заодно и от врагов: Хельги показал Пестрянке на крепления огромной железной цепи, которую можно было протянуть между молами и запереть бухту.
– Как в Царьграде, так же Суд перекрывают, – кивнул Вермунд.
Нижний город начинался почти от самой воды. Будто стражи-великаны, Сугдею прикрывали две горы. Постройки карабкались от моря на более пологие склоны, а северные, более отвесные, служили крепостной стеной, выстроенной самими богами. Узкий проход – единственную возможность попасть в Нижний город со стороны суши – со времен греческого владычества перегораживала стена с башнями.
На пристани русов ждали люди от стратига, но уже без начальства: лишь малый воевода-кентарх с двумя десятками отроков.
– С вами должен быть епископ Никодим, – сказал кентарх, окидывая взглядом небольшую русскую дружину. – А вместо него вы привезли женщину!
– Шагай вперед, – дружелюбно предложил ему Хельги.
Фемное войско расположилось станом вне города, но прямо от пристани стало видно, что и в самой Сугдее очень много людей. Везде стояли повозки, заполненные мешками и амфорами, виднелись привязанные козы, усталые женщины, чумазые дети, куры в корзинах. Христиане Таврии бежали от наступающих хазар под защиту греческого стратига и гор, непреодолимых для конницы.
Речь звучала в основном греческая, хотя попадались и говорящие по-хазарски. На том и другом языке Пестрянка пока запомнила лишь по десятку слов, но уже легко различала их между собой.
Вслед за кентархом русы поднимались по улочкам-лестницам, вырубленным в скале. Постройки Сугдеи не слишком отличались от того, что они видели в Самкрае: такие же низкие дома и домики с саманными либо каменными стенами, так же сложенными «колосом», под обмазанными глиной крышами из соломы или сушеной морской травы. Жили в них те же булгары, ясы, греки, хазары. Несколько веков Греческое царство боролось за эти земли с Хазарией, обитатели этой части света волнами накатывали на Таврию, перемешиваясь между собой, кому сколько позволяла вера, и сами святилища их соседствовали. Как и сборщики податей от василевса и кагана. Над теснотой обмазанных глиной крыш поднималась округлая кровля церкви – храм Двенадцати Апостолов, как сказал Вермунд.
В крепости дома были побольше и побогаче – с каменными стенами, ограждавшими дворы. Двор здешнего градоначальника, тумарха Дионисия, тоже был обнесен стеной, а с внутренней стороны – крытой галереей на деревянных столбах. Столбы и кровли сплошь оплели виноградные лозы, создав род полога и одев двор сквозной тенью. Среди резных листьев виднелись грозди с еще зелеными, мелкими круглыми ягодками.
Вступив во двор, Пестрянка наконец перевела дух и убрала от лица шелковое покрывало, под которым прятала свою белую кожу от палящих лучей. Двор был вымощен каменными плитами, такие же плиты служили порогом у входа в дом. Жилище было велико, как несколько изб, пристроенных одна к другой. Сперва гости прошли через помещение для челяди; там стояли жернова и каменные ступы для зерна, возле них возились женщины (все забыли работу и повернули к Пестрянке удивленные лица).
Потом русы вступили в другой покой, весьма обширный, но и оттуда дверной проем уводил куда-то дальше. Здесь тоже тянулись вдоль стен глинобитные скамьи под пышными овчинами, возле них стояли столы. Везде было столько народу, что Пестрянку тянуло взяться за руку Хельги. Но она крепилась, заставляя себя хранить вид невозмутимого достоинства. Она – не испуганная «понева» из кривских лесов, а почти королева – жена вождя княжьего рода, уже сумевшего заявить о себе. Асмунд, вон, с самим василевсом царьградским у него за столом беседовал… и чуть в драку не полез.
Вспомнив об этом, Пестрянка с трудом подавила улыбку и почувствовала себя увереннее. Какими бы ни были эти стратиги и тумархи, а василевсу не в версту[24], и этот большой дом перед палатами цесарскими – всего лишь глиняная камора!
Здесь находился сам стратиг фемы Херсон, патрикий Кирилл, высший представитель власти во всей греческой части Таврии. С ним вместе ждал гостей присланный из Царьграда магистр Евтихий, знакомый Асмунда. Он привез в Таврию отряд катафрактов, но в столкновении с конницей Песаха тот полег почти весь – что и вынудило греков отступить, поскольку сражаться с выученной и хорошо вооруженной конницей, не имея таковой, было бессмысленно.
Когда русы вошли, оживленный греческий говор смолк. Хельги остановился перед входом, обводя палату глазами. Оба стратига сидели во главе стола. Сами они не произвели на Пестрянку сильного впечатления: двое мужчин лет сорока, с простыми лицами, невысоких и примечательных только шелковыми одеждами. У того, на кого им указали как на Кирилла, стратига фемы Херсон, лицо было поприятнее, с более правильными чертами; очень светлые на смуглой коже серые глаза хранили отстраненное выражение, будто он намерен тщательно скрыть малейшую свою мысль, и тем напоминали две тускловатые оловянные бляшки. Евтихий, посланец василевсов, был мужчиной средних лет и бодрым, но с почти полностью седой коротко остриженной головой, небольшой седовато-черной бородкой и сильно выступающим вперед носом.
Увидев Хельги со спутниками, они замолчали и воззрились на него. На пару мгновений повисло молчание. Потом два знатных грека с видимой неохотой встали. Перед ними стоял варвар, но он принадлежал к правящему роду, а главное, был им нужен.
Хельги молчал, глядя на греков с легким любопытством. И ждал. Они тоже ждали, но на его покрасневшем от солнца лице – даже родимое пятно стало менее заметно – читалась готовность ждать сколько угодно.
– Приветствуем тебя, – наконец обронил патрикий Кирилл. – Тебя, Эльги, архонт Росии, твоих людей и… – он перевел недоумевающий взгляд на Пестрянку, – …мы надеялись поприветствовать епископа Никодима…
– И я приветствую вас, – кивнул Хельги. – Это не епископ, это моя жена, королева Фастрид.
Пестрянка кивнула удивленным грекам, подумав, как удачно, что Хельги еще полтора года назад придумал ей другое имя. «Дроттнинг Фастрид» звучало куда внушительнее, чем «Пестрянка». И впрямь можно подумать, она такого знатного рода, что ей солнце косы плетет, а месяц двор метет!
– А где же епископ Никодим? – спросил Кирилл. – Нам сказали, – он повернул голову и нашел на скамьях Марка среди своих приближенных, – что вы взяли его в плен и он у тебя.
– Он и правда у меня. И я докажу вам это. Чуть позже. Когда мы начнем беседу.
Поняв намек, Кирилл пригласил его и спутников сесть. С Пестрянкой возникло затруднение: в покое не было женского стола и вообще ни одной женщины, кроме разливавших вино и разносивших хлеб служанок. Вспомнив рассказы Асмунда, Пестрянка сообразила: у греков не принято, чтобы мужчины и женщины ели за одним столом, на том приеме у Стефана жены василевса тоже не было. Поэтому греки просто не знали, куда ее поместить, но Хельги усадил ее рядом с собой. Привыкнув к жизни среди дружины, Пестрянка чувствовала себя почти свободно – главное, чтобы поблизости был Хельги, а при нем она ничего не боялась. Но вот греки посматривали на нее в явном смятении – примерно как смутились бы отроки в гриднице, вдруг объявись среди них епископ в полном облачении.
Судьбой Никодима особенно был озабочен живший в Сугдее архиепископ Георгий. Ему Хельги отдал печать Никодима – ему самому она не требовалась, но доказывала, что глава епархии Таматархи и правда в его руках. Об этом разговор пошел довольно жесткий.
– Епископ должен быть немедленно освобожден и доставлен сюда! – требовал архиепископ Георгий – рослый и крупный мужчина лет пятидесяти с ухоженной седоватой бородой. – И ему должно быть возвращено все церковное имущество, награбленное вами в Таматархе. Вы, как союзники христиан, не имели ни малейшего права посягать на их имущество, жизнь и свободу!
– Такого уговора между нами не было, – Хельги покачал головой. – Условия нашего похода на каганат обсуждались между моим братом Асмундом и тобой, магистр Евтихий, ты можешь сам быть свидетелем. Нам было сказано: захватить Самкрай с правом взять любую добычу, которую мы сможем увезти. Об особых правах тамошних христиан не было сказано ни слова.
– Это правда? – Архиепископ вонзил недоверчиво-негодующий взгляд в магистра. – Как подобное могло произойти?
Евтихий и Кирилл переглянулись. В Константинополе никто не предполагал, что русы и впрямь войдут в Таматарху, поэтому опасность для тамошних христиан не считалась весомой. А если бы греки стали выдвигать подобное условие заранее, то и переговоры пошли бы труднее и могли бы кончиться ничем.
– Это нелепое соглашение должно быть пересмотрено! – настаивал Георгий. – Господь не даст благословения делу, в котором грабят и унижают христиан!
– Ты человек не ратный, тебе позволительно думать, будто заключенный уговор можно пересматривать, когда добыча уже взята, – благодушно заметил Хельги. – Но эти уважаемые люди, полководцы, хорошо понимают: стоит заговорить о чем-то таком один раз, и больше никаких совместных походов у нас не будет.
– Епископ Никодим должен немедленно получить свободу!
– Мы собирались в будущем году обратиться с этим делом к патриарху, но если ты желаешь сам дать выкуп за епископа – не сомневаюсь, в гавани на мытном дворе найдутся достаточно большие весы…
– Какие весы? – не понял Георгий. – Ты спятил? Имеешь в виду, что тебя пора повесить?
– Отложим это, архиепископ, сейчас не время затевать ссоры даже с варварами, – поморщился Кирилл. Говорил он негромко и невыразительно, будто ему неприятно находиться здесь. – Мы позвали тебя, архонт Эльги, чтобы поговорить о наших дальнейших действиях. Сюда от Боспора[25] идет булшицы[26] Песах с большим конным войском.
– Насколько большим?
– Около четырех тысяч всадников. Задержать его некому, и если они пойдут вдоль моря, то уже на днях будут здесь. К Сугдее можно пройти через два перевала. Один у побережья, другой у дальнего конца долины. Они оба пологие и преодолимы для конницы. Ты, я думаю, предпочтешь стоять поближе к воде и своим кораблям, поэтому выберешь тот, что ближе к морю?
– Выберу? – Хельги сделал удивленный вид, хотя на самом деле ожидал чего-то подобного. – Но разве мы брались участвовать в каких-то сражениях в ваших владениях в Таврии? Между нами был заключен уговор только о нападении на Самкрай.
– Вы же хотели заключения договора с державой ромеев? – Кирилл бросил на него свой оловянный взгляд. – Едва ли василевс охотно пойдет на это, если вы покажете себя столь дурными союзниками и покинете нас именно тогда, когда наиболее нужны. Мои войска ослаблены осадой Боспора, битвой и отступлением. Им требуется время на отдых и восстановление. А у вас, как ты говоришь, потери небольшие.
– А что же ваше ополчение?
– Ополчение всегда ненадежно, – поморщился Евтихий. – Стратиоты только и думают, как бы поскорее вернуться в целости к своим виноградникам. Ни снаряжение их, ни лошади, ни выучка никуда не годятся. А вы избрали путь войны по доброй воле и умеете проявить стойкость. На перевале нужна крепкая пехота, как раз такая, какая у тебя. Стратиг, – Евтихий повернулся к Кириллу, – желает поручить это дело вам. Нужно не дать хазарам прорваться. По силам вам такое дело? Там нужно просто стоять и не пропустить их за перевал.
– Там одна конница? – спросил Хельги.
– Да, это только хазары, без своих федератов.
– Кого?
– Без тех подвластных племен, что обязаны им данью и войском! – пояснил Евтихий. – Понятно? Конница и лучники. Их нужно задержать на перевале.
– Но ты сказал, что у Песаха несколько тысяч тяжеловооруженных всадников! А у меня неполных шесть сотен, и все пешии.
– На перевале настолько узкий проход, что от большого числа им не будет никакой пользы. Мы укрепим его рогатками, на склонах поставим метательные машины и стрелков. Неполных шесть сотен при упорстве, отваге и… с Божьей помощью справятся с обороной.
Хельги призадумался. Рассказывая о взятии Самкрая, он не менее пристально наблюдал за слушателями, чем они – за ним, и ему было очевидно: его успех для них – неожиданность, причем вовсе не приятная. От греков следовало ждать любого подвоха. Так не пытаются ли они теперь избавиться от слишком удачливых союзников, поставив их в такое место, где они могут быть перебиты хазарами?
– А если нет, то хазары пройдут к Сугдее, разорят всю округу, обложат город, и вам же придется отбиваться от них уже в более тяжелых условиях, – добавил Кирилл.
Отбиваться? Это грекам придется отбиваться. А русы всегда могут сесть на свои скутары и уйти вместе с добычей. Самая лучшая на свете конница не в силах преследовать их по волнам.
Если бы Хельги пришел на теплые моря только за добычей, он так и сделал бы. Но тогда о союзе и торговле с Царьградом придется забыть…
– Ты верно сказал, что нашей целью было убедить василевса заключить с Ингваром договор о мире, дружбе и торговле, – сказал он, подумав. – Но для всего этого требуется доверие. Обе стороны должны соблюдать условия. Мы захватили Самкрай… даже если вы этого от нас не ожидали, а едва мы выполнили обещанное, как ваши люди, – он посмотрел на Георгия, – требуют пересмотра условий, чтобы лишить нас части добычи. Если мы заключаем соглашение о дальнейшей помощи, то для начала вы должны подтвердить, что прежний уговор будет выполняться. То есть что вы признаете наше право на все взятое в сражении.
– Я этого не допущу! – воскликнул архиепископ. – Христиане из Таматархи и все их имущество…
– С удовольствием погляжу, как сей святой муж, – Хельги с почтением показал на Георгия, – в одиночку встанет на том перевале и остановит хазар силой своей молитвы.
Судя по лицам обоих полководцев, они в такой ход не слишком верили.
– Хорошо, мы подтверждаем прежний договор, – сказал Евтихий. – И будем выполнять его сообразно тем условиям, которые обсуждались между мной и твоим братом. Теперь же давай поговорим о перевале. Имей в виду: если хазары начнут отступать, не вздумайте их преследовать. Они любят заманивать в ловушки…
* * *
…Жара и вонь – неизбежные спутники битвы в этих проклятых богами краях. Взгляд Хельги скользил по трупам людей и лошадей, повисшим на острых кольях засеки. И еще мухи. Эти хуже всего. Привлеченные запахом крови, они роились, лезли в глаза и в рот. От них не спасал даже свежий ветер с моря. Крови было много…
Отступая, войско греков втянулось в плодородную долину вокруг Сугдеи. Со стороны Карши сюда можно было попасть через два горных прохода, и оба были перегорожены рогатками, за которыми стояли воины. Дальний от моря проход, где появление хазар было менее ожидаемо, занимала усталая фемная пехота, а ближний, через который шла прибрежная дорога, перекрыли русы. Прямо перед ними лежала узкая долина, изогнутая серпом. «Серп Марены», – сказал Перезван, впервые увидев это место. Теперь его замечание оправдалось в полной мере: Владычица Смерти вышла на жатву и собрала богатый урожай…
Слева тянулись желтые, крутые склоны горной цепи с плоскими как стол вершинами; там и здесь на них поблескивали шлемы греческих дозорных. Конному туда ходу не было, да и пеший пробрался бы не везде и с трудом. Справа же вдавалась в море громада серого утеса. Сразу за ним, подле устья мелкой речушки, дремали скутары русов, а сами они всей силой стояли на перевале.
Позади русской дружины расположился отряд греческих стрелков и стратиоты сотника Леонтия; вооруженные длинными копьями, они стояли чуть дальше по дороге. Им предстояло поддержать русов, если возникнет угроза прорыва. Выше, на пологом склоне утеса, расположились боевые машины, снятые с городских стен. Возле них суетилась прислуга, ополченцы из местных подтаскивали от стоящих внизу телег боевой припас: дротики, камни, тяжелые короткие бревна. Прежде эти орудия защищали гавань, но сейчас, когда ждали конницу, стратиг Кирилл решил взять баллисты и скорпионы оттуда и с их помощью превратить перевал в крепость.
Как и говорили полководцы, до подхода хазар оставался всего день. Назавтра после прибытия Хельги разместил свою дружину на перевале, оставив лишь два десятка сторожить лодьи, пленников и добычу.
– Слушай меня! – прокричал Асмунд, взобравшись на верхний уступ скалы. Хельги передоверил ему эту речь, поскольку произносить ее при помощи толмача счел неуместным. – Я помню, в Самкрае иные говорили, дескать, мы хазарам за наших дедов мстить пришли?
По рядам славянских «охотников» пролетел согласный гул.
– Вот завтра и будете мстить! – продолжал Асмунд. – Там в Самкрае были что – купцы да бабы, а те, что с оружием, только и мечтали, чтобы все поскорее кончилось и их не тронули. Теперь – иное дело. Идет на нас сам тудун из Карши и с ним всадники в бронях. И это – те самые хазары, которые ваших дедов гнули и притесняли. Теперь не они к нам, а мы к ним с мечом пришли. Докажите, что не зря вы за этот меч взялись. С тудуновой дружиной биться – это вам не купцов трясти и не девкам подолы задирать. Пусть хазары знают, что вы сами можете насмерть стоять, и тогда не только русов, но и славян-русичей бояться будут.
А назавтра, едва взошло солнце, как в дальнем конце долины поднялась туча пыли. Хельги смотрел как зачарованный; при его неплохом опыте он никогда еще не имел дела с конницей на широком открытом пространстве и не знал, как это выглядит. Туча приближалась и постепенно закрыла всю землю. Морской ветер сносил пыль к горам, так что и дальние склоны вскоре потонули в серо-желтом мареве.
Затем послышался тяжелый топот копыт, от которого содрогалась земля. Ближе, ближе, и вот уже в пыльной пелене замелькали темные силуэты всадников.
Пыльное облако доползло до подножия перевала и остановилось, медленно оседая. Стали видны ряды конных воинов, растянутых по дороге длинной змеей. Между ними и деревянными рогатками на перевале лежал пологий подъем длиной в несколько сотен шагов.
Вперед выдвинулась кучка всадников в блестящей на солнце броне. На вершинах островерхих шлемов вились по ветру пучки белого и черного конского волоса, знаменосец держал стяг из белых конских хвостов на длинной пике. Они смотрели на перевал, видимо, совещаясь.
Потом порядок конных распался, смешался и сложился в ряд, занимая всю ширину долины – в этом месте небольшую.
Хельги взмахнул рукой, отдавая приказ ставить стену щитов. Еще в Киеве славянские «охотники» выучили слово «скъяльборд» и теперь понимали его без труда. Тесно сомкнулись круглые щиты; один позади другого выстроились четыре ряда. Передние держали мечи и топоры; за их плечами встали копейщики и хирдманы с ростовыми топорами.
Русы ждали в напряженном молчании. Перед ними были не те перепуганные, растерянные горожане, с которыми им пришлось иметь дело в Самкрае: теперь им предстояло выдержать удар хорошо обученных и отлично вооруженных всадников, костяка каганова воинства. Тех самых людей, силой которых каганат на несколько веков подчинил себе десятки разных народов и даже какое-то время брал дань с полян и северян.
Хельги глянул на дружину Благожи, что стояла к нему ближе всех. На лицах застыло ожидание, сквозь решимость проглядывал сдерживаемый ужас. Поляне с Рупины видели перед собой то самое чудовище, о котором им еще в детстве бабки передавали услышанные от своих бабок страшные сказания. Не одно поколение полян гнулось перед этими закованными в железо гордыми всадниками. Осмелев, они сами пришли с оружием в логово чудовища и даже унесли кое-что из его сокровищ. Теперь оно догнало дерзких и собиралось покарать.
А Хельги, глядя на них, отметил: вот теперь мы и узнаем, чего вы стоите и выйдут ли из вас воины. На такую схватку киевский князь Ингвар, задумывая этот поход, не рассчитывал.
Или рассчитывал? И именно поэтому отправил сюда родича, от которого будет счастлив избавиться навсегда? Не со своей дружиной, а с «охотниками», которых, если что, не очень-то жаль…
Так или иначе, других нет, есть только эти. И если они не выстоят, из всей русской дружины с перевала живым не уйдет никто.
* * *
Первый натиск начался внезапно. Никто не заметил, чтобы хазарские полководцы подавали какие-то знаки, но темная туча – не менее тысячи воинов – вдруг отделилась от войска и покатилась к перевалу. Она поднималась, как черная волна; казалось, ничто не сможет ее остановить.
Прочие двинулись следом медленнее, поднимая тугие степные луки. Миг – и темная туча стрел закрыла небосвод.
Стена щитов, будто бок исполинского змея, повернулась к небу, преграждая путь ливню стрел. Глубоко вонзаясь в кожу и дерево, наконечники молотили густым градом, но мало какой удалось их пробить. Первый натиск обошелся без убитых: Хельги видел, что строй стоит, по-прежнему без промежутков.
На утесе захлопали в ответ греческие «скорпионы»: эти орудия выплевывали сразу по десятку тяжелых дротиков, способных пробить любой щит или доспех. Одна за другой разрядились все три катапульты, в хазарский строй полетели бревна, но русам из-за щитов не было видно, большой ли урон нанесли.
Ливень вражеских стрел утих, но лишь потому, что в это время верховые достигли рогаток. В воздухе замелькали арканы: захлестывая колья заграждений, всадники тянули, пытаясь растащить препятствие, но не тут-то было. Засеку сладили крепко: рогатки сцепили между собой и еще укрепили растяжками, которые привязали к кольям, вбитым в землю. Иные особенно лихие всадники попытались с ходу перепрыгнуть заслон, доходивший взрослому мужчине до подбородка, но вместе с конем напоролись на колья. А русы принялись рубить арканы, их стрелы и дротики поражали скучившихся верховых, выбивая из седел. Раненые лошади начинали биться, внося еще большую сумятицу. Ржанье, треск дерева, крики, лязг железа оглушали. Густая пыль лезла в глаза, рты, не давала толком вдохнуть.
В дело вступили стрелки и пращники греков. Не сумев растащить преграду, верховые развернулись и, нахлестывая коней, устремились вниз. На дороге и перед укреплением остались не меньше двух сотен тел, людских и конских; иные лошади бились, кто-то из раненых пытался отползти.
Первый приступ русы отразили легко. Даже самим не верилось. Не теряя времени, перевязывали раны, поправляли снаряжение. Привезли воды из ручья возле стоянки: отойти нельзя было ни на миг.
Пестрянка в это время сидела возле своего шатра, не сводя глаз с близкого перевала, будто с грани того света. Епископ Никодим и самкрайские христиане молились; жидины тоже. Она не знала, не поражения ли русов и гибели ее мужа просят они у своих богов – Отца и Сына, но старалась на них не смотреть. Над головой и ногами жертвенного бычка, оставленного на высокой скале, вились мухи. Хельги и Асмунд от лица своих воинов вчера принесли жертвы, но благосклонность Перуна и Одина зависит от их доблести.
Ей был слышен шум первого сражения, не очень сильный и быстро стихший. Когда отроки приехали возобновить запас воды, она накинулась на них с расспросами. Отроки заверили, что раненых немного и все воеводы целы. Но даже ей, женщине, было ясно: это еще не все. Хазары лишь пробовали оборону перевала на прочность. Будет новый настиск. И если «стена щитов» не выдержит, то эта железная лавина смерти прорвется и покатится в долину Сугдеи, сметая все живое…
* * *
Второй приступ начался около полудня. Все время до этого войско хазар волновалось, будто кипящая вода, отряды то скакали в сторону гор, то возвращались, видимо, ища проходы, доступные для конницы. Перед самым началом всадники Песаха пришли в большое оживление. Что-то кричали, размахивая руками, начальники, двигались пестрые значки и конские хвосты на пиках. Выстроившись, войско двинулось вперед. Греческие машины продолжали свою работу, дротики и камни обрушивались на ряды наступающих, выбивая из строя по три-четыре человека сразу.
Затем от конной толпы отделились и кинулись вверх по склону отряды пеших. Выглянув из-под щита, Хельги оценил их численность – тысяча с лишним, раза в два больше, чем русов. Всадники помчались по кругу, будто в неком конном хороводе; те, кто оказывался напротив рогаток, выпускали по ним стрелы, чтобы тут же дать место следующим. Впервые встретившийся с этим приемом, Хельги мысленно выругался: стрелы летели дождем, без перерыва даже на миг.
Добежав до заграждения, пешие хазары накинулись на рогатки с топорами, принялись рубить острые жерди, веревки, стягивающие части укрепления. Пытались растаскивать бревна засеки руками и накидывали на них петли арканов, за которые хваталось враз по нескольку человек. Другие стреляли в русов из луков, почти в упор, но в толчее и давке особого успеха это им не приносило. Русы же, привыкшие биться в тесном пешем строю, чувствовали себя вполне уверенно: длинные рукояти ростовых топоров и копий доставали тех, кто подошел к рогаткам достаточно близко, круша черепа и нанося смертельные раны. Иные хазары пытались лезть через рогатки, и тогда их легко доставали даже обычным мечом или секирой; тела повисали на кольях, обливая их кровью.
Греческие стрелки и прислуга машин взяли под прицел конных, теснившихся у подножия перевала; под градом стрел и снарядов те вскоре стали отступать. Следом побежали и пешие, так и не одолев рогатки и лишь потеряв перед ними пару сотен человек.
После этой неудачи хазары отошли подальше, куда не доставали даже смертоносные греческие машины. Для русов вновь настала передышка: сняв шлемы, они обтирали потные головы, пили воду, перевязывали раны. Теперь и у них появились убитые – десятка два. Тела оттащили в сторону и сложили под скалой в тени.
К Хельги и Асмунду подошел сотник Леонтий – проверить, как дела, узнать о потерях.
– Пока стоите неплохо, – одобрил он, на что Хельги только хмыкнул: без тебя знаем. – Я думаю, они еще раз попробуют.
– Только раз?
– Долина, – осклабился Леонтий, – суха, как старая кость. Совсем нет воды, а лошадям надо пить, иначе взбесятся. И людям надо. У них на все – один день. Да помогут вам ваши варварские боги…
Боги? Хельги огляделся. Какие боги здесь сильны? Под чьим покровительством эта земля? Христа, поскольку принадлежит христианскому василевсу? В этих местах его не оставляло ощущение, будто на него смотрит кто-то вечный и поразительно древний. В безводных впадинах жил чей-то мощный дух. Уж конечно, это не тот бог, которому служат Никодим и Георгий. Боги этих скал жили здесь задолго до того, как Один в последний раз сходил на землю в битве при Бравалле – откуда ушел тот его потомок, что остался в памяти под именем Бравлина. Сами греки верили в этих богов до того, как к ним спустился с неба Христос. Или не греки, а те неведомые народы с забытыми именами, из чьего праха сотворена эта каменистая, сухая земля. Служившие им народы ушли, сменились другими, и еще раз сменились, и еще… А боги все жили. И сейчас Хельги, своим обострившимся от запаха крови и близости смерти чутьем ощущал их присутствие совершенно ясно. Наверное, не он один. И Леонтий не упомянул бы о них, если не чувствовал чего-то подобного.
Ну, что же? Древние боги благодарны за посвященную им кровь и любят отважных.
* * *
Третий приступ начался ближе к вечеру. Солнце уже раскалило камни так, что к ним было не притронуться; казалось, мозг под шлемом плавится от жары. Снова первой вверх по склону устремилась толпа пеших, огибая трупы и спотыкаясь о разбросанные конечности мертвых. Перед самими рогатками человеческих и конских тел было уже столько, что они сами по себе образовали немалую преграду. Привычные к верховой езде, в боевом снаряжении степняки бегали плохо, но всадники позади них, запустив свой хоровод, непрерывно осыпали русскую «стену щитов» стрелами и тем помогали своим продвигаться вперед почти без потерь – русы были вынуждены прятаться за щитами и не отвечали на стрельбу.
Зато ударили машины греков. Во время первых двух приступов отлично пристрелявшись, в этот раз орудийная прислуга точно накрыла конных хазар, разом выбив целые ряды. Движение «хоровода» сбилось: кони на скаку спотыкались об упавших, иные тоже падали, увеличивая беспорядок. Поток стрел почти прекратился, и тогда лучники русов, выглянув из-за щитов, смогли наконец дать ответ.
Однако часть пеших хазар, задыхаясь и порой падая, все же достигла рогаток. С близкого расстояния им навстречу полетели сулицы, потом в дело пошли жала копий и лезвия ростовых топоров.
Хазарский полководец наблюдал за битвой с вершины невысокого холма. Вокруг него теснились телохранители, над головой в островерхом шлеме, богато отделанном золотом, развевался стяг из конского хвоста. Хельги иногда поглядывал на него, но на таком расстоянии не мог разобрать лица.
Конные стрелки вдруг пришли в движение. Большая их часть откатилась назад, но отряд сотен в пять помчался вверх по склону. У самых рогаток еще продолжалась схватка: русы сдерживали натиск пеших хазар. Доскакав до этого места, всадники начали стрелять прямо с седел, поверх голов своей пехоты, выбивая из русского строя одного за другим. Иные совместно с пешими тянули веревки, зацепленные за бревна. Здесь могучие машины греков ничем не могли помочь. Конным лучникам отвечали стрелки русов и греков.
Даже сквозь топот копыт, лязг и крики Хельги расслышал треск ломающегося дерева: в одном месте стена рогаток лопнула и стала падать, ощерившись обломками и щепой. Но на месте деревянной стены встала живая: Стейнтор Глаз со своей дружиной заткнул прореху и оттеснил было сунувшихся туда хазар.
Хуже было там, где желтая пыль дороги переходила в серый камень утеса. Здесь закрепить колья засеки было невозможно, и натиск пеших и конных выбил сразу несколько рогаток, скрепленных между собой. Иное дело, будь здесь настоящая засека из толстых ветвистых стволов, какими славяне когда-то встречали хазар в глуши своих лесов; но во всей Таврии не росло и десятка таких деревьев.
Хазары с воплями хлынули в прореху. Тела убитых падали наземь, но живые лезли прямо по трупам, тесня защитников.
Взвыл боевой рог. К опасному месту ринулся во главе своих телохранителей Асмунд, стоявший ближе. Но тут наконец вступил в дело Леонтий со своим отрядом. Плотно сбив ряды и выставив вперед копья, греки ударили, не сбавляя шага, и на остриях вынесли уже почуявших победу хазар обратно в пролом. Русы подперли их с боку, восстановив рубеж обороны.
Еще какое-то время хазары продолжали лезть на копья, а затем их напор ослабел. Как прибой от скалы, они отхлынули назад и покатились вниз, под уклон. Никто даже не стрелял им вслед.
Солнце клонилось в море – красное, будто полное пролитой за этот долгий день кровью и тяжелое от нее. И тогда, когда русы ожидали последнего на сегодня приступа, хазарское войско развернуло коней вспять и стало удаляться.
* * *
Из-под камня вылезла сколопендра. Пестрянка следила за ней, пока тварь не скрылась в пучках травы: говорят, они ядовитые. Потом испустила тяжкий вздох и посмотрела на море из-под края мафория. Море сияло синим блеском, но даже это приятное зрелище уже утомило ее. С трех других сторон расстилались склоны гор, сбегающие к заливу – желтая каменистая земля, спаленная солнцем трава.
Как она уже устала от этой режущей глаз желтизны и острого блеска волн под солнцем, как соскучилась по зелени, по мягкому сероватому небу… Вспоминался тот день перед Купалиями, когда они с Хельги носили припас для Буры-бабы: мелкая морось, влажные еловые лапы, высокие травы, от которых промокал подол сорочки, водянистая красная земляника на мокрой ладони… Пестрянка невольно улыбалась, чувствуя, как смягчается сердце. Чуть больше года миновало, а кажется – тысяча лет.
Два дня назад войско вернулось с перевала и теперь отдыхало. В первую ночь после отступления хазар оттуда ушла только половина русов; сменяясь, одни спали, другие сторожили на случай внезапного возвращения Песаха. На следующий день, выслав вперед дозоры, сошли на склон. Отроки собирали тела хазар, снимали пояса, оружие, пригодную одежду, обувь. Многие слышали, что степняки носят особые черевьи, к которым пришиты трубы из кожи, закрывающие ногу почти до колена, но иные лишь теперь увидели их своими глазами. При езде, говорят, это удобно, но в такую жару ноги в этих трубах чуть ли не плавились, поэтому натянули добычу лишь самые горделивые. Снимали с конских трупов седла и сбрую.
Из города пришли присланные стратигом сугдиане – закапывать покойников хазар. Оставить их без погребения было немыслимо: при такой жаре уже скоро не то что в долине, а и в самой Сугдее станет нечем дышать. Сотни трупов людей и лошадей везли и волокли к глубокой расселине в скалах; над головами тучей жужжали мухи. Перетащив все, засыпали камнями и землей.
Своих мертвых русы и русичи хотели сжечь, как велит обычай, но оказалось, что негде взять столько дров. Местные жители топили печки то соломой, то плавником, то сушеным навозом; вскипятить воду в горшке жара хватит, но сжечь тело… В конце концов, разложили костры из соломы и плавника поверх уложенных в яму тел, а как топливо прогорело, засыпали землей. Каждому погибшему Хельги велел выдать полный набор снаряжения. Чего не хватало – добавить из добычи, чтобы был и топор, и стрелы, и щит, и копье, и даже шлем.
– Вот ведь дедки подивятся, – пробормотал Перезван; в его родовой дружине оказалось шестеро погибших, в том числе родной младший брат Святигость. – Никто еще из наших к дедам со щитом и в шеломе не являлся. Соберутся небось, расспрашивать начнут: а это что, а то зачем, а это для чего?
– Но они могут гордиться, что твои братья погибли со славой, как воины! – Хельги хлопнул его по плечу.
– Не знаю… – Перезван подавил вздох. – Может, скажут, и куда вас лешии понесли, сидели бы дома! Таврия, Боспор! Да деды веками жили, слов таких не знали! А наши, вон, головы сложили здесь. Зачем, скажут? Какое ваше дело, скажут? Не трогают Киев больше хазары, ну и ладно, на кой было самим к ним лезть?
– Ради славы земли Русской! – ответил ему Асмунд. – За это стоит голову сложить! Чтобы и на Боспоре, и в Таврии, и в каганате самом знали русь и опасались нам поперек дороги становиться! Разве это не дело? Объясни там дедам своим!
– А они скажут – где та Русская земля…
– Где мы, там и она!
– Непонятно им будет. Сколько жили – только и знали, что свою речку Ржавку, да свои жарыни, да леса – ближний и дальний, а за дальним лесом уже и тот свет.
– Но ты-то уже понял, что наша земля и за дальним лесом не кончается? – Хельги посмотрел на него.
– Я понял. Потому и с вами здесь. Дедам трудно будет…
– Что с них взять, с дедов? Ты лучше о внуках думай, – посоветовал Асмунд. – Глядишь, они дальше нашего пойдут.
Зарезали бычка, устроили поминальный пир. Сегодня, наконец покончив с делами, отдыхали. Везде в тени белели сорочки отроков; кому не хватило места здесь, ушли на склон, где зеленела роща дикой сливы. Без тени в этом месте выжить было просто невозможно. Шатры спасали от солнца, но в них висела такая душная жара, что никто не выдерживал долго. Пестрянка проводила время снаружи, сидя на кошме и прячась в тени полога. От гнетущего зноя она, выросшая в прохладном краю, стала вялой, отяжелела и с трудом сохраняла бодрость. Ей досталось наблюдать за боспорскими заложниками: во главе с епископом Никодимом, те собирали топливо, ловили рыбу, варили кашу и похлебку.
Издали донесся пронзительный свист дозорных. Несколько отроков поблизости привстали, оглянулись. Но свистели не с перевала, а наоборот, со стороны Сугдеи.
– Эй, смотри, греки едут, – сказал Агнер, всматриваясь в дорогу от города, где вздымалась желтая пыль из-под копыт.
– Много?
– Да… десятка два. Кто-то важный с ними…
– Марк это. – Хавлиди, ездивший с Хельги в Сугдею, узнал доместика фемы. – Вон, в красном плаще.
– Только не назад на перевал! – простонал Своимысл и сморщился. – Неужели и трех дней не дадут передохнуть?
– Может, эти гады ползучие теперь через другой перевал заходят, а греки без нас не справляются?
– Госпожа, я разбужу конунга? – спросил у Пестрянки Агнер.
– Разбуди лучше Асмунда, – Пестрянка вспомнила покрасневшие от недосыпа глаза Хельги и его несколько размытую улыбку насильственной бодрости. – Да вон он сам идет.
В сопровождении десятка отроков Асмунд вышел навстречу гостям. Доместик фемы Херсон соскочил с коня и приблизился к нему. Асмунд показал на кошму в тени раскидистой яблони у ручья – самое прохладное и приятное место во всем стане. Тот кивнул, и они направились туда.
– Надо его угостить, – Пестрянка поднялась на ноги и вытащила из-под полога шатра кувшин из самкрайской добычи – зеленый, поливной, с росписью на боку, очень похожий на тот, что она видела когда-то на столе Уты, только не с птичками, а с лошадками. – Салимат, принеси вина. Тови, проводи ее.
Хоть гостей и приходилось сажать на кошму, расстеленную на земле, угощали их на посуде куда лучше, чем могли предложить многие просторные жилища: серебряные кубки булгарской работы, греческое вино в цветном кувшине, наполовину разведенное водой, смоквы прямо с дерева, свежая жареная рыба, хлеб и сыр на расписном блюде из города Абескун. Марк кивнул Пестрянке, под присмотром которой все это ему подавали девушки-ясыни; она заметила, что он пристально рассматривает убранство «стола». Угрюмо глядя своими глубоко посаженными глазами, осведомился о епископе, и отрок пошел за Никодимом.
– Я приехал пригласить архонта Эльга в Сугдею, – заговорил Марк, когда пришла пора назвать цель его появления.
– Какие-то новые вести о Песахе? – спросил Асмунд.
Он сидел напротив Марка на кошме, а вокруг сидели и лежали десятка три отроков и старших оружников. Пестрянка с двумя девушками стояла чуть поодаль под деревом, чтобы подать еще угощения, если что-то кончится. Отроки Марка сидели и стояли в тени под соседней стайкой деревьев, доместика фемы сопровождал только толмач.
– Он отошел к Черной горе, где есть вода и можно пасти лошадей. Видимо, там останется, пока не восстановит силы. Но может пробовать пройти через второй перевал. Или дожидается подкрепления из Боспора.
– А стратиг Кирилл не думал вступить с ним в переговоры? Сейчас, пока хазары в непростом положении? Они не могут долго ждать, но и мы не можем стоять тут бесконечно. Идти по морю до устья Днепра и там вверх по течению займет, как мне говорили, – Асмунд посмотрел на Вермунда, тот кивнул, – немало времени, возможно, месяца два. Мы едва успеем домой до холодов. А то и до первого снега. Если магистр Евтихий подтвердит, что мы выполнили уговор и он готов сообщить об этом василевсу Роману, то мы уйдем.
– Об этом стратиги и желают поговорить, – кивнул Марк. – О завершении нашего дела и исполнении договоренностей. Поэтому они хотели бы видеть архонта Эльга… и тебя тоже, архонт Асмунд, у себя в Сугдее сегодня вечером.
– Я передам приглашение моему брату, – пообещал Асмунд.
Но ближе к вечеру в Сугдею отправился он один – лишь в сопровождении десятка отроков своей ближней дружины.
– Мы не будем покидать стан оба сразу, всякое ведь может случиться, – заметил Хельги, который был хоть и смел, но осторожен, как волк. – Песах ушел не настолько далеко, чтобы мы могли расхаживать по гостям. Я уже ездил к стратигам, теперь твой черед. Ты заключал договор с Евтихием, будет очень уместно, если вы с ним и подтвердите его исполнение.
– Вермунда возьми, – посоветовала Пестрянка. – Пусть тайком слушает, что там греки будут меж собой толковать… Погоди, дай я тебе ворот поправлю.
В Самкрае каждый из вождей запасся цветным платьем: для встречи с греками Асмунд надел синий полураспашной кафтан из плотного шелка, отделанный на груди, по подолу и рукавам широкими полосами темно-красной ткани с золотистыми узорами, с золочеными пуговицами до пояса. У многих появились хазарские «хвостатые» пояса, тесно усаженные серебряными и даже золочеными бляшками. От солнца лицо и шею Асмунда защищала хазарская «ушастая» шапка из красного шелка на льняной подкладке; в сочетании с красноватым лицом (за способность легко обгорать на солнце греки и зовут русов «русиос», то есть есть «красные») и золотисто-рыжеватой бородкой смотрелась она непривычно, но красиво.
Провожая Асмунда и глядя, как он с отроками садится в лодью, Пестрянка испытывала истинно сестринскую гордость за него. И если ей случалось вспомнить, что этот человек был ее мужем, ей казалось, что это не собственная память, а услышанная когда-то повесть о какой-то другой молодой женщине. Возмужавший и дорого одетый, Асмунд был очень хорош собой. Пестрянка видела это, однако Хельги с его тяжеловатыми чертами и родимым пятном тем не менее нравился ей гораздо больше.
* * *
Вступая в резную тень двора, укрытого виноградной листвой, Асмунд имел вид гордый и даже отчасти грозный. Ему был только двадцать один, но за последний год он привык к тому, что Русь – это он. Там, где нет Ингвара, конечно. Сопровождали его пятеро отроков и Вермунд, прочие остались в гавани при лодье. Но для уверенности больше ему и не требовалось: за своей спиной он чувствовал не только пять с половиной сотен войска Хельги, способного отразить натиск четырех тысяч тяжелой хазарской конницы, но и всю ту бесчисленную русь, что обитала между Греческим морем и Варяжским. От ее имени ему надлежало сегодня завершить переговоры, начатые год назад в Царьграде. От имени людей, делом доказавших, что они не хуже своих прославленных дедов.
– А что же ты не привез свою жену? – с улыбкой деланой любезности осведомился стратиг Кирилл, здороваясь с Асмундом.
Глаза у него по-прежнему были как две оловянные бляшки: невыразительные, будто он с сосредоточенным вниманием рассматривал то, что было внутри него, а не снаружи.
У Асмунда екнуло сердце: подумалось, что грек намекает на Пестрянку, которую в прошлый раз сюда привозил Хельги. Но откуда им знать, что раньше она принадлежала ему?
– Моя жена осталась в Киеве. Не все жены русов сопровождают их в походы. Но вы ведь хотели со мной поговорить, а не с женщиной?
– Мы желали увидеть здесь и епископа Никодима, – напомнил архиепископ Георгий.
Вид у него сегодня был особенно решительный и воинственный.
– Мой брат Хельги уже объяснил это вам, как я слышал. Епископ Самкрая – добыча дружины, и выкуп за него должен быть поделен на всех. Мы не можем сами распоряжаться его судьбой или возить в гости. Желаете его увидеть – предлагайте выкуп. Никаких иных условий в нашем уговоре изначально не было. Как и помощи вам в обороне ваших владений, так что мы уже сделали больше того, за что брались.
Асмунд уставился на Георгия, ожидая, что тот сейчас заведет свое, что-де русы не имели права притеснять и брать в плен христиан Самкрая. Но тот лишь поджал губы и отвернулся с негодующим видом.
– Мы ожидали увидеть архонта Эльга, раз уж он считается верховным главой вашего отряда, – своим тихим, невыразительным голосом начал Кирилл. – Но неплохо и то, что приехал ты, поскольку с тобой магистр Евтихий, – он оглянулся на соратника, – обсуждал условия похода на Таматарху.
– Не знаю, передал ли вам ваш человек, – Асмунд нашел глазами Марка, – но скажу еще раз: нам пришла пора собираться в обратный путь, в Киев, чтобы успеть добраться до холодов. Если вы не думаете, что Песах сделает новый приступ, то нам больше нечего здесь делать. Ты, Евтихий, готов подтвердить перед василевсом, что мы выполнили свою часть договора?
– Нет, – нахмурился тот. – Мы позвали тебя, чтобы услышать, почему вы не выполнили свою часть договора.
– О чем ты говоришь? – Асмунд подобрался. – Если опять о пленении епископа…
– Нет, – перебил его Евтихий. – Когда василевс давал вам денег на этот поход, он поставил условие: уничтожить Таматарху и особенно всех торговцев-иудеев. А город сжечь и разорить. Вы же не сделали этого и сами того не скрываете.
– Как мы могли его сжечь? Там нечему гореть – постройки из глины, стены из камня. Даже крыши в глине.
– А жители? Вы могли всех забрать в плен и продать. Но вы привезли всего человек сорок, и те, как я слышал, заложники, которых вы обещали вернуть. А с остальных всего лишь взяли выкуп и оставили на месте.
– Чтобы забрать хотя бы сотню пленных, нам пришлось бы где-то достать еще два-три десятка лодий. Мы рассчитывали на те, что найдутся в гавани, но Хашмонай сам забрал их все, чтобы увезти свою дружину через пролив в Каршу. Лучше брать серебро, чем людей: двадцать шелягов занимают куда меньше места, чем человек со всей семьей.
– Но убить-то вы их могли! – воскликнул Кирилл, впервые проявляя оживление. – Для этого кораблей не надо, и люди там не из глины!
– У нас не хватило времени. Мы получили весть о возвращении Хашмоная и не желали ждать, пока он поубивает нас.
– Вот как! – язвительно ответил Евтихий. – Вы струсили! Вы сбежали, едва появилась опасность встретиться с сильным противником, и забыли свои обязательства! Ваш поход был снаряжен на деньги василевса – этого ты не сможешь отрицать, я сам передал их тебе при свидетельстве патрикия Феофана и логофета геникона, патрикия Евгения!
– Я и не собираюсь отрицать, – Асмунд положил кулаки на стол. – Мы получили деньги и пустили их на снаряжение судов и людей. И не стыдно тебе попрекать нас – и трех дней не прошло, как мы своих мертвых погребали! У нас пятьдесят четыре человека на перевале полегли, ваш город защищая! А ведь мы могли просто сесть на свои суда и в море уйти! Нас-то Песах на конях своих по волнам не догнал бы! Мы ради вас своих людей полсотни положили, чего вам еще надо от нас?
– Вы взяли деньги, но не выполнили того, что от вас требовалось! – будто не слыша, твердил Кирилл. – Вы должны были надолго обложить Таматарху и вынудить Хашмоная вернуться. Но он, как видно, посчитал, что вы простоите там понапрасну и не причините городу особого вреда, и остался у Боспора, пока Песах не собрал силу, чтобы ударить по нам. А вы уже вошли в город! И раз уж вы вошли, вы должны были исполнить указание!
– Надолго обложить Таматарху? – Асмунд пристально взглянул на него. – Вот что от нас требовалось?
Эти слова как-то особо зацепили его внимание; он еще не понял всего, но заподозрил, что со стороны греков уговор был таким же не вполне честным, как и со стороны Ингвара. Но греки свой обман задумали и подготовили раньше.
– Так вы чего хотели взаправду-то? Чтобы мы взяли город или чтобы под стенами топтались, пока Хашмонай не вернется?
– Мы рассчитывали, что вы будете осаждать ее достаточно долго… – начал Кирилл, но глянул на Евтихия и осекся. – Ну а если все же Божиим попущением попадете в город, то уничтожите население, чтобы…
– Чтобы на Боспоре Киммерийском нам было некуда продавать нашу дань? – закончил Асмунд, помнивший рассуждения Ранди Ворона.
– А вы пожелали сохранить для себя хазарские торги! – обвиняющее воскликнул Евтихий.
– Мы сделали все, что сумели за такое время, – с замкнутым лицом бросил Асмунд.
В искусстве скривить душой он сильно уступал и зятю Мистине, и даже брату Хельги.
– Не много же вы сумели! И нам отлично известно, как быстро русы умеют… – Кирилл брезгливо поморщился, – убивать. Когда ваш старый архонт Эльг при Льве и Александре приходил с войском на Боспор Фракийский, ему не требовалось много времени, чтобы проливать кровь христиан. Он умерщвлял их с врожденной жестокостью вашего племени: с бесчеловечной свирепостью его люди убили множество народа, разрушили дома, пожгли церкви! Предавали мечу поместья и селения! Убивали пленных сотнями, рассекали на части, стреляли в них из луков, топили в море! Все это делали русы! А ты и твой брат Эльги, хоть и наречен в честь знаменитого дяди, не сумели вдвоем сделать и десятой части этого!
– Ты упрекаешь меня в том, что мы не сожгли церковь и не убивали людей тысячами. В том числе и христиан Таматархи? – Асмунд рассмеялся, хотя ему вовсе не было весело. – А если бы мы так поступили со всеми жителями, ты был бы доволен? Подскажи, что нам надо было сделать с епископом? Забить ему в голову нож? Распять на кресте? Утопить? Расстрелять? Подскажи. Мы еще успеем это сделать, он ведь здесь с нами!
– Попробуйте только тронуть этого человека, и ваши нечестивые руки тут же отсохнут! – рявкнул Георгий. – Мы уповаем на бессмертного Бога – Христа, и если вы не желаете по доброй воле исполнить наши справедливые требования, то мы силой заставим вас это сделать!
– Хватит слов! – Стратиг Кирилл хлопнул ладонью по столу, его оживившиеся было серые глаза вновь превратились в две оловянные бляшки. – Василевс дал вам денег на поход с условиями, которые вы не выполнили. Поэтому теперь мы требуем, чтобы вы немедленно освободили епископа Никодима и всех христиан Таматархи, вернули церковное имущество, а также в возмещение наших расходов выдали нам половину всей прочей добычи.
Когда его толмач – тот юный светловолосый грек с миловидным лицом, – произнес последние слова, повисла тишина.
– Чего, йотуна мать? – отчетливо прозвучал ответ Асмунда, полный пока больше недоумения, чем гнева.
– Мы признаем договор исполненным, если вы освободите епископа с имуществом церкви Таматархи, всех христиан, что у вас, и передадите нам половину добычи, – повторил тумарх Дионисий.
– Вы ё… о… сдурели совсем? – Как человек малоопытный в переговорах, Асмунд не сразу нашел хоть сколько-то уместные слова.
– Вы не выполнили условия! – с нажимом повторил Евтихий. – Деньги василевса, выданные вам, оказались потрачены зря! Если вы хотите продолжать переговоры о торговле, то должны возместить нам потери. Мы предлагаем вам сделать это прямо сейчас, и тогда вы сможете уехать и передать вашему архонту в Киеве, что на следующее лето он может присылать послов в Константинополь для обсуждения условия договора.
– А если нет? – Асмунд бросил на него сердитый взгляд исподлобья.
– Тогда вы больше никогда не увидите стен Великого Города даже издали!
– Ну и идите вы к йотунам, пес вашу мать! – Асмунд резко встал. – Хрен вам в рыло, а не добыча! Мы свою добычу всяким мужам женовидным не раздаем! Хотите делить – сами возьмите. А вас хазары под зад ногой вышвырнули из-под Карши, вы теперь к нашей добыче ручонки тянете! Союзники нам такие нужны, как на Купалу варежки!
Он еще не успел полностью постичь затеянный обман, но что русов пытаются нагреть, понял очень хорошо.
– Ты не уйдешь отсюда, пока епископ Таматархи не будет с нами! – крикнул Кирилл, тоже вскочив. – И сам не вернешься в свое отечество, если вынудишь силу ромеев выступить против тебя!
Ни один толмач еще не успел это перевести, но Асмунд все понял по выражению лица стратига. Резко огляделся, оценивая свое положение, одновременно хватаясь за меч и прикидывая, что бы взять в левую руку заместо щита. Он ведь не собирался ни с кем драться, поэтому меч имел при себе только ради чести.
И едва увидев движение его руки к рукояти меча, кто-то из греческих отроков – телохранителей Кирилла – схватил за ручку глиняный кувшин и метнул Асмунду в голову.
И попал. В этот миг голова Асмунда была повернута в другую сторону, и кувшин ударил его по затылку. Хазарская шапка на подкладке несколько смягчила удар, иначе кувшин мог бы проломить ему череп, но и так силы удара хватило: едва взявшись за рукоять меча, Асмунд с грохотом рухнул боком на стол.
В палате при нем было только шесть человек, считая Вермунда. На них навалились толпой отроки Кирилла, но те и не пытались особо сопротивляться: не было смысла умирать в неравной схватке, не имея даже надежды этим помочь вождю.
– Заприте их и пошлите к русам, – распорядился Кирилл. – Отправьте их оружие и скажите: если завтра епископ и имущество не будут здесь, послезавтра архонт получит четыре головы!
* * *
В русский стан весть о пленении Асмунда принесли отроки, ждавшие молодого воеводу на пристани Сугдеи. К ним явились стратиоты Кирилла и передали условия. Сонное оцепенение разом схлынуло; русы и русичи поднялись и, хватая оружие, сбежались к шатру Хельги.
Там уже собрались бояре и хёвдинги. Первым делом Хельги осмотрел выложенное перед ним оружие: два меча и четыре секиры. Лезвия были чисты. Меч Асмунда бросался в глаза: навершие и перекрестье были украшены плотно забитой в бороздки золотой проволокой – сделанной из Романовых номисм – с узором из ромбов. Хельги вытащил его из ножен – клинок был чист, лишь со следами сала, которым ворс шкуры, из которой шьется нижний слой ножен, смазывали изнутри. Ни крови, ни свежих щербин и зазубрин – никаких признаков, чтобы его сегодня пускали в дело. Значит, обошлось без кровопролития, и это уже хорошо.
– Асмунд не ранен? – спросил он у отроков, догадываясь, что его брат не сдался бы без боя.
– Они не сказали, – удрученно сознались те. – Сказали, что он в плену и его люди тоже.
– Коли люди в плену, стало быть, все живы, – заметил Перезван. – Слава чурам.
– И что, мол, завтра чтобы им епископа, и всех христиан из Самкрая, и все имущество церковное, и добычи половину. Приедет Марк, осмотрит, половину отделит, и это, стало быть, их доля за то, что мы Самкрай с землей не сровняли.
Потрясенные отроки, к которым в гавань вместо своего воеводы пришел кентарх Василий с вестью о его пленении, едва сумели запомнить и передать условия. Но Хельги и сам понял, в чем их обвиняют и как греки обосновали свое вероломство. И на чем это основано на самом деле: униженные и раздосадованные своим поражением под Каршой, Кирилл и Евтихий нипочем не могли допустить, чтобы презираемые ими язычники-русы ушли с этой войны почти без потерь и с большой добычей. Оставить в плену епископа Никодима архиепископ Георгий мог не более, чем сам Хельги – допустить, чтобы в плену оставался Асмунд. Но если для епископа пострадать от рук язычников не так уж плохо и зачтется Богом, то для воеводы томиться в плену или тем более там умереть – участь невыносимо унизительная. Позорное пятно на весь русский род. Захватив Асмунда, греки взяли Хельги за горло, и он хорошо это понимал.
Воеводы и отроки громко негодовали. Вдохновленные своим успехом в Самкрае и на перевале, возмущенные нынешним вероломством греков, они предлагали немедленно напасть на Сугдею и освободить Асмунда с его людьми.
– Даже Бравлин осаждал этот город десять дней, – напомнил Хельги. Он по виду сохранял спокойствие, но Пестрянка видела по его сосредоточенному и жесткому взгляду, что в нем зреют великие решения. – А с тех пор греки железные ворота новые поставили.
– К тому же, как бы они нашего воеводу… не того… – Перезван осторожно провел ребром ладони по горлу, будто это могло повредить Асмунду.
– Вот именно, – кивнул Хельги. – Асмунд – мой брат, я должен его уберечь.
– Так что же теперь – выкуп платить? – возмущенно воскликнул Требигость.
Хельги внимательно посмотрел на него. Было видно, что сохранность добычи словенский боярин ставит выше жизни чужого ему русского воеводы.
– Добычу отдать? – гудели остальные.
– Мы за нее кровь проливали!
– Я троих потерял!
– У меня вон сестрич теперь одноглазый – а всего год как женился.
– Этим грекам только дай!
– Вот козлы!
– Епископа им! Да голову ему снести и им на блюде послать!
– Епископа не трогать! – повысив голос, вмешался Хельги. – Агнер, приставь к нему и прочим христианам охрану получше. Мне мой брат нужен целым, а не по частям.
– Так что же – добычу нашу отдать? – Рослый, грузноватый боярин Селимир с Ильмень-озера шагнул к нему, в негодовании сжимая кулаки.
Хельги оглядел возмущенные лица. Для многих славянских воевод это была первая в жизни заморская добыча, и отдать ее было невыносимо обидно.
– Подумаем до утра, как быть, – обронил он. – А ночью быть начеку. Раннульв! Передай всем: усилить дозоры. Теперь любой подлости можно ожидать. Ольвид, иди к Агнеру и напомни, чтобы берег епископа, как клад Фафнира. Завтра утром еще раз все обсудим.
С этим он ушел в шатер, велев отрокам никого не пускать, если не случится чего-то особенного. Пестрянка молча приготовила постель; ее очень встревожили вести, она беспокоилась об Асмунде, но не решалась приставать к Хельги с расспросами. Он вскоре разделся и лег; в темноте шатра она не видела его лица, но кожей чувствовала исходящее от него напряжение.
– Вытаскивать Асмунда надо как угодно, – шепнул Хельги, когда она устроилась рядом. – Если я вернусь без него, это опозорит меня, и родичи мне этого не простят. И киевские, и плесковские. Я погибну заодно с ним. Не говоря уж о том, что он мой брат и достойный человек. Это первое, что мы должны сделать, даже если придется отдать троих епископов.
– У нас всего один, надо еще двоих где-то отловить, – сказала Пестрянка, надеясь его немного развеселить. – Хочешь, я отдам мое тряпье?
– Нет.
– Мне ничего этого не нужно.
– Нельзя. Если бы ты была одна, без мужчины, и отдала свои платья и узорочья ради выкупа родича, это тебя прославило бы. Но ты при муже, и если я возьму у тебя хоть одну бусину, это меня унизит перед дружиной.
Пестрянка не стала настаивать: ему виднее, как защитить их честь. А потом подумала: что, если бы и на этот раз в Сугдею поехал Хельги и попал бы в плен? Асмунд, наверное, тоже решил бы выкупить его. Но окажись здесь Свенельд, Мистина, даже сам Ингвар… Они, надо думать, нашли бы причины оставить неудобного родича в плену до тех пор, пока пребывание там не покроет его позором или не лишит жизни.
Хельги повернулся к ней, притянул к себе и поцеловал в темноте. Она обвила рукой его шею, и как всегда, от прикосновения к его коже ее пронзила теплая дрожь. И еще мелькнула мысль: а ведь уже давно у нее не было «на сорочке»… Что, если она дитя понесла? В каком ужасе она была бы сейчас, очутись Хельги на месте Асмунда! И она торопливо прижалась к нему, не только умом, но всем существом своим ощущая, как непрочно ее странное счастье и как хрупка жизнь человеческая. И, как ни удивительно, особенно жизнь здорового, сильного мужчины и военного вождя. Ведь высший небесный вождь может призвать его каждый миг…
* * *
Рано утром Хельги выбрал одного из пленников-греков – Димитрия, сына знатного боспорца Павла – и отправил в Сугдею с известием, что он согласен на условия стратига и готов совершить требуемый обмен.
– Мы сейчас не в том положении, чтобы торговаться за жизнь моего брата, – жестко сказал он, объявляя свое решение дружине. – Мой брат и его люди должны быть освобождены как можно скорее. А уже потом будем думать, как отплатить грекам за это оскорбление. Мы свое возьмем. Это необходимо и даже неизбежно. Не за тем мы пришли в Таврию, чтобы оставить по себе память как о раззявах, у кого военную добычу отнять легче, чем у пятилетнего мальца морковку. Наши предки оставили здесь о себе иную память, и мы ее не опозорим. И докажем грекам, что они напрасно забыли Бравлина, Аскольда и Олега.
К полудню приехал доместик фемы Марк с целой дружиной в две сотни отроков с комитом во главе.
– Поклянись твоим богом, что мой брат Асмунд жив и здоров, – кивнув в знак приветствия, сказал ему Хельги и показал на епископа Никодима: – Надеюсь, перед лицом его высокого служителя ты не солжешь мне.
– Свидетель Бог – архонт жив и… почти невредим, – буркнул Марк со своим обычным угрюмым видом; его глубоко посаженные глаза блестели, как два мокрых черных камешка. – И его люди тоже.
– Что значит «почти»? – Хельги требовательно взглянул на него, а в душе облился холодной дрожью, вспомнив о том, как любят греки калечить своих противников. – Я понимаю, что мой брат не отдал оружие добровольно, стоило его попросить, но что произошло?
– Его… ударили кувшином по голове, – с неохотой ответил Марк. – Он потерял сознание. Но потом пришел в себя.
– Голова разбита?
– Нет, насколько я знаю. Он был в своей хазарской шапке. Может, он и не совсем здоров сейчас, но оправится. Владыка, – Марк поклонился епископу, – эти варвары не причинили тебе вреда? Не нанесли обиды?
– Господь сохранил нас, – кивнул тот.
– Пойдем, я покажу тебе добычу, – предложил Хельги.
Все захваченное в Самкрае было вынесено из лодий и сложено в расселине под скалой, где добычу было удобно охранять. Пока шли через стан, русы толпились по сторонам и не сводили с греков угрюмых взглядов; с вызывающим видом упирая руки в бедра, словно показывая свои хазарские пояса с бляшками, или опираясь на ростовые топоры и копья, они молчали, и это давило сильнее, чем даже буря бранных возгласов. А Хельги был так спокоен, будто вел купца, который собирался расплатиться за полученное золотыми номисмами.
При помощи греческих отроков осмотрели добычу: серебро, оружие, ткани, драгоценную посуду, запасы вина и пряностей. Отложили имущество, захваченное в церкви – шелковые алтарные покровы и одежды священнослужителей, серебряные и золоченые сосуды, кресты, иконы-складни из серебра, книги в дорогих окладах. За несколько веков существования в богатом торговом городе, где было много христиан еще со времен ромейского владычества, самкрайский собор накопил немало богатства. Среди прочей добычи нашлось много серебряных и позолоченных, отделанных жемчугом и самоцветами окладов с икон: двести лет назад в Самкрай бежало немало поклонников икон, которых в ту пору гнали в самой Василее Ромеон. Они привезли сюда свои сокровища, и у их потомков дорогие оклады были отняты русами. Эти вещи доместик Марк тоже желал получить, но Хельги указал на условия: выдаче подлежит епископ с имуществом собора и пленные христиане, но не добро тех христиан, которые остались в Самкрае.
– Не стоит перегибать лук, иначе он лопнет у тебя в руках, – заметил ему Хельги. – Мне стоило немалого труда удержать моих людей от возмущения и склонить их принять ваши условия. Если же ваши требования будут расти на каждом шагу, то начнется бойня. Прямо сейчас.
– Твой брат будет казнен, – угрюмо пригрозил Марк.
– Но ты этого уже не увидишь. И твои люди тоже, нас ведь здесь втрое больше.
Справедливость этого довода Марк признал и согласился принять половину окладов, как и всего прочего. Отделив свою часть, наложил свинцовые печати со знаком креста и надписью: «Господи, помоги рабу Твоему Кириллу, стратигу фемы Херсон».
– Мы привезем это в гавань, там на причале и совершим обмен, – предложил Хельги. – Надеюсь, еще до вечера с этим делом будет покончено.
– Поклянись мне на твоем оружии, – Марк кивнул на меч у пояса Хельги, – что вы показали мне все захваченное в Таматархе и ничего не утаили.
– Иди за мной.
Хельги привел его к своему шатру, где снаружи возле полога были сложены пять больших ларей. На одном сидела Пестрянка, прикрываясь краем шелкового покрывала от солнца, и ожидала, чем закончатся переговоры.
– Это доля моей жены, – пояснил Хельги, показывая на лари. – Она была исключена из общего дележа, поскольку отвага королевы дала нам всем возможность войти в город. Желает ли стратиг Кирилл, не бывавший в городе, получить половину имущества женщины, от которого отказались побывавшие там?
Пестрянка одарила Марка высокомерным взглядом.
– Если стратигу Кириллу нужна половина моих платьев, он получит их, – надменно заверила она.
Как ни мало развито было воображение доместика фемы, даже он невольно увидел стратига Кирилла, одетого в женское платье. И покачал головой:
– Твои платья нам не нужны.
– Значит, дело наше закончено, – с удовлетворением завершил беседу Хельги.
А угрюмые русы все так же молча стояли вокруг, и от их взглядов даже под жарким солнцем пробирала дрожь.
* * *
В гавань Асмунда привезли на повозке: он не мог стоять на ногах, хоть и был в сознании. От удара голова кружилась и болела, при попытке выпрямиться его начинало мутить. Его спутники со связанными руками шли возле повозки, под охраной двух десятков стратиотов.
Русские лодьи уже стояли у причала. В одних лежала увязанные в шкуры и мешки добыча – на веревках болтались свинцовые печати стратига, – в других сидели самкрайские христиане и епископ. Хельги сам приехал со своей ближней дружиной и с Селимиром совершить обмен; было неосторожно появляться в Сугдее самому одновременно с Асмундом, но он посчитал свой долг важнее осторожности. А заодно ему требовалось кое-что посмотреть. Под шелковым хазарским кафтаном у него была кольчуга и пластинчатый доспех.
Увидев, что пятеро спутников Асмунда, в том числе Вермунд, стоят возле повозки, а самого Асмунда не видно, Хельги переменился в лице. Никодиму скрам в бок и за борт в волны гавани – одно мгновение… Но тут Вермунд бурно закивал ему – иной знак подать мешали связанные за спиной руки, – и показал плечом в повозку.
– Раннульв, – Хельги бросил быстрый взгляд на товарища, – ступай на причал и посмотри, что с ним.
Раннульв направился к повозке. Возле нее стоял Марк. Раннульв наклонился к лежащему, что-то сказал ему. Асмунд с усилием приподнялся, помахал Хельги рукой: дескать, я жив. Раннульв обернулся и кивнул Хельги. Тот сделал ему знак: давайте сюда. Марк поднял руку и указал на поклажу в лодьях и на пленников; вторую выразительно положил на рукоять своего меча.
По знаку Хельги отроки стали выгружать поклажу. Сам он вышел на причал и велел вывести к нему епископа. Марк двинулся к ним навстречу.
– Забирайте наших, – велел Хельги хирдманам.
Раннульв со своим десятком подошел к повозке. Они освободили руки пленным русам; тем временем хирдманы высаживали из лодий христиан Самкрая. Потом Раннульв и еще двое сняли Асмунда с повозки и понесли к лодьям. Хельги с Никодимом в это время ждали у края причала. Епископ молился про себя, совершенно отчетливо ощущая, что возле его бока стоит смерть, почти касаясь одежды.
Вслед за Раннульвом подошел Марк с десятком своих людей. У обоих предводителей вид был сдержанно-угрожающий; оружия никто не доставал, но ощущалась полная готовность сделать это при малейшем намеке на обман. И тогда своих живыми не уведет никто…
– Проверь свои печати и подтверди: вы получили все, что хотели, – предложил Марку Хельги.
Асмунда перенесли в лодью. Хельги слегка подтолкнул епископа, давая понять, что тот может идти. Никодим пошел вперед, с каждым шагом кожей ощущая, как понемногу увеличивается расстояние между ним и смертью.
Хельги повернулся спиной к причалу и вошел в ту же лодью. Наклонился над Асмундом:
– Брат, ты живой?
– Вода есть? – прохрипел тот, с тем мучительно-сосредоточенным выражением на лице, какое бывает при попытке сдержать тошноту.
Ему подали амфору с водой, приподняли, помогли напиться.
– Кувшином… по затылку… гады… – между глотками буркнул он. – Коз-злы вонючие, пес их мать…
– Тебя только от этого мутит? Вас не отравили?
– Мы ничего не ели, – ответил Вермунд, давая понять, что о возможности быть отравленными в плену они помнили.
– И не пили? – уточнил Асмунд, глядя, как жадно Ратислав вслед за Асмундом припал к амфоре.
Вермунд только кивнул. И Хельги мысленно возблагодарил богов, что не стал затягивать с обменом.
Епископ и его подопечные уже скрылись среди спин стратиотов на причале.
– Трогаемся! – Хельги сделал знак гребцам и положил руку на плечо Асмунда. – Поправляйся, брат. Ты же не думаешь, что мы все это так и оставим?
* * *
Утром, когда встало солнце, двое отроков помогли Асмунду дойти до ручья и уложили в тени на кошме – здесь, в прохладе и на свежем воздухе, он чувствовал себя куда лучше, чем в духоте шатра, к тому же и вода текла под рукой. Время от времени Пестрянка смачивала в ручье платок и клала ему на лоб. Асмунд хмурился не только от головной боли. Его вины в событиях последних дней не было, и никто его не упрекал, но все же он чувствовал себя виноватым в том, что Хельги пришлось возвращать ему свободу ценой половины добычи. И епископа, то есть полного его веса серебром.
Подошел Хельги и сел рядом.
– Ты можешь разговаривать, или пока отвязаться от тебя? Будь моя воля, я бы дал тебе отдыхать сколько угодно, но нам нужно что-то решать, если мы не хотим оказаться раззявами и посмешищами.
– Что я мог сделать? – Асмунд, лежа на боку, слегка приоткрыл глаза и снова закрыл.
– Я тебя не виню. Мне Вермунд уже все рассказал. Я обязан был тебя выкупить, даже если бы они запросили всю нашу добычу, даже мои новые абескунские штаны. Шелков и шелягов можно раздобыть и заново, а вот нового брата мне и за морями не сыскать.
– Ну, у меня же вдруг отыскался совершенно новый брат двадцати пяти лет от роду, – пробурчал Асмунд.
Хельги расхохотался:
– Не сомневаюсь в удали наших отцов, но рассчитывать на новые чудеса не стоит. Ты пока слушай, что я думаю, а потом скажешь, что думаешь ты.
Хельги помолчал, собираясь с мыслями, оглядел русский стан – запыленные пологи, костры, большие черные котлы, в которых отроки и пленники варили кашу. Частью русы еще спали в шатрах и в тени зарослей, кто-то ушел купаться в море. За те дни, что русы здесь прожили, трава еще больше побурела, зато плоды дикой сливы в ветвях над головами уже настолько округлились и пожелтели, что иные отроки пытались их лопать (и потом надолго пропадали у отхожей ямы за кустами). Усиленные дозоры наблюдали за входами в долину.
– Греки ожидают, – начал Хельги, – если не врут, сукины дети, – что Песах и его конница вот-вот уйдут восвояси. Они отошли к ближайшим отсюда источникам у Черной горы, там отдыхают. Но другого пути в Таврию у них нет, разве что идти прямо на Херсон. Но это уж только на будущий год. Значит, нам здесь больше делать нечего и можно уходить. Но мы же сюда не на солнце сохнуть пришли. Хоть и через драку, но греки подтвердили: мы сделали то, за что они нам давали деньги. А забрав полдобычи, они подтвердили, что договор нами исполнен. На другое лето Ингвар отправит послов в Царьград…
– Я не поеду, – решительно буркнул Асмунд, поправляя влажный платок на лбу; Пестрянка взяла его и унесла заново смочить в ручье. – Пусть теперь другой кто с этими клюями возится. Вон, Свенельдич хотя бы. Пока мы тут воюем, он там возле баб портки протирает, дальше будет его черед.
– Да уж, мало чести выйдет из такой поездки. Если греки теперь думают, что могут гнуть нас через колено, то и из переговоров выйдет один позор.
– Пусть Ингвар думает. Он ведь – русский князь, не мы с тобой… слава Перуну.
– Нет, брат мой, – Хельги покачал головой. – Ингвар нас с тобой сюда послал, чтобы мы своей отвагой добились от греков наилучших условий договора. И мы уже почти сделали это… и греки тоже это понимали, потому и бросили тебе в голову кувшин.
– Они кувшин бросили, потому что я их к йотуновой матери послал.
– Ну, придумали эту подлость, что, дескать, мы не выполнили условия, не уничтожив Самкрай полностью, и потому теперь должны им.
– Они хотели, чтобы мы уничтожили Самкрай и всех людей, а еще хотели, чтобы мы не трогали епископа и христиан, но не сказали об этом загодя? – Перезван развел руками. – Один я тупой, как колода дровяная, и не понимаю, чего они хотели взаправду-то?
– Я кое-что скумекал, – подал голос Вермунд. – Они, когда прошлым летом в Царьграде с нами рядились, промеж себя думали, что мы в Самкрай не войдем. Потому и позволили: дескать, берите все, что пожелаете. А как мы епископа взяли, стратиги и поняли, что им перед василевсом и патриархом за Никодима и людей Христовых отвечать. Да и стыдно: мы при добыче, они при синяках да шишках… А теперь дело сделано – хорошо ли, худо ли, – вот они и кобенятся, чтобы нам лишнего не дать и собой гордиться не позволить. Иначе с них самих василевс спросит, что так слабо воевали и его дурнем перед варварами выставили.
– Давайте-ка грести отсюда, – вступил в беседу Требигость: всю жизнь прожив вблизи Хольмгарда, он понимал северный язык. – А то им по нраву пришлось – не воевавши, добычу брать! Того гляди, за второй половиной придут. Воля ваша, но я моего больше ни шеляга не отдам! Я за нее кровь проливал! Я за нее троих людей потерял! Пока жив, ничего больше не отдам!
Хельги слегка улыбнулся, прищурив глаза. Ощутив вкус ратной доблести и удовлетворения от добычи, бояре уже готовы были биться за нее, как Фафнир за свои сокровища. Так славяне становятся русичами…
И только опыт открывает, что иной раз можно пролить кровь, остаться без ничего, уйти с позором… и готовиться к новому походу. Воин не всегда побеждает, но после поражения поступает именно так.
– Рано нам грести отсюда, – пояснил Хельги. – Не за портами цветными мы сюда приходили…
– Мы – за портами!
– Не перебивай меня! – Хельги вдруг повысил голос. – Вы в первый раз из своей норы высунулись, так пока едва дальше носа видите. Но нас сюда послал князь, а князь видит получше вашего. Чтобы было куда сбывать дань и прочее, нам нужно заключить мир на достойных условиях хоть с кем-то – или с греками, или с хазарами. С греками, дураку ясно, достойных условий больше ждать нечего. Они злы на нас, а я зол на них и не хочу возвращаться в Киев, не отомстив им за эту подлость.
– Ты чего задумал? – Асмунд приподнялся, морщась, и посмотрел на него. – Говори яснее, у меня лоб трещит, мне твои хитрости в толк не взять.
– Мы отдали грекам только христианских пленников. Но у нас осталось еще два с половиной десятка – хазары, жидины и прочие. А Песах стоит в одном дне пути отсюда и тоже не хочет возвращаться к своему кагану ни с чем… Не попробовать ли нам договориться с ним мимо греков, пока греки не договорились с ним мимо нас?
* * *
Обсудив дело с Асмундом, Хельги собрал воевод на совет в тени у ручья, а его ближняя дружина тем временем следила, чтобы никто не мог подойти и подслушать разговор. Советовались долго и громко, но Хельги настоял на своем. Потом приказал Мангушу – тот лучше разбирался в самкрайском полоне – отобрать десяток парней постарше и покрепче, но таких, у кого есть сестры или младшие братья.
– Сейчас вам дадут лодку, – объявил он, когда к нему привели десяток подростков – смуглых и темноглазых, в хорошей одежде, уже порядком потрепанной путешествием без матерей и слуг. – И вы отправитесь к Песаху, как его там…
– Булшицы, – подсказал Мангуш.
– Вы слышали, – Хельги даже не стал пытаться повторить титул хазарского полководца. – Передадите ему мои слова. Если вздумаете струсить и сбежать – скажите своим отцам и матерям, что по вашей вине с вашими сестрами и братьями тут нехорошо обойдутся. Зато если вы все передадите Песаху и мы с ним договоримся, уже на днях все остальные заложники получат свободу. Это войдет в условия нашего уговора, и мне они больше не понадобятся. Все понятно? Старшим будет Моше сын Рафаила.
Подросток с пышными черными кудрями вскинул голову.
– Моше, тебе все ясно? – Хельги обращался к нему так, будто перед ним был один из собственных хирдманов. – Ты не струсишь?
– Нет, – Моше взглянул на него исподлобья. – И я знаю Песаха. Он бывал у нас в доме. Два года назад.
– Отлично. Напомни ему о твоем отце. И заодно имей в виду, что если все сложится, как я задумал, то торговля твоего отца в Киеве пойдет еще выгоднее прежнего.
Сын рахдонита усмехнулся, – видали мы ваши выгоды! – но все же кивнул.
Послом при этой дружине Хельги назначил Синая. Все трое киевских жидина как приехали, так и уехали из Самкрая с русами. Даже Иегуда, который все жаловался на здоровье и время проводил лежа, не посмел остаться в городе, хорошо понимая, что на него немедленно обрушится страшный гнев горожан – ведь это он, можно сказать, своими руками провел Хельги и его дружину через ворота. И хотя киевские жидины были жертвами коварства Хельги почти в той же мере, как и сами боспорцы, те едва ли прислушаются к этому доводу.
Иегуда болел, Ханука от огорчения опустился, обтрепался, забывал расчесывать волосы и целыми днями сидел возле старшего товарища, бормоча молитвы. Один Синай, самый молодой из троих, сохранял бодрость, более того – участвовал в сражении на перевале в рядах Асмундовой дружины. Особых подвигов он не совершил, но и не опозорился и держался мужественно, поэтому сам Асмунд и предложил Хельги отправить с поручением его.
– Я дам тебе лодью и дружину, – сказал Синаю Хельги, сам улыбаясь при мысли об этом посольстве. – Отправил бы отроков одних, но боюсь, они не найдут на побережье стан Песаха или их не пропустят к нему. Ты же, если приоденешься и расчешешь волосы, будешь вполне похож на посла.
– Приоденусь? – Синай усмехнулся и развел руками, будто показывая свой грязноватый и местами подранный кафтан из грубого льна. – Не скажу, чтобы на этой торговой поездке я много прибыли получил!
– Она еще не окончена. А кафтан я дам тебе новый, шелковый.
– Из добычи? – насмешливо осведомился Синай. – С плеча какого-нибудь несчастного рахдонита из Самкрая?
– С моего плеча, – многозначительно поправил Хельги. – Теперь все это мое, а значит, с кафтаном я посылаю с тобой в путь часть моей удачи. А в моей удаче, думаю, ни у кого в Таврии и на Боспоре Киммерийском нет причин сомневаться!
– Благодарю тебя за доброту, – Синай поклонился, – однако Бог, Всесильный наш, хочет, чтобы сыны Израиля полагались на него, и за то Он питает каждого своей добротой.
* * *
В итоге посольство вышло немногим хуже всякого другого. Синай сидел в скутаре, одетый в новый кафтан, отделанный желтым шелком, слишком широкий для него, зато длинный, и вид имел вполне почтенный. Самкрайские отроки, выросшие в приморском городе, ловко управлялись со скутаром, ветер нес его вдоль скалистого берега на восток, а Синай, и прежде бывавший в этих краях, прикидывал, где может оказаться стан Песаха. Понятно, что искать его следовало вблизи водных источников, там, где есть трава для лошадей и дерево для костров. А значит, Песаху надлежит обретаться в зеленой долине близ Черной горы, куда добраться можно было за день – а при хорошем ветре и за полдня.
Вздымались над смарагдовым морем могучие серовато-желтые скалы – те самые, в которых Пестрянка по пути мимо этих мест видела великанов, то склонившихся к воде, то выпрямившихся во весь рост, будто на страже. Бока их были одеты травами, словно клочковатым зеленым плащом, потрепанным в битвах. Пестрянке, непривычной к этим видам, тогда все казалось, что эти великаны вот-вот проснутся и сойдут с места; боспорские же подростки лишь веселились, довольные, что вырвались из неволи и оказались предоставлены сами себе на прозрачных теплых волнах. Скутар под парусом нес их вперед, а они смеялись и даже пели, воображая себя героями, отправленными на подвиг.
Так миновали несколько бухт, где под крутыми склонами гор тянулась изогнутая полоска песка. Наконец увидели на холмах множество пасущихся лошадей.
– Это они! – закричал Моше. – Откуда здесь еще такие табуны – это хазары!
– Лошади хазарские, – подтвердил Утеней, сын торговца лошадьми. – Это войско булшицы!
Еще какое-то время скутар шел мимо гор, и отроки видели на склонах пасущиеся табуны, шатры, сотни людей у костров. В ближайшей бухте Синай велел пристать. Но тут обнаружился дозор: выход на берег охраняли два десятка конной стражи.
– Проваливайте отсюда, мальчики! – по-хазарски закричал им десятник. – Здесь вам не будет рыбной ловли, и лучше уносите свои юные зады, пока целы!
– Да наградит тебя Бог, Всесильный наш, за доброту! – крикнул в ответ Синай. – Но мы все же попросим твоего благосклонного позволения пристать. Дело в том, что у нас есть поручение к самому досточтимому булшицы Песаху, и нам необходимо увидеться с ним.
– Что? – Десятник подъехал поближе, конь его ступил в мелкие волны прибоя. – К булшицы? Кто вас послал?
– Страшусь вымолвить это, но меня послал сам Хелгу-бек, старший над войском русов, что сейчас стоит неподалеку от Сугдеи. Он велел мне почтительнейше передать его дружественные речи досточтимому булшицы. А меня зовут Синай бар Шмуэль, хотя мое скромное имя слух досточтимого булшицы никогда еще не тревожило.
– Выходите, – десятник показал плетью на песок. – И ждите здесь. Ни шагу от лодки.
Скутар причалил, отроки выбрались на песок, со смесью тревоги и восхищения рассматривая издали коней, доспехи, шлемы хазарской стражи. В Самкрае тоже были подобные, но сейчас перед ними стояли воины старшего полководца всего хазарского Боспора.
Через какое-то время прибыл сотник, и Синай пересказал свое дело ему. Тот внимательно осмотрел Синая с его юным воинством и решил, что безоружные мальчишки едва ли несут угрозу войску и его вождям.
– Ступайте за мной, – позволил он и повел их вверх по склону, в долину, где раскинулся стан.
Лошади шли шагом, чтобы пешие «послы» поспевали за ними. Синай возглавлял стайку отроков, призывая Бога и невольно ухмыляясь своему положению, опасному и смешному одновременно. Видела бы его Авиталь! У них не было детей, и сама Авиталь много дней провела в доме киевской княгини, вращая жернова и сбивая масло, пока соглашение между Ингваром и Рафилом не позволило ей вернуться домой. Княгиня оставила у себя четырех девушек, в том числе Рахаб, племянницу Синая, и он сам вызвался отправиться в эту опасную поездку вместо своего брата, Манара бар Шмуэля. Но хотя Авиталь и старая матушка Синая, праведная женщина, подобная источнику – чем больше из него черпают, тем больше в нем воды, – сейчас у себя дома, они вовсе не свободны от опасности быть проданными в рабство, пока он, Синай, не поможет русам добиться такого исхода всего этого долгого дела, который хоть отчасти их удовлетворит. Так и стоит ли прятаться за чужими спинами? Не к тем благоволит Господь, у кого сильные кони или сильные ноги, – вот как у этих всадников, что маются от жары в своих пластинчатых доспехах и островерхих шлемах, – но к тем, кто боится Его и надеется на Его милости.
Вход в долину, где расположился стан, был тоже перегорожен деревянными рогатками и охранялся стражей. Здесь сотник оставил «посольство» под охраной своих людей и проехал в стан. Вернулся он через какое-то время в сопровождении еще более высокого начальника, тархана с золочеными бляшками пояса и дорогим мечом. Тут Синай рассказал свою повесть в третий раз.
– И что же поручил Хелгу-бек сказать нам? – осведомился тархан.
– Если ты непременно желаешь услышать его речи прямо здесь, в этой толпе, я не посмею спорить и исполню твое повеление, – Синай поклонился. – Но не кажется ли досточтимому тархану, что досточтимому булшицы будет любопытно самому увидеть меня и услышать речи Хелгу из моих скромных уст?
Тархан перевел дух. Стоит ли торчать на жаре под солнцем, слушая то, что все равно придется услышать еще раз в тени Песахова шатра?
– Пропустите их, – кивнул он страже и стал разворачивать коня.
* * *
Посольство, возглавляемое Синаем, вернулось в русский стан через три дня. Хельги ждал его с тайным нетерпением, не желая терять время, но понимал: и отрокам на дорогу, и Песаху на размышления требуется известный срок. Пусть проходят дни, лишь бы итог не обманул ожиданий…
Оправдались его надежды лишь наполовину. Посольство вернулось благополучно – не утонуло в море, если бы отроки не справились с парусом скутара, не сбежало обратно в Самкрай, и Песах не взял Синая с боспорцами в плен. Даже выслушал их и принял глиняную печать, зная, что именно такими русы и располагают. Но сами переговоры успеха не принесли.
– Я был бы дураком, – так сказал мне досточтимый булшицы, и ты понимаешь, что я со страхом и трепетом передаю тебе его речи, вооружась надеждой на Бога и движимый желанием как можно точнее исполнить порученное, – доложил ему Синай. – Был бы дураком, сказал он, если бы поверил на слово русам, которые в нынешнее лето показали себя самым коварным народом между Кустантиной и морем Самкуш. Вы обманули рахдонитов, сказав, будто собираетесь воевать с греками; вы обманули боспорцев, коварным образом войдя в Самкрай. Вы обманули и греков, заключая с ними союз, но держа в уме уклониться от поставленных условий. Не ждите, что теперь, когда оказалось, что и они намеревались обмануть вас, я охотно встану на вашу сторону лишь потому, что греки – мои враги. А друзья ли мне вы – я увижу по вашим делам. Так сказал досточтимый булшицы Песах.
Хельги, Асмунд, Стейнтор, Гудмар, Семимир, Перезван, Благожа и прочие воеводы молчали, пытаясь уразуметь, что такое им передал хазарский полководец.
– Ну, что же, это ответ разумного человека, – сказал наконец Хельги. – Поверь он мне на слово, он и правда был бы не настолько умен, чтобы стать надежным союзником. Значит, будем управляться сами. И Таврия увидит наши дела! Ты же, Синай, исполнил мое поручение настолько хорошо, насколько это в человеческих силах, и в награду оставь этот кафтан себе. Отрокам выдадут по шелягу. Ну, дубы сражений, – он оглядел своих воевод, – не хочет ли кто из вас проехаться на рынок в Сугдею и прикупить вина?
– Это за что он нас дубами обозвал? – обиженно пробормотал Селимир.
– Это значит, назвал нас удалыми молодцами по-ихнему, по-варяжски, – пояснил киевлянин Милояр.
– А! Ну, тогда я бы съездил, – кивнул Селимир.
Хельги окинул взглядом его грузный стан и круглое лицо, опушенное бородой и отмеченное явным пристрастием ко всем радостям жизни.
– Пожалуй, тебя-то мне и надо.
– Что, на дуб сильно смахиваю? – хмыкнул Селимир и приосанился.
* * *
На другой день, еще довольно рано, в гавань Сугдеи вошли два русских скутара. На каждом было человек по десять. Они миновали мол, причалили у ближнего к городу его конца, высадились, оставив по человеку в каждом скутаре, прочие отправились на рынок. Оружия при них не было – как и полагалось по уговору между их вождями и стратигом.
Рынок Нижнего города в это время изобиловал плодами земли. Уже созревали сливы – желтые, красные, розовые, синеватые, – а еще вишни, груши, яблоки, дыни. Целыми горами лежали свежие смоквы, блестя под солнцем лиловыми, бурыми, зелеными боками. Синел в корзинах виноград, продавались орехи. Рыбаки принесли утренний улов, с повозок предлагали пифосы свежего молока, творог и сыр, яйца и домашнюю птицу. От углубленных в землю хлебных печей тянуло запахом горячих лепешек, а от жаровен – жареной рыбы.
Русы толкались среди повозок и лавок, приценивались к припасам. Главным среди них был средних лет довольно полный архонт с румяными щеками и в зеленом кафтане; заломленная набок хазарская шапка с «ушами» придавала ему лихой вид. Разменяв серебряный дирхем на фоллисы, он покупал свежие лепешки, сыр, жареную рыбу, сливы, а его отроки складывали это все в корзины и заплечные короба из темно-желтой коры: это называлось «береста». Трое тащили по амфоре вина.
– Уезжаем домой, – охотно рассказывал архонт торговцам. – Князь уже стан сворачивать приказал. Не поладили было князья наши, да вроде сговорились. Худой мир лучше доброй ссоры, а, борода? Верно говорю? Вот, на дорогу запасаемся. У нас-то такого овоща сладкого не водится… Правда, меды у нас лучше, а то вино это ваше такая кислятина бывает, ну его совсем! Ого…
Он оглянулся вслед женщине, что прошла мимо, улыбнувшись ему из-под края покрывала полусонной улыбкой, будто поднялась раньше, чем ей хотелось бы.
– Вермунд! – заорал толстый архонт. – Вермунд где?
– А вон, смоквы у старухи пробует, – подсказал кто-то из отроков.
– Да плюнь ты свои смоквы! Поди спроси у вон той – она из тех, кого можно, или чья-то?
В недолгом времени русы вновь показались в гавани. Отроки были нагружены корзинами и амфорами, а Селимир шел между двумя потаскушками, что слоняются близ рынка и причалов: обе хохотали, хотя едва ли много понимали из того, что он им рассказывал по-славянски. Зато хорошо понимали звон дирхемов в кошеле у пояса с хазарскими бляшками, что украшал его выпирающий живот – архонт явно не напрасно сходил на Таматарху и мог похвалиться добычей. Сугдиане оглядывались на них, прикрывая рты ладонями, чтобы не смеяться. Рыжая Панагула не зря сегодня встала в такую рань – для нее, конечно, – как знала, что ее поджидает хороший заработок. Синяк под глазом с того случая в кабаке Носатого Закиса у нее уже почти прошел. И подружку прихватила – Элена, тезка василиссы, хоть и располнела на третьем десятке, а тоже была еще ничего. Наверное, про этих женщин русский архонт тоже мог бы сказать: «У нас такого не водится».
Сделав столь прекрасные запасы, домой, то есть в стан, архонт не торопился. Миновав свои лодьи, вся ватага вышла на мол и уселась там, шагах в сорока от машины, которая поднимала в случае надобности железную цепь через гавань. Второй конец цепи был закреплен на берегу, и там тоже стояло пять человек стражи. Старший их находился здесь, при своих людях. Десятник, Фрасас, безо всякой радости смотрел, как человек семь русов усаживаются на мол, откуда открывался и впрямь красивый вид на гавань и Нижний город, как отроки открывают корзины и раскладывают на расстеленном плаще лепешки, свежие смоквы и белый сыр, как архонт отбивает запечатанное смолой горлышко амфоры, кидает его в воду, а сам наливает вина в рог, который принес на поясе. Потом амфору пустили по кругу; отроки пили, угощали женщин – Панагула и Ленико визгливо хохотали, глядя, как дикие русы проливают вино на грудь через неровно обломанные края, но сами тоже не отказывались приложиться. У этих варваров и потаскухи научатся пить неразбавленное!
– Чего вам здесь надо? – Фрасас подошел к пирующим русам, но в голосе его зависти было куда больше, чем удивления. – Не положено здесь. Проваливайте, – без особой уверенности добавил он, не зная, как определить положение архонта. Окажется еще знатный и обидчивый…
– У? – Тот, явно не поняв ни слова, протянул ему амфору.
– Не положено мне, на службе я, – Фрасас попятился, в душе негодуя на руса, который явился жрать вино и развлекаться с девками туда, где честные люди несут свою нелегкую службу.
Не поняв ответа, толстый архонт немедленно про десятника забыл и вновь принялся рассказывать что-то девкам. Они мало что понимали, хоть он и помогал, изображая руками, видимо, сражение. Надо думать, врет про свои ратные подвиги. У кого в кошеле звенит, тот может что угодно врать…
Фрасас вернулся к своим людям, сидевшим в тени полога у машины – без полога стража здесь, на открытом месте, просто изжарилась бы. На их памяти цепь, дремлющую на дне гавани, будто железный змей, ни разу не приходилось поднимать к поверхности. Врагами сугдиан были хазары, а те, не имея кораблей, никогда не приходили с моря – только со стороны перевалов.
Русы запели. Толстый архонт что-то бормотал на ухо Ленико, беззастенчиво шаря своими лапами по ее пышным бедрам. Он что, намерен предаться разврату прямо на молу, у людей на глазах? Тьфу!
Думая об этом и прислушиваясь к варварскому напеву, Фрасас даже не сразу разобрал, когда в крепости вдруг зазвучали кампаны[27]. А расслышав наконец тревожный голос бронзы, первым делом подумал о хазарах. Всем памятна была недавняя битва на ближнем перевале, когда русы и стратиоты под началом Леонтия остановили конные полчища Песаха. В Сугдее ходили разные мнения: пойдут хазары на приступ еще раз, или попробуют прорваться через дальний перевал, или уйдут восвояси, если поможет нам Бог? Вернулись? Но столба пыли, который всегда вздымается над многочисленной конницей, никто не видел, значит, они выбрали на сей раз дальний перевал? Но почему тогда подают знак как при нападении на сам город? Неужели прорвались?
Кампаны неистово звенели, наполняя город тревожной дрожью. Над башней взвился столб черного дыма, отдавая приказ разом всем стратиотам бежать на свои места. На пристани поднялся шум: еще не поняв, в чем опасность и откуда идет, жители и беженцы стремились укрыться в крепости. Торговцы поспешно складывали товар, запрягали повозки.
Фрасас хорошо знал: если бьют тревогу, надо поднимать цепь. Однако первым его чувством было недоумение: откуда у хазар корабли? А тут еще эти русы – расселись на молу, как у себя дома! Встали, оставив недопитое вино, вертят головами, пытаются понять, что происходит.
– Проваливайте уже! – крикнул им Фрасас, прежде чем бежать к машине. – Без вас мне мало заботы!
Толстый русский архонт вдруг сам оказался перед ним. Взмахнул рукой. Фрасас не успел увидеть, как в воздухе мелькнула гирька на ремне – смертоносное оружие, которое так легко спрятать хоть в поясную сумку, хоть в хазарский сапог. Увесистый железный кулак с размаху ударил его в лоб. В глазах разом закрылся свет, десятник рухнул на мол. Даже не успел услышать, как топочут мимо него ноги русов, бегущих к подъемной машине…
* * *
С мола нельзя было видеть того, что увидели дозорные с башни – три с лишним десятка серых парусов. Туго надутые ветром, они быстро несли в гавань Сугдеи русские лодьи. В каждой сидели десятки вооруженных людей, под яростным солнцем остро сверкали начищенные островерхие шлемы и пластинки доспехов – добыча из Самкрая и с перевала. Всякий увидевший их издалека, откуда не разглядеть лиц, тоже мог бы подумать, что хазары обзавелись судами.
Стратиг Кирилл уже получил донесение: все войско русов идет к гавани с явно недружественной целью. Но встретить их ему оказалось нечем: все метательные машины, обычно защищавшие город с моря, были вывезены на перевал. Оставалось надеяться на цепь и на то, что русы не рискнут осаждать крепость, не имея для того никаких орудий.
Тем не менее с башни было видно, что русские лодьи почти беспрепятственно заходят в гавань. Поднят оказался лишь один конец цепи – закрепленный на берегу. Тот, что на молу, так и оставался опущенным, и скутары с их небольшой осадкой легко прошли над цепью. Дозорные со стены видели, как возникла драка между невесть откуда взявшимся малым русским отрядом и стражей у машины, но русов оказалось больше, и вскоре половина стражи была сброшена в море, прочие остались лежать на молу. Кентарх Левтерий послал было туда два десятка из своих людей – отбить машину и поднять цепь, – но те даже не сумели пробраться к молу: им навстречу неслась плотная толпа горожан и беженцев, полностью запрудившая узкие улочки. А потом стало поздно…
Входя в гавань, Хельги видел с передней лодьи, как Селимир помахал ему от машины: вокруг уже были его отроки, остальные полтора десятка стояли у начала мола, вооруженные топорами, которые до того прятали в лодьях под мешками. Возле машины на молу валялись три-четыре тела – греческая стража, и этот конец цепи по-прежнему был опущен. Селимир не подвел.
Причал уже опустел, но на поднимающихся к крепости улочках-лестницах бурлила бегущая толпа. Теснили друг друга в узких проходах люди, лошади, повозки. Ехать повозки не могли и лишь загораживали собой проход, словно камни в водовороте. Перед ними возникла глухая давка, где люди кричали от боли и от страха быть покалеченными и затоптанными. Дико ржали и бились запряженные лошади, но хозяева ничем не могли им помочь. Мычал, ревел и блеял скот, вопили бегущие. Но уже вступил в действие порядок обороны: ворота закрылись, оставив снаружи всех, кто не успел за ними спрятаться. По стене бежали стратиоты в боевом облачении, спеша занять свои места и отбивать приступ.
Скутары один за другим пересекали гавань, люди из них сверкающей на солнце железной волной устремлялись на причал. Каждая дружина выстраивалась и вслед за своим воеводой спешила к заранее назначенному месту. Встретить их в гавани оказалось некому: большая часть фемного войска стояла на перевалах, в крепости осталась только ее собственная стража и дружина стратигов. На ближний перевал послали гонца, да там и сами увидели дым над крепостью. Но на сборы и подход войска требовалось время…
А русы были уже здесь. Словно ураган, они промчались по Нижнему городу, не пропуская ни одной лавки, склада, дома или мастерской. Врываясь в каменные и глинобитные строения, били всех, кто пытался встать у них на пути. Тащили все, что представляло ценность: товар для продажи, содержимое причальных складов, запасы кузнечных изделий, ткани, съестные припасы. Не избежала общей участи и церковь Нижнего города – Двенадцати Апостолов, единственное здесь место, где можно было достать нечто по-настоящему ценное. Уже разграбленные лавки и дома испускали душный дым: уходя, русы расшвыривали по дому горящие головни из кузнечных горнов или хлебных печей. Вскоре запылали первые крыши. Над пристанями и улицами разносился звон железа, треск ломаемого дерева, крики женщин.
На причале перед скутарами росли горы награбленного: кучи всякой одежды, ткани из складов купцов Шелкового пути, железные изделия, ковры из домов, светильники, посуда из меди и бронзы, даже кое-какой мелкий скот и птица прямо в тех клетках из прутьев, в каких ее привезли на рынок. Из корзин сочилась жижа раздавленных яиц. Вино из разбитых амфор орошало все это пятнами цвета крови. Взятые прямо с тел, живых и мертвых, серьги, кольца и обручья, сорванные с поясов кошели русы рассовывали по пазухам и поясным сумкам.
Очистив Нижний город, вновь собрались на причале и стали грузить добычу. Заталкивали в лодьи вопящих женщин и девушек – кто помоложе из попавших под руку. Ближняя дружина старших вождей тащила добро из церкви – шелковые покровы, одежды, сосуды, светильники, еще скользкие от пролитого масла, связки тонких желтых свечей, иконы в серебряных и золоченых окладах.
Убедившись, что все вернулись и потерь в дружине почти нет, Хельги снял шлем, отдал оруженосцу и повернулся лицом к городу.
В нижней его части пылали крыши, на причал несло дымом. Сквозь него видно было, как стена крепости топорщится копьями стратиотов и блестят на солнце их шлемы.
– Что, Сугдея, держим мы свое слово? – С вызывающим видом Хельги положил руки на бедра. – Мы ведь всю зиму говорили: летом идем на греков. Вот мы и пошли на греков. Теперь-то они запомнят: нельзя нам что-то дать, а потом безнаказанно забрать назад!
Русы вскинули к дымному небу свое оружие и разразились дружным победным ревом. «Один! Перун!» – все кличи смешались в неразличимый гул, и никто сейчас не разобрал бы, кто из этих людей в хазарских шлемах рус, а кто славянин. Сплоченные общим делом, все они стали одно.
Еще несколько мгновений полюбовавшись огнем и дымом над Нижним городом, Хельги обернулся. Добыча уже была погружена, сквозь шум ветра пробивался плач пленниц. Как было решено заранее, русы заняли и те греческие лодьи, что стояли у причалов, чтобы иметь возможность увезти все захваченное здесь, заложников из Самкрая и сбереженную половину тамошней добычи. Если греческие лодьи оказывались заняты громоздким, но не слишком дорогим грузом, все метали в воду.
По знаку Хельги отроки взялись за весла. Одна за другой нагруженные лодьи стали отходитьот причалов и потянулись вдоль мола. Один причалил к дальнему концу, чтобы забрать Селимира с его людьми: они все это время оставались возле машины, чтобы какие-нибудь бойкие греки не захватили ее и не преградили русам выход из гавани.
– Прощайте, стратиги! – Хельги махнул рукой крепости и перепрыгнул в свой скутар. – Поцелуйте от меня епископа!
И к тому времени как спешно снятые с ближнего перевала фемные войска достигли Сугдеи, Нижний город уже догорал, а русские лодьи, обогнув мыс, скрылись за горами на северо-востоке.
* * *
По склону прибрежного холма спускался отряд из трех десятков всадников. На каждом был пластинчатый доспех, сиявший сталью, и островерхий шлем с белым пучком конского волоса над макушкой. Бронза отделки на солнце горела золотом. Хазарские батыры казались не людьми, а некими духами войны с железной чешуей вместо кожи. Усиливала это впечатление кольчужная бармица, закрывавшая их лица до самых глаз.
Только у предводителя их, ехавшего под пышным стягом из конских хвостов, шлем был открытый, но зато самый богатый, с узорной золотой отделкой. Сейчас надлежало думать не об этом, но при виде этого шлема в душе Хельги невольно колыхнулась зависть. Пластинчатый доспех булшицы был надет на кафтан богатого зеленого шелка с золотыми орлами; на поясе с тремя хвостами, плотно усаженном золотыми бляшками, висел меч в золоченых ножнах. Отличный конь ступал величаво, словно гордился и золоченой уздой, и всадником. Будто понимал, что несет самого досточтимого булшицы Песаха, тудуна и наместника кагана во всем хазарском Босфоре.
Хельги ждал его, во весь рост стоя на носу своего скутара. На нем тоже был дорогой хазарский шлем и доспех, прежде принадлежавшие покойному Элеазару из Самкрая, а красный шелковый кафтан перекликался с красным стягом с вышитым черным вороном, указывая: вождь – здесь. Только меч у него был еще старый, тот, который он принес из Хейдабьюра, давний подарок конунга Кнута сына Олава. Хельги не хотел менять клинок, а заказать к нему новый набор пока не было времени и возможности. Лодья стояла близ берега, касаясь днищем песка, и несколько сильных хирдманов, выскочив в воду, придерживали корму.
Так они с Песахом договорились – при помощи Синая, который еще раз посетил хазарский стан в долине близ Черной горы. Местом встречи была назначена пустая бухта по соседству, и каждый вождь мог иметь при себе тридцать человек телохранителей. Синай привез Песаху дары от Хельги – два серебряных сосуда из церкви Двенадцати Апостолов и двух молодых пленниц, которых девушки Самкрая по приказу Пестрянки спешно умыли, причесали и приодели, чтобы придать подарку достойный вид.
– Хелгу-бек посылает тебе эти дары в знак уважения и как доказательство того, что греки Таврии больше не друзья ему, – сказал Синай. – Он просит тебя принять их и назначить ему встречу, где вы могли бы обсудить достойный союз меж вами.
Убедившись, что коварные русы его не обманывают, Песах не мог пренебречь таким предложением. И вот теперь он прибыл в назначенное место, чтобы своими глазами увидеть человека, принесшего столько беспокойства хазарам и грекам Таврии и Киммерии.
В окружении своих телохранителей Песах проехал через песчаную площадку; конь его ступил в полосу прибоя, так чтобы они с Хельги могли говорить, не слишком напрягая голос.
– Поприветствуй его! – велел Хельги Синаю, который стоял возле него – в своем новом желтом кафтане и без шлема, чтобы хазары могли его узнать.
– Хелгу-бек, архонт Русии, приветствует тебя, досточтимый булшицы, подобный льву, что идет впереди!
– И я приветствую бека Русии, – кивнул Песах. – Да обратит к нему Бог радостное лицо Свое, если помыслы его чисты.
Теперь Хельги рассмотрел его черты, насколько позволял шлем. Хазарский военачальник был не молод – пожалуй, возраст его близился к концу пятого десятка. Хороший конь и гордая посадка возмещали недостаток роста. Смуглое лицо степняцкого облика не казалось замкнутым, напротив, в складке между носом и углом рта таилось лукавство, будто булшицы с усмешкой взирает на мир своими узковатыми глазами.
– Благодарю, что ты принял мое приглашение, – заговорил Хельги с расстановкой, чтобы дать Синаю возможность перевести. – Я искал встречи с тобой, поскольку у нас теперь общий враг, а значит, нет причин нам не стать союзниками.
– Такая причина есть, – сурово ответил Песах. – Не прошло и месяца, как ты разорил город Самкрай. Вы проникли туда обманным путем, но в битве пал Элеазар, молодой воин знатного рода, и ребе Хашмонай скорбит по нему.
– Воины гибнут в битвах, такова их судьба, и они выбирают себе ее сами.
– Зачем ты решился на этот беззаконный поступок?
– Греки предложили нам союз, необходимый нам ради нашей торговли.
– Так значит, Роман из Кустантины подбил тебя на это?
– Это верно, – кивнул Хельги. – Но греки оказались дурными союзниками, и больше мне с ними не по пути. Они пытались обмануть меня, и потому Нижний город Сугдеи был предан моему мечу. Жаль, что ты не принял мое предложение при первом посольстве. Мы обложили бы Сугдею с моря, а перевал греки без нас не отстояли бы, и вы осадили бы крепость. Тогда мы могли бы взять с города хороший выкуп и поделить его пополам. Не говоря уж о добыче из долин за перевалом.
– Тот, кому известны твои дела в Самкрае, не поспешит тебе поверить, – усмехнулся Песах. – Ты проник туда, как змея в птичье гнездо, и ушел, оставив одну пустую скорлупу.
– Я рад, что ты признаешь мои заслуги! – Хельги улыбнулся.
– Чем ты можешь искупить твою вину перед каганом?
– В знак моей дружбы я готов передать тебе всех жителей Самкрая, которые сейчас у меня: двадцать шесть отроков и дев из лучших семей города.
– Ты увез куда больше! Где остальные?
– Христиане Самкрая были переданы стратигу Кириллу вместе с епископом Никодимом.
– А взамен, я вижу, ты взял из Сугдеи других.
– Ты видишь истину: я умею достойно платить как за дружбу, так и за вражду. Что ты предпочтешь – сейчас, когда у русов и хазар в Таврии есть общий враг, и это – греки?
– Я не прощу грекам этого вероломного нападения! – Темные глаза Песаха сверкнули гневом, смуглая рука крепче стиснула плеть. Однако выученный конь стоял невозмутимо, несмотря на то, что игривая волна прибоя окатывала его бабки. – Я буду мстить им, пока не разорю столько же их городов, сколько они разорили городов моей земли! И вдвое больше! И если ты желаешь мира со мной, то ты встанешь рядом со мной в моей войне с Романом!
Русы слышали взволнованный, повелительный голос булшицы, а потом Синай повторил их по-славянски. Молодой толмач держался как мог скромно, даже сутулился больше обычного, будто стараясь показать: я – не человек, я – лишь голос настоящих людей. И тем не менее последние слова прозвучали как гром небесный, как бронзовая кампана, подающая знак к битве.
Война с Романом! Война с могущественной Василеей Ромеон! С той, с которой молодой русский князь уже год пытался завязать дружбу. Но все эти попытки окончились здесь, под скалой-великаном, в полосе прибоя, что омывала белой пеной копыта хазарского коня.
– Для нас это дело привычное, – спокойно ответил Хельги. – Мой родной дядя, старший брат отца, князь Олег, в честь кого я получил имя, уже ходил в поход на Константинополь и принудил греков уплатить ему дань. Надеюсь, в этих краях я показал себя достойным его родичем, и мои люди не побоятся пойти дорогой своих предков. Правда?
Он обернулся к своей лодье. И десятки рук разом взметнулись к небесам, будто предлагая союз самим богам, десятки голосов закричали разом, подавая знак далекому городу на другом краю этого моря: «Идем на вас!»
Когда смолкли отголоски эха между скал, Песах снова тронул коня и двинулся вперед. Телохранители молча последовали за ним. Отряд в сверкающей броне заходил все глубже в волны, и брызги сверкали звездами, падая на конские крупы.
Песах приблизился к носу лодьи почти вплотную. Хельги встал на борт, держась за штевень, потом сел, свесив ноги наружу, как всадник деревянного морского коня. Почти повиснув над волнами, протянул руку навстречу смуглой обветренной руке Песаха. Ладонь с мозолями от конских поводий сомкнулась с ладонью, загрубевшей от корабельного весла. Песах сказал что-то.
– Пусть будет путь наш светел! – перевел Синай.
Даже эта древняя, очень древняя земля, пережившая множество народов, царей и богов, подобное рукопожатие видела впервые.
* * *
В Киев вести о дружине Хельги прибыли только осенью, уже после дожиночных пиров. Привез их Асмунд: он приехал со своей ближней дружиной и своей частью добычи, а также подарками от Хельги и его жены Фастрид для Ингвара, княгини и приближенных. Княжескую долю он тоже привез: люди Песаха проводили его через степь до порогов Днепра, а дальше было некого опасаться.
Весь Киев сбежался к Почайне смотреть, как дружина высаживается. Отроки, сильно загорелые, в хазарских кафтанах и шапках, с хазарскими поясами, принесли на себе дыхание дальних краев и казались совсем не теми людьми, что ушли от этой же пристани каких-то пять месяцев назад.
– Асмунд! – Сам Ингвар приехал на Почайну и теперь смотрел на шурина с недоумением, заталкивая болезненно острую тревогу поглубже в душу. – Почему ты один? Где остальные? Где Хельги Красный?
– Они живы? – выкрикнула Эльга, от безумного волнения прижимая руки к груди.
На остатки разбитого воинства дружина Асмунда не походила: богатая добыча и горделивый вид тому противоречили.
– Твой родич Хельги завоевал себе державу и остался в ней править, – Мистина тайком подтолкнул Ингвара локтем.
В голосе его мешались недоверие к собственным словам – он пытался пошутить, – и зависть, если вдруг это окажется правдой.
– Асмунд, йотуна мать, что у вас там? – в нетерпении повторил Ингвар.
Молодой воевода сошел с лодьи и приблизился к знатной родне.
– Хельги с войском в Карше, – пояснил он, протягивая руку Ингвару прежде, чем его обнять. – У Песаха.
– Какого, йотуна мать, Песаха?
– Тудуна Карши. Они теперь друзья неразлейвода.
– С какого тролля? Вы же с тудунами воевать пошли!
– Расскажу. – Асмунд повернулся к Эльге и обнял ее. – Как вы? Как моя жена?
– Здорова, слава чурам. Но я ей не велела на причале толкаться. Сам к ней поди.
Месяца через три Асмунду предстояло еще раз стать отцом. Но даже повидать жену его Ингвар не пустил, пока не усадил в гриднице и не выслушал весь рассказ о походе Хельги на хазар.
– Они договорились с Песахом, что Хельги с войском остается на зиму в Карше и помогает обороняться, если стратиги опять соберутся с силами – но это едва ли, – рассказывал Асмунд. – На будущее лето Песах намерен со своей конницей идти уже прямо на Херсон. Тебе он предлагает поход на Царьград…
При этих словах по гриднице пробежал гул.
– Если ты откажешься, то Хельги со своими людьми на кораблях будет осаждать Херсон с моря, а Песах – с суши. Но хазарин говорит, что справится и сам, если ты пойдешь на Царьград и возьмешь с собой Хельги. Уж очень хазарам досадно, что Роман нас на Самкрай натравил.
– Но как же он нам Самкрай простил?
– Мы же там… добрые были. Все желающие себя выкупили, лишних никого не убили. Заложников тамошних Хельги Песаху передал. Добычу себе оставил: у хазар говорят «на подковку лошадей», а мы сказали, нам надо «на паруса». Песах понял. И вот он предлагает: союз и дружбу, – я тебе грамоту привез, жидины прочитают, – и торговля через Самкрай на одну десятину, как у людей. И чтобы все состоялось, на другое лето идем на греков: мы – на Царьград, Песах – на Херсон. Рано-рано весной, едва трава в степи покажется, его люди будут ждать у порогов твоих гонцов: даешь ты согласие или нет. Если даешь, мы выходим отсюда, Хельги – из Карши. А если нет, он остается воевать вдвоем с Песахом, и как ему Перун даст удачи, это уж его дело.
Ингвар оглядел напряженные лица ближников и гридей.
– Опять на старую дорогу! – хмыкнул Тормар. – Вот год назад на этом самом месте я сидел, со Свенельдом еще толковали, идти ли на греков нынче летом или погодить.
– Уж три года как про это речь идет! – поддержал Кольбран.
– Еще при Олеге Предславиче года высчитывали! – воскликнул Острогляд. – Кончился старый Олегов договор или не кончился!
– Теперь его сама судьба кончила! – усмехнулся Мистина. – А судьбы, княже, ни пешему обойти, ни конному объехать…
Ингвар ухмыльнулся, укладывая в голове этот поворот. Дружина давно уже рвалась в поход на богатое Греческое царство. Русы пытались подружиться с греками и ради этого пошли войной на хазар. Но судьба указала им ненадежность греческой дружбы и развернула передним штевнем в обратную сторону. Поход на хазар в союзе с греками добра не принес, и теперь им предлагали в союзе с хазарами идти на греков.
Затаив дыхание, воеводы и гриди всматривались в его лицо, опушенное рыжеватой бородкой, в серо-голубые глаза, в которых удивление быстро сменялось решимостью, и ждали, что князь объявит им их судьбу.
У Эльги упало сердце и тут же вознеслось куда-то в немыслимую высь. Еще прежде, чем муж ее разомкнул губы, она уже знала, что он решил и что сейчас скажет.
– Не хотели цари с нами дружить по-хорошему, будем дружить по-плохому, – Ингвар поднял голову и обвел гридницу ожившим взглядом. – Олег Вещий нам путь к Царьграду проложил, и тем путем мы на новое лето к грекам в гости сами пожалуем. Кто со мной?
От бури криков едва не покачнулись резные столбы. Эльга прижала руки к лицу; все в ней бурлило, хотелось смеяться и плакать. Ее переполняли тревога, забота, печаль будущих разлук – и вопреки всему воодушевление, радость и гордость своим русским родом, стремящимся бесконечно идти вперед и расширять пределы полученного от предков мира.
Задыхаясь среди оглушительных криков и горящих решимостью лиц, она выбралась из гридницы наружу. Встала перед дверью, глубоко вдохнула свежий воздух осени…
Крики в гриднице к тому мгновению стихли ровно настолько, чтобы внутри смогли расслышать долетевший снаружи истошный женский вопль.
* * *
…Петух был огромный, наглый, пестрый и с большим красным гребнем. Я часто видел его во дворе, когда меня выводили погулять. Он мне сразу не понравился хозяйской повадкой и нахальным видом – будто это он здесь самый главный. Не помню, почему я оказался в тот раз сам по себе и кто за мной не уследил, но едва мы с ним встретились один на один, как дошло до драки. В свои два с чем-то года я был крупнее и тяжелее его, но он был опытнее и лучше вооружен.
Саму драку я запомнил плохо. Мать потом говорила, что, пока она ко мне бежала, кровь и перья так и летели во все стороны. Кровь была моя, а перья – его. Глаза мне застлало белое пламя ярости; я вцепился в своего врага обеими руками и рвал его, а он лупил меня крыльями и клювом, но мне было все равно: боли я не чувствовал. Один из нас точно не вышел бы из этой схватки живым, но тут кто-то схватил меня и поднял над землей – это была моя мать; чей-то большой и пыльный мужской башмак так пнул этого троллева петуха, что он отлетел через весь двор…
Конечно, в свои неполных три года Святослав Ингварович еще не мог изложить это в таких словах, но свои тогдашние чувства и побуждения отчетливо запомнил и легко мог восстановить даже двадцать лет спустя. Это не пустяк – память о первом бое. И когда ты едва встал на собственные ноги, не так еще важно, кто вышел победителем из первой настоящей схватки. Важно, что ты показал себя бойцом. А значит, победы – лишь дело времени.
Послесловие
Взаимоотношения Руси и Хазарии – тема удивительно парадоксальная. С точки зрения русской традиции – и летописной, и вытекающей из нее литературной – дело выглядит так: паразитирующие на чужой крови хазары брали дань с мирных славян и всячески их угнетали, а славяне мужественно сопротивлялись, платили дань мечами в знак своего непокорства, пока не пришел князь Святослав и не победил чудовище.
Если же мы взглянем на ситуацию глазами зарубежных источников, то картина получается совсем иная.
Ибн Хордадбех, арабский автор IX века, писал, что русские купцы плавают и по Черному, и по Каспийскому морю и возят товары на верблюдах в Багдад. Первая разбойная вылазка русов на Каспий состоялась во второй половине IX века, но о ней не сохранилось точных сведений.
В 909 году, то есть в начале X века, русы на 16 судах пристали к острову Абескун в Каспийском море (к настоящему времени затонул) и разгромили бывший там торговый город. В следующем, 910 году русы сожгли город Сари в Мазендаране (иранская северная провинция на берегу Каспия), но были настигнуты в море и разбиты.
В 913–914 годах случилось следующее. По рассказу Масуди, пятидесятитысячное русское войско на кораблях вошло в Керченский пролив и отсюда запросило разрешения хазар пройти через их страну в Каспийское море. За это они обещали отдать кагану половину будущей добычи. Получив разрешение, русы по Дону поднялись до переволоки на Волгу, по ней спустились до Каспийского моря и стали опустошать прибрежные области. Успешно отразили попытки местного ополчения им противостоять, но погибли на обратном пути через Хазарию, разбитые кагановой мусульманской гвардией, которая мстила им за обиды единоверцев.
Следующий этап произошел «во дни царя Иосифа». О нем повествует так называемый Кембриджский документ – отрывок из письма неизвестного еврея X века. Выдержки:
«А Роман [злодей послал] также большие дары Xлгу, царю Русии, и подстрекнул его на его [собственную] беду. И пришел он ночью к городу Смкраю и взял его воровским способом, потому что не было там начальника, раб-Хашмоная.
И стало это известно Булшци, то есть досточтимому Песаху, и пошел он в гневе на города Романа и избил и мужчин и женщин. И он взял три города, не считая большого множества пригородов…
И оттуда он пошел войною на Хлгу и воевал… месяцев, и Бог подчинил его Песаху. И нашел он… добычу, которую тот захватил из Смкрая. И говорит он: «Роман подбил меня на это». И сказал ему Песах: «Если так, то иди на Романа и воюй с ним, как ты воевал со мной, и я отступлю от тебя. А иначе я здесь умру или [же] буду жить до тех пор, пока не отомщу за себя». И пошел тот против воли и воевал против Кустантины на море четыре месяца…» (Перевод: Коковцев П. К. «Еврейско-хазарская переписка в X в.»).
Несколькими годами позднее русы опять прошли через Хазарию в Азербайджан. И еще двадцать с лишним лет спустя поход Святослава окончательно ликвидировал преграду в виде каганата между русью и берегами Каспия, их любимыми объектами грабежа. Политически эти набеги были выгодны хазарам, поэтому они их позволяли, но на угнетаемых данников описанные этими источниками русы (кто бы они ни были с этнической стороны) явно не похожи. Хороши данники, способные собрать войско для дальнего военного похода, и хороши угнетатели, которые это войско регулярно пускают на свою территорию! И с этих-то людей хазары брали по кунице, а то и по девице?
В истории похода «Хлгу» на «Самкрай» много неясного – и в герое похода пытаются видеть совсем разных людей, и название Самкрай относят к разным пунктам (Тамань, либо Керчь, либо какой-то пригород Керчи). Но общая схема ясна: около 940 года некий Хельги, принадлежащий к правящему на Руси роду, по наущению греческого императора Романа Лакапина, напал на хазарский город Самкрай и далее имел конфликт с хазарским полководцем Песахом, вследствие чего отправился воевать уже с греками – своими недавними союзниками. Тот факт, что Песах долго с ним воевал, победил и подчинил, вызывает сомнения. Тем не менее исследователи признают возможность соглашения между ними и даже считают войну Песаха с греками в Таврии и поход Игоря на Константинополь двумя частями одной кампании.
Внешняя политика Руси здесь предстает очень непоследовательной: сначала в союзе с греками русы пошли войной на хазар, а буквально через год – в союзе с хазарами на греков. И если пишут порой, что Хлгу, дескать, был вождем какой-то иной руси, не державной, предводителем наемников, то набег на греков, ставший следствием его экспедиции, возглавил уже сам Игорь. То есть эти два похода были частями одного политического процесса.
Но эта непоследовательность перестанет удивлять, если мы предположим, что эта странная история случилась сразу после того, как Игорь пришел к власти в Киеве и еще не имел налаженных связей с основными внешнеполитическими партнерами. Здесь отразились его попытки занять достойное место на международной арене. И если они поначалу шли не гладко – а кто обещал, что будет легко? Это еще не конец истории…
Развод в традиционном обществе
Содержание семейного конфликта в романе требует особых пояснений. Предвижу, что факт развода в традиционном патриархальном обществе вызовет вопросы – в нашем сознании эти две вещи не стыкуются. Попробуем рассмотреть, что говорят об этом источники. Незачем рассуждать о том, что на всех этапах своей истории мужчины порой питали интерес к чужим женам, это и так понятно. Но насколько нерасторжимым архаичное общество считало собственно брак?
Прямое свидетельство дают исландские саги. Здесь важно понять то, что в родовом обществе брак мыслился не как таинство, а как сделка между семьями. Заключенная же однажды сделка может быть расторгнута, если изменились условия.
Наверное, самый известный случай этого рода описан в «Саге о Ньяле» (переводчик С. Д. Кацнельсон). Хрут, достойный мужчина, оказался несчастлив в браке, поскольку в силу некоторых причин, на которых мы не будем останавливаться, у них с его женой Унн была полная сексуальная несовместимость. Она пожаловалась своему отцу, умному человеку, и он дал ей следующий совет:
«Когда сборы будут кончены, подойди к своему ложу с людьми, которые поедут с тобою. Ты должна призвать их в свидетели у ложа твоего мужа и объявить себя разведенной с ним, так как это полагается объявлять на альтинге и в согласии с законом. То же самое повтори у дверей дома…»
После этого отец на Скале закона объявляет о разводе дочери с ее мужем. Унн уезжает с отцом и больше не возвращается к Хруту. Далее следует тяжба о ее приданом, но имущественный аспект вопроса нас в данном случае не интересует. Суть дела же ясна: супруги расходятся по чисто личным причинам, и общество не видит в этом ничего невозможного, лишь бы процедура была проведена «в согласии с законом». Унн в дальнейшем снова вышла замуж (Хрут был жив в то время).
В сагах есть и другие примеры такого рода, которые показывают, что традиционное языческое общество (именно Х века) допускало случаи расторжения брачной сделки, как и всякой другой: надлежало лишь уладить имущественные вопросы, после чего оба супруга могли вступить в новый брак.
Есть ли что по этой части на славянском материале?
А тут обнаруживаются преинтереснейшие сведения, хоть и неизвестные широкой публике. Существует такой памятник ранней славянской литературы, как «Шестоднев Кирилла Философа». Находился он в сборнике Московского Архива Министерства иностранных дел второй половины XV века, откуда был извлечен Алексеем Ивановичем Соболевским – российским и советским лингвистом, палеографом, историком литературы, славистом, членом Императорской академии наук. Ему принадлежат работы в области истории русского и старославянского языков, им были описаны и датированы многие восточнославянские рукописи и сделан ряд важных открытий в области истории русского языка. Таким образом, источник весьма авторитетный. «Шестоднев» был им опубликован с пояснением, что хотя личность автора неизвестна, ряд особенностей текста позволяет предполагать, что он был болгарином и жил во времена царя Симеона или Петра – то есть в X веке и что последующие переписчики внесли крайне мало измененений.
«Шестоднев» – это сборник христианских поучений, распределенных по шести дням недели. Поучения на среду касаются семейной политики. Неведомый автор включил в свою проповедь следующие положения (я не имею квалификации для научного перевода со старославянского, поэтому привожу пересказ содержания):
«Многие от злобы своей жен изгоняют и берут иных, и не рыдают, но величаются».
«Если у кого жива жена, а он ее отпускает и другую берет, то оба они совершают прелюбодеяние».
«Если у женщины жив муж, а она к другому приходит, то творит прелюбодеяние».
«Если муж свою жену отпускает, а другим отпущенную к себе принимает, то это прелюбодеяние вдвойне».
Далее автор внушает мысль о греховности такого поведения и дает наставление: «Каких жен получили в юности, с такими живите и веселитесь до старости и до скончания века».
Картина ясна: развод, после которого оба супруга вступают в новый брак, имел широкое распространение в обществе, где жил автор поучения – болгарин X века.
И с этим поучением ясно перекликается новгородская берестяная грамота номер 9 (вторая половина XII века):
«От Гостяты к Василию. Что мне дал отец и родичи дали в придачу, то за ним. А теперь, женясь на новой жене, мне он не дает ничего. Ударив по рукам (в знак новой помолвки), он меня прогнал, а другую взял в жены».
То есть некий муж при живой жене заключает новую помолвку, а прежнюю жену прогоняет, и теперь ей нужна помощь в возвращении имущества. Муж повел себя очень некрасиво, кто бы стал спорить, но тем не менее и он, и родичи новой жены считали вполне возможным заключение нового брака при живой прежней жене.
Можно предположить, что обычай разводов возник у славянской знати в тот период, когда христианство отменило многоженство, но привычка к этому «красивому старинному обычаю» осталась. Однако христианство лишь создало конфликт между новым вероучением и древними обыкновениями. Некрещеные просто брали новых жен по мере своей надобности, однако что мешает предположить, что в случае «несовместимости» в одной семье двух знатных жен одна из них могла быть удалена? А поскольку древнерусская знать могла впитать и славянские, и отчасти скандинавские представления, то у нас есть основания приписать эту практику и ей.
Во многих случаях имущественные вопросы приводили к дополнительным конфликтам, оскорбленные чувства тоже не будем сбрасывать со счетов, но сам факт развода и нового брака не являлся чем-то немыслимым. Церковный устав Ярослава Мудрого содержит несколько статей на данную тему: если муж женится на новой жене, «не роспустившись» со старою; «если пойдет жена от своего мужа за иной муж», «если муж с женой по своей воле роспустятся». И хотя церковный устав налагает наказания за такое поведение, сам факт существования статей доказывает, что подобная практика имела место. Указывались и целых пять пунктов причин, по которым мужа с женой положено развести: утаенный женой умысел на первых лиц государства либо мужа, прелюбодейство, колдовство, ночевка вне дома, хождение по игрищам без разрешения супруга, воровство и так далее.
Что касается возможности передачи жены от одного брата к другому, то здесь все неоднозначно. Одни общества считали жену брата или дяди родственницей и брак с нею запрещали как родственный. В других традициях бытовал обычай так называемого левирата: в случае смерти старшего брата его вдову брал за себя средний и так далее. Сей обычай отразился и в русских былинах, где после предполагаемой смерти Добрыни его жена Настасья полагается Алеше как младшему брату, и сам князь Владимир поддерживает этот брак. Трактуют этот обычай как остаток архаичной экзогамии, когда женщина была потенциальной женой всех мужчин определенного рода.
Из всех этих обстоятельств можно сделать предположение: если женщина, взятая в род с уплатой выкупа, считалась собственностью рода, то не исключено, что род внутри себя мог ею распоряжаться, как считал нужным. В том числе и передать от одного брата к другому, если процедуры соблюдены, имущественные дела устроены и ни у кого нет жалоб. Не думаю, будто это была общая практика, но если рассматривать случай как уникальный, а решение о передаче жены как отвечающее в первую очередь интересам рода в целом, то почему бы и нет?
Пояснительный словарь
Архонт – так по-гречески обозначался вождь или главарь вообще, и так называли правителей варварских стран, в том числе Руси.
Асгард – небесный город божественного рода асов в скандинавской мифологии.
Асикрит – служащий «секрета», то есть министерства, чиновник.
Бармица – кольчужная сетка, закрывающая шею.
Бдын – столб над курганом.
Берковец – мера веса, 164 кг.
Большак – старший мужчина в семье, глава дома.
Большуха – старшая женщина в семье.
Боспор Киммерийский – Керченский пролив.
Боспор Фракийский – пролив Босфор.
Бохмиты – мусульмане, то есть жители арабского Востока.
Братина – большая чаша для пиров, передаваемая из рук в руки.
Братчина – общинный пир, обычно по поводу жертвоприношения.
Брашно – еда, угощение.
Бьёрко (латинизированный вариант названия – Бирка) – известное торговое место (вик) в Центральной Швеции, в районе нынешнего Стокгольма. Крупнейший торговый центр раннего Средневековья, имело обширные связи с Русью.
Василевс – один из основных титулов византийского императора.
Вено – выкуп за невесту.
Вершник – одежда вроде платья, надеваемая замужней женщиной поверх сорочки и поневы (традиционный славянский костюм).
Весь – деревня.
Вздевалка – архаичная девичья одежда в виде прямой рубахи с короткими рукавами, белого цвета, из тонкой шерсти или полушерстяная.
Видок – свидетель.
Водимая жена – законная (как приведенная по обряду).
Волосник – нижний головной убор вроде шапочки, под который замужними женщинами убирались волосы.
Волость – округа, гнездо поселений (обычно родственных), объединенная общим вечем и сакральным центром. Обычно – на день пути, то есть километров тридцать.
Волот – великан.
Волховец – здесь Волховцом (и Хольмгардом) именуется так называемое Рюриково городище[28].
Восточное море – скандинавское название Балтийского моря.
Восточный Путь – общее название стран, расположенных вдоль торговых путей на Восток. Начинался от Западной Прибалтики и проходил в значительной степени по территории Древней Руси. Собственно, это все территории от Балтийского до Каспийского моря.
Вуй – дядя по матери.
Гарды (Страна Городов) – скандинавское название Руси (или ее северной половины).
Голбец – чулан возле печи для хранения припасов.
Гривна (серебра) – счетная единица денежно-весовой системы, выраженная в серебре стоимость арабского золотого (динара): 20 дирхемов, что составляло 58–60 г серебра.
Гривна (шейная) – ожерелье, нагрудное украшение в виде цепи или обруча, могло быть из бронзы, серебра, даже железа.
Грид (гридница) – помещение для дружины, приемный и пиршественный зал в богатом доме.
Гридь (гридень) – военный слуга из дружины князя.
Гудьба – музыка.
Гурганское море – Каспийское море.
Жидины – в древнерусском языке название людей иудейского вероисповедания, но киевские иудеи того времени в этническом отношении были не евреями, а тюркоязычными подданными Хазарского каганата (то есть хазарами либо представителями других подчиненных каганату народов).
Завеска – деталь костюма замужней женщины в славянской традиции, нечто вроде длинного передника, иногда с рукавами.
Закрадье – от «за крадой», потусторонний мир.
Заушницы – в науке называемые височными кольцами – металлические украшения в виде колец, носимые на висках по обе стороны головы.
Золовка – сестра мужа.
Ирий (Вырей) – славянский рай.
Йотун – злобный великан в др.-сканд. мифологии. Йотунхейм – мир льда, страна ледяных великанов, один из девяти миров, составляющих мифологическую вселенную. Мог использоваться как обозначение крайнего севера, недоступного для людей.
Кап – идол, изображение божества, деревянное или каменное.
Карша – древнее название Керчи.
Катафракты – тяжеловооруженные всадники.
Кентарх – офицер византийской армии, имевший под началом 40 человек.
Кенугард – скандинавское название Киева.
Киевское письмо – рекомендательное письмо, выданное Яакову бен Хануке иудейской общиной Киева для предъявления в других иудейских общинах. Найдено в Каире в 1962 году. Древнейший аутентичный документ, вышедший с территории Киевской Руси. Датируется предположительно серединой X века. Излагает историю Яакова бен Хануки, который за долг «иноверцам» в сто шелягов год сидел в оковах, потом община собрала для него 60 монет и дала письмо, с которым он отправился по миру собирать остальные 40. Под письмом стоят подписи одиннадцати (или двенадцати) членов иудейской общины Киева Х века (приведены в тексте романа).
Комит – офицер.
Крада – погребальный костер. В первоначальном смысле – куча дров.
Кудесы – злые духи.
Кюртиль – верхняя рубаха, обычно шерстяная.
Логофет геникон – примерно как министр финансов.
Логофет дрома – должность византийского двора вроде министра иностранных дел.
Магистр – один из высших титулов византийского двора, не связанный с определенными обязанностями.
Маманта (Мама) – предместье Константинополя, на берегу Босфора, севернее города. Там находился с XI века монастырь Святого Маманта, рядом императорский загородный дворец. На подворье Святого Мамы останавливались русские купцы, как считается, в казармах варяжского корпуса, который на лето отбывал воевать.
Мафорий – длинное женское покрывало, считалось верхней одеждой.
Медвежина – медвежья шкура.
Меотийское море – Азовское. Оно же – Самкуш или Меотийское озеро.
Навки – злые русалки, духи враждебных мертвецов.
Ногата – одна двадцатая гривны серебра, то есть дирхем, он же шеляг, 2,7 г серебра.
Норны – скандинавские богини судьбы.
Обчина – помещение для общественных собраний и совместных праздников, нередко находятся в древних славянских святилищах (городищах).
Оружники – см. Отроки оружные.
Остиарий – низший дворцовый служитель, открывавший двери.
Отрок – 1) слуга знатного человека, в том числе вооруженный; 2) подросток. Вообще выражало значение зависимости.
Отроки оружные – либо же «оружники» – военные слуги непосредственного окружения князя либо другого знатного лица, телохранители.
Отроча – подросток от семи до четырнадцати лет.
Павечерница – посиделки, вечерние собрания женщин в зимний период для совместного занятия шитьем, прядением и прочими такими работами. Были важной частью девичьих инициаций, определявшей саму возможность замужества.
Паволоки – тонкие шелковые ткани византийского производства.
Патрикий – один из высших титулов византийской империи.
Плахта – см. Понева.
Повой – женский головной убор, скрывавший волосы, нижний, поверх которого еще надевалась украшенная кичка (кика, сорока и так далее).
Понева – набедренная женская одежда вроде юбки. Могла иметь разные формы (из одного, двух, трех кусков ткани). Носилась половозрелыми девушками и замужними женщинами. Плахта – название того же предмета в южных говорах, обычно из одного куска, оборачиваемого вокруг талии.
Поприще – старинная мера расстояния, около полутора километров.
Послух – свидетель при заключении договора.
Пропонтида – Мраморное море (омывает Константинополь с другой стороны от пролива Босфор).
Путь Серебра – торговые пути поступления на Русь и в Скандинавию арабского серебра, в основном через Хазарию.
Рожаничные трапезы – праздник по завершении жатвы, где-то в сентябре (в зависимости от местных условий).
Романия – Византия. Сами византийцы называли себя римлянами – по-гречески «ромеями», а свою державу – «Римской („Ромейской“) империей» (на среднегреческом (византийском) языке – Βασιλεία Ῥωμαίων, Basileía Romaíon), или кратко «Романией» (Ῥωμανία, Romania).
Русы (Русь) – не вдаваясь в глубины варяжского вопроса, отметим, что русью первоначально назывались дружины, собираемые на побережье Средней Швеции для заморских военных походов. В дальнейшем (после походов Олега) название прижилось сначала для обозначения скандинавских дружин в землях восточных славян, а потом и земли, на которой власть принадлежала вождям этих дружин. Слово «русь» – собирательное обозначение этой военно-торговой корпорации.
Рушник – полотенце.
Свеаланд – Средняя Швеция.
Сверкер – персонаж родился из списка русских послов 945 года в Византию, где имеется среди других некий «Гримъ Сфирковъ», то есть «Грим от Сверкера». Можно предположить, что своего посла отправил каждый из самостоятельных вождей, участвовавших в походе и являвшийся вследствие этого выгодополучателем от договора. Помещение этого Сверкера именно в Смолянскую землю – фантазия автора, но основанная на том, что Гнездово является одним из наиболее ярко выраженных скандинавских центров на Руси.
Свинеческ – древнейшее городище при впадении в Днепр реки Свинки (Свинца), в дальнейшем вокруг него формировался комплекс поселений и погребений, называемый в науке Гнездово, иначе – первоначальный Смоленск. Археологические исследования показывают, что около середины Х века часть комплекса погибла в пожаре, после чего поверхность была выровнена и застроена снова. В слоях выше пожара 950-х годов появляются следы южнорусской дружинной культуры, что и позволяет предполагать, что будущее Смоленское княжество было присоединено к Древнерусскому государству не при Олеге, как в летописи, а позже и в результате войны. Гнездово – один из крупнейших очагов скандинавского присутствия на Руси. (Подробнее об этом – в романе «Ольга, княгиня зимних волков»).
Свита – верхняя суконная одежда, нечто вроде «демисезонного пальто».
Северные Страны – общее название всех скандинавских стран.
Северный Путь – Норвегия.
Северный язык – иначе древнесеверный, древнеисландский, иногда еще назывался датским, хотя на нем говорили по всей Скандинавии. В те времена отличий в языке шведов, норвежцев и датчан еще практически не было, и они понимали друг друга без труда.
Серкланд – дословно Страна Рубашек, она же Страна Сарацин, обобщенное название мусульманских земель, куда скандинавы ездили за красивыми дорогими тканями.
Синклит – императорский совет.
Скрам (скрамасакс) – длинный боевой нож.
Скрыня – сундук.
Скутар (скута) – от др.-сканд. «лодка».
Смоляне – предположительно существовавшее одно из малых племен, проживавшее на верхнем Днепре и давшее название Смоленску.
Сорок (сорочок) – набор на шубу из сорока шкурок, сам по себе мог служить крупной денежной единицей. Существовала также единица «полсорочка».
Страна Рубашек, см. Серкланд.
Стратиг – византийский чин, глава фемы (губернатор провинции).
Стратиоты (греч.) – члены ополчения или воины в широком смысле, военные.
Стрый – дядя по отцу.
Суденицы – богини судьбы, небесные пряхи, по разным представлениям, их две или три.
Сулица – короткое метательное копье (в отличие от собственно копья, предназначенного для ближнего боя).
«Торсхаммер» – «молоточек Тора», украшение – подвеска в виде молоточка, широко распространенное у скандинавов во всех местах их проживания.
Тудун – хазарский титул правителя области.
Турмарх – византийский чин, подчиненный стратига фемы, командир турмы, расположенной в определенной местности (в городе).
Убрус – головной убор замужних женщин, длинный кусок полотна, обернутый вокруг головы и скрывающий волосы.
Удельницы – богини судьбы, то же, что Рожаницы, Суденицы, Доля и Недоля.
Укладка – сундук.
Умбон – железная выпуклая бляха в середине щита. Нужна была для удобства держать щит и для защиты кисти.
Фафнир – персонаж скандинавской мифологии, сын колдуна, получивший много золота и охранявший его, приняв облик дракона (змея).
Фема – административно-территориальная единица Византии.
Фоллис – мелкая медная монета.
Хазарское море – Каспийское.
Хангерок – предмет древнескандинавской женской одежды, нечто вроде сарафана, надевался на сорочку или на сорочку и платье. Скреплялся крупными узорными застежками, обычно овальной формы, на бретелях через плечи. Застежки эти находят в богатых женских захоронениях Киева второй половины Х века, так что знатные киевлянки хангерок носили, каково бы ни было этническое происхождение погребенных.
Харальд Боезуб – легендарный скандинавский король, живший в VIII веке. Завоевал множество стран, прожил 150 лет и погиб (от руки самого Одина) в величайшей битве всех времен и народов, устроенной им с целью достичь героической гибели.
Хартуларий варваров – «начальник ведомства варваров» византийского двора.
Хвалынское море – см. Хазарское.
Хейдабьюр (Хедебю) – крупнейший датский вик (торговое поселение) на территории совр. Германии (Шлезвиг).
Хёвдинг – скандинавское обозначение состоятельного и влиятельного человека, старейшина, воевода.
Хеландий – парусное гребное судно византийского военного флота.
Хель – богиня смерти скандинавского пантеона, хозяйка мира мертвых, с лицом наполовину красным, наполовину иссиня-черным. Также название страны мертвых.
Херсон (фема) – византийские владения в юго-западной и восточной части Крыма.
Хирдман (hirðmenn) – именно это слово переводчики саг и переводят как «дружинники» – оно обозначало основную часть королевской дружины. Снорри Стурлусон называет их «домашней стражей» конунга. Здесь употребляется как название военных слуг вождя со скандинавскими корнями, не забывшего родной язык.
Хольмгард – см. Волховец.
Черевьи – башмаки, сшитые из кожи, обычно с брюха (черева), отсюда и название.
Чуры – духи предков (обычно отдаленных).
Шеляг – так звучало на русской почве скандинавское название серебряной монеты – «скиллинг». Сама эта монета – арабский дирхем, примерно 2,7 г серебра.
Примечания
1
Подробно об этом рассказано в первой книге цикла «Ольга, лесная княгиня». (Здесь и далее примечания автора.)
(обратно)2
Привет! (др.-сканд.).
(обратно)3
Капа – скандинавское название запашной куртки.
(обратно)4
Радость моя (др.-сканд.).
(обратно)5
Бывало, что младший член рода получал в качестве имени прозвище старшего.
(обратно)6
Мне вспоминается (др.-сканд.).
(обратно)7
Ты плачешь? Пойдем со мной (др.-сканд.).
(обратно)8
Галея – небольшой военный корабль, использовался в том числе для разведки.
(обратно)9
«Львы» – наименование императорских телохранителей, которые в том числе сопровождали дипломатов.
(обратно)10
Турками греческие источники называли венгров.
(обратно)11
Манглавит – рядовой воин этерии.
(обратно)12
Ясы – аланы, осетины, в то время важные внешнеполитические партнеры Византии.
(обратно)13
Священник (греч.).
(обратно)14
Таматарха – Тамань.
(обратно)15
Козаре – район древнего Киева, вероятно, у гавани Почайны, где жила иудейско-хазарская община.
(обратно)16
См. в Пояснительном словаре «Киевское письмо».
(обратно)17
Зачарованный.
(обратно)18
Константинополь.
(обратно)19
Традиция воздушных поцелуев очень древняя, идет с античных и библейских времен, когда таким образом посылали приветствия богам (светилам).
(обратно)20
Ладой ходить – водить хоровод с припевом «ладо-ладо».
(обратно)21
«Осталась на козе» – говорили о жнице, на поле отставшей от других, примерный аналог: «остаться в дураках».
(обратно)22
Головное дело – то же, что уголовное, то есть об убийстве.
(обратно)23
Доместик фемы – должность вроде адъютанта стратига фемы (главы военной и гражданской администрации).
(обратно)24
Не в версту – не равны.
(обратно)25
Здесь Боспор – греческое название Керчи (хазарской Карши).
(обратно)26
Булшицы – титул полководца Песаха, по предположениям исследователей, обозначает хазарского тудуна, наместника, управителя и начальника военного подразделения (гарнизона).
(обратно)27
Кампана – греческое название колокола.
(обратно)28
Сам Рюрик – персонаж скорее легендарный, и его имя было присвоено этому действительно древнему скандинавскому поселению на Волхове довольно поздно. Есть версия, что в ранних источниках (когда современного Новгорода еще не было) Новгородом именовалось именно Рюриково городище, но они с Новгородом никогда не были единым поселением, и мне кажется сомнительным, чтобы два разных пункта могли по очереди или одновременно носить одно и то же имя. Известно также скандинавское название Хольмгард (город-остров), и оно могло относиться к Рюрикову городищу, поскольку в древности оно находилось как бы на острове.
(обратно)


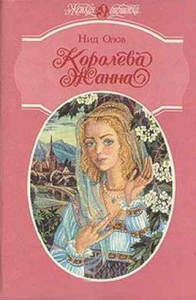

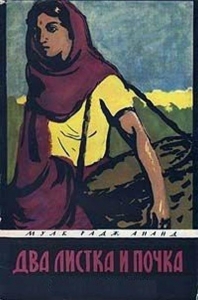



Комментарии к книге «Наследница Вещего Олега», Елизавета Алексеевна Дворецкая
Всего 0 комментариев