Генерал Раевский
БСЭ.М., 1974. Т. 18
РАЕВСКИЙ Николай Николаевич [14 (25).9.1771, Петербург, — 16 (28).9.1829, село Болтышка Чигиринского уезда Киевской губернии], герой Отечественной войны 1812 г., генерал от кавалерии (1813). В 1786 г. произведён в офицеры, участвовал в войнах с Турцией (в 1788–1790), Польшей (в 1792–1794) и Персидском походе 1796 г. В 1797 г. уволен в отставку. В 1805 с началом войны против Франции вернулся в армию и участвовал в Русско-австро-французской войне 1805 и Русско-прусско-французской войне 1806–1807 в отряде генерала П. И. Багратиона, под командованием которого отличился также в Русско-шведской войне 1808–1809 г. и в 1810–1811 г. в войне с Турцией. Во время Отечественной войны 1812 г. командовал 7-м пехотным корпусом, успешно действуя в бою у Салтановки, в Смоленском сражении 1812 г., Бородинском сражении 1812 г. (оборона батареи Раевского), под Малоярославцем и др. Отличался храбростью и умелым управлением войсками. Участвовал в заграничных походах 1813–1814 г., затем командовал корпусом на Юге России. С 1824 г. в отставке. Был в дружественных отношениях с А. С. Пушкиным и близок к декабристам (к ним принадлежали его зятья С. Г. Волконский и М. Ф. Орлов и двоюродный брат В. Л. Давыдов). С 1826 г. — член Государственного совета.
Мой друг, счастливейшие минуты
жизни моей провёл я посреди семейства
почтенного Раевского. Я не видел в нём
героя, славу русского войска, я в нём
любил человека с ясным умом, с простой,
прекрасной душою; снисходительного,
попечительного друга, всегда милого,
ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского
века, памятник 12-го года; человек без
предрассудков, с сильным характером и
чувствительный, но невольно привяжет
к себе всякого, кто только достоин понимать
и ценить его высокие качества.
А. С. Пушкин. Из письма Л. С. Пушкину. Кишинёв. 24 сентября 1820 г.Часть первая В ПОТЁМКИНСКОЙ АРМИИ
Долгий путь в Новороссию
икогда за свои пятнадцать лет Николай Раевский не пускался в далёкий вояж, какой предстояло ему совершить в начале осени 1786 года.
Родившись в Петербурге, он никуда из столицы не выезжал. Пребывая в доме, общался с гувернёром да учителями, глотая одну за другой книги, испытывая большой интерес к чтению. А две недели назад на их даче появился военный чин.
— Я от светлейшего князя Потёмкина, — представился он. — Имею честь передать вам его распоряжение.
— Что такое? — насторожилась мать Николая Екатерина Николаевна.
Потёмкин доводился ей дядей. Виделись они столь редко, что он казался ей далёким родственником. Однако она знала, что Григорий Александрович был близок к самой матушке-государыне, возглавлял досточтимую Военную коллегию и являлся главным российским генералом.
Не знала она, что ныне на Юге России, в так называемой Новороссии, обострились отношения с Оттоманской Портой, претендующей на Причерноморье и Крым, и дядюшка, светлейший князь Потёмкин, находился там, в Екатеринославе, где был штаб руководимой им армии.
Заметив тревогу хозяйки, прибывший поспешил успокоить её:
— Распоряжение Григория Александровича касается не вас, сударыня. Оно относится к вашему сыну Николаю. Вчера из Екатеринославского наместничества поступило предписание о скорейшем прибытии вашего сына, Николая Раевского, в город Чугуев. Он ведь приписан к лейб-гвардии Семёновскому полку?
— Да-да! С января его уже возвели в чин прапорщика.
— Значит, ему уже пора в строй, а он ни дня не был в полку.
По установившемуся для дворян праву Николая Раевского в шесть лет приписали сержантом к полку.
Семёновский был одним из двух первых полков русской гвардии, сформированных самим Петром Великим. Созданный из придворных слуг, детей конюхов, спальников и прочего простонародья, юный Пётр проводил поначалу с ними потешные игры, обучал стрельбе из ружей и пушек, учил правилам осады и обороны крепостей, действию в полевом бою. Позже в сёлах Преображенское и Семёновское действовали две роты потешных солдат и команды потешных пушкарей. Эти войска были опорой Петра и в 1690 году были развёрнуты в Преображенский и Семёновский полки. Они положили начало созданию русской регулярной армии, в частности её гвардии.
Теперь Потёмкин, приняв командование над Екатеринославской армией, которая сдерживала нападения воинственных турок, направил на её усиление лучший из российских полков — лейб-гвардии Семёновский.
— А где же ваш Николай? — спросил хозяйку прибывший.
Екатерина Николаевна тяжко вздохнула:
— Какой же, уважаемый сударь, он ныне мой? Был моим, а теперь уже ваш, армейский. — Она горестно утёрла глаза косынкой. — Николай был для меня отрадой. В тот год, когда он родился, я лишилась мужа, Николая Семёновича. Он был в чине полковника, командовал полком под Яссами. Там и скрутила его рана, от которой он отдал Богу душу. Там его и похоронили. В его честь новорождённому дали имя отца.
Николай Семёнович, так же как позже его сын, смолоду был зачислен солдатом в гвардейский Измайловский полк. В тридцать лет, полковником, он добровольно отправился в действующую армию, сражавшуюся против турок. В одной из схваток был тяжело ранен и в апреле 1771 года, не увидев сына, умер.
Понимая состояние хозяйки, гость тактично молчал. Потом, достав из кармана часы на цепочке, щёлкнул крышкой. Екатерина Николаевна поняла его нетерпение и позвонила в колоколец.
— Найди, Акулина, Николашу и пригласи его сюда, — сказала она вошедшей служанке и продолжила: — А тут ещё привязалась к Николаше болезнь: стал плохо слышать. Спасибо доктору, помог от неё избавиться. Правда, не совсем. Ещё родственники помогли, особенно мой брат, граф Александр Николаевич Самойлов. Он мужчина строгий, важный. К Николаше особо внимательный.
Появился Николай. Он сдержанно поздоровался с незнакомым офицером и перевёл взгляд на мать, как бы вопрошая её о нём.
— Это, Колюша, господин от Григория Александровича. Он приказывает тебе ехать к нему.
Гость оценивающе вглядывался в невысокого юношу, отмечая его проницательную медлительность.
— Когда ехать? — спросил тот.
— В ближайшие дни, — ответил вместо матери офицер.
— Хорошо бы после четырнадцатого сентября, — попросила Екатерина Николаевна. — Ему как раз исполнится пятнадцать лет.
— Это никак невозможно, — неуступчиво произнёс прибывший. — Николай должен быть на месте к назначенному времени.
— Где же оно, это место?
— На Украине, у фельдмаршала.
Офицер объяснил, что на днях туда отправляется почтовая оказия и в крытой дорожной кибитке поедет Николай.
— Одного в такую даль не отпущу, — заявила Екатерина Николаевна. — С ним пусть едет услужливый Федотыч. Он и расскажет, и покажет, и поможет.
— Хорошо, — не стал возражать офицер.
Уезжал Николай в ненастье. Накануне с вечера, казалось, разверзлись хляби небесные, знаменуя приход осени с проливными дождями, ветрами, дорожной слякотью.
— Поспешайте! Ждать некогда! — подгонял усач-фельдъегерь в брезентовой с капюшоном накидке. По ней текли дождевые струи.
Федотыч забросал поклажу в кибитку и ожидал, когда Екатерина Николаевна простится наконец с сыном.
— Григорию Александровичу непременно передай поклон. А будешь в Яссах, побывай на могиле отца.
Это был последний, с горькими слезами, её наказ.
В Москве, до которой добрались на десятые сутки пути, старший фельдъегерь сообщил, что им велено прежде заехать в Черкассы, что на Дону, вручить там пакет атаману Войска Донского, а уж оттуда ехать в Екатеринослав.
Услышав эту новость, Федотыч недовольно пробурчал: его утомил и этот недолгий путь. Николая же сообщение порадовало.
— А близок ли тот край? — спросил он офицера.
— Не близок. Московский тракт доведёт до станицы Казанской, а от неё пойдёт к переправе через Дон. Она у Аксайской станицы, неподалёку от крепости Димитрия Ростовского, — объяснил военный курьер, не раз изъездивший этот край.
Спутники с Дона
На Украину, в Новороссию, спешили не только приписники[1] из дворян — их дети. Туда торопились к своим полкам и казаки с Дона и Кубани. К далёким, терзаемым турками землям спешили целые дивизии лихих казаков.
Документы для Войска Донского фельдъегерь передал в станице Аксайской самому атаману Иловайскому. Казачий начальник выглядел тяжеловесным, медлительным, степенным. Несмотря на солнечный день, на нём был синий суконный зипун[2] с жёлтой каймой, из-под которого виднелась богато отделанная сабля, высокая шапка-трухменка и широкие, заправленные в сапоги шаровары.
— А вам надо ехать в крепость. Там назначен сбор уезжающих к Чугуеву-городу казаков, — сказал он.
Крепость Димитрия Ростовского находилась неподалёку, на возвышенном склоне берега Дона. Её бастионы и редуты с орудиями простреливали не только подступы к крепости, но и реку, и её противоположный берег. Крепость не только оберегала Дон, но и обеспечивала охрану переправы на важнейшем тракте из России на Кавказ. Её гарнизон напоминал также казакам о мощи Российской империи.
В той крепости Николай Раевский встретил казаков, направлявшихся к Чугуеву. Их было десятка полтора, и возглавлял их моложавый рыжеволосый казак Андриан Денисов. Они предназначались для двух полков так называемого Новодонского войска, формируемых в Новороссии из местного населения.
Распоряжение на то отдал сам Потёмкин, который весьма ценил боевую выучку донцов.
Атаман Войска Донского Платов, прослушав приказ, высказал недоумение:
— Какие же хохлы казаки? Они ж не могут коня оседлать, не то что творить верхом схватки!
Светлейший осадил его:
— Призови с Дона умелых вояк, и они в два счета обучат их.
— Так надобны не только казаки, но ещё и офицеры.
— Получишь и офицеров. Но потом за всё с тебя спрошу. Будешь в строгом ответе.
Теперь эти казаки направлялись к самому Платову.
Никак не ожидал Николай, что ближайшую ночь он проведёт на почтовой станции в кругу казаков. Те, хлебнув хмельного, пустились в залихватские рассказы о небывалых случаях, вызывая у слушающих удивление и смех.
Поведал и Андриан Денисов о том, как искал невесту и нашёл такую, от которой рад был избавиться.
Прибывший из дальнего кавказского края дед Андриана генерал упрекнул внука за столом:
— Ты всё ещё командуешь сотней? Для есаула этого мало. Пора тебе подчинить полк.
А узнав, что тот ещё не женат, добавил:
— Давно пора обзавестись невестой.
— О том, батя, ещё не думали, — замялся отец Андриана.
— Пора, пора, — подтвердил дед Фёдор. — Только ныне достойную невесту на Дону не найти. Девки здесь избалованные, капризные. Надобно искать в Москве, а то и в Рязани. Там, я вам скажу, заманчивые есть особы, оч-чень антиресные. Ко всему ещё и рязанский губернатор близкий мне человек, фельдмаршал Каменский. Ему, ежели нужно, могу отписать, он поможет.
Вняв совету, отец Андриана направил его в Москву, к знакомому чиновнику, дав в сопровождение и для услуг казака.
— О-о! Отрок Карпа Фёдоровича! Хорош молодец! — восторженно встретил Андриана чиновник. — Сейчас представлю тебя жене и дочерям. Их у меня три, залюбуешься!
Как распустившиеся бутончики, пред ним появились прехорошенькие девицы. И каждую хоть сегодня под венец.
Отец в письме не упоминал о цели поездки, но чиновник и сам смекнул, в чём дело. Оставил Андриана обедать, чтобы исподволь выпытать об отцовском богатстве, выяснить, сколь земли, и прочее. И понял, что пред ним птица невысокого полёта, казачье подворье не ахти какое.
Андриан меж тем уже положил глаз на среднюю дочь, не догадываясь, что та почти уже просватана. Поглядывая на него, девицы хихикали, перебрасывались французскими словами, не ведая, что рыжеватый казак когда-то обучался этому языку, кое-что помнит и любая насмешка причиняет ему боль.
Весь следующий день он пребывал в розовом тумане. Дочь чиновника запала в душу, не покидала сердце. Вечером он засел за письмо к её отцу. Дюжину листов перепортил, прежде чем в изысканных выражениях излил свои чувства и просьбу выдать за него дочь. С письмом отправил своего казака, строго предупредив:
— Скажи, что господин офицер непременно ждёт ответа. Без него, мол, не велено возвращаться.
Казак вернулся не скоро.
— Никак не хотели отвечать, однако ж написали.
Андриан прочитал ответ и тут же с досады изорвал лист.
— Не бог весть какая цаца, найдём и получше. Не повезло в Москве, сыщем в Рязани.
У него было письмо деда Фёдора к графу Каменскому, у которого тот раньше служил. Теперь граф исполнял в Рязани высокую должность губернского наместника.
К нему Андриан попал на удивление просто. Фельдмаршал встретил его тепло, справился о здоровье, поинтересовался, где остановился, даже пригласил на бал.
— Непременно приходите, молодой человек. Там невест пруд пруди, выбирай любую. Мне бы сбросить лет эдак двадцать…
На балу, завидев его, рыжеволосого красавца казака, невесты и их мамаши взволновались. К тому же знакомый самого губернатора! Весь вечер Андриан был во внимании женского пола. Получил сразу несколько приглашений посетить дома, в которых имелись девицы на выданье.
«Вот это повезло!» — восторгался он, придя в гостиницу. До полуночи не мог заснуть, никак сон не шёл. «Определённо без невесты домой не вернусь. Вот только какую выбрать? Все как на подбор…»
Но, как говорят, человек предполагает, а Бог располагает. Случилось непредвиденное.
Вечером Андриан вышел из гостиницы прогуляться: на людей посмотреть да себя показать. И набрёл на трактир. Оттуда неслась музыка, громкие голоса, ярко светились окна. «Погляжу, как в Рязани развлекаются», — подумал он и зашёл из любопытства.
В большом зале горела люстра, все столы были заняты, клубился табачный дым, пиликал оркестрик. А из соседней комнаты доносились удары бильярдных шаров.
— Что угодно-с? — подскочил к нему официант. — Там вот свободный столик-с. Или, может, желаете партийку в бильярд?
У большого бильярда сражались двое: краснощёкий, пышущий жаром от выпитого хмельного, и худощавый, с быстрыми глазами и спадающей на лоб чёлкой. Второй был трезв и потому более удачлив в игре. С серьёзным видом расхаживал он вокруг стола, приседал, приглядывался к шарам, чаще, чем партнёр, находил нужный и ловко загонял его в лузу.
Андриан сел в отдалении на скрипучий стул, и тут же возле него оказался незнакомец.
— Вы, ежели не ошибаюсь, с Дона? Казак? Позвольте представиться: поручик в отставке Мещёрский, Зосим Мещёрский. Надолго к нам?
— Возможно, неделю буду.
— О-о! Тогда вы имеете счастливую возможность познакомиться с нашим чудесным городом. Во мне же найдёте советчика и доброго товарища. Мне в Рязани каждая собака известна.
Меж тем игра на бильярде закончилась. Худощавый небрежно сунул в карман мятую бумажку.
— А не желаете ли сгонять партийку? — предложил Мещёрский. — Очень полезная и необходимая для офицера игра. Способствует глазомеру и силе руки.
— Нет-нет, увольте, я никогда не играл.
— Так нет ничего проще научиться! Эй, Авксентий, господин офицер никогда не держал в руках кия! Ты мне младший брат, Авксентий, и потому приказываю научить моего друга играть. Сейчас же! Ты слышишь, Авксентий?
— К вашим услугам, господин офицер, — поклонился худощавый и стал старательно тереть мелком конец кия.
— Нам, господин офицер, деньги не нужны, — пустился в объяснения Мещёрский. — У нас своих достаточно, куры не клюют. Но ежели угостите пивом, мы не откажемся. Пиво здесь аглицкое, в бутылках. Не пиво, а одно наслаждение.
Андриан не стал скопидомничать и велел принести дюжину бутылок.
— А ты, брат Авксентий, не пей, не дозволяю, — предупредил Мещёрский, и тот послушно кивнул.
К удивлению, играть оказалось не так уж трудно, а у Авксентия не ладилось: то кий соскальзывал с руки, оставляя на зелёном сукне меловой след, то шар проносился мимо цели или летел через борт. Часто после его удара шары почему-то останавливались у лузы, и Андриан добивал.
— Уж как не повезёт, так хоть в петлю лезь, — сетовал неудачник, вызывая у старшего брата насмешку.
В конце концов партию Андриан выиграл, вызвав восторг находящихся в комнате.
— Плати, Авксентий, за проигрыш! Плати!
— Зачем? Мы ж условились на пробную партию, — отказался от денег Андриан.
— Тогда мы закажем бутылку хмельного! Того, что покрепче! — распорядился Мещёрский.
После пива и водки Андриану стало совсем весело и хорошо. Потом они ещё что-то пили, обнимались и целовались.
— А теперь пойдём к тебе в нумер, там приготовим пунш. Гусарский напиток! Я, брат Андриан, наловчился готовить его. Можно сказать, первейший умелец! Ты, случаем, не одолжишь мне до утра сто рублей? — спросил вдруг Мещёрский у буфетной стойки. — До утра. Утром непременно возвращу, вот святой истинный крест!
И Зосим Мещёрский картинно перекрестился. Мог ли он, Андриан, отказать новому другу?
В нумере братья вылили в миску содержимое бутылки, подожгли, и пламя стало плавить головку сахара. Потом, не дав остыть напитку, пили его из чайных чашек.
После первой же Андриана свалило с ног, и его уложили на кровать. А братья занялись замком дорожного сундучка, в котором лежала немалая сумма.
Они уже совсем было взломали сундук, как появился казак. Увидев воров, он схватил саблю и бросился на них.
— Мы друзья твоего господина! — объяснил Зосим, в то время как его брат улепётывал по коридору гостиницы.
— Я сейчас покажу вам друзей! — размахивал саблей казак. — Держите воров! Полиция! Эй!
Наутро, когда Андриан тяжко маялся головой, пришёл полицейский.
— Здесь пребывает господин Денисов? Полицмейстер требует его к себе. Велено прибыть без промедления.
— Вы что же, господин офицер, вчера в трактире побили камнями стёкла в окнах? — не скрывая раздражения, спросил полицейский начальник.
Его вид не сулил ничего доброго.
— Стёкла? Камнями? Такого не было.
— Как не было? Трактирщику доложено, что это сделали вы, офицер Денисов… Ведь вы же были в трактире? Не станете отпираться?
Пришлось рассказать о братьях, признаться, что одолжил до утра старшему сто рублей.
— Нашли кому верить! Да это же известные всему городу шалопаи. Они умеют играть в бильярд. Считайте, господин офицер, что ваши денежки плакали. Хорошо ещё, что не дали больше. Кстати, по какой надобности вы приехали в Рязань?
Андриан, конечно, не стал объяснять, что приехал искать невесту, сказал, что привёз письмо фельдмаршалу Каменскому.
— Михаилу Федотовичу? Он вам родственник?
— Нет. Всего раз встречался да ещё видел на балу.
— Тогда, господин офицер, послушайте моего совета: уезжайте. Уезжайте поскорей, пока Михаил Федотович в своём имении, в Раненбурге! Ежели приедет, вам несдобровать! Уж ему-то донесут о случившемся, а он на такие дела страшно лют. Я его преотлично знаю.
Андриан не стал испытывать судьбу. В тот же день, так и не побывав в домах рязанских невест, он выехал домой.
— Ну, рассказывай, с чем вернулся. Нашёл ли то, зачем ездил? — спросил отец, глядя ястребиным взором.
Он был строг, властен не только к казакам своего полка, но и к детям. Кроме Андриана, были ещё сын Логин и дочь Варвара. Сыновей выучил, дал образование. Теперь его беспокоило сватовство старшего, чтобы женитьбой укрепить не совсем прочное хозяйство.
Выслушав о неудачной поездке, он с досады крякнул.
— Выходит, послушал деда Фёдора зря. Но, пока ты ездил по столицам, я тут высмотрел для тебя синицу. В станице Дубовской живёт дочь казачьего чиновника Персидского.
— Это в какой же Дубовской? Уж не на Волге ли?
— В той самой.
— Так туда же сотня вёрст!
— Невеста далече, да богатство близко. Одна дочь, а сам Персидский из зажиточных. Большое приданое обещал. Я уж о том справлялся.
— А вы-то, батя, её зрили?
— Не пришлось. Зато другие видели, говорят, невеста подходящая. Да ты на это не гляди, с лица воду не пить. Была б богатая оправа.
Возражать отцу было бесполезно. Уж ежели тот задумал чего, то своего добьётся. На следующей неделе послали сватов. Потом и Андриан с отцом и матерью поехали в Дубовскую. Увидел девицу, и камень лёг на душу: с виду вроде ничего, но какая-то вялая да капризная. Даже смеяться по-настоящему не может. Хотел отказаться, да каша заварилась, делать нечего, нужно расхлёбывать. Прошлой осенью и сыграли свадьбу.
Встреча со светлейшим
Фельдъегерский экипаж, в котором находился Николай Раевский с Федотычем, ещё задолго до Днепра повернул на дорогу, ведущую к Екатеринославу. В этом губернском городе на Днепре находился штаб Екатеринославской армии.
Когда-то на месте города была польская крепость Кайдак. Овладев ею, там обосновались казаки. Но в 1778 году Потёмкин основал на месте слияния двух нешироких рек уездный городок Новомосковск.
Однако проявленная фаворитом поспешность вынудила его вследствие заболоченности низины с тучами комаров и мух избрать другое место. В ожидании приезда императрицы Екатерины Потёмкин развернул строительство, наподобие петровского — каменных домов, роскошных строений, университета, — проложил широкие, обсаженные деревьями улицы. К приезду Екатерины была завершена подготовка к возведению Преображенского собора, и императрица положила первый камень в стройку.
Узнав о приезде родственника Потёмкина, штабные чины проявили к Николаю особое внимание: сказали, что светлейший в отъезде, приедет лишь на следующий день, помогли устроиться на квартире.
Главнокомандующий действительно появился под вечер следующего дня. Первым к зданию с колоннами и чугунной оградой подскакал вестовой с трубой, вывел звонкий пассаж. Потом загремели колеса кареты, застучали копыта коней охраны. Из здания выбежали офицеры, засуетились, выстраиваясь в шеренги.
Со ступеньки кареты не спеша сошёл огромного роста и косая сажень в плечах генерал с чёрной повязкой на правом глазу. Николай от матери слышал, будто глаз у дяди матушки вытек, когда он неосторожно попытался выцарапать соринку. В дороге фельдъегерь неосмотрительно назвал светлейшего одноглазым.
Зычным голосом прибывший главнокомандующий что-то высказал подбежавшему адъютанту и важным шагом направился к распахнувшимся пред ним дверям. Стоявшие там гвардейцы откинули в стороны ружья и застыли в стойке, провожая фельдмаршала выпученными глазами.
Наблюдавший за ним Николай не посмел приблизиться к дому, чтобы напомнить о себе. Только через добрый час его разыскал адъютант главнокомандующего. Сверкая золотом эполет, он сказал, чтобы Раевский шёл к светлейшему, который ждёт его.
Потёмкин сидел за большим, покрытым белой скатертью столом, уставленным посудой из серебра, золота и хрусталя.
— A-а! Родственник! — прогремел он иерехонской трубой, вглядываясь в юношу.
Лицо главнокомандующего было малознакомо: Николай видел его всего два или три раза, к тому же давно.
— Садись, поговорим, — предложил Потёмкин. — Я чертовски устал и голоден. Рассказывай, кик там в Петербурге твоя мать?
Бесшумно вошёл слуга, уловив кивок Потёмкина, стал обслуживать Николая.
— Так ты уже прапорщик гвардии? Чин для тебя, скажу, немалый. Впрочем, он тоже меня не миновал. С того чина я начал делать карьеру. Мне тогда было двадцать три. И вот, как видишь, достиг фельдмаршальских погон.
Заняв в 1762 году престол, Екатерина, отмечая тех, кто помог ей совершить государственный переворот, вспомнила бравого гвардейца Конного полка.
— Как фамилия молодца, который нёс в Ропше караульную службу? — спросила она.
— Вахмистр Потёмкин.
— За усердное старание надобно оделить его тремя тысячами рублей.
— Пожалуй, многовато, — возразили те, кто возвёл её на престол.
— Тогда две тысячи рублей и ещё памятный сервизик.
Эту же фамилию императрица встретила, просматривая списки Конного полка, где Потёмкина предлагали произвести в корнеты.
— Для него мало, — сказала она и, зачеркнув написанное, вывела: «Быть в подпоручиках».
Так за три июньских дня в судьбе Григория Потёмкина произошёл коренной перелом.
Небольшое местечко Ропша находилось на полпути из Ораниенбаума в Петербург. Там в заточении был арестованный сторонниками мятежной Екатерины её муж, император Пётр Третий. В своё время он сменил на престоле Елизавету, теперь сменили его.
Соотечественники писали о нём: «Пётр Фёдорович от рождения был слабого, болезненного сложения; дряблый телом и духом, он жил впечатлениями минуты, то безгранично самоуверенный, то бесконечно растерянный. Впечатления, пережитые им 28 июня, были ему не по плечу; слабый организм не выдержал бурных толчков, и Пётр несколько раз впадал в обморок. Удар 29 июня сломил его окончательно. Все 35 лет, прожитые им на свете, он сознавал себя то герцогом, то великим князем, то императором… Однако менее чем в 24 часа Пётр из самодержавного императора обратился в бесправного узника. Ещё в пятницу вечером его слово было законом для всей империи, а в субботу утром грубый солдат повелевал в Ропше каждым его движением».
Императора, свергнутого своей женой Екатериной, привезли в ропшинский дворец в арестантской карете. Его поместили в довольно обширную комнату, где стояла кровать в алькове. Оставили одного, выставив у дверей часового. Всё здание дворца было оцеплено гвардейским караулом. Офицеры и солдаты относились к ненавистному бывшему императору грубо, даже жестоко.
А в это время в Петербурге гвардейцы столичного гарнизона торжествовали по поводу успеха осуществлённого переворота. Государыню императрицу доставили в казармы Измайловского полка. Радость встречи с ней у солдат была невыразимой. Оттуда Екатерину повезли в Семёновский полк. Облачившись в гвардейский мундир, она объявила себя полковником этого полка. Из казармы она направилась в Казанский собор, куда не замедлила прибыть рота гренадер Преображенского полка, извинившись за своё опоздание. Туда же поспешили артиллерийские батареи, подтверждая факт свершившегося грохотом орудийных колёс по мостовой столицы.
В Зимнем дворце уже собрались Синод и Сенат и все сановники. Там составили манифест и присягу, и все признали Екатерину российской государыней.
Она же в тот же день приказала главному сообщнику по перевороту гвардейскому капитану Алексею Орлову ехать в Ропшу, во дворец, где находился несчастный Пётр Третий.
Прошло три дня, и в субботу вечером 6 июля из Ропши прискакал нарочный. Он подал Екатерине пакет от Алексея Орлова. На листе серой нечистой бумаги неумелым почерком, пьяной рукой было написано:
«Матушка милосердная государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему рабу; но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть; но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на государя! Но, государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Фёдором; не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помнили, что делали; но все до единого виноваты, достойны казни. Помилуй меня, хоть для брата. Повинную тебе принёс, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил; прогневали тебя и погубили души на века».
Прочитав сие, Екатерина поняла, что жизнь Петра разрешил не кто иной, как скорый на руку князь Фёдор Барятинский. Рука у него увесистая, тяжёлая, как кувалда. И ещё она поняла, что смерть Петра — это единственно возможный и желанный исход в развернувшейся драме.
А Потёмкин вскоре овладел вниманием моложавой и любвеобильной императрицы. Он не только обольстил её, но и стал незаменимым советчиком и помощником в больших делах.
За обедом, вместившим в себя и ужин, Николай Раевский просидел с Потёмкиным долго. Светлейший много ел и пил, без умолку говорил, обещал родственнику помогать в службе, но и строго назидал:
— Ты хотя и в чине прапорщика, однако поначалу должен овладеть солдатским делом. Оно лишь с виду простое и обыкновенное, в действительности же нелёгкое и сложное. А в мундир облачишься завтра же!
Он требовательно постучал о тарелку, вызывая адъютанта.
— Кличь ко мне интенданта!
Услужливо кланяясь, вошёл седой бородач и приблизился к Потёмкину.
— Весь внимание, ваша светлость!
— Приехал мой родственник. Вот он. Завтра же поутру всё цивильное с него снять! Облачить в форму Семёновского лейб-гвардии полка, в чин прапорщика. Надеюсь, в твоём цейхгаузе[3] найдётся должный мундир, рейтузы, ботфорты и прочее. Всё чтобы соответствовало размерам.
— Так точно… Будет исполнено… Непременно найдём-с… Сделаем-с, — повторял интендант, отвешивая поклоны.
— Иди, — не глядя на него, Потёмкин махнул рукой, и тот поспешил к двери.
Обращаясь к Николаю, Потёмкин продолжил:
— Службу начнёшь не в своём Семёновском, а в казачьем полку. Там покамест будешь простым казаком. Познай и как за конём ухаживать, и нести охрану, и ходить в разведку. Одолеешь всё, тогда и в атаку на неприятеля сумеешь ходить. И ещё. Скоро прибудет под моё начало генерал Суворов. Умнейший человек и большой отваги воин. У него есть и сочинение, как побеждать врага. Полезная книжица. Её непременно изучи!
Казак Андриан Денисов
Возглавляемая есаулом Денисовым команда казаков шла к месту назначения ходко. Вскоре она была уже у городка Чугуева, где её ждал Платов.
— На тебя, Андриан, возлагается особая задача, — объявил он есаулу, — сформировать из мужиков казачий полк немалой численности: в тысячу четыреста человек!
— Сколько? — не сдержался тот.
Обычно казачий полк был в пять сотен. Особый, атаманский полк не превышал десяти сотен. А этот вдруг — почти полторы тысячи!
— Сколько слышал! — ответил Платов. — Завтра из цейхгауза получишь на всё число людей сукно для мундиров, кожу для сёдел и ремней, седельную щепу[4] и всё прочее и приступай к делу.
— А кто же будет шить мундиры? Есть ли хоть портные? Кто изготовит сёдла, ремни?
— Кое в чём поможем, но мастеров изыскивай сам.
— А кто будет учить рекрутов?
— Направлю тебе сотню наших казаков.
— А офицеров? Ведь нет ни одного.
Платов в упор посмотрел на Андриана:
— Ежели тебе задача не под силу, назначу другого, который посговорчивей.
Через несколько дней к Денисову заявился Николай Раевский. На нём было с иголочки пошитое обмундирование, погоны прапорщика. Он представился:
— Николай Раевский. Направлен к вам на помощь.
Раевский подал рапортичку. В ней было написано: «Использовать в службе как простого казака, а потом уже по чину».
— Так ты же не казак!
— Совершенно точно! Поведено поначалу изучить казачье дело.
— Тогда давай вдвоём формировать полк, — без радости произнёс Денисов.
Так Николай Раевский по воле Потёмкина стал офицером казачьего полка. Обучая вчерашних мужиков, он сам постигал ротную казачью мудрость.
Особенно трудно давалась верховая езда. Лошадей пригнали неуков, норовистых, с большим трудом приходилось сдерживать их, укрощать.
Однажды, когда Раевский обучал сотню атаке, в отдалении на дороге остановился конный возок. «Кто-то любопытствует. Не иначе как начальство», — подумал Николай. Коляска поворотила к нему. Из неё вышел капитан. Это был Пётр Иванович Багратион.
Он состоял при штабе Екатеринославской армии и часто выполнял задания главнокомандующего. И в этот раз он прибыл в город Чугуев, чтобы узнать, как идёт учёба в новых казачьих полках, да заодно и проведать об успехах своего внучатого племянника.
Багратион был старше Раевского на семь лет. Потомок грузинских князей, он родился в Кизляре. Юношей его представили Потёмкину, и тот определил его сержантом в Кавказский мушкетёрский полк. Этот полк действовал против необузданных чеченцев. В одной из стычек Багратиона, тяжело раненного, захватили в плен. Жизнь его висела на волоске, но, к счастью, глава племени знал отца Петра, и его освободили.
— Вы были в плену у чеченцев? — не скрыл удивления Раевский, когда вечером они разговорились. — Как же это произошло?
— В сражениях случается всякое, а в схватках с горцами бывает и не такое. Видимо, вам не пришлось бывать на Кавказе?
— Не пришлось, — признался Николай.
— Побываешь, — уверенно произнёс Багратион. — А мне тот край с детства близок. Кизляр недалёк и от моря Каспийского, и от Терека, и от Дагестана, где проживают своенравные чеченцы.
Офицер Раевский подкупил Багратиона своим уважительным вниманием, искренностью, душевным обхождением. Расставаясь, Пётр Иванович пообещал Николаю прислать сочинение самого Суворова, которое непременно поможет ему готовить казачьи подразделения.
Через недолгое время нарочный от Багратиона доставил Раевскому небольшую тетрадь с заголовком: «Суздальское учреждение». Это было то самое сочинение Суворова, о котором ранее упоминал и Потёмкин. Аккуратным почерком полкового писаря были выведены короткие поучения.
Писать сочинение Суворов начал по завершении Семилетней войны, в которой русская армия вела сражения против Пруссии. Пребывая в различных штабных и командных должностях, он сумел узреть новые способы боевых действий.
В апреле 1768 года, будучи произведённым в полковники, Суворов вступил в командование Суздальским пехотным полком, в котором в виде опыта было введено обучение по новому, ещё не утверждённому уставу. Осенью того же года на проведённом императрицей смотре полк представился блестяще.
Основной принцип разработанного наставления состоял в том, чтобы учить войска тому, что необходимо на войне. Суворов требовал проводить учения в поле, в лесу, в преодолении рек не только днём, но и ночью, в дождь и бурю.
Главным в его теории являлась работа над душой солдата, чтобы развить у подчинённого чувство способности к подвигу. Солдат должен быть в курсе предстоящего дела, чтобы в ходе боя мог самостоятельно совершить манёвр. Автор утверждал, что солдат любит учение, лишь бы коротко да с толком.
«От каждого чина — майора, адъютанта до ефрейтора — требуется проявление в бою глазомера, быстроты, натиска». Глазомер — это умение правильно оценить обстановку для принятия соответствующего решения; быстрота — это наиболее разумное передвижение на поле боя, занятие выгодного по отношению к противнику положения; натиск — решительная атака, завершаемая поражением неприятеля.
В «Суздальском учреждении» указывалось, что солдату нужно знать строевые и ружейные приёмы для умелого применения их в бою.
Особое внимание уделялось разделу, повествующему о воинской дисциплине. «Воинская часть без дисциплины — грубое тело без души».
Читая суворовское наставление, Раевский вспоминал назидания Потёмкина:
— Запомни, Николай: на выучку солдат времени не жалей. От неё зависит успех в сражении.
А прочитав суворовское сочинение, Раевский был благодарен Багратиону, что тот сумел оказать ему большую помощь.
1 января 1788 года Раевский был произведён в чин подпоручика.
Вскоре светлейший повелел вывести на смотр казачий полк.
— Сам буду смотреть его готовность.
Находясь на валу крепости в окружении свиты, он наблюдал, как полк Новоказачьего войска проходил торжественным шагом, как действовал в строю и врассыпную. Потом потребовал атаковать незримого неприятеля лавой.
Главнокомандующий остался доволен выучкой. Уходя, он спросил Платова, кто командует полком.
— Андриан Денисов, внук генерала Фёдора Петровича Денисова.
Потёмкин нахмурил брови:
— Того самого, что посечён саблями да изрешечен пулями?
— Того самого, ваша светлость.
— Вот уж не знал, что и этот есаул из того рода Денисовых.
Раньше между Потёмкиным и графом Денисовым произошла размолвка, и теперь его светлость изменил своё решение и высказал неудовольствие:
— Этого Денисова от командования полком отстранить. Заменить другим. Есть ли подходящий кандидат?
— Так точно, есть! Премьер-майор Павел Иловайский без дела.
— Сын донского атамана?
— Совершенно верно!
— Вот его и назначить!
Через два дня в расположение казачьей части явился Павел Иловайский с предписанием на должность командира полка. Андриан Денисов молча прочитал документ и направился к Платову.
Позже, вспоминая тот случай, Андриан Карпович писал:
«Платов объявил мне волю князя, чтобы я шёл в армию волонтёром.
— Полк можно у меня взять, но принудить благородного человека влачиться по степям — не думаю, чтоб захотели, а потому я еду домой и буду учиться пахать и жить своими трудами.
Тут же я просил Платова пересказать эти слова князю Потёмкину».
Неизвестно, передал ли казачий атаман эти слова Потёмкину или нет, только Андриан Денисов продолжал службу в полку. А причина неудовольствия светлейшего состояла в том, что некогда он имел неприятность с дедом Андриана, Фёдором Денисовым, бесшабашным казачьим генералом и первым донским графом. Ныне Потёмкин решил отыграться на его внуке.
Вскоре Андриан Денисов познакомил Раевского со своим знаменитым дедом.
— Знал, знал твоего отца, — заявил тот, пожав Николаю руку. — Храброй души был офицер.
Сухопарый и подвижный генерал ходил слегка боком, прихрамывая и волоча ногу. Левая рука висела плетью. Всё тело было в рубцах.
Вот уж кому в сражениях не везло! Человек исключительной отваги, он лез в самое пекло, где в его чине и годах быть совсем не пристало. Едва замечая в неприятельском строю слабину, он бросался туда очертя голову.
Воспрянув от кружки вина, генерал стал демонстрировать раны.
— Вот этот, — ткнул он в шрам на боку, — я получил в первом сражении. Тогда был молод, горяч. Врубился в турецкую конницу с сотоварищами, там меня и пырнули. Но прежде семерых янычар отправил к Аллаху. А вот эту отметину оставила пуля. Прошла, проклятая, сквозь меня. Вот сюда вошла, вон там, — закинул он руку за плечо, — вышла. Зришь? Зато удалось схватить ихнего главнокомандующего, сераскера, стало быть, да двух пашей, Омара и Чаушу. Случилось это в семьдесят третьем году у Карасу. А в следующем году пуля угодила в грудь и тоже прошла насквозь. Это было при Козлудже. А под Шумлой получил рану в левую ногу. Сухожилие малость задело. А вот эта рана из шведской кампании. Пуля попала в правую руку и застряла, чертовка. Хорошо, поблизости дохтур находился. Стащил я рукав чекменя[5], приказываю ему: «Выковыривай!» Он попытался возразить, но я-то был генералом, не посмел он ослушаться. Выковырнул пулю, перебинтовал руку, я тут же на коня и помчался орудия батареи расставлять. А вот это срамная рана, — продолжал Денисов и ткнул в ягодицу. — Угодила, паршивка, когда я привстал на стременах. Хотел подать команду, да не смог: огнём так и обожгло задницу. А вот эта, на ляжке, отметина от ятагана[6]. И на щеке тоже от него.
— Сколько ж у тебя ран, дедуля? — спросил Андриан.
— А я уж и не помню. Сбился со счета. Кажись, восемнадцать, не то двадцать. Вишь, как разрисован.
На его теле не было живого места.
О его храбрости ходили легенды, и, может, потому меле ним и Платовым наблюдалось скрытое соперничество: один другого недолюбливал.
Прослышав о лихом казаке, императрица Екатерина пожелала видеть его. Наверно, она ожидала узреть великана, наподобие своего любезного Григория Потёмкина, и не смогла скрыть удивления, когда в кабинет вошёл ничем не примечательный, разве только хромотой, худощавый жилистый казак.
— Ты и есть Денисов?
— Точно так, ваше величество. Он самый.
— Как же тебе удаётся побеждать столь сильных врагов?
— Смелостью, любезная матушка. Без неё не то что в крепостную, но и в обычную дверь не втолкнёшься.
— Да к тому ж ещё и не генерал…
— Не смею возразить. Без генеральских эполет воевать тяжко.
И стал он генералом.
Рассказывая историю своих дел, дед не обходил вниманием турецкого пашу Черкеса, с которым пришлось ему встретиться у Дуная.
— Понимаешь, он брал силой своей, огромадный такой, что копна в седле, но и храбрости ему не занимать было, да к тому ж лютый. Ейные турки как услышат Черкеса-пашу, так в трепет приходят, дрожат, будто лист осиновый. А тот самый паша как услышит «Денис-паша» — так меня турки прозвали, — зубами заскрежещет, совсем чёрным становится. А из-за чего? Да всё из-за того, что бил я его, хитростью одолевал. Помню, однажды усадил я в скрытую лощину два полка, разъяснил командирам, что и как надлежит делать, а сам повёл полусотню к крепости, где Черкес-паша засел. Подскакали к крепости, лихо джигитуем на виду у янычар, казаки кричат обидное, растравливают их. Словом, делают всё так, как я научивал. Турки в нас из ружей палят, да что толку? Даже ядра из пушек метали. А мы-то в рассыпном строю, и ядра не страшны. И вот вдруг сразу из двух крепостных ворот вылетает турецкая конница, и ведёт её сам Черкес-паша. «Ага, голубчик, — думаю, — ты-то мне и нужен!» Несутся турки за нами, надеются схватить, совсем азарт их одолел. «Алла! Алла!» — кричат. А мы прямиком к лощине, за нами и турки. И попали они в мышеловку. Как капусту тогда их рубили. Вырвались немногие, и Черкес-паша в их числе. Вот с той поры и стал я ему врагом, прозвал Денис-пашой.
— Ну а потом что было, дедунь? — теребил вояку Андриан.
— Сейчас расскажу, дай только табачку вдохнуть.
Дед доставал из кармана табакерку, заталкивал в ноздрю понюшку и, испытывая удовольствие, чихал. Вытирал платком слёзы и продолжал рассказ:
— А однажды я с ним встретился, с этим Черкесом-пашой. Я с полком, и он тоже с такой примерно силой. «Эй, Денис-паша, давай один на один сразимся!» — кричит турок, конечно, толмач мне переводит. «Ах, думаю, чего ж не сразиться! Шашка востра, конь резвый». Говорю казакам, чтоб отъехали подалее, но глаз с меня не спускали: в случае, если турки подлость какую учинят, чтоб мигом подоспели. Отъехали и турки. Остались мы вдвоём, в сотне, а может, чуток и поболее саженях друг от друга. Прокричал он что-то страшное и на меня! Сабля в руке сверкает. А я тоже вырвал саблю — и к нему. Знаю, силой его не одолеть, нужно брать вёрткостью да хитростью. Рубанул он раз, я увернулся, а после полоснул и я, но не по нему, а по поводьям. Уж такого паша никак не ожидал. Вроде бы сам на коне, а в деле — чурка. Конь-то без управления, с ним никак не совладать! От неожиданности турок чуть с седла не брякнулся, да вовремя схватился за шею коня. И тикать! Я — за ним. Он мчится, схватился одной рукой за гриву, а второй бьёт конька саблюкой плашмя, чтоб скорей нёсся. Да ту саблю и выпустил из рук. С умыслом или как, не знаю. Только остался он безоружный. Ну а безоружного, известное дело, не бьют… Так и умчался он.
— А сабля? — спросил Раевский.
— Сабля досталась мне. Хорошая такая, закалки отменной. Я потом казака ею одарил. Лихой был казак, в одном деле отличился. Пусть врага бьёт его же оружием…
Летом последовал приказ: совершить экспедицию под Хаджибей во главе с генералом Палёном. Экспедиция была непродолжительной. Всполошив неприятеля, казачьи полки так же стремительно скрылись в бескрайней степи, отходя по приказу к Очакову.
Наступила ненастная осень с острой стужей, метелями и обильным снегопадом. Снег был столь глубоким, что на дорогах выросли сугробы и они стали непроходимы.
Боевые действия прекратились, войска рыли землянки, заготавливали топливо, используя камыш. Из-за отсутствия фуража начался падеж коней.
А в начале декабря от корпусного начальника поступило повеление направить большую партию казаков к Бендерам для захвата пленного. Командиром назначался Андриан Денисов. Он должен был отобрать в команду две сотни подготовленных казаков и командиров.
— Полагаю, что вы достойны быть в этой команде, — сказал он поручику Николаю Раевскому.
— Почту за честь оправдать доверие, — ответил тот.
На выполнение задания отряд выступил ночью. Стояла суровая непогода. Всадники не ехали, а брели, утопая в снегу. Чтобы согреться от пронизывающего холодного ветра, шли пешком, ведя лошадей под уздцы.
На рассвете они вышли к селению, где расположилось турецкое подразделение. Произведя накоротке разведку, выработали план нападения.
— С Богом! — заключил Андриан Денисов. — В атаку, марш-марш!
Нападение было внезапным, согласованным. Пленного, или, как его называли, языка, захватили без шума, затолкали в рот кляп, накинули на голову мешок, связали руки и ноги.
При возвращении отряд набрёл на принадлежавшее туркам стадо скота в сто голов. Животных погнали в расположение казачьего отряда.
Корпусной начальник удостоил отважных казаков посещением. Провёл разбор их действий, отметил боевую выучку. Особую похвалу высказал поручику Раевскому.
В феврале 1789 года Николая в чине премьер-майора перевели в армию, в Нижегородский драгунский полк.
Полк имел старейшую историю. Он был сформирован в 1701 году в Новгороде из рейтар, копейщиков, гусар и служилых людей сотенной и полковой службы: Вятской, Деревенской, Шелонской и Обонежской пятин, Бежецкого Верха, Твери и Старицы.
Вначале полком командовал полковник Андрей Иванович Марелий де ла Карьера, затем Любим Бодевний, Иуда Болтин, Шишков, Шаденберг. С 1706 года полк стал именоваться Нижегородским драгунским полком.
В составе полка Николай Раевский принимал участие в схватках против турок в Молдавии и Валахии, отличился при взятии Аккермана.
Расположенный на правом берегу Днепровского лимана, в восемнадцати вёрстах от Чёрного моря, «Белый город» с надёжной крепостью занимал важное военное положение.
Отряду Платова было приказано выбить из города турок и закрепить его за Екатеринославской армией. Казачий генерал провёл операцию блестяще. 30 сентября 1789 года внезапным ударом конные полки лихим ударом выбили неприятеля, открыв армии путь к Измаилу. В этом сражении Николай Раевский был отмечен требовательным атаманом Платовым, и тогда же его произвели в подполковники.
В день рождения внучатого племянника, которому исполнилось всего девятнадцать лет, всесильный князь Григорий Александрович Потёмкин назначил его командиром казачьего полка Булавы Великого Гетмана.
Это было почётное наименование особого казачьего полка при командующем Екатеринославским войском. Назначение не обрадовало молодого командира полка, тем более что главные силы войска сосредоточивались у крепости Измаил для её решительного штурма.
Измаил
Чтобы овладеть придунайским краем, нужно было завоевать крепость Измаил. Дважды пытались штурмовать её, но оба раза неудачно. Понеся потери, полки Екатеринославской армии ретировались, вызывая у неприятеля уверенность в своей непобедимости.
Для руководства решающим штурмом Потёмкин вызвал Суворова. Поручив ему командование войсками, приказал взять крепость.
Узнав о предстоящем большом деле, Раевский попросил светлейшего направить его в Нижегородский драгунский полк, чтобы принять участие в штурме.
Услышав просьбу, Потёмкин нахмурился, прострелил офицера острым взглядом единственного глаза.
— Молвишь необдуманное, подполковник. Тебе поручили полк, который имеет свои задачи. Потребуется его участие в штурме — пошлют, не спросясь твоего желания. Запомни, офицер есть государственный человек, он служит государству, его интересам и не может просить, что пожелает. Крепко запомни, что я сказал. Иди! — И Потёмкин указал рукой на дверь.
А через неделю после победного штурма светлейший вызвал Раевского в кабинет. Довольный громким успехом своих войск, он кивнул на лежавшую перед ним, затянутую в коленкор папку:
— Возьми сие и узнай, как происходил штурм турецкой крепости, на который ты зело рвался.
Николай осторожно раскрыл папку, в которой были сшитые листы мелованной бумаги. На переднем листе аккуратным каллиграфическим почерком было выведено: «1790 г. декабря 21. Рапорт А. В. Суворова Г. А. Потёмкину о взятии крепости Измаил с подробным изложением хода штурма».
Далее следовал многостраничный текст:
«Предварительно донёс я Вашей светлости, что крепость Измаильская храбростию порученного мне войска взята! Приступ был мужествен, неприятель многочислен, крепость к обороне способна, отпор был сильный, и отчаянная оборона обратилась на гибель в совершенное сокрушение неприятеля.
Здесь подношу Вашей светлости о всех обстоятельствах сей знаменитой победы донесение, взяв с самого вступления начальства моего над войсками, от Вашей светлости мне порученными».
Дальше Суворов излагал события, произошедшие с начала его приезда к Измаилу, положение, занимаемое подчинёнными ему войсками, факт отправления 7 декабря письма Потёмкина к измаильскому сераскеру с требованием сдачи крепости. Ответ был отрицательным, и тогда к турецкому командующему был направлен российский офицер, чтобы объявить, что пощады не будет.
Суворов собрал генералитет, чтобы каждый высказал своё мнение. Всё единогласно высказались за штурм крепости. Суворов объявил диспозицию.
Штурм Измаила был изложен весьма подробно. Николай с интересом читал те места, где упоминались знакомые ему лица. Так, был назван начальник правого крыла штурмующих войск генерал-поручик и кавалер Потёмкин. Это был племянник светлейшего князя. Тот сам назначил родственника на эту ответственную должность с уверенностью, что он добьётся успеха.
Левым крылом штурмующих командовал генерал-поручик и кавалер Самойлов. Он доводился Раевскому родным дядей. Екатерина Николаевна — мать Николая — была сестрой графа Александра Николаевича Самойлова.
Об их командовании Суворов писал:
«Принося Вашей светлости с одержанием столь знаменитой победы поздравления и благодарность за поручение мне столь знаменитого подвига, почитаю себе прямым долгом засвидетельствовать твёрдость и мужество начальников и беспредельное усердие и храбрость всех чинов и ходатайствовать Вашего благоволения в покровительстве и воздаянии сотрудникам и товарищам моим господам генерал-поручикам и кавалерам Потёмкину и Самойлову…»
Отмечались также генералы Дерибас, Голенищев-Кутузов, Безбородко, казачьи начальники Орлов и Платов, полковник Гудович.
Нашлось место и для похвалы её императорского величества флигель-адъютанту Валериану Зубову. Его брат в то время был фаворитом Екатерины.
О Валериане Зубове в рапорте говорилось: «Храбрый полковник, невзирая на безмерную крутизну вала, на жарчайший огонь неприятеля и его упорство, мужественно атаковал и, дав пример твёрдости другим, взлез на вал, опрокинул неприятеля на штыках и овладел позицией».
В строчках рапорта Раевский уловил чужую угодливость и не ошибся.
Направляя на Украину, к Потёмкину, своего любимца «резвушу Валериана», Екатерина сопроводила его письмом. В нём она писала:
«Флигель-адъютанта моего Валериана Александровича Зубова прошу жаловать и любить, как молодого человека, наполненного охотой к службе и доброй волею… Он же едет к тебе с тем, чтобы действительно служить и быть употреблённым, куда изволишь; с таковой диспозицией, я надеюсь, ты его не оставишь праздно; сии молодые люди в самом лучшем расположении и притом добросердечны и честны, и нельзя их не любить и за них не интересоваться. Я надеюсь, что мне в слово не выдашь».
Григорий Потёмкин не посмел ослушаться Екатерину-императрицу и принял под своё крыло юного баловня судьбы, который взял разбег для высокого взлёта. За подвиги в штурме Измаила он был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени.
Был отмечен в рапорте и Нижегородский драгунский полк, которым недавно командовал Николай Раевский.
С сожалением он думал о том, что не смог принять участие в знаменитом штурме Измаильской крепости.
Кончина князя Потёмкина-Таврического
Летом 1791 года в небольшом городке Галаце, расположенном в дунайских плавнях, начались мирные переговоры России с Турцией. Вначале их вёл Потёмкин. Признавая административный талант князя, Екатерина называла его своим учеником в политике.
Однако, обременённый многими делами, светлейший поручил разработку проекта мирного договора генералу Репнину.
Прочитав составленный им документ, Потёмкин пришёл в негодование, на глазах у генерала разорвал исписанные листы и срочно направил Екатерине просьбу прислать опытного «полномочного для всех негоциаций» князя Безбородко. Даровитый и работоспособный, исполнительный чиновник отлично умел не только вести переговоры, но и составлять документы.
Ожидая приезда Безбородко и желая быть в курсе переговоров, Потёмкин переехал в Галац.
Николай Раевский, всё ещё командуя казачьим полком, носившим наименование полк Булавы Великого Гетмана, остался в Яссах.
Помня наказ матери, он в один из дней направился на могилу отца.
У распахнутых настежь чугунных кладбищенских ворот его поджидала группа казаков.
— Сюда, пожалуйста, — указал усач на одну из дорожек, уходивших вглубь кладбища.
Николай представил, как двадцать лет назад по этой дорожке подчинённые несли гроб с телом отца. За гробом в строгом равнении шли воины со штуцерами[7]. Не раз лежавший в гробу покойный водил их в жестокие схватки, теперь они несли его последней дорогой в иной мир.
Он погиб от полученных ран, когда находившийся в авангарде полк был атакован превосходящими неприятельскими силами.
Дрогнувшие гренадеры поначалу отступили к недалёким холмам и залегли. К ним примчался их командир, человек отваги и мужества.
— Не сметь отступать! — подал он команду, оказавшись в боевой цепи подчинённых. — Залпами бей по врагу!
Ружейный огонь несколько сдержал атаковавших, однако к ним подоспели резервы, увеличивая численность янычар. Стараясь опередить спешащий на помощь русский отряд, они пошли в рукопашную схватку. Подхватив штуцер раненого гренадера, полковник Раевский прикладом стал дробить головы врагов. Прогремели выстрелы, несколько пуль угодило в него.
Подчинённые не позволили туркам унести раненого офицера. Через некоторое время, не приходя в сознание, он ушёл из жизни.
Его сын Николаша узнал о гибели отца много позже из письма, которое прислали Екатерине Николаевне…
— Пришли, ваше превосходительство, — указал унтер на расчищенную от сухостоя и усыпанную песком могилу.
На кресте едва проглядывала застаревшая надпись: «Полковник Николай Семёнович Раевский. Год 1771».
Преклонив колено, Николай опустил голову, трижды перекрестился и почувствовал душевное волнение.
День был по-осеннему тихим, с лёгкой прохладой, по небу неторопливо плыли пухлые облака, в золотисто-багряной листве осторожно щебетала невидимая птаха.
Тугой на слух Николай вдруг услышал, как поодаль прогремел ружейный салют, какой обычно бывает в завершение воинских похорон.
«Так будет и со мной», — подумал он.
Унтер молча поставил рядом прихваченный табурет и кивнул прочим, чтобы оставили командира одного у дорогой для него могилы. Сам, отойдя поодаль, стал терпеливо ждать, когда его призовёт командир полка.
Пребывание Потёмкина в придунайских плавнях вновь вызвало у него приступы господствующей здесь молдавской лихорадки. Было решено переговоры продолжить в Яссах. Однако болезнь светлейшего не отступала, даже, наоборот, обострялась.
Встревоженная недугом преданного фаворита, Екатерина почти каждый день писала ему утешительные письма. Она понимала, что ныне её любимый фаворит Платон Зубов совсем не такой помощник ей, каким был любезный Григорий Александрович.
Понимал это и больной. Читая её послания, он всё чаще думал об отъезде в Петербург, чтобы там «рвать зубы», имея в виду Платона Зубова.
Для ухода за больным в Яссы прибыли пять его юных племянниц, неотлучно дежуривших у постели родного дядюшки. Одну из них, проживавшую в Киеве жену польского вельможи Браницкого, императрица Екатерина попросила оставить всё и немедленно ехать в Яссы, и та не посмела не выполнить эту просьбу.
Александра Васильевна Браницкая, бросив всё, приехала в Яссы и застала дядюшку в тяжелейшем положении.
Вспомнил Потёмкин и о своём внучатом племяннике Николае Раевском.
Тот едва узнал в исхудавшем человеке некогда могучего фельдмаршала, тело которого сейчас судорожно билось под одеялом.
— Ухожу, Николай, — выговорил он.
— Куда? — не скрыл удивления Раевский.
— Туда… Совсем. — Больной многозначительно посмотрел на потолок. — Полк-то мой сдал?
— Расформировали, ваша светлость.
— Ничего. Скоро примешь под своё начало новый… Тот, свой, драгунский.
Николай понял, что речь идёт о Нижегородском драгунском полке.
Превозмогая болезнь, Потёмкин, сильный человек, решился на далёкую поездку в столицу, чтобы там вершить государственные дела.
В сопровождении многочисленной свиты он выехал 5 октября 1791 года из Ясс, направляясь в Николаев. День был ясный, солнечный, приятно обдувал лицо свежий ветерок ранней осени.
Экипажи с охраной из верховых казаков растянулись на добрые полверсты. Запряжённые парным цугом лошади, выбиваясь из сил, тянули тяжёлые кареты, колеса которых по ступицу утопали в колдобинах, расплёскивая жидкую грязь. С розоватых губ животных стекала кружевная пена, остекленело поблескивали их выпуклые глаза. Восседавшие на передке кучера хрипло покрикивали, размахивая кнутами. Даже в звоне колокольцев и бубенцов не слышалось привычной задорности. Лишь по пригоркам, где земля успела подсохнуть, будто спохватившись, лошади прибавляли резвость, спешили наверстать упущенное. Унылый звон чуть оживал.
Впереди кортежа находилась лакированная карета с позолотой и гербом. В ней находился сам светлейший фельдмаршал князь Потёмкин-Таврический. Два дюжих офицера поддерживали его старательно и осторожно.
Конный поезд проехал от Ясс вёрст пятнадцать, когда больной вдруг застонал, тело его лихорадочно забилось.
— Воздух… Воздух… — с трудом выговорил он.
— Стой! Останови! — скомандовал доктор кучеру, и карета, въехав на небольшой холмик, встала.
Широко распахнулась дверца, и бессильного князя с трудом вынесли из кареты.
Найдя на холме клочок сухой земли, казаки раскинули на нём войлочную кошму, кто-то из офицеров свиты бросил на неё овчинную шубу.
— Укрыть его надо, укрыть, — суетилась племянница, госпожа Браницкая.
Она тщательно укрыла немощное тело дорогого родственника и положила под голову умирающего кружевную подушку.
Все старания находившихся поблизости докторов были напрасны. Тяжко вздохнув, князь Потёмкин навечно застыл на едва приметном степном холме.
Над ним распростёрлось огромное южное небо с первыми, ещё неяркими звёздами.
Потёмкин… Это был самый недюжинный из екатерининских временщиков, несомненно способный администратор, деятельный и энергичный человек, избалованный, однако, побочными обстоятельствами. Его деяния принесли ему высокое положение и долгую память потомков.
Его похоронили на кладбище Херсона.
А 29 декабря 1791 года в Яссах между Россией и Турцией был подписан мирный договор о присоединении Крыма и Кубани к России. К ней отходили земли между реками Южный Буг и Днестр. Новая русско-турецкая граница устанавливалась на юго-западе по реке Днестр, на Кавказе такая граница пролегала по реке Кубань. Подтверждались привилегии, предоставленные населению Молдавии и Валахии. Турция отказывалась от претензии на Грузию и обязывалась не предпринимать враждебных действий в отношении грузинских земель. Ясский договор закрепил за Россией всё Северное Причерноморье, включая Крым, усилил её политические позиции на Кавказе и Балканах.
Раевский в Польше
Между тем летом 1791 года обострилась обстановка в Польше. Против сторонников королевской власти выступили значительные силы крестьянства, возглавляемые генералом Тадеушем Костюшко. С целью умиротворения в Польшу были введены русские войска, в том числе и Украинская армия, командование которой после Потёмкина принял генерал-аншеф Каховский.
Пока Николай Раевский расформировывал казачий полк Булавы Великого Гетмана, Нижегородский драгунский полк убыл в Польшу.
Светлейший князь Таврии выполнил своё обещание передать драгунский полк под начало Николая Раевского. После похорон Потёмкина Раевского предупредили, чтобы он поспешил в Польшу, в отряд генерала Маркова, где находился обещанный Нижегородский полк.
В письме своему родному дяде графу Александру Николаевичу Самойлову Николай Раевский сообщал 21 мая 1792 года из Винницы, что в армию он прибыл благополучно, не опоздал и его здесь «обласкали и обнадёжили».
В следующем письме графу Раевский уведомлял, что имел встречу с Михаилом Илларионовичем Кутузовым. Сообщал также, что передовым корпусом командует Зубов, корпус же находится в шести вёрстах от нахождения полка.
В очередном письме дядюшке, которое Раевский послал 9 июня из Заславля, он писал о «прежарком» деле, которое было недавно и которое они выиграли, о потерях русских и поляков.
О том сражении 7 июня при деревне Городище очевидец, давний знакомый Раевского, позже рассказывал:
«Граф Марков решился принудить неприятеля к сдаче и окружить его полком Андриана Денисова. Тут прискакал подполковник Николай Николаевич Раевский и объявил, что казачий полк должен быть с ним.
— Командуйте! — подавляя самолюбие, не стал возражать Андриан. В недалёком прошлом он учил Раевского, был его начальником, но теперь должен ему подчиниться.
Наскоро составив план нападения, полки переправились через болото и сами оказались на виду у неприятеля, который бросился на дерзостный отряд.
Отряду Раевского ничего не оставалось делать, как отступить назад, за болото, где уже разворачивалась на огневые позиции артиллерийская батарея. Это было правильное решение. Вырвавшаяся к правому флангу неприятельская конница попыталась было атаковать батальон, но сделать это не позволяло болото; разили конницу и наши орудия, били и драгуны с казаками из ружей.
Схватка продолжалась до самого захода солнца. Казалось, неприятель готов был пойти на отряд в последнюю атаку, как подоспела нам помощь: примчались гренадеры Екатеринославского полка».
За это дело подполковник Раевский был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени.
Через месяц, 7 июля, Нижегородский драгунский полк под командованием Раевского участвовал в бою с повстанцами при местечке Дарагости. Наблюдавший схватку генерал Тормасов отметил действия драгун и их командира.
— Этот молодец достоин носить золотую шпагу, — заметил корпусной начальник.
И вскоре через плечо молодого командира лёг ремень золотого оружия.
В следующем, 1793 году Раевский был послан с особым отрядом для обезоруживания польских войск в Могилёве. Задание он выполнил безукоризненно, за что ему был пожалован орден Святого Владимира 4-й степени. Ранее там же, в Польше, Николаю Раевскому довелось сблизиться с генерал-майором Валерианом Зубовым. На приёме у командующего их места за столом оказались рядом.
Первым завязал разговор Зубов — высокий, ладно скроенный, с громким, властным голосом генерал.
— Вы, кажется, из близких родственников покойного Григория Александровича? — спросил он Раевского.
— Родственник, но не близкий, — ответил Николай.
— А ныне чем командуете?
— Нижегородским драгунским полком.
— Хороший полк. Мне довелось наблюдать его в сражении. А что же вы не полковник?
Николай, смущённый, промолчал.
Потом зашёл разговор об истории полка, и Николай, польщённый вниманием сверстника, к тому же генерала, стал рассказывать, как его полк воевал в начале века в Эстляндии, затем против шведов под Лесной и Полтавой, участвовал в Прутском походе, действовал в Кексгольмском уезде, что в Карелии.
Раевский и Зубов действительно были одногодки: родились в 1771 году. Валериан — в ноябре, Николай — в сентябре. Оба интересовались историей и любили сражения и боевые походы. Они разошлись, испытывая уважительное отношение друг к другу.
Вскоре Раевскому присвоили очередное звание полковника, и ему казалось, что к этому был причастен генерал Зубов.
В жарких сражениях и схватках с многочисленными отрядами повстанцев проходило время. Однако восстание не удавалось утихомирить. Более того, оно разрасталось, перенеслось в пределы Литвы.
Екатерина потребовала ввести дополнительные силы. Приказала направить туда Суворова. Обеспокоенная событиями, послала в Польшу войска и Пруссия.
Войска под командованием русского генерала Ферзена перешли Вислу и двинулись к Варшаве, чтобы разделаться с отрядами Костюшко. Туда же с юга устремился и десятитысячный корпус Суворова.
Из всех польских вождей наиболее влиятельным и авторитетным был Тадеуш Костюшко. Происходивший из обедневшего рода шляхтичей, он завоевал в народе большое уважение и почёт. Его по праву считали вождём. Окончив в Варшаве кадетскую школу, он позже обучался инженерному делу в Германии, Италии, Франции. Потом отправился в Америку и там принял участие в войне. Был адъютантом главнокомандующего северной армией Вашингтона. Не раз отличался в сражениях и по окончании войны имел чин бригадного генерала и американский орден.
Затем он служил в польских войсках, а когда вспыхнуло восстание, его назначили главнокомандующим повстанческим войском, удостоив титула генералиссимуса.
Это был действительно опытный и мужественный военачальник, умевший внезапно нападать и искусно выводить войска из-под нависающей угрозы. Русские военачальники ясно понимали, с кем приходилось иметь дело.
Костюшко долго сидел над планом, раздумывая, что предпринять, чтобы не позволить соединиться двум русским отрядам. Он ясно понимал, какая угроза нависает над ним. О полководческом мастерстве Суворова ему было известно. Он никак не хотел бы иметь его своим противником. Но обстоятельства не считаются с желанием.
На плане в центре листа чётко обозначено местечко Мацеевицы. Именно здесь, по замыслу Костюшко, повстанцы должны перехватить корпус Ферзена, пока Суворов находится в отдалении.
«Вначале разобью Ферзена, а потом уж отважусь на Суворова», — размышлял, принимая решение, польский генерал. Ему был известен принцип древних полководцев: неприятеля нужно бить порознь, по частям, до того, как он объединится. Так теперь делает и Наполеон, прославившийся в последнее время победами. Так будет поступать и он, Костюшко.
Лёг Костюшко далеко за полночь и долго не мог уснуть. Вспомнилась вдруг его юность. Вспомнил, как, возвратившись из заграницы, поселился в поместье у давнего покровителя их семьи пана Сосновского. Тот поручил молодому человеку воспитание своих дочерей. Под руководством красавца шляхтича с тонкими манерами и мягким обхождением дочери успешно овладевали науками. А потом одна из них, голубоглазая Людвика, влюбилась в своего воспитателя, и он ответил ей тем же. Каким неповторимо сладким было то время. Но недолго оно продолжалось.
Однажды ничего не подозревавшим родителям дочь призналась, что любит Тадеуша, что без него не будет у неё счастья. Только он её избранник, и никто другой!
Мать и отец пришли в замешательство: чтобы дочь стала женой бедного шляхтича? Да никогда они не согласятся! Не быть этому!..
Но их любовь зашла слишком далеко, и они решили бежать. Тадеуш вызвался похитить Людвику, взять всю вину на себя. Однако его плану не суждено было сбыться. Тадеуш навсегда покинул поместье, унося в душе кровоточащую рану обиды. А вскоре Людвика стала женой богача, князя Любомирского…
Прошумела молодость, улетела прочь быстрокрылой птицей. Теперь ему скоро пятьдесят, мысли заняты другим. Завтра, 29 сентября, сражение, которое он непременно должен выиграть.
Но накануне сражения, как и Костюшко, размышлял над картой и его противник, генерал Ферзен. Хотя он и носил немецкую фамилию далёких предков, однако долгое пребывание в России не прошло для него бесследно: вместе с молоком матери, красавицы из Тамбова, он впитал и её характер. Иван Евстафьевич обладал незаурядным умом и сообразительностью, не обделил его Бог и хитростью. В дальнейшем он дослужился до полного генерала, стал директором первого в России кадетского корпуса.
Предвидя нападение Костюшко, он разработал свой план сражения под теми же Мацеевицами. Основную роль в предстоящем сражении он отвёл казакам графа Денисова.
— Смотри же, Фёдор Петрович, не упусти момент, когда нужно пустить в неприятельский тыл казаков. Не опоздай! — предупредил он Денисова.
— Как можно, Иван Евстафьевич, дать промашку? Уж ты мне доверься. Я давно точу зуб на Костюшко. Казакам слово дал, что непременно схвачу его, — отвечал граф.
Но графу Денисову с самого начала сражения не повезло. Оставив два полка в укрытии, как наметил в диспозиции Ферзен, он с командиром одного полка, майором, выехал вперёд боевой линии и приблизился к неприятелю.
— Ваше сиятельство, это опасно! — обеспокоился подчинённый.
— Ежели трусишь, так поезжай назад, — невозмутимо ответил генерал Денисов.
Послышался орудийный выстрел, над их головами просвистела картечь. Генерал остановил свою упрямую лошадь, всматриваясь во вражеские позиции.
— Ваше сиятельство… — вновь начал было командир.
— Да перестань же! Двум смертям не бывать, одной не миновать.
Опять ударило орудие. Лошадь с генералом упала как подкошенная.
— Ведь говорил же! — бросился к лежавшему майор. — Возьмите моего коня и скачите!
— Помоги подняться… Вот чёрт! Кажись, опять маленько задело.
Денисов поднялся и, не оглядываясь, прихрамывая, пошёл назад. Истекая кровью, тяжко ржала лошадь, судорожно билась.
Первый удар приняли пехотные и егерские полки. Неприятель численно превосходил их, однако они стойко удерживали позиции.
Ферзен наблюдал за сражением с небольшой высоты, пытаясь не выдать волнения. Но это плохо удавалось ему. Нервно покусывая губы, он то и дело разглядывал происходящее в зрительную трубу, покашливал, поругивал кого-то в сердцах.
Гремели орудия, часто через голову с угрожающим урчанием пролетали ядра. Несколько их упало вблизи кургана, кого-то ранив из свиты. На правом фланге полыхали избы деревеньки, подожжённые неприятельскими огневыми фугасами.
Когда первые атаки иссякли, не принеся врагу успеха, Ферзен приказал конникам, находившимся против левого фланга поляков, где пылала деревушка, атаковать врага. Костюшко вынужден был бросить туда на усиление часть находившихся в резерве своих сил.
Стремительность, с какой действовали повстанцы, заставила конников, а затем пехотинцев и егерей попятиться. Казалось, они дерутся на последнем дыхании, ещё немного — и они побегут. На это рассчитывал Костюшко, и это же предвидел Ферзен. Польский генерал подал уже резерву команду «изготовиться», чтобы развить успех у деревушки, но русские всадники уже мчались на противоположном фланге, где Костюшко не предвидел угрозы.
Обтекая боевой порядок поляков, конные полки заходили в неприятельский тыл.
Николай Раевский нёсся в гуще лавы. «Ги-ги!.. Ги-ги!» — слышал он устрашающие крики людей и гулкий топот конских копыт.
А из леса, во всю ширину опушки, навстречу вынеслись всадники в голубых мундирах. Но это не испугало скакавших, не замедлило бег коней. Драгуны с ходу врубились в боевой порядок польских улан. Зазвенела сталь клинков, дико заржали лошади, захлопали пистолетные выстрелы.
— Руби!.. Коли!.. Бей!.. Эх!.. — слышались вокруг ядрёные словечки.
Перед Николаем вырос польский всадник на светлом коне. На миг мелькнули рыжие усы, рысьи глаза, молнией сверкнул палаш. Раевский успел отразить удар, но с другой стороны взвился свечой вороной жеребец. Второй улан изготовился ударить по Николаю, и он с трудом в самый последний момент смог защититься. А уж первый опять бросился на него.
Звенит сталь, снопами вылетают искры. Только бы уцелел клинок!.. Только бы не подвёл!..
Отразив удар первого улана, Раевский замахнулся на другого, но его опередило длинное копье казачьей пики. Оно коснулось груди поляка и вошло в него, пронзив насквозь.
— Спасибо! — лишь успел выдохнуть Николай, а может, и не сказал, только подумал, и бросился на усача.
Враг дрогнул и начал отходить. Первыми в преследование помчались казаки. В авангарде — полк Андриана Денисова.
Андриан ещё ранее приметил всадника на отличной бурой лошади и в окружении охраны. «Неужели Костюшко?» — мелькнула догадка. И майор повёл полк вслед за польскими всадниками.
Преследование продолжалось вёрст семь, а возможно, и десять. Домчались до селения, а дальше дорога разветвлялась. По какой поляки поскакали? Куда ехать? Но Андриан Денисов размышлял недолго.
— Скачите по правой дороге, а я — по этой! — приказал он дозорным.
Он проскакал ещё версты три, не обнаружив никого. Упустили! Андриан в сердцах даже выругался. Солнце уже садилось. Накатывалась тьма. Примчался казак из головного дозора.
— Ваше превосходительство, мы догнали беглецов. Побили многих и Костюшку, кажись, взяли!
Костюшко и находившихся с ним майора и рядового догнали у болота. Не раздумывая, Костюшко направил лошадь в болото, а двое стали его прикрывать. Но казаки, разделавшись с ними, пикой ссадили генерала с лошади и стали обыскивать его.
Прискакал ещё один казак. Увидев меж своих польского начальника, он, не раздумывая, хватил его саблей. Тот упал.
— Чего его жалеть! — И казак хотел ковырнуть пикой.
Но неподвижно лежавший неподалёку офицер, которого посчитали убитым, вдруг приподнялся и крикнул:
— Не убивайте! Ради бога, сохраните жизнь! Это же мой начальник!
Этим он отвёл от Костюшко смерть.
Андриан Денисов соскочил с коня.
Костюшко лежал на земле, бледность и кровь на лице подтвердили, что он ранен. На голых, без сапог ногах тоже была кровь. Атласный мундир и панталоны изодрались. Несомненно, это был главнокомандующий, но для верности Денисов спросил его:
— Вы кто?
— Костюшко, — ответил тот. — Ранен. Прошу оказать помощь.
В этот же день о пленении польского вождя стало известно армии. Ведь это предвещало конец войне.
После пленения Костюшко командовать повстанцами начал пан Вавржецкий. Николай Раевский находился у Андриана Денисова, когда примчался казак-гонец с известием:
— Там в имении находится пан Вавржецкий.
— Отколь ведомо? — насторожился дед Андриана, граф Фёдор Петрович Денисов. — Не брешешь ли?
— Не сойти мне с места! Своими глазами видел!
Казак перекрестился.
— Ну, этому гусю от меня не уйти! — Дед вскочил и рванулся к двери. — Андриан! И ты со мной!
По-молодецки для своих немалых лет он взлетел на коня, огрев его плетью. На вороном коне, в чёрной с развевающимися полами бурке он напоминал хищную птицу, стремительно несущуюся к жертве.
У особняка Денисов лихо соскочил, прихрамывая, взбежал по ступеням широкой парадной лестницы. Легионер у входа попытался остановить графа, но тот решительно отстранил его.
В комнате было три человека. Дед направился к одному.
— Пан Вавржецкий! Вы — мой пленник! Вашу саблю!
— Что?! Да как смеешь ты, паршивый казак, предлагать такое мне, пану? Убирайся вон, наглец, или посеку тебя, как капусту!
— Пан! Я требую сдать оружие! — с металлом в голосе повторил генерал.
— Убирайся вон! — повторил пан. — Скажи своему Денисову, чтоб он не смел мне повстречаться! Уничтожу!
Глаза поляка метали молнии, он с угрозой потянулся к сабле.
Тогда Фёдор Петрович дёрнул шнурок. Бурка соскользнула с плеч. Грудь чекменя была в орденах и медалях.
— Я — Денисов, пан Вавржецкий! Ещё секунда — и изрублю!
Он вырвал из ножен саблю.
Признаться, таким Андриан деда ещё не видел. Глаза его сверкали, голос рвался, ещё мгновение — и сабля сама собой взлетит над головой.
Рослый и далеко не старый пан Вавржецкий сник: руки у него упали, в знак повиновения склонилась на грудь голова.
После соединения с корпусом Ферзена Суворов теперь имел значительные силы: 30 тысяч пехоты и кавалерии, 86 орудий. Численность казачьего войска была 5 тысяч.
Примерно столько же войск защищало Прагу. Это было предместье Варшавы на правом берегу Вислы. Вокруг Праги вал, ров, волчьи ямы. У внешнего обвода за укрытиями более 100 орудий. Кроме того, орудия находились за Вислой, они вели огонь по изготовившимся к штурму русским войскам.
Именно на этом месте произошло событие, связанное с именем графа Валериана Зубова. Оно потрясло императрицу Екатерину и вызвало в народе недобрые разговоры.
Двадцатитрёхлетний Валериан — родной брат фаворита императрицы Платона — командовал в Польше корпусом. Ещё ранее в штурме крепости Измаил он проявил себя как опытный воин, отличившийся дерзкой инициативой и храбростью.
В Польше он подтвердил свои достоинства военачальника. Преследуя арьергардный отряд поляков при переправе через Буг, он выехал на рекогносцировку в одно из опасных мест, обстреливаемое неприятельской артиллерией.
Окружённый многочисленной свитой своих помощников, генерал Зубов отдавал распоряжения. Разведавший ранее здесь обстановку полковник Рарок подскакал к свите.
— Господа, пожалуйста, разъезжайтесь. Неприятель наблюдает, он видит вас, ваше сиятельство. Артиллеристы у него меткие…
Но предупреждение опоздало. Прогремел залп, и одно ядро разорвалось рядом с генералом и полковником. Оба упали. Осколками ядра оторвало у генерала левую ногу, у полковника — правую.
Большинство находившихся вблизи офицеров бросились к Зубову и на руках вынесли его в ближайшую лощину. Подоспевшие врачи занялись ампутацией ноги. Испытывая ужасную боль, генерал не терял духа, вызывая уважение у окружающих.
О полковнике, казалось, забыли: потеряв сознание, он лежал, истекая кровью. Когда Зубова везли в госпиталь, Рарока облачали в погребальный саван…
Узнав о тяжёлом ранении любимца, императрица едва сдержала себя. Опечаленная случившимся, она собственноручно написала ему письмо:
«Опасалась я раны твоей и была зело прискорбна, дондеже увидела письма твои, курьером привезённые, а теперь восхищаюсь бодростью духа твоего. Подкрепи тебя Бог! Хвалю дух твой!»
Узнав об отъезде Зубова в Петербург, Екатерина распорядилась отправить в Варшаву дорогой английский дормез[8] и переслать «на дорогу» 10 тысяч червонцев.
За боевые подвиги ему пожаловали немалый орден Святого Андрея Первозванного, чин генерал-лейтенанта и орден Святого Георгия 3-й степени.
Кроме того, огромная сумма, чуть ли не в 800 тысяч рублей, была ему выдана на лечение и уплату долгов. А в Петербурге ему отписали прекрасный дом на Миллионной улице, некогда принадлежавший царедворцу Бирону.
24 октября 1794 года состоялся штурм пригорода Варшавы — Праги. Предводительствуемые Суворовым войска бросились на неприятельские укрепления на рассвете, а к девяти утра сражение кончилось. Прага пала, впереди была Варшава.
Через день поутру из-за Вислы к Суворову прибыла польская делегация.
Александр Васильевич расположился в небольшом лесу. Там стояла его калмыцкая кибитка, а у пенька, который служил сиденьем, установили стол.
— К вам, ваше сиятельство, — доложил дежурный офицер, указывая на прибывших поляков.
Один из них, высокий и лощёный, торжественно отдал честь и с почтительным видом протянул грамоту.
Прочитав вверху название «Условия», Суворов хотел было возвратить документ и заявить при этом, что никаких условий он не приемлет, что условия он сам объявит. Но что-то удержало его. В конце текста стояли подписи польского короля и конфедерационного совета.
Суворов читал, и лицо его светлело. В документе излагалась просьба о прекращении войны и заключении мира.
— Виват! — воскликнул полководец. — Виват! Пусть меж нами будет вечный мир! Мы не рождены врагами, а потому я складываю оружие, чтобы не проливать кровь наших народов.
Сказав это, Суворов сорвал с себя саблю и отбросил её прочь. Поляки, не ожидавшие такого приёма, застыли в изумлении. Грозный полководец явился пред ними совсем иным человеком, чем он им представлялся.
А Суворов меж тем, обернувшись к кибитке, звал ординарца:
— Подать сюда вина! Да скоро!
Нашлась только бутыль крепчайшей водки, которую втайне хранил запасливый ординарец. И ещё он подал полкаравая ситного.
— За благородство польского народа! За вечный меж нами мир! — провозгласил тост Александр Васильевич.
Прерванный поход
В конце 1794 года по возвращении из Польши Николай Раевский получил продолжительный отпуск для устройства семейных дел.
Энергичная и деятельная Екатерина Николаевна приложила немало старания, чтобы женить своего первенца на дочери главного библиотекаря императорской дворцовой библиотеки Константинова. Это был умный, образованный человек, грек по происхождению. Его женой была единственная дочь известного российского учёного Михаила Васильевича Ломоносова.
Жена молодого двадцатитрёхлетнего полковника Софья Алексеевна Константинова приходилась знаменитому Ломоносову внучкой.
Сыграв в Петербурге свадьбу, молодожёны в начале лета уехали на Кавказ. Незадолго перед этим Нижегородский драгунский полк направили в крепость Георгиевск, находившуюся в тридцати вёрстах от Пятигорска.
Крепость была знаменита тем, что в 1783 году в ней был подписан договор о принятии грузинского царства под высокий протекторат России.
Вблизи крепости позже возник город Екатериноград — место пребывания наместника Кавказа Павла Сергеевича Потёмкина — двоюродного брата всесильного светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина. Имея такого покровителя, наместник чувствовал себя настоящим хозяином края и позволял себе многое.
Новый город находился у слияния реки Малки с Тереком. В недалёком прошлом это была заурядная станица Екатерининская, но, желая польстить императрице, генерал-губернатор переименовал её в город со столь пышным названием — Екатериноград.
Через год в нём вырос двухэтажный дворец, в отдалении в строгом порядке появились кирпичные и деревянные строения воинских и гражданских учреждений; ещё дальше — казармы для солдат и дома чиновников. При выезде из города возвышалась массивная триумфальная арка с надписью «Дорога на Кавказ». Именно отсюда начиналась дорога через Крестовый перевал в Тифлис.
Это был первый путь, проложенный восемьюстами солдат через Главный Кавказский хребет. Он был настолько удобный, что Потёмкин без затруднения одолел его восьмериком в обычной коляске.
При этом царском наместнике Екатерины были учреждены из бывших крепостей первые кавказские города: Кизляр, Моздок, Екатериноград, Ставрополь, Георгиевск. Генерал Павел Потёмкин вызвал на Кавказ немецких колонистов, чтобы с их помощью устроить заводы для шелководства и виноделия и дать сельскому хозяйству Кавказа более широкое и правильное развитие.
Действия кавказского наместника явно пришлись по душе императрице. Она пожаловала ему в чине генерал-поручика ленту Святого Владимира 1-й степени, бриллиантовую табакерку со своим портретом и ещё шесть тысяч рублей звонкой монетой.
В 1787 году Потёмкина направили в Дунайскую армию, и вскоре на его место назначили генерал-аншефа Ивана Васильевича Гудовича.
Кроме крепости Георгиевск, Нижегородский драгунский полк размещался в станице Прохладной. На Тереке было неспокойно: приходилось довольно часто предпринимать вылазки против местных чеченских банд.
В один из летних дней 1795 года во дворец грузинского царя Ираклия примчался гонец из соседнего княжества. Его, уставшего, с лихорадочным блеском глаз, провели в зал, где царь обычно принимал просителей.
Приблизившись к Ираклию, гонец упал на колени.
— Ты кто? — спросил встревоженный грузин. — С чем прибыл?
— Я из Карабаха, от Ибрагим-хана. Мой господин повелел передать, что у границ Карабаха появилось иранское войско, — отвечал гонец. — Сказывают, будто бы иранский хан Ага-Мохаммед намерен вести войска на Тифлис. Мой господин велел предупредить тебя об опасности.
Более тридцати лет Ираклий правил княжеством Восточной Грузии. Опытный политик и дипломат, он установил добрые отношения с соседними ханствами: Карабахским, Талышским, Эриванским. Их правители клятвенно пообещали оказывать в трудный час поддержку в войне против Персии. На свою сторону Ираклий пытался привлечь и дербентско-кубинского хана Шейха-Али, но тот, боясь персидского владыки, хитрил, отделывался от переговоров пустыми обещаниями.
Выслушав гонца, Ираклий поднялся с кресла. Ему было за семьдесят, он был среднего роста, с седой патриаршей бородой. Подойдя к гонцу, царь уставился на него тяжёлым испытующим взглядом. Тот продолжил:
— Войско ведёт сам Ага-Мохаммед, его полчища неисчислимы. Они вторглись на нашу землю, и народ уже проливает кровь.
— Ещё что известно?
— Я знаю, что Ага-Мохаммед деспот, свирепый человек. Он уничтожает всё на своём пути: сжигает селения, женщин и детей угоняет в рабство. Его нельзя остановить, его можно одолеть, если объединиться…
— Не тебе меня поучать, — оборвал гонца Ираклий.
Жестокость персидского владыки была ему известна. Сын влиятельного в Персии хана, Ага ещё мальчиком попал в заложники к врагу отца. Застав однажды Агу в своём гареме с одной из наложниц, тот приказал оскопить его.
Проявленное зверство оставило у юноши след на всю жизнь: он стал нетерпим, безжалостен, мстителен. Не проходило дня, чтобы он не сделал ближним неприятности. Даже добрые советы он воспринимал с подозрением и обидой.
Однажды он попытался бежать от хозяина-хана, но его поймали, наказали и предупредили, что в следующий раз ему выколют глаза.
Узнав о глумлении над сыном, отец Аги поклялся жестоко отомстить, но вскоре сам был отравлен.
Ага сделал вид, что смирился со своей участью, ударился в религию и послушание. Читал священные книги, выучил суры Корана, старательно и подолгу молился, вёл душеспасительные беседы. Даже совершил хадж[9] в далёкую святую Мекку.
По возвращении у него возник тайный замысел стать властелином Персии. Прошли долгие годы беспощадной борьбы, насилий и подкупов, пока план не осуществился.
И вот его враги повержены, стёрты с лица земли. Упоенный долго ожидаемой победой и властью, стоит он, скопец Ага-Мохаммед, в окружении верных служителей. Перед ним на центральной площади Тегерана дворец недавнего смертельного соперника.
— Сделано ли, как я повелел? — потребовал он женским голосом.
— Можно ли ослушаться, луноликий! — послышалось в ответ.
Стоявшие с лопатами и заступами слуги бросились к парадным ступеням, выворотили плиты, и под ними открылась яма.
— Бросайте в неё грязную собаку!
С подкатившей повозки стащили труп недавнего персидского владыки. От него исходило зловоние.
— Вы чувствуете, как смердит мой враг? Только падаль так может вонять!
Труп сбросили в яму, засыпали землёй, сверху уложили плиты.
— Вот где место моего врага. Я отомстил ему! Теперь каждый раз я буду попирать ногами его смердящий прах.
Семеня, скопец ступил на плиты и стал их топтать.
— Вот так!.. Вот так его!.. — брызгал он слюной в диком упоении.
А потом к его ногам уложили тяжёлые кожаные сумы. Один из ханов, поклонившись в ноги, доложил:
— Мы рассчитались с врагами, как ты повелел.
Он раскрыл клапаны сум, и там холодно блеснуло что-то осклизлое.
— Сколько же здесь? — указал скопец перстом.
— Двадцать тысяч пар, мой повелитель. Твои враги теперь бессильны. Они слепы, их глаза перед тобой…
Персидский владыка Ага-Мохаммед собрал восьмидесятитысячную армию и вторгся в пределы кавказских княжеств, сея у народа страх и ужас. А 11 сентября его орды ворвались в Тифлис.
Город запылал огнём, отовсюду неслись истошные крики, жителей охватила паника. За восемь дней жилища города превратились в руины и пепел. Завершив своё чёрное дело в грузинской столице, беснующиеся отряды переметнулись в другие районы Закавказья.
Грузинский царь Ираклий и кавказские князья обратились к России за помощью. Екатерина не стала возражать.
За план разгрома персидских полчищ сел фаворит престарелой российской императрицы Платон Зубов. Стремясь упрочить своё положение первого в правительстве лица, он попытался придать замыслу масштабность и грандиозность.
— Этим походом, матушка, — докладывал он Екатерине, — мы без труда низвергнем Персию, а заодно и Турцию. Непременно вынудим их владык пасть к вашим стопам. А сделаем вот как. Из Кизляра наша армия пойдёт главными силами вдоль моря на Дербент. Оттуда — на Баку, Шушу и затвердит их за собой. Когда разгромим кровожадного Агу и захватим торговые пункты, вся торговля с Индией и Турцией окажется в наших руках. Но это ещё не всё. После того как проникнем в самую сердцевину Персии и низвергнем её, армия повернёт к Константинополю. Пред нашей грозной силой, матушка, туркам не устоять, и мы последуем к проливам. А навстречу ей прямиком чрез Балканы двинется наша Молдавская армия. Она тоже устремится к проливам. Константинополю возникнет угроза с двух сторон. Сможет ли он удержаться против подобного манёвра? Вряд ли…
— Ну уж, Платон Александрович, ты замахнулся, — с недоверием сказала Екатерина. Умная и проницательная, она и в свои шестьдесят шесть лет не теряла трезвость рассудка. Правда, вспыхнувшее чувство к молодому и пылкому фавориту несколько пригасило его. — Не в тягость ли сие будет для России?
— Ничего, матушка, поднатужимся, зато потом всё окупится. Но ведь это ещё не всё. Соизвольте выслушать до конца.
— Ну-ну, расскажи, послушаю.
— Когда Константинополь окажется в осаде и к его стенам подступят две армии, тогда из Севастополя отплывёт русская эскадра. А на главном фрегате будет находиться великая императрица земли российской. Вы, матушка, поведёте сию эскадру к проливам.
— Кому ж доверить командовать в сём предприятии? Тут нужен мудрый и многоопытный начальник.
— Обдумал и это. Я уже имел разговор с самим Суворовым. Правда, старик капризничает, но, полагаю, сумею уговорить его, решим по-родственному.
Год назад дочь Суворова Наталья, или, как её называли, Суворочка, вышла замуж за Николая Зубова — старшего брата Платона, и, к досаде фельдмаршала, их семьи породнились.
— Он старик с норовом, — согласилась с предложением фаворита Екатерина. — С ним будь пообходительней. Равного ему полководца во всей Европе нет.
Зубов не стал рассказывать, как три дня назад он пригласил Суворова к себе в Зимний дворец и чем закончилась эта встреча.
Когда в то утро Суворов явился к Зубову, тот ещё валялся в постели. Узнав о прибытии фельдмаршала, он, не очень заботясь о своём виде, облачился в сюртук, сунул ноги в шлёпанцы и кое-как пригладил волосы. Он не очень баловал вельмож. Случалось, принимал их в постели, соизволял выслушивать и в ватерклозете. Кто мог выразить неудовольствие ему, Платону Зубову, обогретому ласками самой императрицы-матушки?
Внешность фаворита и та небрежность, с какой он заговорил, покоробили Суворова. Он даже сделал вид, что не заметил протянутой руки заспанного и непричёсанного родственника.
Зубов сел в кресло, закинув ногу на ногу, и указал гостю на стул.
— Есть у меня к вам дельце, Александр Васильевич, — начал он, но фельдмаршал вдруг скорчился от боли, схватившись за живот.
— Ох, рази его так!.. Ох!.. Опять схватило… Мочи нет… Уволь от разговора.
Не ожидая разрешения, он направился к двери. Выйдя из кабинета, выпрямился и молвил подскочившему камердинеру:
— Скажи этому болвану, что в среду поутру буду ждать его у себя.
— Как изволили сказать? — оторопел тот.
— Болвану, — отчётливо произнёс Суворов и, по-солдатски твёрдо ступая, пошёл к выходу.
Отношения между Суворовым и Платоном Зубовым были натянутыми издавна. Ещё когда Александр Васильевич находился с корпусом в Новороссийском крае, Платон Зубов прислал ему назидательное письмо. Прочитав его, Суворов тут же отправил бумагу назад, сделав приписку: «Ко мне штиль Ваш рескриптный, указный, повелительный, употребляемый в аттестованиях?.. Нехорошо, сударь!»
А когда однажды зашёл разговор о Зубове, Александр Васильевич прямо заявил: «Да он же царя в голове не имеет! Болван — и только!»
В среду фаворит сам пришёл в назначенный час к Суворову.
— Что фельдмаршал? — сбрасывая с плеч соболью шубу — подарок «матушки», спросил он слугу.
— Ждут-с.
Слуга проводил гостя в спальню.
— A-а, родственничек пожаловал, — послышался голос, и из-за ширмы вышел Суворов.
Он был в одних подштанниках.
От такого зрелища Зубов не мог произнести ни слова. Его, светлейшего князя, генерал-фельдцейхместера, генерала от инфантерии и генерал-адъютанта, преемника всесильного Потёмкина, встречать в подобном виде!..
А Суворов меж тем, осмотревшись, хлопнул себя по лбу:
— Ах ты, господи! Вот уж старая голова! Совсем запамятовал, что ваша светлость должна приехать. Но я сей миг… Эй, Прошка! Подай штаны!
И стал при госте натягивать их.
Разговор, однако ж, состоялся. Слушая план похода, Суворов всё более утверждался в несбыточности задуманного и полной несостоятельности его составителя. В случае согласия принять командование над войсками он, Суворов, должен был подчиняться этому бездарю, выслушивать его указания и не сметь перечить.
Ознакомившись со списком предлагаемых для похода генералов, он порекомендовал:
— Поболее казаков нужно взять, а во главе их непременно поставить Платова. А ещё включи братка своего Николая. Нечего ему в столице околачиваться. Пора о чинах думать.
Зять Суворова третий год ходил полковником, время надеть и генеральские эполеты, а сделать это было легче в боевом походе.
— Как решит государыня-матушка, — уклончиво ответил Зубов.
Он не хотел обидеть брата и не желал выказывать Суворову своё послушание.
— Ну так как, фельдмаршал, даёте согласие принять командование? — спросил в конце разговора Зубов.
— Подумать надо, — дипломатично произнёс Суворов. — Такое дело!.. Сразу не решишь.
— Вашим отказом матушка-государыня будет в недовольстве.
— Ты, Платон Александрович, не матушка. С императрицей, возможно, сложилось бы и по-другому.
На следующий день Зубов доложил Екатерине об этом разговоре.
— Отказывается? Уговаривать не станем. Найдём кем заменить, — сказала она.
— Кем же?
— А братцем твоим, резвушей Валерианом. Он достоин такой почести.
Зубов прикусил губу. Он знал, что его младший брат был матушке более чем любезен, но никак не ожидал, что императрица решится на такое.
— Пусть будет Валериан, — не смея перечить, согласно промолвил он.
Решение о Персидском походе состоялось.
В марте в Георгиевск пожаловал генерал-поручик Гудович. Он командовал находившимися у предгорья Кавказа русскими войсками. Зная обстановку и нравы горцев, он умело проводил политику Петербурга и рассчитывал возглавить поход в Персию, но Екатерина назначила главнокомандующим Валериана Зубова, отведя Гудовичу в походе второстепенную роль.
Это был незаурядный человек: в молодости он учился в двух университетах — Кёнигсбергском и Лейпцигском, участвовал во многих больших сражениях. Властный, самолюбивый, он, узнав о своём новом, унизительном для себя назначении, подал прошение об увольнении его от должности. Позже его просьба была удовлетворена.
Прибыв в Георгиевск, он приказал Николаю Раевскому готовить полк к переходу под Кизляр. Заметив округлившийся живот Софьи Алексеевны, сказал:
— А супругу надобно отправить в Петербург. Ей непозволительно трястись в долгом пути в солдатской повозке.
Через несколько дней Софья Алексеевна уехала в сопровождении казачьей охраны на Украину, в любимое Раевским имение Каменку. Там осенью появился на свет старший сын Александр.
Раевский же поспешил с полком к Кизляру.
Городок Кизляр находился в далёком углу Российской империи — у впадения Терека в Каспийское море. Земли здесь были плохие, тощие, а совсем неподалёку начинались Чёрные земли. Поросшие чахлой травой, песчаные холмы уплывали за горизонт и много дальше: ни лесочка на них не было, ни кустика. Когда же дули ветры, холмы оживали, двигались, холодный песок подбирался к самым саманным строениям сельчан.
Весной 1796 года кизлярское захолустье ожило. И крепость и городок заполнились войсками, на широком поле выросли ряды палаток и островки землянок подошедших полков, в числе которых был и Нижегородский драгунский полк.
По ранее разработанному плану полк не входил в состав корпуса генерала Зубова, но, знакомясь с планом, Валериан Александрович обратил внимание на фамилию Раевский. Он вспомнил молодого энергичного полковника, не однажды отличавшегося в Польше, и приказал включить его драгунский полк в состав экспедиционного корпуса. Возразить любимцу Екатерины-матушки никто не посмел.
К Кизляру уже спешили войска двух пехотных бригад генералов Булгакова и Римского-Корсакова и двух кавалерийских бригад генералов Беннигсена и Апраксина с астраханскими и таганрогскими драгунами.
В бригаде Булгакова капитан артиллерии Ермолов командовал мощной брешь-батареей, предназначенной для взлома крепостных стен.
В начале апреля в Нижегородский полк пожаловал Зубов. Выслушав рапорт Раевского, он сказал:
— Слыхал о твоих делах. И рад за тебя. Потому и пожелал видеть тебя в походе. Пока полку придётся пребывать в моём резерве, но возникнет надобность — не задержу, поручу решать ответственные дела.
Николая поразила внешность генерала. Румянощёкий, крепкого сложения, тот передвигался прихрамывающей походкой. Раевский знал, что генерал без ноги, вместо неё был изготовленный в Англии протез. В уверенности, что протез изготовлен из золота, горцы называли Зубова Кизил-Аяг, что означало Золотая Нога.
Когда же Зубову подвели коня и он, попрощавшись с Раевским, одним махом вскочил в седло, тот не скрыл удивления.
— Что, Раевский, не ожидал от меня такого? — спросил Зубов.
— Не ожидал, ваше сиятельство. — И своим признанием вызвал у генерала довольную улыбку.
Некоторое время Нижегородский полк находился при главной квартире командующего, солдаты несли службу охранения, выполняли хозяйственные работы, даже привлекались к охоте. Зверья и дичи в этом непуганом крае было в избытке, и без особого труда удавалось бить нужное для солдатских котлов.
Боевые действия успешно вели шедшие авангардные полки. Многие ханства и княжества, напуганные жестокостью персидского владыки, дружески встречали русские войска. Нередко одаривали первых вошедших в селения солдат деньгами, ценными подношениями, обменивали уставших и больных лошадей на свежих, крепких и сильных.
20 апреля войска зубовского корпуса отметили день Пасхи. «В сей праздник, — записал в дневнике прикомандированный из Императорской академии наук письмоводитель, — сам граф был во всенощной, причём пальбы никакой не было. После он христосовался со многими обер-офицерами, был у обедни и кушал у себя. В сей праздник он приказал выдать всем нижним чинам порцию по одной чарке горячего вина и по одному фунту говядины.
21-го — день рождения Ея Величества. Войскам был дан роздых. Граф слушал обедню и молебен при стрельбе со всех орудий главной и полковой артиллерии.
В последующие дни двенадцатитысячный корпус в бригадных колоннах направился по определённым маршрутам в сторону Дербента».
Бригада генерал-майора барона Беннигсена, в которой числился Нижегородский драгунский полк, продвигалась у Каспийского моря, надеясь в дальнейшем обойти крепость Дербент слева и замкнуть кольцо окружения немалого гарнизона противника.
Высланный вперёд казачий отряд 3 мая приблизился к стенам крепости, хотел с ходу ворваться внутрь неё, однако замысел не удался.
Наблюдавший схватку Зубов высказал неудовольствие:
— Восьмого мая предпримем штурм. Для главного удара воспользоваться брешь-батареей! Кажется, её начальник капитан Ермолов уже подтянул к Дербенту орудия?
— Так точно, ваше сиятельство. Батарея уже на месте.
Наутро 8 мая загрохотали орудия, от тяжёлых ядерных ударов вздрогнули стены крепости. Сосредоточенные отряды егерей, казаков и драгун ожидали, когда наконец последует сигнал и все, преодолевая страх, бросятся к пролому, чтобы через него проникнуть в цитадель. И когда штурмовые отряды готовы были кинуться к пролому, послышалась команда:
— Стой! Отбой! Всем оставаться на месте!
В воротах крепости распахнулись огромные створы и показалась вооружённая толпа. Впереди неё находился начальник гарнизона хан Шейх-Али. У него на шее висела кривая сабля. Приблизившись к Зубову, он с поникшей головой протянул ему оружие.
Штурм крепости завершился.
После двухнедельного пребывания у Дербента корпус продолжил поход. Разведка установила, что у Аги-Мохаммеда войск совсем немало — более сорока тысяч и что к нему примкнули бакинский хан и ханы Карабаха и Шенхали.
Стремясь оказать влияние на местных властителей, Зубов написал князькам послание, в котором утверждал, что русские войска идут на помощь Грузии и что враг у них один — Ага-Мохаммед. Никаких злых замыслов против кавказских народов русская армия не имеет, и потому он, генерал Зубов, требует, чтобы местные ханы и владыки отказались от своих вредных для освобождения Кавказа замыслов, чтобы распустили войска и не шли в союзники к персидскому владыке. Если они не сделают этого, он, генерал Зубов, вынужден будет послать во враждебные ханства войска и опустошит их огнём и мечом.
Один из кавказских ханов, получив послание, писал Зубову: «Я долго думал над ответом. Свою вину признаю, а потому прошу прощения и готов принять Ваши условия». Повинуясь, он явился к Зубову и присягнул на русское подданство.
Отставка
А в далёком от Кавказа Петербурге происходили события, встревожившие Россию и Европу. С утра 6 ноября 1796 года императрица Екатерина Великая почувствовала тревожное недомогание. Всполошившиеся доктора и прислуга, приближённые к царской особе, пытались унять неожиданную немощь, однако все их усилия были тщетны: шестидесятисемилетняя государыня теряла сознание, уходила в мир иной.
Видя умирающую Екатерину, фаворит Платон Зубов впал в полную прострацию. Находившийся подле Алексей Орлов-Чесменский подсказал, что надобно сообщить о беде наследнику Павлу Петровичу.
— Да, конечно, — согласился Платон и, увидев брата Николая, проговорил: — Скачи что есть духу в Гатчину, передай цесаревичу, в каком состоянии матушка.
— Лечу, — ответил тот и бросился к экипажу.
Ничто в то утро не предвещало Павлу неприятности. Он возвратился с плаца, где наблюдал, как маршируют солдаты полка, и сам принял в том деятельное участие. Стоя у окна, он увидел мчащуюся во весь опор карету. Взмыленные кони подскакали к парадному входу. Из кареты выскочил гигант-полковник без кивера и взбежал по ступеням. Павел узнал в нём Николая Зубова.
Зубовых он не любил, особенно Платона и Валериана, которые были первыми фаворитами матушки. Николай Зубов был иного склада — отменный гуляка и бретёр[10], нынешний зять Суворова.
«Что бы это значило?» — подумал Павел, прислушиваясь к приближающимся шагам. Дверь распахнулась, и Николай предстал перед ним. Ботфорты в грязи, мундир помят.
— Ваше величество!
«Величество»? Павел хотел сделать замечание, но не успел. Переведя дыхание, Зубов продолжил:
— Ваше величество… государыня-матушка… при смерти…
— Как? Повтори, что сказал!
— Не могу точно знать, жива ли сейчас…
— Когда это случилось?
— Поутру. Я сразу помчался к вам.
— Спасибо, граф, — произнёс Павел. — Твоё старание не забуду.
Он поспешил в столицу. Уж как он мчался, одному Богу известно. И всю дорогу его не покидала мысль о завещании, в котором решалась его судьба.
К вечеру состояние больной ухудшилось. Вышедшие от неё доктора говорили безутешное. И хотя она была ещё жива, однако часы её жизни были сочтены. Тогда Павел решил пригласить сведущего в тайных делах императрицы графа Безбородко. Тот вошёл с Павлом к умирающей. Выпроводив всех из кабинета, Павел приказал царедворцу подать ему завещание, и тот извлёк из изголовья умирающей документы, перевязанные чёрной лентой.
Вот он, перевязанный чёрной лентой пакет, открывающий путь к престолу! Павел сорвал ленту, разорвал пакет и извлёк завещание. Его писал Безбородко. Павел узнал его почерк. Торопливо пробежал по строчкам… Да, так оно и есть! Не ему, законному наследнику, надлежит ступить на престол, а его сыну, юному Александру. Он, Павел, не в счёт.
Скомкав бумагу, он бросил её в камин. Туда же полетели конверт и лента… Огонь охватил их разом, жадно сожрал.
Всё! Он сделал дело. Теперь можно приглашать к умирающей. Павел опустился в кресло у её ног, поднёс к глазам платок…
Его сын Александр, бывший его соперник, стоит у трона, молодой, златокудрый, унаследовавший бабкину красоту и обходительность. Возможно, он будет императором, но только после своего отца, после Павла Первого.
Императрица Екатерина умерла вечером 6 ноября. Дежуривший во дворце чиновник остановил стрелки часов на цифре 9.
Совершив тайное злонамеренное дело, Павел распорядился собрать придворных. Стукнув унизанной золотом и серебром палкой о пол, он хриплым голосом произнёс:
— Запомните, отныне я вам государь! Призвать сюда попа!
Словно бы в ознаменование новой поры господства в России стоявшие в углу комнаты большие напольные часы разорвали тишину медными ударами. Власть в России перешла к Павлу.
После похорон Екатерины он спросил графа Безбородко:
— Где ныне находятся войска Зубова?
Невозмутимый Безбородко с привычной сдержанностью ответил, что русские полки вышли к Куре и заняты сооружением на реке крепости, которую назвали в честь государыни-матушки Екатериносердом.
— Екатеринослав… Екатериноград… Екатеринодар… Екатериносерд, — с явным сарказмом проговорил новый император. — Не много ли для неё чести?
Приближённые императрицы немало усердствовали, чтобы её именем назвать город на Днепре, на горной речке Малке у Терека, на Кубани, а теперь ещё в Закавказье, на реке Куре.
Безбородко промолчал. Он хорошо знал Павла, чтобы возразить.
— Продолжать поход противу Персии для империи слишком накладно. Надобно немедля направить Зубову манифест о кончине императрицы и потребовать возвращения войск на прежние квартиры, — приказывал Павел.
— Да… Да… — согласно кивал слоноподобный и медлительный Безбородко. — Сегодня же направим Зубову рескрипт…
— Не Зубову, а войсковым начальникам и начальникам колонн и отрядов. Чтобы по получении рескрипта они немедленно исполняли государево повеление и возвращались назад. Кстати, есть ли в Петербурге офицер из корпуса Зубова?
— Есть, подполковник Витгенштейн.
— Это который доставил донесение о взятии Дербента?
— Тот самый, государь! Он ещё вручал императрице ключи от городской крепости.
— Я желал бы его видеть, — повелел Павел.
Подполковник Витгенштейн попал под начало Зубова в Польше, где служил в штабе его корпуса. По взятии русскими войсками Дербента Витгенштейна направили в Петербург с победной реляцией и ключами от города. Тогда его и приметил Павел.
Теперь он приказал запомнившемуся офицеру поспешить к войскам Зубова, чтобы вручить полковым командирам именные высочайшие указы о немедленном возвращении полков в пределы России.
В начале декабря Витгенштейн прибыл в район Ганжи, где находился Нижегородский драгунский полк. Вручив полковнику Раевскому именной императорский указ, он потребовал немедленно выступить в Петербург.
— Выступить, не поставив в известность непосредственного начальника? — переспросил Раевский. — Нет, сделать этого я не могу.
— Вы должны, полковник, прежде выполнять указ императора! — повысил голос нарочный. — О вашем отношении к государевым приказам я непременно доложу.
В начале декабря 1796 года все полковые командиры получили именные высочайшие указы немедленно возвратиться с полками к российским границам.
6 декабря наместник Кавказа граф Зубов сложил с себя звание главнокомандующего и передал свои полномочия графу Гудовичу, сам же был уволен.
Полки возвращались поодиночке и выходили на Терек, где их ожидал Гудович, пышущий гневом от того, что не ему было вверено начальство над экспедиционным корпусом.
По возвращении в Петербург подполковник Витгенштейн доложил Павлу о своём конфликте с полковником Раевским.
— Это какой же Раевский? — насторожился Павел.
Находившийся в кабинете Кутайсов поторопился с ответом:
— Дальний родственник князя Потёмкина.
Придворный брадобрей знал о нетерпимости Павла к давнишнему фавориту императрицы, о том, что одно упоминание имени Потёмкина приводило государя в ярость.
— И кем же ему доводился Раевский?
— Будто бы внучатым племянником, — последовал ответ.
— Исключить его из воинской службы… Дополните его именем список не нужных армии чинов.
10 мая 1797 года оклеветанный недругами полковник Раевский простился с армией: получил отставку.
Увольнение из армии генералов и офицеров в период царствования Павла приняло массовый характер. За три года со службы уволили 7 фельдмаршалов, 353 генерала, 2260 офицеров. Общее число ушедших из гвардии и армии генералов и офицеров достигало 12 тысяч. Многие генералы и офицеры были посажены в Петропавловскую крепость и находились в ссылке. Такой участи не избежали, в частности, генерал Платов и подполковник Ермолов. Возникла угроза и над братьями Зубовыми: фаворитом Екатерины Платоном, генерал-аншефом Валерианом, полковником Николаем — зятем Суворова. Не избежать бы им тюремной решётки или далёкой ссылки, если б не защита генерала Палена. Являясь войсковым начальником Петербургского гарнизона, он втайне готовил свержение Павла, ненавистного многим. Братьям Зубовым он отводил особую роль.
Суворов, получив скорбное известие о смерти императрицы Екатерины, писал своему управляющему имением Хвостову: «Сей день печальный! Я отправил ноне заутрени без собрания, один в алтаре на коленях с слезами…»
Почитая память покойной, Суворов распорядился выдать всем своим крестьянам по рублю в счёт годового оброка.
А обещание, которое дал Павел в день смерти матери, он выполнил. Вскоре он подписал рескрипт о награждении Николая Зубова за верную службу высшим российским орденом Андрея Первозванного. Такой награды удостаивались за исключительные боевые победы высшие должностные лица, большие генералы. На сей раз орден получил полковник.
Часть вторая САГА О СУВОРОВЕ
Коронация императора
конце марта 1797 года в Москве состоялась торжественная церемония принятия монархом власти, его коронация, узаконенная ещё Петром Великим. Все царские особы неукоснительно блюли её: Екатерина Алексеевна и малолетний Пётр Второй, Анна и Елизавета Петровны и Екатерина Вторая тоже. Торжество происходило в Успенском соборе седого Кремля в строгих правилах.
Москва в сравнении с Петербургом выглядела обветшалой и неухоженной. Даже в Кремле, к неудовольствию Павла, не нашлось достойного места для размещения государя и его многочисленной свиты.
— Во всём городе да невозможно найти покой! Ищите! — возмутился он.
Решили расселить прибывших в загородном Петровском дворце, самому же императору предоставить недавно отстроенный князем Безбородко роскошный особняк.
— Прежде надобно его посмотреть, — проворчал Павел.
Он сам поехал туда. Особняк и в самом деле был великолепен. Всё в нём радовало глаз: искусно выложенный цветной паркет, мраморные колонны, картины в золотых багетах, изразцы в сочных красках. А вокруг строения парк с вековыми и недавно высаженными заморскими деревьями, затейливыми дорожками и напоминающими ковёр газонами.
Такая красота не могла не понравиться даже Павлу.
— Я покупаю его, князь, — заявил он, не глядя на Безбородко. — Надеюсь, казна вас не обидит.
— Я счастлив, ваше величество, что смог услужить вам, — ответил царедворец, в уме прикидывая немалые барыши от неожиданной сделки.
С видом хозяина Павел оглядел подступивший к особняку парк.
— А вот это уже лишнее, — указал он на деревья. — Это я не приемлю. Извольте к утру их срубить и соорудить пред домом плац, где можно было бы маршировать и делать перестроения.
— Ваше величество!.. — хотел возразить Безбородко, но Кутайсов, ткнув его локтем, произнёс:
— Да, конечно, какой толк от парка? А вот от плаца красота только усилится.
Коронацию назначили на 5 апреля, заранее объявив о том в манифесте. Поведено было считать этот день всенародным праздником, простой люд угощать пивом и мёдом, нищих одаривать деньгами за счёт казны. Многим томившимся в острогах поступала амнистия, погашались установленные судом денежные задолженности.
Церемония назначалась, как всегда, на утро, и уже на рассвете к Кремлю потянулись приглашённые и прочие в надежде пробиться к пятиглавому собору и увидеть радостное зрелище.
Ударила пушка, подавая сигнал к началу торжества. От Красного крыльца, расцвеченного яркими коврами, направилась, сверкая позолотой праздничной одежды, процессия во главе с митрополитом новгородским и санкт-петербургским Гавриилом. На колокольнях кремлёвских храмов ударили колокола, и звон поплыл над всей Москвой, извещая о событии.
В 10 часов по ступеням собора поднялись государь и государыня. Павел по привычке направился было внутрь со шпагой на боку, но митрополит осторожно сказал:
— Здесь приносится бескровная жертва, отыми, благочестивейший государь, меч от бедра своего.
Павел не посмел ослушаться и смиренно сложил с себя оружие.
В соборе на видном месте был воздвигнут трон. Прежде чем занять его, Павел принял из рук митрополита короткополый, с широкими рукавами далматик[11], поверх набросил пурпурную мантию. Увенчанный короной, он поднялся вместе с царицей к трону.
Благообразный, с седой патриаршей бородой, Гавриил начал служить литургию, воздавая хвалу и славу новому императору и его свершённым и ожидаемым деяниям.
— Многие лета-а! — торжественно провозгласил он в заключение.
— Многие лета! — на редкость зычно повторил великан архидиакон.
— Многие лета! Многие лета! — мощно подхватил откуда-то сверху хор.
Снаружи загремели пушки, и их грохот вместе с гулом и звоном колоколов, ворвавшись в собор, слился с людским многоголосием. Казалось, стены храма с трудом сдерживают неукротимую силу народного торжества.
Павел стоял как солдат на часах, не смея шелохнуться. С высоты трона он видел тысячи обращённых на него лиц, во взглядах которых угадывалась вера в него и надежда. От него одного зависит судьба каждого. Да только ли их! Он, и только он, властелин миллионов, населяющих неоглядное пространство Руси.
Приблизившись к Павлу, императрица Мария Фёдоровна опустилась на колени. Он снял с себя корону, коснулся ею головы супруги, как бы осеняя её. Ему подали вторую корону, меньшую размером, и он надел её на голову жены. Она села с ним рядом.
Постепенно воцарилась тишина. Взяв свиток, Павел стал читать. Он провозглашал акт о престолонаследии, в котором указывалось, что этим актом престол после него должен занять его старший сын Александр.
— «Дабы государство не было без наследника, — читал он, — дабы наследник был назначен всегда законом самим, дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать, и дабы сохранить право родов наследия, не нарушая права естественного, и избежать затруднений при переходе из рода в род».
После голосов речистого митрополита и других духовных лиц голос Павла звучал не столь торжественно, дважды он сбивался, а под конец едва не дал петуха.
Потом в честь императора в Москве состоялся бал, на котором собралась вся московская знать. И там Павел встретил Анну.
Большие, выразительные глаза девушки смотрели на него так, словно хотели увести его. Не отличавшаяся красотой, его любовница Екатерина Нелидова не шла ни в какое сравнение с ней, лучезарной, чистой, желанной.
— Кто такая эта милая шатенка? — спросил он Кутайсова.
— Ваше величество, я давно слежу за ней, она прекрасна. Скажу даже больше: она потеряла из-за вас голову.
— Вы шутник. Она ведь ещё ребёнок.
— О-о! Вы ошибаетесь. У неё есть младшая сестра, и та уже на выданье. А эта — созревший плод.
— Так кто же она, эта прекрасная дама? Что вы о ней знаете?
— Она старшая дочь сенатора Лопухина. Третьего дня вам его представляли.
— Ах, Лопухин! Помню, помню.
Анну предупредили, что император ангажировал её на вальс, и зал, при зависти многих, о том сразу узнал. Танцевала она легко, свободно, повинуясь каждому желанию партнёра.
— Вальсировать с вами — одно удовольствие, — сказал он и осторожно добавил: — Вы прекрасны, дитя моё.
Она вспыхнула, зарделась, однако не отвела глаз.
— Я стараюсь, ваше величество… Ради вас, — произнесла она и кокетливо откинула прелестную, в кудряшках, головку.
За ними наблюдало много людей, и, казалось, их мимолётные фразы слышали все. И глаза их говорили обо всём.
Сидевшая рядом с императрицей фрейлина Нелидова сказала ей:
— Кажется, его императорское величество нашёл очередное увлечение, и боюсь, что на этот раз серьёзно и надолго.
— Не впервой, душа моя, — сохраняя достоинство, ответила та.
Мария Фёдоровна была второй женой Павла. Первая, Вильгельмина, в православии Наталья Алексеевна, умерла при родах, прожив с ним недолго. Павел любил её, однако, как ни горевал, через полгода сыграл вторую свадьбу. На этот раз избранницей стала принцесса Вюртембергская София Доротея, нареченная Марией Фёдоровной.
Это была спокойная, сдержанная женщина, любившая проводить время в беседах и чтении и никак не разделявшая интересов мужа, особенно в воинских делах. Она его не понимала, как, впрочем, не понимал её и он, и потому оба питали друг к другу более чем прохладные чувства.
Она знала всё или почти всё о Нелидовой и смирилась с участью жены, разделявшей с фрейлиной любовь мужа.
В тот вечер Павел ещё дважды удостаивал вниманием Анну, пройдя с ней в танце по огромному беломраморному залу. И она в тот же день стала признанной царицей бала.
День у Павла начинался рано, в пять часов. К этому времени Кутайсов уже ожидал его, разложив на зеркальном столике всё необходимое для цирюльного священнодействия.
— Начнём, — сказал Павел привычное, усаживаясь в кресло.
— Как спали, ваше величество? У вас прекрасный вид.
Повязав на шею накрахмаленную простыню, царедворец старательно размешал в фарфоровой посудинке мыльный порошок, ловко навёл остроту бритвы на широком ремне.
— Не горячо-с? — спросил он, намыливая клиенту широкий подбородок.
— Нет, — буркнул в ответ тот.
Кутайсов замолчал.
Сколько за тридцать лет прошло через его руки всяких голов и подбородков! Сколько чинов он обслужил за это время!
А всё началось с неожиданного случая, произошедшего с ним в Бендерах. Приехав мальчишкой с Кавказа к родственникам-туркам, он оказался в числе пленных у русских, штурмом взявших город.
— А ты кто такой? — спросил его русский генерал.
— Из крепости.
— Сколько ж тебе лет, вояка?
— Двенадцать.
— Геть к матери!
— А она далеко, в Кутаиси.
— Ну убирайся вон! Недосуг с тобой возиться.
Генерал был строгим.
— А я хочу остаться у вас. Буду брадобреем. Отец меня этому научил.
— Брадобреи нам надобны, — смилостивился генерал. — Остриги-ка солдат роты, а то заросли совсем. Посмотрим, какой ты мастер.
И мальчонку-турка оставили в полку, дав ему фамилию Кутайсов, поскольку родом он из Кутаиси.
Начав с солдат, ловкий малый стриг и брил поручиков и майоров, полковников и генералов, даже фельдмаршалов, а потом попал во дворец. С восшествием Павла на престол он из придворного цирюльника стал обер-гардеробмейстером, что соответствовало званию главного дворцового камердинера.
Нахрапистому турку этого показалось мало, и однажды за утренней процедурой он намекнул, что совсем бы нелишне одарить его орденом.
— Все имеют, а я — нет.
— Что? — сдёрнул с себя простыню Павел. — Во-он!
Он приказал изгнать наглеца со двора. Поняв, что дал промашку, турок упал на колени пред Марией Фёдоровной и Нелидовой. Взмолился, чтоб простили его за недомыслие и опрометчивость. Женщинам с трудом удалось уговорить государя…
— Что выведал о Лопухине? — спросил его Павел, глядясь в зеркало.
Кутайсов, придерживая кончик носа клиента, поднёс к его лицу бритву.
— Лопухин в Москве человек известный, уважаемый. А вот жена… Она у него вторая, доводится дочерям мачехой… Штучка, вертихвостка, напропалую крутит с полковником Уваровым.
— Графом?
— Совершенно верно, графом Уваровым.
— А что же Лопухин? Неужто не знает?
— Как не знает, ежели о том известно всему московскому свету… Осторожно, государь! — Высунув кончик языка, брадобрей старательно скрёб лезвием бритвы широкий, с ямочкой подбородок. Эта ямочка требовала осторожности. — Вот здесь ещё волосок…
Павел выждал.
— Так говорил ли ты с самим Лопухиным? Упомянул ли насчёт переезда в Петербург?
— Как вам сказать? Разговор был, но не обстоятельный, так, на ходу.
Турок хитрил. С Лопухиным он говорил с глазу на глаз, без свидетелей. Он спросил тогда сенатора, известно ли ему о чувствах, какие питает император к его дочери.
— Нет, Иван Павлович, о том понятия не имею, — прикинулся простаком Лопухин. — Разве государь имеет виды на Анну?
— Именно так, Пётр Васильевич. Вы можете стать обладателем богатства, осчастливить дочь и себя тоже. И я готов вам помочь в этом.
Лопухин понял, к чему клонит царедворец, и, конечно же, ответил согласием.
— Предстоит ваш переезд в Петербург, Пётр Васильевич. Так желает государь. Вам будет предложена должность. Какая? Сказать не могу. Но я при случае замолвлю о вас доброе слово. А вы, Пётр Васильевич, когда станете в силе, припомните моё старание.
Союз с Лопухиным был Кутайсову необходим потому, что у него возник замысел сосватать младшую дочь Лопухина Екатерину за своего сына. Получится заманчивая, почти родственная близость: Анна Лопухина — любовница императора, а её сестра — жена сына Кутайсова.
Улучив момент, когда цирюльник отвёл от лица бритву, Павел сказал:
— Я уполномочиваю вас, Иван Павлович, на серьёзный разговор с Лопухиным. Вы должны убедить его в необходимости переезда семьи в столицу. Он ни в чём не будет иметь отказа. Это для меня очень важно.
— Лопухин, конечно, будет польщён предложением, но вот его жена… Она не захочет терять ухажёра.
— Графа Уварова? Так я распоряжусь перевести и его.
— А найдётся ли в столице достойное место для Лопухина?
Павел дёрнулся в кресле и отстранил от лица руку с бритвой.
— Что-о? Торговлю он вздумал со мной устраивать? Или, может быть, это ваше измышление?
— Нет, государь, нет! Он так не говорил. Просто мне казалось, что он так подумал.
— Предупреди, что, если ответит отказом, увезу Анну и без его согласия. — Павел перешёл на привычное для себя обращение. — Повстречай и так передай!
— Всё сделаю, ваше величество, — поторопился заверить его в своей преданности Кутайсов и дунул изо всех сил одеколоном из пульверизатора.
Павел зажмурил глаза, задохнулся, хотел что-то сказать, но на лицо упала салфетка.
— Пожалуйте-с… Вы в самом лучшем виде, мой государь.
Императрица Мария Фёдоровна узнала о готовящемся переезде семьи Лопухиных в Петербург от Кутайсова. Раздосадованная, она написала Анне резкое письмо с требованием не предпринимать такого шага, пугала последствиями.
Письмо, однако ж, до Анны не дошло — перехватили и через Кутайсова передали Павлу. Тот пришёл в бешенство.
— Никто не смеет перечить мне в делах, даже личных! Ни вы, — он поглядел испепеляющим взглядом на императрицу, — ни вы, фрейлина Нелидова. Позвольте мне самому управлять своими чувствами. Я догадываюсь, по чьей указке была подослана давеча ко мне в постель Юрьева. Это ваши дела, ваши! С помощью этой госпожи вы хотели погасить мою любовь к Лопухиной. Но ваши усилия тщетны. Я по ней скучаю.
— А вы, ваше величество, нам наскучили, — бросила Нелидова дерзостно на правах отторгнутой любовницы.
Не удостоив женщин ответа, Павел вышел.
Весь день он пребывал в дурном расположении духа: никак не мог прийти в себя после разговора с Марией Фёдоровной и Нелидовой.
— Как она позволяет себе разговаривать со мной? — изливал он желчь на недавнюю любовницу. — Этого я ей не прощу. Вернёмся в Петербург — и надобно отправить её со двора.
Поздним вечером он вышел подышать воздухом вместе с Кутайсовым. И тут они увидели, как из покоев императрицы вышел сенатор Нелединский. Человек скромных правил, стихотворец, он пользовался уважением. Кутайсов же его ненавидел, возможно, за то, что Павел был с ним обходителен.
— О чём вели беседу, Юрий Александрович, в такой поздний час? — спросил Павел, взглянув на часы.
— Об искусстве. Её величество столь в этом пытлива, что не заметили, как пролетело время, — ответил тот, отвесив поклон.
— Спасибо, Юрий Александрович, за душевную щедрость, — поблагодарил Павел.
— Не верьте ему, государь, — сказал Кутайсов, когда сенатор удалился. — Этот прохвост врёт. Он шпион, следит за вами и передаёт всё императрице.
— Он? Нелединский? Не может того быть!
— Может, может. Уж я-то знаю.
— Так гнать его взашей! Завтра чтоб духа его здесь не было! И из Петербурга вон! Вон! Распорядитесь! Мерзавец такой!
Излив накопившуюся желчь против ни в чём не повинного придворного, Павел почувствовал облегчение, сел на скамью и отдышался. Рядом беззвучно стоял верный Кутайсов.
Павел повелевает
Каждое утро Павел проводил вахтпарад заступающего в караул полка, почти всегда бывал на нём. А до того он выслушивал министров, читал государственные бумаги, подписывал их или отвергал.
На этот раз фельдъегерь из Вены доставил письмо от австрийского императора. Сорвав с конверта сургучные печати, Павел углубился в чтение.
В прошлом году, опасаясь упрочения в Европе французского влияния, Англия, Австрия, Россия и Турция образовали коалицию. Рассчитывая на овладение землями Италии, где находились французские войска, Австрия развернула в Ломбардии военные действия. Однако австрийцы встретили сопротивление и против ожидания терпели неудачи.
Теперь австрийский император Франц выражал надежду, что верная союзническому долгу Россия придёт на помощь и примет участие в сражениях против войск Наполеона. Ещё он писал, что выражает настоятельное желание видеть во главе объединённых сил несравненного русского фельдмаршала Суворова.
— Ага, закусали вас французские блохи! Невтерпёж стало без нас! — воскликнул Павел.
В нервном возбуждении он прошёлся из конца в конец обширного кабинета.
Радовала мысль, что Австрия с её хвалёным военным советом — гофкригсратом — расписывалась в слабости и обращалась за помощью к России. Конечно, он выполнит просьбу австрийского императора, пошлёт в Италию войска, чтобы раз и навсегда разделаться с этим выскочкой, Наполеоном. Ещё когда тот входил в силу, Павел поклялся, что не приемлет французскую республику, поправшую вековые законы и права.
Он пошлёт против французов армейский корпус, а может, даже и два, в поддержку направит ещё и казаков, этих прирождённых умелых вояк, назначит лучших генералов и фельдмаршала Суворова…
При воспоминании о Суворове Павел нахмурился: этот баловень военной удачи находился в опале и туда его направил он, Павел. Теперь нужно отменять своё решение, извиняться перед не очень-то сговорчивым стариком.
Всё началось с доноса. Фельдмаршал будто заявил: ежели войны нет, то ему нечего делать на парадах да смотрах.
— Он что же, не желает служить? — вспылил Павел. — Направить его ко мне!
Но вместо безропотного послушания Суворов сам прислал прошение об отставке. Переучиваться на прусский манер, писал он, ему поздно, годы не те, уж лучше доживать век в имении. И тогда появился приказ уволить строптивого фельдмаршала из армии, сослать в его дальнее имение и там учредить за ним надзор. Этого Павлу показалось недостаточно, и последовали новые предписания: сосланный не имеет права выезжать из своего имения, общаться с соседями, а о его поведении следует постоянно доносить в императорскую канцелярию.
Узнав об этом, девятнадцать офицеров из штаба Суворова тоже подали в отставку и выехали к нему в село Кончанское. И они были уволены.
Суворов встал задолго до рассвета. Просыпаться с петухами вошло у него в привычку.
Не умываясь, он выпил горячего чаю, а потом долго плескался холодной, почти ледяной водой. Мыл лицо, шею, грудь, покряхтывая и фыркая от удовольствия. Докрасна растёр тело грубой холстиной. После этого надел свежеотглаженную нижнюю рубашку с тесёмочками, а поверх камзольчик из лёгкой, хлопчатобумажной, в полоску, так называемой канифасной ткани.
Александр Васильевич любил облачаться в чистое, свежее и не любил нерях. На ноги он натянул грубые, домашней вязки, но очень тёплые шерстяные носки.
— А теперь надобно состряпать до заутрени письмо, — сказал он жившему при нём отставному офицеру Ставракову. — Все теребят с меня денежки. Я, что ли, их делаю? Никакого порядка! Хоть в петлю лезь.
После отставки к нему посыпались просьбы, о которых до того он и не ведал. Требовала уплаты долгов бывшая жена Варвара Ивановна; претендовал на немалую сумму зять Николай Зубов, гуляка и мот; намеревался взыскать полевые и продовольственные деньги премьер-майор казачьего полка Чернозубов; воспитатель сына Аркадия тоже намекал на большие расходы.
— Во всём разберусь, Александр Васильевич, и отпишу как надо, — пообещал Ставраков, раскладывая на столе бумаги.
— Вот-вот, Семён Христофорович, отпиши, чтобы вдругорядь им было неповадно.
Ставраков с полуслова понимал Александра Васильевича, своего бывшего начальника, и умел коротко и округло выписать на бумаге необходимое. Когда Суворова отстранили от службы, он тоже написал рапорт об отставке. Вместе с ним уехал в Кобрин. Там его арестовали, отправили в Киев, но потом освободили, и он тотчас направился в Кончанское, куда удалился Александр Васильевич.
Ставраков был в курсе всех денежных дел фельдмаршала и потому недолго скрипел пером, сочиняя ответную бумагу.
— Написал, послушайте.
Суворов остался доволен, однако же кое-где сделал поправки.
— Теперь перепиши набело. Возвращусь из церкви, учиню подпись.
Управляющего он предупредил, что придёт вместе со священником и чтоб непременно к обеду была редька да рябиновая настойка. И чтоб был готов самовар: вдруг батюшка пожелает побаловаться чаем.
— Всё будет, ваше сиятельство. Впервой, что ли, гостя встречать, — отвечал управляющий.
Из церкви Суворов возвратился не скоро, довольный и возбуждённый. Вместе с ним пришёл отец Фёдор, дородный, с зычным голосом, почти на полголовы выше щуплого хозяина.
Денщик Прошка у порога доложил, что всё готово, как велено, и его Катерина ждёт команды, чтобы накрывать стол.
— Пусть накрывает, и кличь Ставракова, — распорядился барин.
Ставраков не задержался, и Александр Васильевич стал ему рассказывать, как сегодня лазил на колокольню и помогал звонарю отбивать звоны.
— То-то я и подумал, что звонарь пьяный, — сказал невпопад Ставраков.
— Ох-хо-хо! — раскатисто рассмеялся отец Фёдор.
— Ты сам пьян, — обиделся Александр Васильевич. — Видишь, руки как натрудил.
Пока Катерина и Прошка накрывали на стол, Суворов, Ставраков и отец Фёдор успели обсудить сельские дела и осудить вольнодумца Наполеона, дела которого были им совсем не по душе.
— Ну-с, с чего начнём? — хитровато поглядел хозяин на гостя и потянулся к графинчику. — Надеюсь, батюшка, с мороза не откажетесь?
— Не откажусь, Александр Васильевич. С удовольствием.
— У нас и редька для вас приготовлена. Подвинь-ка, Семён Христофорович, батюшке угощение.
Они выпили по рюмке, закусили грибками да редькой и начали аппетитно есть дымящиеся щи. Снаружи послышался звон колокольцев.
— Никак к нам, — встревожился Ставраков.
— Поди-ка, Прошка, выглянь, — приказал Суворов. — Кого это там несёт?
Прошка выскочил и тут же возвратился, впуская в дверь запахнутого в шубу человека. Концы его башлыка были завязаны узлом.
— Вы кто? — спросил Суворов. — Что надобно в сей обители?
— Я флигель-адъютант нашего государя граф Толбухин.
— Ну-ну?
Прибывший достал из обшлага шинели конверт с российским гербом.
— От его императорского величества фельдмаршалу Суворову.
Александр Васильевич стал читать. В комнате воцарилась тишина. Все смотрели на его настороженное лицо, предполагая недобрую весть.
Признаться, Александр Васильевич, не получив от императора ответа на своё последнее письмо, которое послал в ноябре, считал, что службе уже конец, что здесь, в Кончанском, предстоит прожить последние дни. И вдруг предложение возглавить Итальянскую армию.
— Ура! Ставраков, живо бумагу и перо!
Суворов выскочил из-за стола, не объяснив, что произошло. Глаза его молодо блестели, на щеках вспыхнул румянец.
Потеснив батюшку, он вывел на чистом листе: «Тотчас упаду к стопам Вашего императорского величества» — и размашисто расписался.
— Возьмите и передайте императору, — протянул он бумагу Толбухину.
Сознание, что он, Суворов, нужен России, армии, оттеснило обиду, недавнее намерение уйти от мирской жизни в монастырь, посвятить оставшиеся дни служению Богу.
— Ваше сиятельство, письмо вы сами вручите императору, — ответил прибывший. — Вы должны ехать сейчас же. Мне приказано сопровождать вас.
— Тогда, граф, отдохните с дороги. На сборы не потребуется много времени.
Обращаясь к управляющему, Суворов скомандовал:
— Матушинскому приказ! Час — собраться, другой — отправляться. Поездка с четырьмя товарищами. Я — в повозке, а они — в санях. Лошадей надобно восемнадцать, а не двадцать четыре. Взять на дорогу двести пятьдесят рублей. Егорке бежать к старосте Фомке и сказать, чтобы такую сумму поверил, потому что я еду не на шутку. Отец Фёдор, подтверди, что я тут служил за дьячка и пел басом, а теперь буду петь Марсом!
В тот же день Суворов и сопровождающие выехали из Кончанского. Вместе с Толбухиным они прибыли в столицу ночью, уставшие и замерзшие. Но Суворов не изменил своему правилу: на следующее утро он был уже на ногах.
— Прошка! — окликнул он денщика. — Готовь платье идти к императору.
Но тот не спешил. Явился нечёсаный, кое-как одетый и во хмелю.
— Когда же ты, чёртов сын, успел? Неужто забыл, какой сегодня день?
Тот виновато сопел и переминался с ноги на ногу:
— Дюже замёрз я давеча.
— Так то было давеча, а ты сегодня хлебнул!
— Сегодня тож отогревался.
Ожидали Толбухина, чтобы вместе с ним идти к императору, но явился Кутайсов, чернявый, с колючим взглядом.
Суворов его не любил, презирал за низменный характер.
— С чем пожаловали, сударь?
— По поручению его императорского величества предупредить о предстоящей аудиенции.
— Знаю, о том мне ведомо, — сказал Суворов. — Прошка! — позвал он денщика. — Погляди, дуралей, на этого господина. Это граф Кутайсов. Небось слышал о нём. Видишь, какая на нём шуба? Тыща рублей ей цена. А кафтан! У него и ордена есть! Никак тебе не чета. А ведь был таким же, как и ты, даже хуже! Ныне он первейший в государстве человек. Его монарх уважает. А почему? Да потому, что исправно несёт службу. Всегда послушен, умеет угодить. Учись!
Кутайсов стоял, не смея вымолвить ни слова, краска залила его лицо. Суворова он побаивался и, несмотря на близость к императору, не решался осложнять отношения с заслуженным и своенравным полководцем.
Суворов же, глядя на царедворца, не стал высказывать ту мысль, что не раз западала в сознание. Мысль крамольная и вместе с тем неотвязная: почему это никчёмные люди пользуются при дворе особым положением и бывают в почёте, тогда как умные и достойные прозябают в тени? Промолчал. Говорить о том было совсем ни к чему, да и опасно, не то опять угодишь в опалу.
— Иди! — отправил Суворов Прошку и обратился к Кутайсову: — Передайте, граф, императору, что в назначенный час непременно буду. Непременно-с…
Кутайсову оставалось только выйти.
Павел принял Суворова без задержки. Обнял, сделал вид, что прослезился.
— Бог видит, как дорог ты мне, Александр Васильевич. Поверь, не держу против тебя зла и надеюсь, нет и у тебя камня за пазухой.
В ответ Суворов сказал:
— Утешная мать, твой сын прощён. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Павел было нахмурился, не поняв смысла сказанного, но потом улыбнулся, обнажив жёлтые зубы:
— Стало быть, мир.
Усадив фельдмаршала против себя в кресло, император начал объяснять.
Аудиенция продолжалась почти целый час, и всё это время говорил Павел, вводя Суворова в курс предстоящего дела. В заключение он спросил:
— Есть ли что непонятное?
— Есть. Дозвольте там, в Италии, проводить мои замыслы без согласования с венским гофкригсратом. Уж эта канцелярия мне ведома: пока от неё получишь согласие, или умрёшь, или дело проиграешь.
— Австрийский совет не указ русскому фельдмаршалу. Поступай, как сочтёшь нужным.
— И ещё: дозвольте принять на службу офицера Ставракова. Очень способный человек и для меня нужный.
— Каким чином определить?
— Хотя бы штабс-ротмистром.
— Не возражаю. Если будет необходимо со мной говорить, то в любой час готов принять. А с выездом в Вену поспешай.
В Италии
Через два дня Александру Васильевичу в знак особых заслуг вручили орден Святого Иоанна Иерусалимского, а ещё через два дня он выехал в Вену, чтобы оттуда направиться к шедшим в Италию русским войскам.
Прощаясь, Павел обнял Суворова и напутствовав его словами:
— Веди войну, генерал, по-своему, как умеешь.
Но не успел Суворов доехать до российской границы, как к генералу Герману, корпус которого шёл в Италию, помчался фельдъегерь с письмом от императора. В письме повелевалось строго наблюдать за Суворовым, не допускать от него действий «во вред войск и общего дела, когда он будет слишком увлечён своим воображением, могущим заставить его забыть всё на свете… Хоть он и стар, чтобы быть Телемахом[12], но не менее того вы будете Ментором, коего советы и мнения должны умерять порывы и отвагу воина, поседевшего под лаврами».
Павел оставался самим собой.
Двадцатитысячный русский корпус ещё в начале весны начал выдвижение к северной области Италии, где россиянам предстояло совместно с австрийскими войсками изгнать из Ломбардии оккупировавшие её французские части.
В составе корпуса имелись казачьи полки, одним из которых командовал полковник Андриан Денисов.
Впереди показалась россыпь домов с двухбашенной колокольней храма.
— А ну, братцы, приободрись! Прочистите глотки, — обернулся Денисов к казакам. — Семерников, твоей сотне начинать.
— Это мы зараз, — ответил сотенный. — Акимкин, запевай!
Над колонной взлетел по-юношески звонкий голос:
Из-за лесу, лесу копий и мечей, Едет сотня казаков-лихачей.И тотчас пока нестройно отозвался хор хрипловато-простуженных голосов:
Ой, едет сотня казаков-лихачей, Попереди командир молодой.Цокот копыт о булыжник мостовой городка и песня подняли спавших обывателей. С треском распахивались окна, не отошедшие ото сна люди с удивлением вглядывались во всадников, пытаясь разгадать, что за войско появилось в их тихом городке.
Денисов ехал впереди колонны. Под ним горячился поджарый жеребец, играл сильными ногами, ронял с губ кружевную пену.
За командиром, стараясь держать равнение, скакали всадники. На них были тёмно-синие куртки, барашковые шапки, многие бородаты, у иных в ухе серьга. Мерно колыхался частокол пик с холодно поблескивающими наконечниками.
Казаки, вы лихачи-усачи, Пики к бою, за мной по полю скачи! —звенел голос Акимкина. И дружно подхваченная песня летела над строем:
Ой, ещё раз скажем: два! Пики к бою, за мной по полю скачи!Обгоняя колонну, по дороге катила карета, в которую была запряжена четвёрка лошадей.
— Ваше превосходительство! Никак генерал Розенберг! — предупредил Денисова казак Семерников.
Полковник выехал в сторону от строя:
— По-олк! Слуша-ай!.. Равнение на-а ле-ево-о!
В открытое оконце кареты выглянул сам генерал: сухой, лицо в морщинах, обшитый золотом воротник мундира. Он ответил Денисову едва заметным кивком.
Карета, а вслед за ней и всадники промчались мимо. Потом проскакала ещё группа военных. Впереди — князь Багратион. На нём был новый парадный мундир: всего месяц назад он надел генеральские эполеты и носил их в охотку.
— С добрым утром, Андриан! — приветствовал он казачьего начальника. — А ты почему не торопишься?
— Куда?
— На совет, к Суворову. С ночи нас ждёт. Он уже там, впереди.
— Не получал приглашения, — не скрыл Денисов обиды.
— Так получишь.
— Что же нас, Андриан Карпович, обходят вниманием? — спросил подъехавший командир другого, следовавшего за головным, казачьего полка майор Греков.
— Понадобимся — вызовут. Если меня пригласят, ты, Пётр Матвеевич, останешься за старшего. Подумай, как расположить полки.
— Кажется, к нам скачут, — догадался Греков, завидев приближающегося всадника, и не ошибся.
— Господин полковник, извольте к главнокомандующему, его сиятельству фельдмаршалу Суворову. Поспешайте, чтоб не опоздать. Он велел вам непременно быть, — произнёс посланный.
На душе у Денисова просветлело: знать, помнит его Александр Васильевич, помнит.
Впервые он, молодой офицер, командир казачьего полка, попал под начало Суворова в 1787 году. Тогда на Украине для армии Потёмкина создавалось Новодонское войско.
С полком Денисов наступал на Очаков, Хаджибей, теперь Одесса, штурмовал Измаил. Полк входил в колонну бригадира Орлова — нынешнего донского атамана. После неудачного нападения на турецкую батарею контуженый и раненный в плечо и голову Андриан собрал у крепостного рва казаков и вторично повёл их на штурм. Он первым выбрался на высокий вал и атаковал батарею. На этот раз удачно. Орудия повернули против турок и ударили по ним.
Орден Святого Георгия ему вручал Суворов. «Твоей храбрости завидую», — сказал он при этом…
И вот опять встреча с Александром Васильевичем. Узнает ли фельдмаршал? С той поры прошло более восьми лет!
Розенберг представлял фельдмаршалу генералов корпуса, когда прибыл Денисов. Суворову были знакомы многие по прежним походам. Знал и любил он и отважного Багратиона, и высокого красавца Милорадовича, и генерала Меллер-Закомельского. Увидев Денисова, Суворов воскликнул:
— Вот и ещё один знакомый! Здравствуй, атаман! Рад, что твои гаврилычи будут у меня.
Казаков он называл гаврилычами.
В комнате находились и австрийские генералы и офицеры во главе с фельдмаршалом Меласом.
Слегка прихрамывая, Суворов подошёл к столу, на котором лежала карта, и вгляделся в неё. Накануне в австрийском штабе на карту нанесли обстановку, вычертили на ней расположение французских войск.
Ещё в пути Александр Васильевич немало времени уделил изучению места предстоящих сражений, расположенных на нём городов и дорог, по которым предстояло наступать, не обошёл вниманием реки и мосты, где войска должны были переправляться. Он мысленно рисовал будущие сражения, совершал полками неожиданные манёвры, которые заставляли бы врага отступать.
На его лице обозначились глубокие морщины, волосы с коком над большим лбом поредели и были совсем седыми. Лишь глаза с живым блеском выдавали его энергичный характер.
«Постарел, постарел Александр Васильевич, — отметил про себя Денисов. — Знать, укатали сивку крутые горки».
Мелас стоял рядом с Суворовым и молчал. Крутой характер русского полководца он испытал на себе совсем недавно, в Вене. Там гофкригсрат — австрийский военный совет — пытался навязать свой план войны, но Александр Васильевич его не принял, перечеркнул карандашом.
— Не любо мне заниматься кабинетным враньём. Начну кампанию переходом через Адду, а кончу, где Богу будет угодно.
Теперь Мелас терпеливо молчал.
— Кто здесь командует французами? — спросил наконец его Суворов.
— Шерер, — ответил австрийский фельдмаршал.
— A-а, Шерер! Он ещё здесь? Тогда нужно действовать без промедления. Пока этот вояка будет чистить солдатские пуговицы, его можно основательно поколотить.
Суворов произнёс это так, словно был Шереру близок, знал его слабости. И, однако же, не ошибался, потому и не хотел терять время, спешил упредить французскую сторону в действиях.
— Ваше превосходительство, — обратился он к Розенбергу, с которым не был знаком. — Пожалуйте мне два полчка пехоты и два полчка казаков.
— В воле вашего сиятельства всё войско, — щёлкнул каблуками генерал. — Которых прикажете?
Фельдмаршал недовольно крутнул головой:
— Надо два полчка пехоты и два полчка казаков.
Розенберг недоумённо поглядел на генералов, как бы испрашивая подсказки. Выручил Багратион:
— Мой полк готов.
— Ты, князь, вижу, понял меня, — воспрянул Суворов. — А коли так, подчиняй себе авангард и следуй к реке Адде. Вот по этой дороге. Поди-ка взгляни.
Багратион уловил замысел начальника. Нужно было как можно скорее вступить в сражение с французами, не дожидаясь подхода ещё находящихся на марше австрийских частей.
Вышагивая по кабинету, Суворов энергично говорил:
— Мои правила, господа, таковы: субординация, экзерциция[13], голова хвоста не ждёт, внезапно, как снег на голову, надобно атаковать, смять и не терять мгновения, потом гнаться по пятам, истреблять до последнего человека. Казаки ловят бегущих и весь их багаж. Без отдыху вперёд, пользоваться победой. Берегись рекогносцировок, которые раскрывают намерения!
Эти истины Суворов изрекал часто, и почти каждый из русских начальников слышал их, но понимал, что на этот раз фельдмаршал обращается к австрийским генералам, которые ему подчинялись.
— Мальчик далеко шагнул, — продолжал он, имея в виду Наполеона, — его нужно унять. Бить французов надобно не всех разом, так их не одолеть. Бить обязательно по частям. Смело! Решительно! Первым увидел — победил! Прозевал — сам битый! Во всём точность, глазомер, натиск.
Когда расходились, Денисова предупредили, чтоб он остался. Суворов с Розенбергом и Меласом обсуждали что-то у карты.
— Подходи, Карпыч! Зри на план.
«Карпыч»? Никогда ещё его так не называли.
Он вгляделся в карту. Значок, означавший главную колонну войск, направлен в сторону реки Кеаса и дальше на запад, к реке Мелле. Справа, у подножия гор, следовала ещё одна колонна.
— Здесь пойдёт отряд Вукасовича, — пояснил Суворов. — Вначале он овладеет крепостью Брешиа, а потом направится далее.
Была помечена ещё одна колонна, левее главной. Здесь находились австрийцы под командованием Меласа.
Было понятно, что главнокомандующий замыслил выйти к реке Адде на широком, почти стовёрстном фронте одновременно всеми силами.
— Твои полки, атаман, пойдут в авангарде этих колонн. Здесь два, — Суворов ткнул пальцем в правую колонну Вукасовича. — И у фельдмаршала Меласа — два. Сам же с двумя полками находись в авангарде главной колонны. Твоя задача — первыми достигнуть крепости Бергамо и, не дожидаясь пехоты, атаковать и ворваться в неё. Скачи к ней без промедления, одвуконь[14]! Никаких остановок! Возьмёшь крепость — слава твоим казакам!
— Дозвольте идти?
— Ступай, Карпыч. С Богом и победой!
Суворов перекрестил его.
Прибыв к полкам, Денисов скомандовал Грекову:
— Подать сигнал на построение! Выступаем на Бергамо!
— Это где же Бергамо?
Майор Греков стал разворачивать карту. Небольшого роста, плотный, чернявый, он почти на полголовы был ниже Денисова. Одногодок с ним, он начал службу казаком, нигде не учился, но воином был лихим. Восемь лет воевал простым казаком, потом за боевые отличия его произвели в офицеры, дали сотню, а затем и полк.
— Сейчас разберёмся, где этот Бергамо, пока казаки будут собираться.
Картами их снабдили австрийцы, и Денисов, учивший в прошлом году французский и немецкий языки, без особого труда разбирался в них.
— Вот Бергамо, — прочитал он по-немецки написанное название. — Вот дорога, по которой пойдём, — вёл он пальцем по бумаге. — Ты на своей тоже отмечай. Пойдёшь с полком первым, а я — вслед.
Бергамо — небольшой городок с крепостью — находился неподалёку от реки. Беря начало в предгорье, Адда текла на юг через равнину и впадала в широкую и полноводную По.
У дороги, по которой предстояло двигаться, рассыпались селения с садами, рощи. Путь пересекали небольшие речки и каналы. А севернее тянулись отроги Альп.
— Вперёд, Пётр Матвеевич, пусти дозорную партию. Надобно заслать её подалее, чтоб схватила пленного, да по возможности поболее чином. Сам фельдмаршал о сём сказывал.
— Прохора Семерникова послать следует. Этот чертяка из-под земли пленного достанет.
Задачу ставил сам Денисов. Семерников, слушая полковника, пытался напустить на бородатое лицо серьёзность, шмыгал носом и сопел.
— Где находятся французы, мы не знаем. Может, за десять вёрст, а может, и далее. Будешь с дозором ехать, внимательно гляди по сторонам. Не проморгай неприятеля! И ещё, Семерников, нужен пленный поважней, чином поболее.
Прохор хмыкнул:
— Так я живого француза ещё в глаза не видывал, не то чтоб различить, какого чина! Каков сам француз-то из себя?
— Как приволокут казаки пленного, я обязательно тебе покажу, каков француз на вид, — ответил Денисов.
Семерников расплылся в улыбке.
— Впрочем, — продолжил Денисов, — ежели схватитесь с ними, кричите: «Пардон, мусье!» Это значит: «Сдавайся!» Ежели ответят: «Пардон!» — не трогайте, они, стало быть, запросили плена.
Прискакал адъютант начальника главной колонны Розенберга.
— Генерал требует начать марш! Опоздание недопустимо!
Розенберг усердствовал в деле, стараясь завоевать доверие главнокомандующего. Ему было известно, что Павел намерен был немного погодя сменить его.
Погода менялась. С гор надвинулись тяжёлые облака. Они плыли низко, скрывая не только дальний, снежный хребет, но и невысокий, ближний, с частыми виноградниками на склонах.
— Опять, ядрёный корень, дождь! — возмущались казаки.
Дозор Семерникова удалялся крупной рысью от вытягивающегося из окраины полка Грекова, стараясь набрать поболее от него дистанции. Скакали уверенно, без опаски встречи с неприятелем, который пока ещё находился в удалении.
Родословная Семерникова, как у большинства казаков, была туманна. Его дед подался на Дон от барской лютости, прознав, что оттуда выдачи беглых нет и там спасение. Бежал тайком, один.
В верховьях Дона таких отчаянных и обиженных собралась целая ватага. Добыли лодку и в ней пустились по течению. Плыли долго, ночами приставали к пустынному берегу. Наконец достигли Раздорского городища, где определились на жительство.
Дед прожил в одиночку год, а потом сторговал у пропойцы-соседа его жену, вечно ходившую в синяках турчанку. Тот привёз её из-за моря, когда ходил в набег.
На кругу[15], который бывал на широком майдане, дед вышел из толпы с турчанкой на общее решение. Прикрыл её худое плечо полой зипуна и заявил атаману:
— Беру её в жёны!
— Берёшь, так бери! У меня возражения нет, — ответил атаман. — Вот только как народ.
Круг не возражал: пусть берёт.
Сосед-пропойца опомнился, и от него не стало житья. Трижды бились на кулаках, счастливый обладатель лишился двух зубов. Молодожёны решили перебраться на новое место.
Ночью тайком перетащили в лодку немудрёный скарб и поплыли вниз по течению. У небольшой, впадающей в Дон речки причалили. Речку называли Темерником.
Прожили здесь два года. То ли от степного воздуха, а может, от доброты мужа турчанка расцвела, превратилась в пышнотелую красавицу, на которую начали заглядываться мужчины. А их тут объявилось в избытке: неподалёку заложили крепость Димитрия Ростовского с немалым солдатским гарнизоном. Соседство беспокойное.
И они опять поплыли дальше, к морю. Выбрали место на высоком правобережье. Только сложили печку, соорудили над головой крышу, как заявился объезд, а с ним и писец длинноволосый.
— Ты кто есть? — вопросили казака, длинноволосый достал книжицу.
Поселенцы обмерли: кто знает, что власти надумают? Жена, не будь дурой, скорей запалила печь, чтоб из трубы дым повалил. Такой существовал порядок: ежели очаг горит, то поселенцев не трогают, признают их жительство. Отошёл от робости и казак.
— Да ить мы темерниковские, оттеда приплыли.
Потеряв в драке с соседом зубы, предок шепелявил.
— Стало быть, ты Семерников, — уточнил писец и нацарапал гусиным пером на бумаге: «Семерников».
С той поры и повёл начало род Семерниковых. А место, где стояла их хибара, назвали Семерниковым.
Отец Прохора был русоволосым, в плечах косая сажень, слыл правдолюбцем, за что часто страдал. От него сын заимствовал силу и характер, а вот лицом удался в мать: слегка скуластый, нос с горбинкой, глаза узкие. И бородка будто мазана сажей.
Хотя дозор Семерникова шёл ходко, однако к ночи французов так и не догнали. Но нетрудно было догадаться, что они здесь были не более как сутки назад, а то и меньше: мосты через речки разрушены, лодки угнаны, приходилось действовать вплавь. В узостях дважды наталкивались на заветы. А в одном месте, где дорога тянулась у крутизны, на казаков сверху обрушился камнепад, чудом никого не задело.
К довершению не переставая лил дождь. Казалось, ему не будет конца. Все промокли до нитки, и усталость брала своё.
На следующий день слегка прояснилось, и казаки увидели вдали город.
— Кажется, кончились мучения, — приободрились они.
Но оказалось, что это город Брешиа, а не Бергамо.
— А где ж этот самый город Бергамо? Опять мокнуть?
— Помокнем, не привыкать, — строго ответил Семерников.
— А может, попытаться ворваться в этот самый Брешин?
Но тут подоспел офицер от полка с приказанием обходить город и делать это как можно поспешнее.
Когда до Бергамо оставалось с десяток вёрст, дозор заметил трёх всадников в форме.
— Никак француз! — заволновались казаки, вглядываясь в верховых.
Те ехали по дороге, не подозревая об опасности: один — впереди, двое — позади. Лошади поджары, ухожены: если преследовать — не догонишь.
Скрытые густым кустарником казаки остановились незамеченными.
План у Семерникова возник сразу.
— Борщов, с тремя казаками скачи к дороге и отрезай французов от города! Сотников, с пятёркой — в голову! Нападёшь с фронта! А прочие — изготовьсь. Атаковать по моей команде!
Они выждали, когда Борщов и Сотников, укрываясь складками местности, приблизятся к дороге. И удивительное дело: волнение казаков передалось лошадям.
— Ну, с Богом, — проговорил урядник и ударил коня в бока.
С гиком и свистом, выставив вперёд пики, казаки вынеслись к дороге.
— Мусье, пардон! — закричал Семерников, а вслед за ним и остальные.
Французы бросились вперёд, но там показался Сотников.
— Мусье, пардон!
Видя, что окружены, французы соскочили с коней и поспешно бросили сабли к ногам.
Город атаковали без пехоты. Узнав от пленных, что гарнизон не ожидает нападения и ворота крепости отворены, дозор Семерникова ворвался в него первым, французы даже не успели занять места для сражения. Были захвачены пленные, девятнадцать орудий, много ружей и военных запасов, знамя.
Вечером Денисова вызвал Суворов.
— Веди своих гаврилычей к реке. Там они более надобны. Ежели подвернётся случай учинить какую диверсию против французов, действуй без оглядки.
Полк выступил в путь ночью, чтобы на рассвете достигнуть широкой реки По. Расчёт оказался точным, однако ни одной лодки для переправы не обнаружилось. Все лодки французы угнали на противоположный берег. Переправляться же вплавь в студёной воде без риска застудить людей было невозможно.
Наконец приволокли захудалую посудину, нашли вёсла. А тут как раз прискакал из главной квартиры офицер, полковник Гагарин.
— С чем пожаловали, князь? — Денисов был с ним в добрых отношениях.
— При мне пакет для генерала Багратиона. Фельдмаршал приказал передать его вам… Кстати, он полагал, что вы уже за рекой.
— Мы переправляемся. Передайте Суворову, что полк уже на том берегу.
— Как же на том, когда вы сами здесь?
Гагарин характером был мягок, уступчив и слыл среди офицеров добряком.
— Ах, Павел Гаврилыч, неужто вам нельзя сделать для меня уступку? Прошу вас сесть вместе со мной в лодку. Там я и приму пакет. Садитесь, не упорствуйте, а фельдмаршалу с чистой совестью доложите о выполнении поручения. И ему будет приятно, что он не ошибся в своём предположении.
— Ну и находчивы вы, Андриан Карпович! Хорошо, так уж и быть, переправлюсь с вами, только без коня.
В лодку сели ещё три казака, погрузили и сёдла. Удерживаемые уздой кони поплыли рядом с лодкой. Переправились они благополучно.
— Вот теперь давайте пакет, — сказал Денисов.
Пакет он вручил Багратиону вечером. Тот, отложив ужин, стал читать боевое распоряжение. Потом развернул карту. Склонился над ней, хмурил брови, о чём-то размышлял.
— Чем недоволен, Пётр Иванович?
— Разведка установила, что из Флоренции выдвигается армия Макдональда, в ней более тридцати тысяч. А навстречу из Генуи идёт армия Моро. И нацелены они на крепость Тортон.
Нетрудно было догадаться, что французы намерены нанести одновременные удары по русским и австрийским войскам.
Денисову вдруг вспомнились слова Суворова: «Ежели подвернётся случай учинить какую диверсию против французов, действуй без оглядки». Может, это и есть тот случай?
— Пётр Иванович, а не попытаться ли нам самим захватить Тортон, прежде чем подоспеет Макдональд? — высказался он.
Багратион помедлил с ответом.
— Мысль замечательная, да ведь Тортон не просто город, а крепость. Подождём подхода пехоты.
В отряде Багратиона кроме двух егерских полков и артиллерии находились три казачьих полка, и один полк был у Денисова. Против крепостного гарнизона сил было действительно недостаточно.
— Утром я поеду к городу, попытаюсь разведать что и как, — предложил Денисов.
Утром с двумя казаками и офицером полковник выехал на разведку. Неподалёку от города им повстречался горожанин. На вопрос, откуда он и куда идёт, тот отвечал, что сам из города, направляется в местечко, где проживают его родственники.
— Много ли в крепости французских солдат? — спросил Денисов.
— Не очень. Только они ожидают помощи, которая к ним спешит. А крепостные стены крепкие, и пушки есть.
Денисов хотел ещё расспросить разговорчивого горожанина, но с недалёкой опушки показались французские всадники. Увидев казаков, они понеслись на них. Над головой засвистели пули. С трудом удалось оторваться от преследования.
Едва они прибыли в своё расположение, как примчался адъютант Багратиона.
— Генерал срочно приглашает вас. Предстоит важное дело.
Ещё капитан сообщил, что в их отсутствие прибыли четыре австрийских эскадрона кавалерии, две пехотные роты и два орудия.
Багратион был возбуждён.
— Лазутчики донесли, что к крепости спешит помощь. На реке сосредоточили лодки для переправы. Вот здесь, — указал он на карте. Вблизи была обозначена деревня Маренго. — Я решил ударом своего отряда и твоих, Денисов, казаков сорвать их затею. Мой отряд нападёт у крепости, а твой, полковник, у реки.
И генерал стал излагать план нападения. Вдвоём они согласовали действия, уточнили маршруты.
Место, какое избрали французы для переправы, было глухим, болотистым и к тому же скрыто лесом.
Не теряя времени, казаки помчались туда в надежде опередить неприятеля в подходе к реке. Им это удалось. Едва они укрылись в лесу, как увидели на дороге французскую колонну.
С гиком и свистом врубились в неё казаки лихого конника Молчанова. Под стать командиру были и его подчинённые, отменные наездники и рубаки. В считаные минуты они разделались с передовым отрядом. Но уже подходили новые части. Обнаружив казаков, они перешли в наступление. Их численность намного превышала численность отряда Денисова. Но в самый решительный момент подоспел полк Грекова и ударил с тыла.
А тем временем отряд Багратиона громил неприятеля у крепости.
Позже, донося императору Павлу об этой схватке, Суворов писал:
«5 мая целый неприятельский гусарский эскадрон сколот казаками Молчанова, в других трёх нападениях казаки под предводительством походного атамана Денисова, а особливо полк Грекова, низвергли более 200 человек. Много раз императорско-королевская кавалерия рубила и поражала с казаками части рассыпанной неприятельской пехоты, и, пригнав к р. Танаро, паки Молчанова полк отрезал одну полубригаду, сия бросилась в воду, где ея до 500 человек потонуло, а 78, бросив ружья, сдались. Загнанные в близлежащее болото, конные и пешие, многие увязли и потонули».
Конец армии Жубера
Предпринятое Суворовым наступление развивалось столь успешно, что в Париже встревожились. Прибывший из Италии Макдональд привёз безрадостную весть о разгроме его армии русскими войсками.
— И армия генерала Моро тоже на грани поражения.
Эта весть поразила членов Директории[16]. Такого ещё не было! Всё, что было завоёвано в Италии в течение двух лет, с прибытием русских войск утрачено за каких-то три месяца!
На внеочередном заседании приняли решение: немедленно послать в Италию на место Моро нового командующего. Кого? Бонапарта? Но он далеко, в Египте. Выбор пал на Жубера. Только он может спасти положение.
Жубер предстал перед главами Директории.
— Генерал, обстоятельства требуют, чтобы вы завтра выехали в Италию. Промедление недопустимо.
— У меня на завтра назначена свадьба.
— И у вас тоже? Какое странное совпадение. У Бонапарта тоже была свадьба пред отъездом на Итальянский фронт. Однако это не меняет дела. Поедете послезавтра. Моро не справляется там против русских. Чего бы это ни стоило, но русских надо остановить, а затем изгнать из Ломбардии.
Уже четвёртый день, как Жубер в пути. Полтора года назад он этой дорогой возвращался в Париж. Их тогда было трое: командующий армией Наполеон Бонапарт, его начальник штаба Бертье и он, Бертелеми Жубер — командир корпуса этой армии. Они спешили в столицу французской республики, чтобы доложить правительству о победе в Италии, об изгнании из неё австрийцев.
Их встретили с небывалыми почестями. Толпы людей кричали: «Виват Бонапарт! Виват Жубер! Слава генералам!» Не без помощи бравых гвардейцев они прошли к парадной лестнице Люксембургского дворца. В зал вошли, неся победные знамёна. Впереди Бонапарт, за ним Жубер и Бертье. Оба подтянутые, статные, почти на полголовы выше своего командующего, смуглолицего и неулыбчивого корсиканца, они приковывали к себе внимание министров, депутатов, генералов.
Прогремел гимн свободе, и под его звучание они приблизились к столу президиума, за которым восседали пять членов Директории. «Италия под властью Франции!» — отрапортовал Бонапарт.
Потом о них писали в газетах, и имя Жубера упоминалось едва ли не чаще, чем имя Бонапарта.
О его победах в Италии ходили легенды. Даже Бонапарт не скрывал восхищения своим подчинённым. «Жубер по храбрости — настоящий гренадер, а по знанию дела и военным способностям — отличный генерал», — говорил он.
Вскоре Директория распорядилась направить Бонапарта и Бертье в Египет, Жубер же получил назначение командующим армией в предместье Парижа.
Тогда же он и встретил Элен. Хрупкая, со спокойным взглядом, она покорила двадцативосьмилетнего генерала с первой встречи.
— Я вас давно знаю, — сказала она. — Вы были студентом в Дижоне, в университете.
— Именно так. Мой отец желал, чтобы я стал адвокатом, а из меня, как видите, адвокат не вышел.
С того дня и возникла между ними любовь. Видно, судьбе было угодно, чтобы они встретились через девять лет.
В тревожные дни французской революции юный Бертелеми отказался от университета и добровольцем вступил в армию. Сержант обратил на себя внимание трезвостью мышления, решительностью в делах, преданностью. Вскоре он стал поручиком, через четыре года командовал бригадой. А потом была Италия, где ему подчинили целый корпус.
В конце весны он предложил Элен руку. Она, конечно, согласилась.
Теперь он мчится в Италию, но мысли его там, в Париже. Память цепко держит события последнего дня: торжество венчания, брачную ночь, когда он и Элен остались одни. Он помнит запах её волос, нежную бархатистость губ. И прощание на рассвете.
— Ты моё счастье, Бертелеми. Помни, если что-то с тобой случится, я умру.
— Я скоро вернусь, Элен. С щитом или на щите.
Он знал, что предстоит сразиться с самим Суворовым, который не имел доселе поражений. Этот фельдмаршал за короткий срок сумел растрепать отнюдь не слабые войска Макдональда и Моро. Что сулит встреча с Суворовым ему, Жуберу? Он сделает всё, чтобы одолеть старого полководца. Победа будет свадебным подарком Элен. Эта мысль потеснила сладкие воспоминания о Париже.
По прибытии в армию Жубер встретился с Моро. Тот доложил о положении войск, о намеченном плане действий.
Оттеснённая русскими и австрийскими войсками, французская армия в конце июля начала наступление через Генуэзские горы к Александрии. Её авангард подошёл к Нови — небольшому селению в широкой долине — и там столкнулся с русскими полками, которыми командовал генерал Багратион.
— Здесь, у Нови, не избежать сражения, — сказал Моро. — Оно должно произойти скоро.
— Вот после него, Моро, вы и поедете в Париж. Пока же мне нужна ваша помощь, — объявил Жубер.
Не теряя времени, он с Моро и генералами выехали на рекогносцировку. Прежде чем начать сражение, новый командующий пожелал увидеть местность, чтобы принять безошибочное и окончательное решение.
Главные силы французской армии располагались на возвышенности, лишь авангард был на равнине, у Нови. На правом фланге, в центре Сен-Сира, закрепились бригады Ватрена, а на левом фланге, у деревни Пастурана, — части Периньона.
Рассматривая в зрительную трубу позиции, Жубер заметил конный отряд в незнакомой ему форме. Всадники в синих камзолах восседали на небольших, но по виду сильных лошадях, имели длинные пики, которые отнюдь не мешали им.
— Это что за войска? — спросил он.
— Русские, казаки, — ответил Моро. — В нашем понимании — ополчение. Но вояки лихие.
— А почему они оказались там? Ведь это расположение австрийских войск, кажется, генерала Края?
— Совершенно верно. Там позиции двадцатисемитысячного австрийского корпуса. А казаки, по-видимому, несут охрану.
— А где главные силы русских?
— За Нови. Их сейчас не видно.
Жубер вглядывался в скрытую дымкой даль, словно бы выискивая в ней разгадку предстоящего сражения.
«Главные силы союзников — австрийский корпус Края — находятся против нашего левого фланга, — размышлял он. — Следовательно, нужно прежде всего обрушиться на этот австрийский корпус. Разгром его принесёт победу. А уж после этого удобней бить русские войска».
План сражения незаметно приобретал всё большую определённость и ясность.
Русских он, Жубер, разгромит у Нови, направив туда большой конный отряд. Это будет сильный фланговый удар с последующим выходом в тыл неприятелю. Под угрозой окружения он заставит русских сложить оружие…
Его внимание привлекла группа людей. Они находились за Нови, на возвышенности, неподалёку от одинокого дома с красной черепичной крышей. Опытным глазом Жубер определил, что это военные и они проводят, так же как и он, рекогносцировку.
— Моро, посмотрите туда, где дальний дом. Кажется, там Суворов.
Моро припал к зрительной трубе.
— Да… Старик там… Указывает рукой в нашу сторону…
Выслушав Багратиона, Суворов сказал:
— Позиция твоего отряда, истинный бог, хороша. Но придётся её оставить.
— Как оставить, ваше сиятельство? Зачем? — воспротивился тот.
— А иначе, князь, француза на равнину не выманишь. Посмотри, на каких кручах он засел. Бить его там несподручно. Ты сделай нынче так: начни помаленьку отступать и тяни француза за собой, пусть он тебя преследует…
— Вроде бы заманивать в вентель[17], — подсказал рыжебородый Денисов.
— Ты, Карпыч, помалкивай, не переиначивай манёвр на свой лад. Своим гаврилычам так будешь говорить, — заметил Суворов и продолжал объяснять Багратиону: — Главное в сём манёвре — оттянуть его передовой отряд от Нови. Ежели он отойдёт, тогда Жуберу поневоле придётся спуститься с гор. Это нам и надобно.
— Ясно, ваше сиятельство. Сделаю. Только чтоб не получилось…
Суворов не позволил досказать:
— Знаю, о чём хочешь молвить. Твой отряд будет прикрывать отряд Милорадовича. Ты, Миша, зри в оба и каждую секунду будь готов прийти к князю на помощь.
Высокий, совсем ещё молодой генерал Милорадович молодцевато щёлкнул каблуками:
— Всё сделаю, как велите.
— Поначалу мы нанесём удар на правом фланге. У генерала Края сил предостаточно, вот он и начнёт. А когда втянется в сражение Жубер, вот тогда ввяжемся и мы, в центре и на левом фланге. Вильгельм Христофорович, ты понял? — обратился Суворов к седому генералу, командиру корпуса Дерфельдену.
Генерал провёл вместе с Суворовым не одно сражение и почти во всех отличился. Суворов уважал его, называл на «ты».
С восшествием на престол Павел уволил Дерфельдена из армии, как и десятки других военачальников. Но с началом итальянской кампании император вынужден был отменить своё решение и направить генерала к Суворову. Тот тепло принял старого соратника и вручил ему под начало десятитысячный корпус.
— Понял, ваше сиятельство, — отвечал шестидесятичетырёхлетний генерал.
Суворов перевёл взгляд на Денисова и строго спросил:
— Давеча я приказывал выслать на правый фланг, к деревне Пастурана конный дозор. Где он? Что доносит?
— Дозор ночью был на месте, донесение от него получено.
— Что доносит? — повторил Суворов.
— Пишет, что действует сообща с отрядом австрияков.
— То, что вместе, — это хорошо, только пусть больше на себя надеется. И потребуй, чтоб особое наблюдение вёл за Пастураной. Там будет главное направление неприятельского наступления. Не могут французы не воспользоваться пролегающей дорогой.
Всё получилось, как предвидел Суворов. Отряд Багратиона ввязался у Нови в схватку с французами и начал отходить, увлекая за собой вражеские части. Чтобы не допустить большого отрыва от авангарда, главные силы французской армии последовали за ним и вышли на равнину. Этого и добивался фельдмаршал. Он тут же распорядился перейти наутро в наступление.
В пять часов утра на левый фланг дивизии Периньона обрушился град ядер. Артиллерийский обстрел был хотя и недолгим, но нанёс немалый урон французам, расположенным на открытой местности.
Едва послышалась пальба, адъютант бросился в спальню Жубера. Тот лёг далеко за полночь: писал письмо в Париж.
— Мой генерал, проснитесь! Наступление русских началось!
Будто пружина подбросила генерала.
— Начальника штаба ко мне!
— Я здесь, — отозвался генерал Сюше.
Он был уже в форме.
— Доложите обстановку! Что о ней известно?
— Союзные войска атаковали дивизию Периньона. Туда уже помчались офицеры штаба, чтобы выяснить обстоятельства.
— Я тоже выезжаю туда. Передайте Моро, что он остаётся моим заместителем.
Жубер вскочил на коня, хлестнул его плёткой. Адъютанты понеслись за ним.
Накануне сражения генерал Денисов приказал уряднику Семерникову отправиться с казаками в разведку.
— Ты непременно должен выйти к дороге, что ведёт к станице Пастурана. За ночь туда выйдешь. А на рассвете, как начнётся сражение, пошебурши малость, наведи панику. А уж ежели будет худо, то отходи, только с этим не торопись.
— Понятно, — спокойно ответил Прохор. — Сделаю, как приказываете.
— Провианта возьми в запас да зарядов к ружьям. Помни, Прохор Аверьянович, что выполняешь приказ самого фельдмаршала Суворова, так что никак нельзя допустить промашку. И казакам о том скажи.
— Не извольте беспокоиться. Сделаем, как надобно.
Скрытой дорогой разведчики добрались до расположения австрийских войск. Там они встретили командовавшего аванпостами майора, который посоветовал, как лучше забраться к французам в тыл, даже дал проводника из местных жителей, итальянца.
На рассвете Семерников повёл разведчиков в горы. Худосочный итальянец знал все тропы и безошибочно вывел их к Пастуране.
Сверху дома деревушки казались игрушечными, и такой же виделась кирха со стрельчатой колокольней.
— А теперь веди вниз, во-он к той дороге, — велел итальянцу командир, указывая на ведущий к деревне просёлок.
— Бено! Бено! — согласно закивал тот.
Едва они спустились к дороге, как послышался конский топот. Из-за поворота появилась группа всадников. Казаки затаились в придорожном кустарнике.
— Ружья заряжай! — скомандовал Семерников. — Изготовьсь! Стрелять по моей команде залпом!
Всадники всё ближе, ближе. Вот они уже совсем рядом. Впереди генерал.
— Пли!
Прогремел залп.
Адъютант подбежал к окровавленному Жуберу.
— Мой генерал, вы живы? Живы? Да отвечайте же!
Из пробитой навылет груди хлестала кровь.
— Он мёртв. Разве не видишь? — заметил уцелевший офицер.
Встревоженный адъютант ворвался к Моро:
— Генерал! Случилась непоправимая беда! Несчастье! Командующий убит! Наповал! Пуля поразила его в самое сердце.
Моро побледнел, однако сдержал себя:
— Как это произошло?
— У Пастураны. Мы напоролись на засаду. То были казаки, они обстреляли нас и скрылись.
— О его гибели никто до конца дня не должен знать. Я вступаю в командование.
Затихшее было сражение вновь разгорелось. Используя превосходство в силах, французы обрушились на австрийский корпус Края. Отбивал яростные атаки и отряд генерала Милорадовича.
Особенно ожесточённый бой происходил у Нови. Войскам генерала Багратиона удалось ворваться в селение, выбить из него неприятеля и завязать бой на высотах. Исход решил штыковой удар русских солдат. Французы в панике отступили.
Находясь в боевой линии, Денисов увидел, как французские орудия спешно снимаются с позиций и уходят в горы. В полку оставалось не более ста человек, но это не удержало командира от дерзкого замысла.
— На конь! — скомандовал он.
Казаки пустились в погоню.
— Чекмарёв! — позвал Денисов хорунжего. — Бери два десятка и упреди на тропе отходящих.
Тот сразу понял командира. По тропке, идущей в стороне от дороги, всадники углубились в лес. Тропа вывела к болоту, но оно не остановило их. Спешившись, казаки осторожно провели через него коней и продолжили путь. Они сумели обогнать артиллерийскую колонну и устроили на дороге засаду. При первых же выстрелах французы бежали, бросив восемнадцать орудий.
Кончилось сражение с наступлением темноты. Моро хотя и считался опытным генералом, однако не обладал достоинствами Жубера, он и на сей раз потерпел поражение. Потери французов составили тринадцать тысяч человек и сорок орудий. В Париж отослали безрадостное сообщение.
Четыре года спустя Моро обвинят в заговоре против Наполеона и вышлют из Франции. В 1813 году Александр Первый предложит ему место военного советника при союзной армии, и он примет участие в войне против Наполеона. В том же году в битве под Дрезденом он получит смертельное ранение.
Поистине человеческая судьба непредсказуема.
Новая задача
За три месяца пребывания в Италии русские войска сумели изгнать французов почти из всей Ломбардии. До Средиземного моря оставалось рукой подать. Казачьи полки из передовых отрядов Багратиона и Милорадовича находились уже на подступах к Генуе, когда австрийское правительство потребовало от русского командования прекратить наступление. В подтверждение тому последовало распоряжение из Петербурга, в котором указывалось, что австрийские войска должны остаться на месте, а русские спешить в Швейцарию. Соединившись там с корпусом генерала Римского-Корсакова, им следует предпринять поход во Францию.
Стремительное продвижение русских войск под командованием Суворова встревожило не столько австрийское правительство, сколько английское, усмотревшее опасность русского влияния на Средиземноморье.
Повинуясь приказу, русские войска повернули назад, к горным хребтам, чтобы перевалить через них и оказаться в Швейцарии. Переход предстоял нелёгкий, осложнялся наступившими в горах холодами, к тому же австрийское командование не обеспечило войска необходимым, как предусматривалось приказом.
Суворов собрал начальников, чтобы окончательно решить вопрос о порядке перехода через Альпы и отдать последние распоряжения.
В почтительной позе стоял генерал Розенберг, рядом с ним — толстенький, с животом Павло-Швейковский. Застыл с неизменной плетью в руках Багратион, был тут и любимец Суворова молодой Милорадович.
Здесь же находился и недавно прибывший из Петербурга сын Суворова шестнадцатилетний Аркадий. По-мальчишески угловатый, с худой шеей и торчащими ушами, он был на голову выше отца и совсем не походил на него.
Злые языки нашёптывали относительно его рождения двусмысленно нехорошее, и Суворов, то ли поддавшись разговорам, а может, имея другое основание, не признавал Аркадия своим сыном, считал, что любвеобильная и ветреная Варвара Ивановна нагуляла его на стороне.
Аркадий в семье бывал редко, воспитывался у родственников и в частных пансионах, изучал там языки и науки.
Теперь же, когда Суворов своими победами сделал для России столь много, Павел решил умилостивить полководца, заодно взяв на себя роль миротворца и благодетеля. Безусого юнца он возвёл в чин генерал-майора и к этому присовокупил назначение его генерал-адъютантом своей свиты.
Возражать фельдмаршал не посмел, принял сына. Понимая, что отдавать людей под его начало нельзя, оставил в штабе, при себе, сделав как бы главным адъютантом.
Против выстроившихся в шеренгу русских генералов стояли австрийские начальники. Их возглавлял аскетического вида подполковник Вейротер, считавшийся знатоком боевых действий в горах.
Суворов стоял посреди комнаты в походном распахнутом мундире, под которым виднелась нижняя, с тесёмками рубаха. На ногах у него были старые, со сбитыми каблуками ботфорты.
Слегка сутулясь, не глядя на генералов, он с неудовольствием выговаривал:
— Это низменно и по-людски недостойно. Руками русских солдат вырвать у неприятеля победу, а потом неблагодарно отвергнуть заслуги и присовокупить успех только себе! Не пытайтесь убедить меня в обратном! Я знаю, и вы тоже, господа хорошие, знаете, что это так. — Он бросил быстрый взгляд в сторону застывших австрийцев и продолжил: — Теперь последовало более чем странное распоряжение перемахнуть через Альпы. Нас вынуждают лезть в капкан. Нет, не вынуждают, а загоняют. Соображает ли гофкригсрат, что значит осенью преодолеть снежные Альпы? Ежели бы знал, на подобное вряд ли решился. А может быть, умысел? Но мы русские, и горы нас не устрашат, преодолеем их. Только вот время-то где взять? Нет его у нас в запасе. А Массена ждать не будет. И план его разгадать не сложно. Он намерен разделаться поодиночке… Да-с, да-с… Уж к этому он непременно будет стремиться. И не старайтесь доказать обратное!
Суворову и не пытались возражать. Даже австрийцы молчали, лишь переминались с ноги на ногу.
— Да-с, господа, Массена ждать не будет. У него сила, и немалая, а сила солому ломит. Только мы не солома… Массена хитёр. И умён. Он вначале обрушится на Римского-Корсакова, что за Альпами, в Швейцарии, и тому не устоять, а потом повернёт свои войска на нас.
Тесёмочки на рубахе Суворова развязались, и в вороте проглядывала сухая морщинистая кожа. Пылавшее лицо, как и шея, было в глубоких старческих складках и морщинах. Во всём виде семидесятилетнего главнокомандующего проглядывалась какая-то противоестественность: старик с немощным телом и пылом разгорячённого юноши, с лихорадочным блеском глаз горячо пытался отстаивать своё.
Рассуждая, он, казалось, проявлял больше беспокойства не за подчинённые ему войска, а за судьбу находившегося за Альпами корпуса, с которым предстояло соединиться.
Стоявший с краю Вейротер, шагнув, щёлкнул каблуками:
— Майне генераль, не исфольте беспокойства. Дизен офицерен, — указал он на стоявших в строю офицеров, — очшен хорошо знайт штрассе, то есть дорог. Они будут вести русский колонн. Ейн колонн, цвей колонн…
Махнув рукой, Суворов прервал его:
— Ейне колонна маршиерен, цвейне колонна маршиерен… Знакомо это. И им, генералам, тоже ведомо. — Он кивнул в сторону русских начальников. — Нужно, чтобы не австрийцы, а генералы знали дорогу. И он, и он, и он, — указывал фельдмаршал на Розенберга, Багратиона, Денисова. — И не только дорогу, но и сами Альпы, где придётся сражаться. Не на прогулку идём, а на бой! На прогулке твои проводники были бы кстати.
— Майне генераль, я имею план маршиерен. Досфольте представляйт?
— Не ломай, подполковник, языка. Изволь объясняться по-своему. Поймём. — И Суворов на чистом немецком языке сказал: — Где ваш план? Показывайте.
Отодвинув на край стола пепельницу, Вейротер разложил лист плотной бумаги.
— Ну-ну, — наклонился над ним Суворов.
План был выполнен искусной рукой. Поперёк листа в тёмно-коричневых размывах краски тянулись Альпы. Там, где краски сгущались, были хребты. Они чередовались с долинами и шли в разных направлениях, создавая иллюзию природного хаоса. Внизу листа через всё это воображаемое гигантское нагромождение гор, обрывов, долин и скал пролегала в замысловатых извивах дорога из Италии в Швейцарию.
Вначале она взбиралась к перевалу Сен-Готард, с него спускалась в долину, к селению Госпиталь, от него тянулась по реке Рейс. В версте от селения реку сжимали нависающие стены каньона, образуя теснину с тропой по карнизу. Потом дорога уходила круто вверх и втягивалась в тоннель, название которому было Урнер-Лох, что означало Урнерская дыра. За «дырой» дорога сужалась, пролегала по краю отвесной стены и выходила к мосту через Рейс: Чёртов мост…
— А это что? — указал Суворов на аккуратно вычерченные стрелки внизу плана.
— Это походный порядок, — отвечал Вейротер по-немецки.
— Вижу. А что тут? Никак обоз?
— Яволь. Так точно.
— Никаких обозов! — Суворов с решительностью перечеркнул вычерченное на бумаге. — И артиллерию тоже отставить. Всю, кроме горных орудий. Обоз и артиллерию направить отдельной колонной в обход.
— Ваше сиятельство! Как можно без артиллерии? — не сдержался Розенберг.
— Вы правы, генерал. Без артиллерии войскам невозможно. Но где они, эти горные пушки? Извольте спросить милых союзничков, где обещанные пушки? Отпишите им да попросите, чтоб прислали хотя бы пару десятков, которые бы можно было вьючить на животных.
— Непременно отпишу, ваше сиятельство, — вытянулся Розенберг.
— Изложите всё от моего имени, напомните им, что необходимо для войск и что союзнички обязаны делать.
Суворов опять перенёс внимание на австрийский план. Вглядываясь в него, он спросил Вейротера:
— Какой замысел в нём изложен?
— Обстоятельства требуют решительного и быстрого движения колонн…
— Решительного, быстрого… Не то говоришь, подполковник. Где обещанный гофкригсратом провиант, снаряжение? Где вьючные мулы, которые понесут груз? Где всё это?
— Они будут, непременно будут. Часть мулов уже пригнали.
В армию Суворова австрийцы обещали доставить 1430 вьючных животных, которые несли бы грузы во время перехода. Но пока было прислано всего 650.
— Но ведь то, что имеем, недостаточно! Вы это знаете. Неужто люди должны всё нести на себе? Каждое дело, господин подполковник, нужно делать вовремя. Теперь же в ожидании обещанного мы должны терять дни. А время сейчас дороже золота. Оно наша жизнь и судьба корпуса Римского. Ежели мы опоздаем, французы разобьют его. Ведь у Массены в три раза более сил, чем у Римского-Корсакова. Вот к чему в войне приводит нераспорядительность. Ваши мулы оплачиваются кровью русских солдат.
Суворов словно бил по щекам представителей австрийского командования, которое поступило едва ли не предательски.
— Ваше сиятельство, — вдруг осмелился прервать фельдмаршала Денисов, — дозвольте высказать предложение?
Все, как по команде, уставились на него. Одни смотрели с удивлением, другие не скрывали усмешки.
— Что у вас, генерал? Какое предложение? — спросил Суворов. — Говорите!
— Ваше сиятельство, неужто наши дончаки хуже мулов? Может, они, конечно, не привычны к горам, но, ежели сделать вьюки, они потащат их за милую душу.
— Дело говоришь, Карпыч. Истинный бог, дело. Сколько же можешь дать лошадей под вьюки? Но снижать боевую степень казачьего войска не позволю. Такое недопустимо! Откуда же возьмёшь?
Недавно в распоряжение Денисова с Дона пришли ещё два казачьих полка. Теперь у него было восемь полков, более трёх тысяч казаков. А у многих по два коня. Это больше пяти тысяч голов.
— Можно дать тысячу лошадей…
— Мало! Нужно полторы! Ссади своих гаврилычей, сделай их на время пластунами. Выберемся из гор, снова сядут в седло. — И, не ожидая согласия казачьего генерала, Суворов заключил: — Ну вот, нашли выход. Правильно говорят, что нет безвыходного положения.
— Это вы говорите, ваши слова, — заулыбался румянощёкий красавец Милорадович.
— Люди говорят, и я говорю.
Когда Денисов возвращался к полку, светило солнце, голубело чистое, без единого облачка небо и зеленела омытая дождём листва. Он перевёл взгляд на горы. Там, на снежниках хребтов, уже гуляла метель, вовсю вихрила выпавший ночью снег.
Отпустив всех, Суворов распорядился пригласить к нему Гагарина.
— Что, князь, так и не разгадал, зачем вызывают в столицу?
— Никак нет, ваше сиятельство. Никак не разумею, зачем я там понадобился.
— Ежели сам император вызывает, следовательно, нужен. Заодно увезёшь с собой и боевое донесение о действиях войск. Сие постарайся вручить самому государю. Ежели начнёт расспрашивать о делах, рассказывай подробно, красок, князь, не жалей. Живописуй поярче. Допрежь расскажи о солдатах, о трудностях, какие им выпали, и какое они проявляли геройство. Не забывай, конечно, и о чинах: офицерах да генералах. Хотя в донесении о том написано подробно, но от живого свидетеля всё воспринимается иначе. Разузнай, как там, в столице, замышляют использовать нашу армию. Вернёшься — поведаешь, а ежели задержишься, то отпиши.
Полковник внимательно слушал фельдмаршала и обещал исполнить всё в точности.
Через Альпы
Авангардному отряду, которым командовал Багратион, предстояло захватить лежавший на пути русской армии Сен-Готардский перевал. Через него пролегала дорога из Италии в Швейцарию.
Сознавая важность перевала, французское командование направило для его обороны целую дивизию. У подножия, где дорога вползала в горы, залегли передовые роты с артиллерией. Каждая сажень простиравшегося пред ними склона поражалась огнём стрелкового оружия и орудий. Остальные силы расположились ярусами выше, чтобы наступающие по мере их продвижения всё время находились под сильным обстрелом.
На самом перевале тоже имелись войска. Они занимали селение Госпиталь, используя его каменные строения как укрытия, засели и в монастыре, оборудовав позиции за каменной стеной.
Ещё была в резерве французская бригада. Ей предстояло решительным контрударом сбросить вниз русские войска, если они подойдут к селению и монастырю.
Первыми атаковали врага на рассвете егеря и спешенные казаки. Обнаружив их, противник открыл такую пальбу, словно ожидал нападения в столь ранний час. Находясь в укрытии, французы поражали рассыпавшихся по склону солдат, стреляли в упор и с флангов, били картечью из орудий.
С большим трудом и потерями удалось выбить неприятеля с первой позиции, и тут же завязался бой за вторую. Её атаковали дважды — и безрезультатно. Назначили третью атаку на четыре часа дня, пустив в обход небольшой отряд казаков и егерей.
Отряду предстояло выбраться к господствующей высоте, чтобы с неё бить по французам из ружей. До высоты оставалось совсем немного, когда сверху донёсся грохот. На отряд полетели камни, круша всё на своём пути.
— Береги-ись! Береги-ись! — раздались отчаянные крики.
Кони неслись будто пушечные ядра, с гулом бились о деревья, ломали их.
Люди бросились к укрытиям, к могучим стволам, но не всем удалось это сделать, и камни поражали их.
Те, кто находился в стороне от опасности, поспешили наверх, чтобы атаковать невидимого врага. Захлопали выстрелы, послышались крики, и вскоре, вступив в рукопашную схватку, русские оттеснили неприятеля с вершины.
Отсюда открывался вид на перевал и французские позиции. Не медля, егеря и казаки открыли по ним огонь. Противник дрогнул. Этим воспользовались солдаты наступающей по дороге главной колонны.
Выбравшись на перевал, Суворов долго изучал склон, пытаясь разобраться в обстановке. Отовсюду доносились выстрелы, гулкое эхо многократно повторяло их, и, казалось, горы гремели.
Накануне Суворов направил в обход корпус Розенберга, чтобы ударить по неприятелю с тыла, однако отряда не было. Александр Васильевич понимал, что пройти по горным тропам почти семьдесят вёрст непросто, но обстановка вынуждала спешить.
«Неужто ещё тянется? Ах, этот Розенберг!» — упрекал он генерала.
У монастыря фельдмаршала встретил настоятель, благообразного вида старик, провёл в помещение, где пылал очаг.
— Сушитесь и обогревайтесь.
— Чёртова погода! — Суворов сбросил промокший до нитки синий плащ.
— Вам бы ещё ботфорты снять, — предложил казак, подхватывая плащ.
— Ну-ка, помоги. — Суворов сел, выставил ногу и опёрся о стул. — Стаскивай!
И портянки были мокры.
— У меня есть носки. Добротные! В самую пору, — метнулся казак к двери.
Суворов подсел к огню, тут же устроился и Вейротер.
— Главное, мой генераль, позати. Будем уничтожайт Лекурб, унд… путь на Швиц… можно идти, — произнёс он с явным желанием сделать командующему приятное. — А там до генераль Корсакоф недалеко. Массена будет очень неожидан…
— Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Главное дело впереди.
— Гоп? Какое гоп? — Австриец уставился на фельдмаршала. — Что такое гоп?
— Объясните господину подполковнику, — обратился Суворов к адъютанту.
Мысль о находящемся в Швейцарии немногочисленном русском корпусе не давала покоя. Суворов знал его командира генерала Римского-Корсакова. Военачальник не из лучших. Против Массены никак не устоит. К тому же у французов вчетверо больше сил. Неделю назад Суворов написал генералу, чтоб он не мешкая надёжно закрепился и вселил в солдат дух уверенности. Обещал незамедлительно подоспеть к нему на помощь. И вот, поди ж ты, обстоятельства складываются никак не в пользу россиян.
— Эх-хе-хе, — по-стариковски тяжко вздохнул Суворов и приказал денщику стелить на ночь.
Пальба слышалась допоздна, потом нехотя стихла, а с утра снова загремела. Совершив нелёгкий переход, корпус Розенберга сосредоточился в долине и внезапно атаковал бригаду Лекурба. Но французы не ударились в бегство, их заслоны стойко держались и отражали атаки, давая возможность части сил отойти к туннелю Урнер-Лох, прозываемому Урнерской дырой, и наполовину разрушенному Чёртову мосту. Главные же силы бригады успели занять оборону у Альтдорфа, перекрыв дорогу к Швицу.
Розенберг, однако ж, разгадав замысел неприятеля, проявил настойчивость, пустил ему вслед отряды егерей и казаков и приказал неотступно преследовать его. Приказ Розенберга выполнили. На плечах отступающих ворвались и в «дыру» и, овладев Чёртовым мостом, перебрались по нему на противоположную сторону, связав шарфами да поясами брусья и доски. Немногочисленный авангард под командой молодого генерала Милорадовича начал продвижение к Альтдорфу.
Когда Суворов прочитал донесение от Розенберга, он облегчённо перекрестился:
— Слава тебе, Господи, всё сделано, как надобно. Только Мише Милорадовичу надобно помочь.
При Суворове находился казачий полк Денисова, выполняя роль резерва, который можно было бы использовать на случай внезапности. Теперь такой случай представился.
— Поднимай, Карпыч, свой полк и немедля скачи к Альтдорфу. Возьмёте его и поспешайте к Швицу. У нас времени в обрез. Так и передай Милорадовичу. И подполковника Вейротера прихвати. Он знаток этих мест, сгодится.
Австриец воспринял это без удовольствия, но возражать не посмел. Полк поскакал.
Дорога тянулась среди скал и лесной чащи, и казакам то и дело приходилось попадать под огонь небольших обходящих групп французских стрелков. В одном месте сорвавшаяся сверху глыба едва не снесла голову Вейротеру. Лицо у него сделалось как у мертвеца.
— Долой с коня! — скомандовал ему Денисов.
Но сделать это было не просто. Они находились на узкой тропе: справа возвышалась каменная стена, а слева, у самых ног коня, зияла пропасть, где далеко внизу ниточкой серебрился ручей.
— Смотри, как нужно. — Денисов с осторожностью стал продвигаться к крупу лошади.
С окаменевшим лицом, сопя и пыхтя, австриец неуклюже сполз с седла.
— Никогта, никогта не вител такой дорог, — произнёс он. — О-о! Майн гот!
Перед Альтдорфом возникло новое препятствие: отступающие подожгли мост через ущелье. Огонь, к счастью, удалось погасить, но брёвна тлели, и всё же по ним перебрались. Общими усилиями казаки, егеря и гренадеры выбили неприятеля из селения и пустились в преследование по дороге на Швиц.
Но вскоре оттуда прискакал казак.
— Дорога у озера обрывается! — крикнул он.
— А в обход?
— Других дорог нет.
— Как нет? Дорог должен быть! — возмутился Вейротер. — На карте показан.
Не было на озере и переправочных средств: лодки, баркасы, паром французы угнали к противоположному берегу. Суворовская армия, опаздывая уже на сутки, оказалась в ловушке. Кончался провиант, обоз отстал.
А Массена меж тем торопился. Лазутчики донесли, что после ухода из Швейцарии главных австрийских сил там оставались лишь двадцатичетырёхтысячный русский корпус да восьмитысячный отряд австрийцев генерала Хотце. Эти войска занимали невыгодное положение, и потому Массена надеялся разбить их прежде, чем подойдут из-за Альп русские войска, которые ведёт Суворов.
Французского генерала обуревало также желание взять реванш за неудачу, которую он потерпел здесь три месяца назад. Тогда, занимая у Цюриха выгодные позиции, французские войска понесли от австрийской армии большие потери и отступили.
Узнав о поражении, Наполеон потребовал генерала к себе. Он не раз высказывал Массене похвалу, баловал его вниманием и наградами. На сей же раз встретил его холодно.
— Видимо, вам, генерал, уже трудно командовать, — сказал Наполеон жёстко.
Этот тридцатилетний генерал умел приводить в трепет даже тех, кто годился ему в отцы. Шесть лет назад, когда революционные войска вели осаду Тулона, генерал Массена командовал бригадой, а Бонапарт был незаметным артиллерийским поручиком. Впрочем, сам Массена вырос из фельдфебеля в генералы всего за четыре года.
— Неприятель имел вдвое больше сил, — попробовал он оправдаться.
— Я не спрашиваю, сколько их было у вас. Отвечайте: можно ли рассчитывать на ваш успех?
— Я сделаю всё возможное. Клянусь! — пылко ответил Массена. — Поверьте мне, мой генерал!
И тот поверил ему. Наверняка вспомнил, как в недавнем прошлом он, Массена, был его опорой в трудном Итальянском походе. Своей храбростью, решительностью, спокойной уверенностью он одерживал одну победу за другой, стяжая славу примчавшемуся в Италию прямо из-под венца главнокомандующему.
Массена поспешил к своим войскам, чтобы исполнить обещанное до подхода русских войск, которые вёл сам фельдмаршал Суворов. Прежде всего он направил дивизию Менара против небольшого отряда генерала Маркова. Суровая участь постигла русских солдат, занимавших оборону севернее Цюриха. Многие пали в жестоком бою, остальные попали в плен.
Потом Массена атаковал австрийский отряд Хотце дивизией Сульта, пообещав тому повышение в звании в случае победы. Болезненно честолюбивый Сульт растрепал австрийские полки.
И уже после того французская армия обрушилась на корпус Римского-Корсакова. В неравном двухдневном сражении русские потеряли 15 тысяч человек, 80 орудий и обоз. В донесении Наполеону, опьянённый победой, Массена обещал разделаться с Суворовым. «Этот старый фельдмаршал от меня не уйдёт!» — заявил он и спешно направил значительные силы к Мутенской долине, надеясь там перехватить русские войска.
Когда Суворов узнал, что путь к Швицу отрезан, он избрал новый маршрут: через снежный хребет Росшток по труднопроходимой тропе.
— Мой генерал! Там нельзя идти! — не скрыл удивления Вейротер. — Даже охотник не рискнёт туда ступать.
— А мы не охотники. Мы солдаты, одолеем, — отвечал фельдмаршал.
— Мы погубим людей и сами погибнем!
— Зачем прежде времени устраивать панихиду, — отмахнулся Суворов. — Иного пути нам нет.
За последние дни он изменился, ослаб, сказывались годы: шестьдесят девять! Но крепился, старался держаться молодцом. Два дня назад после трудного дня он свалился на кровать, буркнув, что малость отдохнёт. Едва закрыл глаза, как у дома стали взрываться ядра. Казачий генерал Денисов бросился в дом, схватил спящего на руки и бросился к двери.
— Стой! Что делаешь, чертяка! — бил фельдмаршал кулаками в мощную грудь казачины. — Ну ужо погоди, Карпыч!
Но едва они отбежали в безопасное место, как одно из ядер влетело в комнату, где они только что были.
— Повезло нам с тобой, Карпыч, — сказал Суворов.
— Истинный бог, повезло, ваше сиятельство, — ответил тот.
В пять часов утра 16 сентября авангард Багратиона начал путь на Росшток. До лежавшего за хребтом селения Мутен было всего пятнадцать вёрст, но это был поистине путь испытания. Артиллерию, зарядные ящики, боеприпасы и продовольствие пришлось тащить на себе. Падали мулы, не выдерживая тяжесть перехода, гибли люди. Весь этот недолгий путь был усеян трупами.
Вначале Суворов шёл вместе с солдатами, но потом ему подали донскую лошадь и уговорили сесть на неё.
Денисов подозвал двух казаков.
— Головой отвечаете за жизнь Александра Васильевича. Смотрите уж! — пригрозил он.
И всю дорогу те шли рядом, придерживая самого фельдмаршала и его коня. Иногда тот проявлял настойчивость:
— Пустите меня, пустите, я сам пойду!
Но дюжие казаки молча продолжали своё дело, а когда терпение было на грани, удерживали упрямца силой, коротко, но твёрдо говорили:
— Сиди!
И Суворов повиновался.
Первыми достигли селения Мутен донские казаки под командой полковника Сычева. Было пять часов вечера. Не ожидавшие русских французы с аванпоста беспечно отдыхали. И вдруг, как снег на голову, те обрушились на них. В короткой схватке французы сдались на милость победителя: сто человек вместе с офицерами оказались в плену.
Переход главных сил через хребет Росшток продолжался до ночи следующего дня, а обоз подошёл 18 и 19 сентября.
Все эти дни Суворова беспокоила мысль о корпусе Римского-Корсакова. Ещё когда он был в Альтдорфе, один из селян, возвратившийся с противоположного берега озера, сообщил, что у Цюриха было сражение. Чем оно закончилось, он не знает, но орудия гремели сильно.
Весть, что французы разбили корпус Римского-Корсакова, донёс в штаб казачий полковник Сычёв, находившийся впереди, в разведывательном отряде. Суворов прочитал донесение с побледневшим лицом и сникшим видом. Казалось, на его немощные плечи навалилась невидимая тяжесть.
Никогда ещё за всю свою долгую и трудную жизнь с бессонными ночами, длинными походами и кровопролитными сражениями не попадал он в такое положение, из которого не было выхода. И вот теперь возглавляемое им двадцатитысячное войско оказалось в уготованной врагами западне.
Когда-то в детстве он прочитал строки римского поэта Овидия, воспевающего величие гор. Эти строки запомнились ему:
В царство небес, говорят, стремиться стали гиганты; к звёздам высоким они громоздили ступенями горы.Теперь он познал страшную силу этих гигантов — гор. Мрачные в своей недоступности, они тешились вокруг, давили своей холодной массой камня и льда, как бы напоминая людям об их ничтожестве. Они, как и французские войска, были той силой, которую предстояло одолеть.
— Где тот полковник, что вёл разведку? — спросил фельдмаршал.
— Он здесь, ваша светлость.
— Пригласите!
Вошёл Сычёв, уставший, но не потерявший энергии и уверенности.
— Где вы видели французов? — бросил взгляд на карту Суворов.
— Вот здесь, — указал пальцем полковник. — У Кленталя.
— А как узнали о поражении Римского-Корсакова? Как определили французские силы?
— Беженцы среди селян сообщили. Даже назвали имя генерала Молитора.
Молитор был известный генерал и командовал никак не малыми силами.
Не замечая находившихся в комнате, Суворов уставился в карту.
— Разрешите выйти? — негромко спросил Денисов.
Ответа он не получил.
Осторожно ступая, все направились к двери, но требовательный голос заставил их остановиться:
— Призовите всех генералов, надобно обсудить положение!
На сбор не понадобилось много времени: почти все генералы находились поблизости. Они вошли и выстроились вдоль стены, не спуская глаз с фельдмаршала.
— Корсаков разбит и прогнан за Цюрих, — произнёс Суворов негромко, но отчётливо. — Готц пропал без вести, и корпус его рассеян. Прочие австрийские войска, шедшие для соединения с нами, опрокинуты от Глариса и прогнаны. Итак, весь операционный план для изгнания французов из Швейцарии нарушен.
Он замолк, закрыл глаза, и находившиеся в комнате генералы и полковники, замерев, молча стояли в ожидании слов фельдмаршала. Многие и до этого ясно сознавали сложившуюся ситуацию и нависшую над всеми ими угрозу. И вот она свершилась.
— Теперь идти вперёд на Швиц невозможно. Там у Массены свыше шестидесяти тысяч, а у нас нет полных и двадцати. Идти назад?.. Нет! Это значило бы отступление. А русские и я никогда не отступали! Мы окружены горами. Мы в горах! У нас осталось мало сухарей на пищу, а менее того боевых артиллерийских зарядов и ружейных патронов. Мы будем окружены врагом сильным, возгордившимся победою — победою, устроенной коварной изменою… Да-да, изменою. Ежели бы мы вышли ранее, как было намечено планом, да не ждали, когда союзники подвезут обещанное продовольствие и мулов, мы были бы в Мутентале раньше, смогли бы первыми напасть на Массену и не позволить ему разгромить Корсакова. Но теперь… — Старый командующий замолк и поднял глаза на стоящих перед ним генералов. — Теперь, господа, помощи нам ожидать не от кого. Одна надежда на Бога, другая — на величайшую храбрость и на высочайшее самоотвержение войск, вами предводимых. Это одно остаётся нам. Нам предстоят труды великие, небывалые в мире: мы на краю пропасти!.. Но мы русские. Я обращаюсь к вам, господа начальники. Не требую, а прошу: спасите честь и достоинство России и её самодержца, нашего государя. Спасите, молю Богом!
И вдруг фельдмаршал, Александр Васильевич Суворов, неустрашимый и твёрдый в сражениях и делах, встал пред генералами на колени. Глаза его повлажнели, лицо выражало величайшую просьбу.
От неожиданности все оцепенели, потом бросились к нему, подняли, поставили на ноги.
— Ваша светлость, поверьте нам, мы никогда не отступим! Ведите нас, и мы одолеем любого врага!
Суворов плакал. Никогда и никто не видел его таким. Старшим в комнате был генерал от кавалерии Дерфельден.
— Позвольте мне сказать от всех находящихся здесь и всего войска русского, — выступил он.
— Говори, Вильгельм Христофорович, — разрешил Суворов.
— Отец наш Александр Васильевич! Мы видим и теперь знаем, что нам предстоит. Но ведь и ты знаешь нас, ратников, преданных тебе душой. Верь нам! Клянёмся тебе перед Богом за себя и за всех! Что бы ни встретилось, ты, отец, не увидишь в нас гнусной, незнакомой русскому трусости и ропота. Пусть сто вражьих тысяч встанут пред нами, пусть эти горы втрое, вдесятеро представят нам препону — мы будем победителями и того и другого. Всё перенесём и не посрамим русского оружия! А если падём, то умрём со славою! Веди нас куда думаешь, делай что знаешь: мы твои, отец!..
— Верю! — прервал Суворов генерала. — Теперь мы победим! Слушай, что нужно сделать! Розенберг! Ваш корпус остаётся здесь. Быть в арьергарде. — Высокий генерал выступил вперёд. — Умри, Андрей Григорьевич, но не допусти к главным силам Массену. Сколько у тебя защитников?
— Четыре тысячи.
— Маловато. Возьми ещё казаков. Дать ему два полка.
— Слушаюсь, — ответил Денисов.
— Князь Пётр! — обратился Суворов к Багратиону. — Быть тебе в авангарде! Отогнать неприятеля за Гларис! Остальных я поведу сам.
Подошедшие на следующий день к Мутенской долине французы атаковали арьергардный отряд Милорадовича, состоявший из егерей, гренадер и казаков, и несколько потеснили их. Однако подоспело подкрепление, и неприятель после упорной схватки отступил.
Разгорячённый сражением Милорадович приказал казакам преследовать французов. Отряд врезался в их гущу и, орудуя пиками и саблями, нанёс врагу немалый урон.
В результате двухдневного боя русские войска отбросили французов, захватив пленных и одиннадцать орудий. Главное же, они дали возможность основной колонне оторваться от преследования.
А впереди ещё был долгий и трудный путь через заснеженные хребты и перевалы, схватки с превосходящими силами неприятеля, морозы, ветры и бесконечные дожди.
В первых числах октября русские войска наконец вышли из гор и сосредоточились у небольшого швейцарского городка Лаудена. Исхудавшие, обмороженные, в изорванном обмундировании, солдаты, казалось, держались из последних сил. Опытным глазом Суворов видел, что ни в чём другом они так не нуждаются, как в отдыхе.
Австрийский император Франц, словно бы заглаживая вину своего командования за действия, которые едва не привели к разгрому русского корпуса, пожаловал Суворову орден Марии Терезии Большого Креста и пообещал отныне всячески содействовать предстоящим операциям.
Прочитав это письмо, Александр Васильевич, не оборачиваясь, позвал:
— Кушников! Сергей Сергеевич! Поди-ка сюда. Прочитай, что пишет австрийский император… Мягко стелет. А ты в отписке поблагодари за награду, а на обещание всячески содействовать предстоящим операциям напиши, что единственной ныне для нас операцией является заслуженный отдых войскам. Пусть австрияки без нас справляются со своими делами.
Нельсон — брат Суворова
Ещё в пути Суворов почувствовал недомогание: бил кашель, в груди хрипело, ломило поясницу. Не желая сдаваться, он отвергал советы обеспокоенного доктора, говорил, что это пустяк, через день-другой всё пройдёт. Однако болезнь брала своё, и он вынужден был призвать к себе старшего из генералов, Розенберга.
Суворов сидел в кресле с бледным, осунувшимся лицом, отпивал из кружки целебный отвар. В его глазах был лихорадочный блеск.
— Принимай, Андрей Григорьевич, командование, — сказал он простуженным голосом. — Мне более невмочь. Одолела болезнь проклятая. Видно, укатали сивку крутые горки.
— Ну что вы, ваша светлость! Отлежитесь, и всё пройдёт. А об войске не извольте беспокоиться. Дойдём до места в строгом порядке.
— Обязательно должны, — не согласился, а потребовал Суворов. — Я залёживаться не намерен, полегчает, и догоню. Донесите императору о своём вступлении в командование. Обо мне отпишите, что прихворнул, но ненадолго.
— Всё сделаю именно так.
Больного несколько приободрил полученный в дороге императорский рескрипт. Его доставил генерал Толубеев со строгим приказом непременно вручить в руки самого Суворова.
«Неужто в чём не угодил государю?» — промелькнуло опасение, когда, сдерживая волнение, он распечатывал пакет.
«Генералиссимусу, князю Италийскому, графу Суворову-Рымникскому», — прочитал фельдмаршал.
«Генералиссимусу»?.. Он, Суворов, генералиссимус? И ещё князь? Поглядел на Толубеева, тот расплылся в улыбке и своим видом отторг сомнения.
— Точно так, ваша светлость. Государь превелико доволен делами вашими и приказал о том вам передать.
— Спасибо, — сдавленным голосом произнёс Александр Васильевич и продолжил чтение:
«Князь Александр Васильевич! Побеждая повсюду и во всю жизнь Вашу врагов Отечества, недоставало ещё Вам одного рода славы — преодолеть и самую природу! Но Вы и над нею одержали ныне верх. Поразив ещё раз злодеев веры, попрали вместе с ними козни сообщников их, злобою и завистию против Вас вооружённых. Ныне награждаю Вас по мере признательности моей и, ставя на высший степень чести, геройству представленный, уверен, что возвожу на оный знаменитейшего полководца сего и других веков.
Пребываю Вам благосклонный Павел.
Гатчина, октябрь 25, 1799 г.».
Неужели это писал Павел? Тот самый, которого он, Суворов, считал жестоким самодуром, незаслуженно возведённым на высокий российский престол? Конечно, вряд ли его можно сравнить с незабвенной Екатериной-матушкой, мудро царствовавшей более трети века. Та была не чета сыну: умна, прозорлива, тонка в делах. Умела обласкать и не обидно пожурить. При ней немало присовокупили к России земель: Кубань, Крым, Валахию, Молдавию. Ему, Суворову, ведомо, какой ценой это досталось, потому что сам к делам был причастен. А какие генералы выросли при матушке! Где они теперь? Изгнаны из армии, прозябают в своих поместьях, доживают век. Павел отверг их, они стали ему непригодны. А вот его новый император возвысил так, как никого другого. Он, Суворов, теперь в чине генерала всех российских генералов!..
От этой мысли даже под сердцем заломило. Теперь натянутым отношениям, какие были меж ним и государем, пришёл конец. Слава богу!
А через несколько дней он получил письмо из Лондона, от адмирала Нельсона.
Адмирал Нельсон допоздна сидел в каюте за столом, старательно выводя на бумаге неровные строчки. Писал он левой рукой, поставив тяжёлый шандал[18] на край листа. Перо скрипело, брызгало чернилами, и, чтобы избежать пачкотни, он то и дело посыпал бумагу песком и тут же стряхивал его на пол. Он торопился, чтобы закончить письма до рассвета: утром в Англию уплывало почтовое судно.
В ночной тишине слышался раскатистый гул волн осеннего Средиземного моря. Мощные удары сотрясали корпус корабля, пенистые гребни взлетали до самых иллюминаторов, омывая стёкла. Где-то натужно скрипело.
Свет свечей шандала падал на худощавое лицо адмирала, на его удивительно схожий портрет в изящной рамке, лежавший на столе. Опытный художник сумел передать не только внешнее сходство, но и характер человека: открытый лоб, нос с лёгкой горбинкой, чувственные губы с характерными складками в уголках, какие бывают у людей с сильной волей и решительных. Голова повёрнута слегка вправо, скрыв глаз.
Этот глаз сейчас был прикрыт чёрной повязкой. И правый рукав белой рубахи пришпилен у плеча булавкой, а конец его заправлен под ремень форменных адмиральских шаровар.
Адмирал Нельсон командовал английской эскадрой и за последние годы не раз добивался успехов в морских сражениях против французского и испанского флотов. Он снискал славу первоклассного моряка. О нём даже слагали стихи и песни. «Не было в мире подобного ему флотоводца», — утверждали журналисты в газетах. Моряки его боготворили. Плавать под его флагом считалось не только удачей, но и счастьем.
Человек отменной храбрости и большого опыта, Нельсон выходил победителем в, казалось бы, самой безысходной обстановке. Свою жизнь с морем он, сын священника, связал с детства. Двенадцатилетним подростком ступил на палубу судна, которым командовал родной дядя. В пятнадцать лет участвовал в большой экспедиции у берегов Америки, выискивал северный морской путь из Атлантического океана в Тихий. В девятнадцать в чине лейтенанта был командиром брига, а потом и более крупного судна — фрегата, обнаружив качества умелого моряка. В сражении у Корсики он потерял правый глаз, у острова Тенериф — правую руку. В августе 1798 года, командуя эскадрой, Нельсон совершенно разгромил французскую эскадру и при этом получил ранение в голову.
Часы мерно отбили двенадцать раз, им отозвался корабельный колокол, отзвонив положенные склянки, донеслась команда вахтенного офицера.
Закончив писать, адмирал вывел адреса. Одно письмо направлялось в Адмиралтейство, второе — в местечко Барнем-Торп, где был приход его отца-священника, третье — жене, Фанни, терпеливо ожидавшей от него вестей, а ещё больше его самого, бывавшего дома гостем. Прежде чем запечатать последнее, четвёртое письмо, он не спеша перечитал его:
«…В Европе нет человека, который любил бы Вас, как я. Все восхищаются Вашими великими и блистательными подвигами. Это делает и Нельсон. Но он Вас любит за Ваше презрение к богатству… Я знаю, что мои заслуги не могут равняться с Вашими… Нынешний день сделал меня самым гордым человеком в Европе. Некто, видевший Вас в продолжение нескольких лет, сказал мне, что нет двух людей, которые бы наружностию своею и манерами так походили друг на друга, как мы. Мы непременно друг другу родня, и я Вас убедительно прошу никогда не лишать меня дорогого наименования любящего Вас брата и искреннего друга…»
В сложенный лист письма Нельсон поместил свой портрет, написав на нём: «Генералиссимусу Суворову от любящего брата».
Совсем недавно адмирал узнал о возведении российского полководца в высочайшее звание и не мог отказать себе в удовольствии поздравить полководца, а заодно, назвавшись братом, приобщить свои успехи к его победам.
Растопив сургуч, он опечатал конверты кольцом-печаткой, оставив инициалы Г и Н: Горацио Нельсон.
— Передайте письма почтальону, — сказал он вошедшему матросу и снял со спинки стула сюртук.
— Разрешите помочь, — шагнул к нему вестовой.
— Не надо. Я сам.
В назначенный час от адмиральского корабля отчалила шлюпка с мешками писем. По команде мичмана матросы ударили вёслами, направляясь к двухмачтовому бригу. Мешки подняли на борт, и на судне послышались команды, захлопали на ветру прямые паруса. Развернувшись, бриг лёг на курс к далёким родным берегам.
Глядя на удаляющееся судно, адмирал вспомнил о Фанни, пребывавшей в одиночестве в поместье. Его оделили им, когда вручали рыцарский крест ордена Бани. Этой награды он удостоился три года назад за участие в разгроме испанского флота в Атлантике.
Внимание Нельсона привлекли донёсшиеся с палубы голоса.
— Что произошло? — спросил он офицера.
— Ничего важного, — ответил тот. — Какой-то матрос опоздал с письмом.
Адмирал подошёл к поручням. Внизу на палубе в окружении товарищей с удручённым видом стоял молодой матрос, держа в руке конверт.
— Пусть поднимется сюда, — приказал офицеру Нельсон.
Тот не замедлил выполнить приказ.
— Почему опоздали сдать письмо? — спросил адмирал застывшего перед ним моряка.
— Ночью нёс вахту, сэр. А потом заснул… Не успел… — Он заморгал белёсыми ресницами.
Матрос совсем не походил на тех «волков», какие служили по найму на торговых судах флота её величества английской королевы.
— Вам сколько лет?
— Восемнадцать, сэр, — зардевшись, ответил моряк.
— А который год плаваете?
— Четвёртый, сэр.
— Кому письмо? — Адмирал взглядом указал на конверт. — Невесте?
— Никак нет… Домой… матери.
Нельсон перевёл взгляд на море, в сторону уходящего к горизонту брига. Все паруса на нём были распущены, наполнены ветром, и судно стремительно скользило, удаляясь с каждой минутой.
— Подать бригу сигнал возвратиться, — повернулся Нельсон к стоящему за спиной капитану.
— Как?.. — вырвалось у того. — Зачем?
Его вид выражал несогласие: есть ли необходимость возвращать взявший курс корабль из-за оплошности матроса? Это всё равно что остановить в галопе стремительного скакуна.
Однако взгляд адмирала выразил непреклонность.
— Слушаюсь, сэр, — проговорил капитан. — Выполняю.
На мачте взлетели сигнальные флаги. В небо взмыла ракета.
— Сдайте письмо почтальону, — негромко сказал Нельсон матросу.
— Спасибо, сэр. Я очень вам обязан.
Стремительный парусник замедлил бег, описав широкий круг, стал приближаться. Матросы оживились, послышались возгласы. С адмиральского корабля снова спустили лодку с матросами-гребцами, увозившую к бригу письмо матроса.
— Адмиралу слава! — раздалось на палубе. — Слава Нельсону!
Все восторженно глядели на однорукого моряка, готовые подчиниться любому его приказу.
На Средиземное море Нельсон попал после долгого плавания в Вест-Индии. Там, на одном из островов Карибского моря, он встретил Фанни — единственную дочь и наследницу владельца обширной фазенды. Она была ровесницей флотскому офицеру, даже немного старше его, имела сына-юношу. После смерти мужа она потеряла надежду на счастье, но появление улыбчивого капитана оказалось доброй фортуной. Спустя полгода состоялась свадьба, а потом и переезд в Европу, на родину мужа.
В 1793 году Нельсон — капитан линейного корабля. Эскадра проследовала мимо Гибралтара, держа путь к французскому порту Тулон. Город с засевшими в нём сторонниками Бурбонов осадили республиканские войска. Однако все их попытки взять его оказались тщетными. С прибытием на помощь осаждённым английской эскадры надежда на успех почти иссякла.
Тулон. С именем этого города связан восход звезды Наполеона. Тогда в дождливые декабрьские сумерки к палатке командующего республиканскими войсками направился неизвестный артиллерийский офицер.
— Кто такой? — спросил офицер охраны, вглядываясь в лицо пришельца с наброшенным на плечи плащом.
— Капитан Бонапарт. Хочу видеть командующего. Есть важный разговор.
Генерал Карто, в недалёком прошлом лихой драгун, выслушал капитана с недоверием. Тот обещал овладеть городом в течение недели.
— План ваш приму, но если не получится, пойдёте под трибунал. Там разговор короток.
Трое суток республиканская артиллерия бомбардировала город, разрушая укрепления и сея среди защитников смерть. А на четвёртый день был предпринят решительный штурм. И город пал.
Потом рассказывали, что Бонапарт вошёл в палатку Карто капитаном, а вышел из неё бригадным генералом.
В каждом сражении Нельсон демонстрировал начальству незаурядные качества морского воина. 14 февраля 1797 года произошёл бой у мыса Сан-Висенти вблизи Португалии.
Английская эскадра преследовала превосходящую по силе часть испанского флота, состоящего в союзе с французами. «Кептен», которым командовал Нельсон, шёл в кильватерной колонне эскадры. Обладая большей скоростью, чем испанские суда, английская эскадра намеревалась разгромить их орудийным огнём.
Оценив обстановку, Нельсон понял, что вряд ли можно добиться решительной победы при таком способе действий. Вопреки принятому решению главного адмирала он вывел свой корабль из строя и, маневрируя, обогнал головной испанский корабль, где находился командующий. Произведя орудийный залп, он пошёл на абордаж. Неожиданный манёвр внёс сумятицу в операции неприятельской эскадры.
Нельсон возглавил штурмующий отряд моряков, пленил испанского адмирала, а затем с захваченного корабля предпринял абордаж и второго парусника. Такое не предусматривалось никакими морскими уставами и правилами, Нельсон применил его впервые. Это действие впоследствии назвали «мостиком Нельсона».
За это сражение он удостоился рыцарского креста ордена Бани.
Потом ему доверили небольшую группу кораблей и приказали искать суда Наполеона, на которых, как стало известно, французский властелин намеревался высадиться в одном из портов Средиземного моря, чтобы идти на Индию. И Нельсон в поисках французских судов рыскал по волнам огромного моря, чтобы найти врага и не позволить ему осуществить задуманное.
Но и Наполеон прознал о поисках Нельсона и делал всё возможное, чтобы провести операцию внезапно и скрытно. Уйдя от английской эскадры, французский экспедиционный корпус высадился под Александрией и начал победное шествие. Тогда-то Нельсон и обнаружил в бухте Абу-Кире французские суда.
Дело было к вечеру, но адмирал не стал дожидаться утра и приказал начать бой с вечера, чтобы уничтожить неприятельские корабли в ночном сражении. Диспозиция была расписана ещё раньше, и капитаны знали, что делать каждому.
Нельсон с самого начала боя находился на капитанском мостике, наблюдая за происходящим. Вмешаться в дело и повлиять на него он не мог. Пальба пушек и разрывы ядер слились в сплошной гул. И всё поглотила ночная тьма.
Вскоре два французских корабля, получив серьёзные повреждения, загорелись.
— Браво! — коротко сказал Нельсон.
И тут же на мостик, где он стоял, упало пушечное ядро с французского судна. Оно взорвалось, и осколок, угодив адмиралу в голову, сбил его с ног. Кровь залила лицо. Сорванный с головы и лба лоскут кожи залепил глаз.
— Я убит, — прошептал адмирал, теряя сознание. — Сообщите жене…
— Скорей доктора! — скомандовал капитан корабля.
Два дюжих матроса подхватили Нельсона, снесли его вниз, и тут же захлопотал доктор.
— Ничего страшного, — успокоил он. — Сотрясение… Пусть отлежится.
К счастью, осколок задел голову касательно, кости уцелели. Через короткое время раненый пришёл в себя.
— Как сражение? Где капитан корабля?
Тот доложил:
— Французский флагман горит. Победа близка.
Нельсон с забинтованной головой снова появился на мостике. Увидев его, матросы воспрянули:
— Адмирал с нами! Браво непобедимому Нельсону!
Орудия загрохотали с новой силой.
Сражение продолжалось всю ночь, упорное, ожесточённое, с тяжким громом орудий, полыханием пожаров на обречённых кораблях, с сотнями смертей в огне и морских волнах.
Потери французов составили более шести тысяч человек, англичан — тысячи. Состоявшая из тринадцати сильно вооружённых кораблей французская эскадра была разгромлена. Высадившиеся в Египте войска оказались под угрозой неминуемого поражения. Осознавая это и оставив в Египте армию, Бонапарт с ближайшими помощниками тайком покинул берега Африки и на двух судах направился назад, во Францию. Целых полтора месяца добирался морем будущий император, скрываясь от кораблей Нельсона, рыскавших по Средиземному морю.
Памятное письмо Нельсона Суворову вручили 1 января. Он с утра чувствовал недомогание, велел растопить камин.
— Микстуру надобно принять, — осторожно предложил доктор.
— Пустое, само отойдёт.
— Примите, ваша светлость. Незачем терзать натуру.
— Не уговаривай! Я сам знаю, что надобно.
Вошёл Толубеев с пакетом в руке.
— Вам, ваша светлость, письмо. Из Англии. Пишет адмирал Нельсон.
— Нельсон?
— Так точно, Нельсон. С поздравлением-с.
В эти дни с поздравлениями по случаю Нового года и возведения Суворова в чин генералиссимуса писем приходило множество. Из Петербурга, Москвы, дальних российских городов и из заграницы. Писали знакомые, сослуживцы, желали здоровья, успехов, новых деяний во славу государя и отечества.
С преувеличенно торжественным видом Толубеев подал пакет.
— А почему распечатан? — нахмурил брови Александр Васильевич. — Кто изволил сие сделать?
— Извините, ваша светлость, — шаркнул ногой генерал. — Я полагал, чтобы не обременять…
— Вдругорядь не смей! Сам справлюсь.
О Нельсоне Александр Васильевич слышал много. В Петербурге о нём рассказывали разное: и о его победах в морских сражениях, и о необыкновенной судьбе, но более всего о любовной связи с красавицей леди Гамильтон, муж которой — английский посланник — пребывал в Италии. Об интимных отношениях говорили с такими пикантными подробностями, будто были их свидетелями.
Суворов извлёк из пакета письмо и портрет и, прежде чем читать бумагу, вгляделся в него. Адмирал был изображён в парадной форме, с эполетами, орденами и медалями, коими удостоился за боевые успехи. На треуголке бриллиантовая кокарда.
Генералиссимус прочитал выведенную внизу подпись. Хмыкнул. Вопросительно поглядел на Толубеева и спросил:
— Каков?
— Английский адмирал-с! — Толубеев ударил шпорами.
— Я и сам вижу, что адмирал.
Суворов развернул письмо и стал неспешно читать.
— Брат Нельсон? — проговорил он, не выпуская бумагу из рук. — Пусть будет так.
Помолчал, раздумывая о чём-то, потом сказал застывшему Толубееву:
— Велите Прошке принести склянку с чернилами и перо.
— Дозвольте мне за вас отписать!
— Я же сказал, генерал, принести чернил! Я сам отпишу.
Обдумывая каждое слово, поскрипывая пером, он неторопливо начал писать по-французски ответ.
Палаццо английского посланника располагалось на обращённом к морю склоне, поросшем пышными олеандрами и мимозами, стройными кипарисами и пальмами, вдоль ухоженных дорожек буйно рос вечнозелёный кустарник. И само здание выглядело внушительно, привлекало своей красотой и архитектурной оригинальностью.
В его залах находились коллекции бесценных сокровищ древнегреческих и живших некогда на италийских землях этрусских племён. Стены украшали шедевры Леонардо да Винчи, Рубенса, Рембрандта.
Владельцем палаццо и сокровищ был сэр Гамильтон, известный не только как дипломат, но и как опытный антикварий и покровитель изящных искусств древности. Его участие в раскопках Помпеи и Геркуланума, погибших под пеплом Везувия, принесли ему сокровища, достойные знаменитых музеев мира.
Своему увлечению он отдал всего себя, разумеется, не в ущерб не столь обременительным служебным делам. Он даже забыл обзавестись семьёй. Лишь на склоне лет он вспомнил об этом и стал мужем красавицы Эммы.
Случилось это так. Живший в Англии племянник сэра Гамильтона Чарльз Гренвиль прислал ему слёзное письмо, в котором сетовал на бедствие и просил помощи. Только он, дорогой и любимый дядюшка Уильям Гамильтон, может его спасти! И тот не выдержал, поспешил на помощь.
В доме тридцатипятилетнего племянника-холостяка его внимание привлекла одна картина, точнее, женский портрет. Тонкий знаток, он сразу оценил достоинство произведения. Художник передал в красках не только глубину образа, но и красоту и одухотворённость той, с которой писал картину.
— Кто это? — спросил он племянника.
Смутившись, Чарльз начал не очень внятно объяснять, и дядюшка понял, что молодая особа его любовница.
— Непременно познакомь. В ней есть что-то необыкновенное.
— За этим дело не станет.
Вскоре сэр Гамильтон увидел её. Он не ошибся в своём предположении. С первой же встречи она покорила его разговором, манерами, не говоря уже о красоте. Оригинал превосходил висевшие на стенах свои копии.
Несмотря на молодые годы, Эмма прошла уже через многие испытания. Дочь деревенского кузнеца в двенадцать лет отдали в господский дом, где она горничной познала горечь и унижение. Опозоренная, она стала переходить из рук в руки, соблазняя хозяев прелестями. Один, некий доктор Греген, даже нередко представлял её друзьям почти обнажённой, сравнивая с богиней красоты. На одном таком представлении юную Эмму увидел Чарльз Гренвиль. Склонив обещаниями жениться, он увёл её. Красотой Эммы был покорен и сэр Гамильтон.
— Дядюшка, вы влюблены, — заявил ему Чарльз. — Если поможете мне выпутаться из долгов, я уступлю её вам.
Гренвиль предложил ей отправиться с матерью в Италию, погостить у дяди, обещав приехать туда позже. Он не приехал: позже состоялась его свадьба с богатой невестой. Эмма же в Неаполе стала женой посланника — леди Гамильтон.
Там же произошла и её встреча с английским флотоводцем.
После одержанных побед имя Нельсона было у всех на устах. Его осыпала наградами и почестями не только Англия, но и многие государства Европы. Прислал драгоценный ларец и Павел Первый. Совсем недавно эскадра под командованием Нельсона разгромила близ устья Нила французскую эскадру. Победа была полнейшей.
После того английские корабли появились у Неаполя, на главном — сам контр-адмирал Нельсон. Толпы восторженных итальянцев приветствовали победителя, и первым был английский посланник сэр Гамильтон.
— Моё палаццо в вашем распоряжении, — заявил он.
Адмирал не посмел отказать. А вскоре в этом же дворце он отметил своё сорокалетие, на которое были приглашены тысяча восемьсот гостей.
После ранения в последнем сражении Нельсон мучился головными болями, не просто было и управляться за столом с одной рукой. Хозяйка дворца во всём помогала ему, окружила вниманием.
Леди Гамильтон в ту пору была великолепна. «Она красива, умна, полна огня, хорошо сложена, её лицо прекрасно», — так отзывались о ней. Увидев её, Гёте записал: «Леди очень хороша собой». В то время ей исполнилось тридцать три года, её мужу вдвое больше. Она не могла не вызвать чувство у гостя.
С балкона палаццо открывался широкий обзор моря, и Нельсон, стоя у балюстрады, вглядывался в туманную даль, выискивая прибывший на рассвете с почтой бриг. По его расчётам, он должен был доставить ответ от Суворова.
Придёт ли? Удостоит ли старый полководец его вниманием? Признает ли его своим братом по военным победам? Русский полководец необозримо велик, его талант признан всем миром! Даже в последнем наитруднейшем деле, переходе через Альпы, он сумел проявить полководческое достоинство, преодолеть величайшие трудности и избежать, казалось бы, неминуемого поражения.
Предавшись мыслям, Нельсон не заметил, как неслышным шагом приблизилась Эмма.
— Это ты!
Женщина поправила наброшенное на его плечи пальто, коснулась губами его щеки.
— У меня новость. Не догадываешься? Кажется, у нас будет маленький Нельсон.
А вскоре ему доставили долгожданное письмо от русского генералиссимуса.
«Мой дорогой барон и брат! — писал Суворов. — Ежели чья память мне дорога, так это память только славного адмирала, как Вы. Глядя на портрет Ваш, уверился я и впрямь в некотором меж нами сходстве. Можно, следовательно, сказать, что великие умы сходятся и что наши мысли совпали. Я от того вдвойне счастлив, а ещё пуще от того, что и характером с Вами сходен. Нет награды, которой Вы, любезный адмирал, не были бы достойны, за свои блестящие заслуги и которой Вам бы не желал живейшим образом Ваш брат и друг. Дорожа сохранением этого звания, равно как и Вашей искренней дружбою, прошу Вас не отказать и впредь сообщать мне о себе и верить, что я питаю к Вам те же чувства, что и Вы ко мне, и остаюсь навсегда Вашим любящим братом и сердечным другом. Побед, славы, процветания Вам в новом году!
Князь Александр Италийский, граф Суворов-Рымникский».
Возбуждённый посланием, Нельсон признался Эмме:
— Это письмо, мой друг, выше всех наград и почестей. Оно до смерти всегда будет со мной.
Погиб же он через пять лет в большом Трафальгарском морском сражении, где под его командованием английская эскадра разгромила корабли франко-испанского флота. Флагманский корабль «Виктория» первым вломился в строй неприятельских судов. Нельсон стоял на мостике, наблюдая за ужаснейшим побоищем. Орудия били почти в упор, сокрушая настройки[19] и уничтожая матросов и офицеров. Палуба устилалась убитыми и ранеными.
Вдруг адмирал схватился рукой за плечо.
— Наконец меня доконали, — произнёс он и упал у ног капитана.
Французская пуля разворотила лёгкое, позвоночник.
Но даже в каюте, истекая кровью, Нельсон продолжал руководить сражением.
— Сколько захвачено судов? — спросил он капитана.
— Восемнадцать, милорд.
— Я рассчитывал на двадцать…
И ещё он вспомнил об Эмме и дочери, названной его именем, Горацией.
Эмма Гамильтон скончалась спустя десять лет в крайней нищете.
Кончина великого полководца
Несмотря на старания лекаря, болезнь не отступала. Словно бы предчувствуя худшее, Суворов пожелал ехать в Краков, поближе к дому.
— А ты, князь, поезжай к войскам, служба ждёт, — сказал он Багратиону.
— Завтра же отправлюсь.
Засуетился и Толубеев. Генералиссимус не удерживал его:
— Да-да, генерал, тебе давно уже следовало быть в столице. Ты там более надобен императору, чем здесь. Поезжай с Богом.
При Суворове остались казачий генерал Денисов и лекарь.
Надеялись, что в Кракове он отлежится, поправится, но там ему стало ещё хуже.
— Везите в Кобрин, — потребовал он, надеясь заодно поглядеть на своё имение, в котором бывал редким гостем.
— Надобно исполнить волю больного, — решил Денисов. — Дома стены помогают.
Это был третий приезд Суворова в своё дарованное ему имение. Жить там подолгу не позволяли дела, да и удалено оно от столицы. Не то что Кончанское на Новгородчине, которое было близким и родным.
Меж тем генерал Толубеев подкатывал к Петербургу. На последней почтовой станции его уже ждал офицер с каретой.
— Генерал-губернатор столицы граф Палён просил, прежде чем ехать к императору, непременно прибыть к нему. К тому же государь в столице отсутствует.
Палён был сама любезность. Усадив гостя, предложил отужинать и стал обстоятельно расспрашивать о Суворове.
— Это мне крайне важно, ведь на меня возложено торжество встречи генералиссимуса в столице. Рассказывайте, генерал, не только о его доблести, но и о просчётах, нарушениях. Я должен о них знать, чтобы вовремя защитить человека от недоброжелателей.
Когда он услышал о дежурстве генералов при Суворове, то насторожился.
— Так это же противу устава! — воскликнул он.
— Совершенно верно, но для пользы дела…
— Для пользы — это ещё надобно доказать, а факт нарушения наличествует. О нём непременно следует доложить государю. Ежели сокроете вы, доложат, на вашу беду, другие. Так что обязательно скажите.
На следующий день Павел принял Толубеева.
— Рассказывай, генерал, что наблюдал у Суворова.
Стараясь подавить волнение, тот начал говорить, как добирался до армии, как вручил полководцу рескрипт о возведении его в самый высокий в российской армии чин и как он, получив документ, едва не расплакался.
Толубеев говорил, а слова Палена не выходили из головы. Как сказать о дежурстве генералов? Скажешь — да невпопад! Получится как в поговорке: «Начал во здравие, а кончил за упокой». Но Павел помог ему:
— Не узрел ли какие с его стороны нарушения? — Заметив, что генерал замялся, потребовал: — Я приказываю говорить, ничего не скрывая.
— Ваше величество, его светлость генералиссимус…
— Какая светлость? Он князь, однако без права именоваться светлостью. Вот Лопухин — тот наделён княжеским титулом с правом именоваться светлостью. Суворов же этой чести не удостоен. Не светлость он.
— Виноват-с… Виноват-с… — Ноги у генерала едва не дрожали.
— Что же он себе позволил?
— Он содержал при себе вопреки вашего приказа дежурного генерала.
— Кто же исполнял сию должность?
— Генерал Милорадович, а потом генерал Денисов.
— Это какой же? Из казачьего войска?
— Так точно, ваше величество, он самый.
— Непозволительное самочинство… Безобразие. Какие ещё допущены нарушения? Докладывай!
— Отмечены также отступления от устава во время сражений. Наступление порой велось не предусмотренными колоннами, а неведомым в армии рассыпным строем. Каждый действовал не по команде, а как Бог на душу положит… Ещё были допущены нарушения формы, ваше величество. С ведома главнокомандующего штиблеты повыбрасывали, обули солдат в сапоги…
А вечером на приёме у императора был Палён. Всегда громкий, добродушный, уверенный, сыпавший прибаутками, он держал себя сдержанно и официально.
— Что случилось, генерал? Вы чем озабочены? — спросил Павел.
— Вы правы, ваше величество. Я не только озабочен, я боюсь.
Губернатор был ещё и артист.
— Вы боитесь? Чего?
— Сумею ли оправдать ваше доверие в дни пребывания Суворова в столице?
Палён начал тонко задуманную игру.
— Вы, граф, боитесь встречи Суворова? С чего бы это? — повёл бровью Павел.
— Уж очень велика особа и велики почести, ежели ваше величество будет встречать Суворова.
— Конечно, велика. Но ведь он победоносец, князь Италийский, генералиссимус.
— И ему, ваше величество, при вас гвардия станет отдавать честь?
— Конечно. Так мной определено. А что дурного вы в том усматриваете?
— Ваше величество, не опасна ли такая почесть смертному?
— Почему? — насторожился Павел. И, увидев, как генерал смутился, в нерешительности переступил ногами, строго потребовал: — Говорите, генерал, без утайки! В чём сомнения?
— Так ведь, ваше величество, Суворов велик, армии люб, и кто знает, что он может скомандовать ей, куда поведёт? Он старик с капризом. Может возомнить о себе всякое.
Павел вскинул голову, будто оценивая сказанное генерал-губернатором.
— Идите, генерал, — не отвергая его слов, Павел махнул рукой.
Палён вышел с сознанием, что брошенное зерно сомнения упало на благодатную почву.
Утром, брея Павла, Кутайсов с видом безразличия проронил:
— Наш-то генералиссимус оженить сына надумал. Аркадия.
— Не рано ли? — заметил Павел. — Он ещё совсем мальчик, всего шестнадцать.
— Так-то оно так, но чином вышел в генералы, более того, в генерал-адъютанты.
Павел промолчал. Кутайсов старательно скрёб бритвой, как бы не давая возможность ответа.
— Кто ж невеста? — спросил высокий клиент, когда брадобрей отвёл бритву.
— Не нашенская. Из родни Бирона, герцогиня Саганская.
— Это та, что в Силезии?
— Она самая. Немецких кровей.
— От кого о том узнал?
— От Петра Алексеевича Палена. Он ещё сказывал, что, когда генералиссимус был в Праге, там состоялась помолвка.
— Что ж он, не мог найти невесту в России?
— Вот и граф Палён тоже говорит подобное. Сам немец, а не высказал одобрения.
— Когда он имел с тобой разговор?
— Вчера, ваше величество.
Вскоре после разговора с Кутайсовым Павел приказал отменить торжественную встречу генералиссимуса. А когда больного Суворова привезли в столицу на частную квартиру, неожиданно появился дворцовый посланец.
— С чем, братец, пожаловал? — спросил с постели Александр Васильевич в полной уверенности, что его к императору.
Щёлкнув каблуками и отдав честь, тот официально произнёс:
— Генералиссимусу князю Суворову не приказано являться к государю.
Эти слова оглушили Суворова. Побледнев, он упал на подушки и едва слышно промолвил:
— За что?
С этого дня он стал таять, словно свеча.
12 мая император, по обыкновению, выехал на прогулку. Вместе с ним ехали граф Кутайсов и несколько сопровождавших верховых лейб-казаков.
От Зимнего карета покатила прямо к строящемуся Михайловскому дворцу. Объехав стройку, экипаж последовал далее. Копыта звонко стучали по брусчатке мостовой, сильные лошади, казалось, рвались из упряжи, чтобы нестись вскачь, и форейтор с трудом сдерживал их, переводя на размеренную рысь.
Карета уже подъезжала к Садовой улице, когда из неё показался катафалк с гробом и многочисленная толпа. Люди шли и у катафалка, и за ним, и справа, и слева. Их было много, и в большинстве военные, значительная часть их в парадной форме. Сверкали эполеты, ордена, медали.
Императорский кортеж остановился посреди Невского, пропуская неожиданную процессию, преградившую путь.
Мимо с опечаленными лицами двигались люди. Не было слышно голосов. Цокали по камням мостовой копыта лошадей, вёзших катафалк с гробом, мерно отбивали шаг следовавшие в строю солдаты с ружьями на плечах, над широким проспектом плыл приглушённый скорбью гул людского потока.
Завидев процессию, прохожие на проспекте образовали у тротуара живую цепь, горожане тянулись, чтобы рассмотреть лежавшего в гробу, испуганно спрашивали, кого хоронят.
Прискакал от катафалка полковник.
— Ну что? Кого везут? — выглянул из оконца кареты Кутайсов.
Приняв стойку в седле и взяв под козырёк, полковник медленно, громко и с нескрываемой печалью в голосе произнёс:
— Хоронят великого полководца, российского генералиссимуса Суворова Александра Васильевича. Следуют в Невскую лавру.
— Как? Суворов умер?! — хрипло воскликнул Павел, отодвигаясь в угол кареты.
Терпеливо выждав, когда проспект освободится, он приказал возвращаться во дворец. Всю дорогу что-то неслышно шептал, не проронив ни слова. Затаился и Кутайсов, не смея потревожить государя.
Часть третья ПЕРЕД БОЛЬШОЙ ВОЙНОЙ
Сговор у престола
родовом поместье Каменка жизнь казалась Николаю Раевскому серой в своём будничном течении. Таяли силы энергичной в прошлом Екатерины Николаевны, доживал последние дни отчим. Памятными оставались лишь наезды Дениса Давыдова с друзьями из гусарского полка. Они сообщали о далёких и больших событиях в России и Петербурге, говорили, что царству Павла скоро придёт конец, не сегодня завтра народ избавится от тирана.
Павлу сообщили, что заговорщики — из числа его приближённых, что главная угроза исходит от них. Нити заговора и в самом деле находились в руках вице-канцлера Панина, петербургского генерал-губернатора Палена, братьев Зубовых да ещё Дерибаса.
Павел разделался прежде всего с Паниным: отрешил его от всех дел и выслал из столицы в дальнее имение. Затем пожелал принять Дерибаса, выслушал его доклад о состоянии российского флота. Дерибас уверенно высказал соображения по улучшению дел, чётко ответил на вопросы.
Весьма довольный император обольстил его обещаниями. Тот со свойственной ему пылкостью заверил государя, что не пожалеет живота своего на благо отечества.
Палён, выслушав от Дерибаса рассказ о встрече с Павлом, почувствовал недоброе.
— Не нравится мне, Осип, твой восторг. Мы дали клятву довести до конца задуманное дело…
Через несколько дней Дерибас тяжело заболел, а 2 декабря 1800 года скончался.
В руководстве заговора остался Пален.
Однажды в приёмной императора Палену передали секретную записку от царевича Александра. Вдруг появился Павел. Заметив, как генерал-губернатор прятал записку в карман, он потащил его в кабинет и запустил было руку в карман генерала:
— Что там у вас? Хочу посмотреть.
Пален опешил: содержание записки выдавало заговорщиков с головой. Всё! Провал!.. Но хитрый придворный не растерялся.
— Что вы делаете, ваше величество? — отступил он, придавая голосу шутливость. — Оставьте это! Вы испачкаете руки о табак! Вы ведь знаете, какой я любитель этого зелья!
Павел брезгливо выдернул руку, понюхал её.
— Фу, какая гадость!
Нависшая угроза заставила Павла спешно перебраться в только что отстроенный Михайловский дворец. Он надеялся отсидеться в нём, переждать смутное время. Дворец — как крепость. Он обнесён глубоким, заполненным водой рвом. Через ров перекинуты пять подъёмных мостов, которые на ночь убираются. В самом дворце на специальных площадках установлено двадцать пушек. Внутри здания потайные лестницы, подземные ходы, казармы для гарнизона на случай осады.
За три дня до намеченного заговорщиками срока низвержения Павла он спросил Палена:
— Знаете ли вы, что против меня готовится заговор?
— Да, государь, знаю. Более того, я сам принадлежу к нему, — ответил хитрый генерал-губернатор.
— Вы — заговорщик? Что вы говорите? — уставился на него Павел.
— Да, государь, я должен делать вид, что принадлежу к заговорщикам, иначе выведать замышляемое дело вряд ли б удалось. Но будьте спокойны, государь, нити заговора в моих руках. Вы очень скоро узнаете всё.
И Палён стал убеждать Павла, что слухи и опасность преувеличены, что пока он, Палён, отвечает за порядок в столичном гарнизоне, императору нечего бояться.
— Ну что ж, пусть будет так. Но только, генерал, не надо дремать.
— Как можно, ваше величество!..
Отличающийся не только умом и решительностью, но и вероломством, Палён сумел внушить царю подозрение относительно заступившего в ту ночь конного полка.
— Неужели они заговорщики? Так уберите же их немедленно, сейчас, совсем из замка!
Победы русских войск в Италии вселили в английского короля надежду на успешное наступление в Голландии. Нужно было лишь высадить туда английские и русские войска, а также, возможно, ещё и шведские силы.
Несомненно, они одолеют семнадцатитысячный французский корпус генерала Брюна. Английское военное ведомство уже подготовило необходимые расчёты, разработало план действия. Английская эскадра прибудет в Ревель, возьмёт на корабли русские войска и доставит их в нужное место в Голландии, откуда они поведут широкое наступление против французов.
Россия должна принять участие в этой акции, поскольку она входит в состав союза, направленного против Наполеона. Это предусмотрено существующим договором, и отказ означал бы нарушение договорных условий. К тому же численность русского экспедиционного корпуса не столь уж велика: всего семнадцать с половиной тысяч! Столько же, сколько и английского.
Ответ не пришлось долго ждать. Уже на следующий день посла Витворта известили о приёме императором.
Не без волнения вошёл он в кабинет. Церемонно отвесил низкий поклон, всем видом показывая величайшее уважение к его величеству. Он слишком хорошо знал Павла, чтобы поступить иначе.
— Перейдём к делу, лорд, — начал Павел, сверля его взглядом. — Я со вниманием прочитал письмо короля и восхищен решительностью плана. Союзнический долг обязывает отнестись к предложению с предельной ответственностью. Полагаю, вам известна та цена, которую платит Россия за направленные в Италию и Швейцарию войска. Сии экспедиции весьма дороги. Но я, в силу данной мне Богом власти, распоряжусь направить в Нидерланды войска. О том я уже дал указание военному ведомству, и оно будет исполнено в точности, как просит ваш король. Через неделю военное соглашение будет составлено, и вы должны принять в том участие, чтобы избежать недоразумений.
Словно не замечая Витворта, Павел продолжал говорить, изрекая свои соображения относительно предстоящего похода. В начале сентября русский десантный корпус искомой численности непременно сосредоточится в порту на Балтике в полной готовности, и он, российский император, уверен, что его воины побьют неприятеля, как громят его в Италии.
Лорд молча стоял, не смея прервать Павла и думая о том, чтобы скорее покинуть кабинет, пока достигнуто благополучие. А когда вышел, измочаленный и довольный, поспешил к себе, чтобы сообщить о произошедшем в Лондон.
Когда решалось, кого из генералов послать, Витворт подал Кутайсову мысль, что было бы желательно направить в балтийский порт генерал-лейтенанта Жеребцова.
— Алексей Григорьевич военачальник от Бога. Английский главнокомандующий герцог Йоркский остался бы весьма доволен его назначением.
11 июня в кабинете Павла была подписана англо-русская конвенция. За содержание российских войск английский король обязан был с началом кампании уплатить 88 тысяч фунтов стерлингов, а затем каждый месяц выплачивать русской казне 44 тысячи, как бы долго война ни продолжалась.
Командующим российскими войсками назначили генерала Германа, командиром одной из дивизий утвердили генерал-лейтенанта Жеребцова.
Условия соглашения Павел считал удачными и не мог скрыть это. Неожиданно он спросил Витворта:
— А что, посол, являетесь ли вы пэром?
— Никак нет, император, этой чести я не удостоен.
— Тогда я сделаю вам приятное. Я сегодня же напишу вашему королю просьбу о присуждении вам этого титула. Надеюсь, он не посмеет отказать мне в этой просьбе.
Витворт, приложив руку к груди, картинно поклонился. Он никак не ожидал такой чести от жестокого императора. Ему даже показалось, что он ошибался, нелестно отзываясь о российском государе.
— Благодарю вас, ваше величество. Я весьма тронут вашим высоким вниманием.
Вскоре войска десантного корпуса — так его именовали в документах — походом направились к Ревелю. Повёл туда дивизию и генерал Жеребцов.
Преодолев ревущую Балтику, корабли с российскими полками высадились у небольшого голландского селения.
В сражение гренадеры и егеря вступили ранним утром.
Сломив сопротивление неприятеля, полк генерала Жеребцова двинулся к недалёкому городку с видневшейся высокой колокольней. Колонны только спустились в широкую лощину, как на них справа и слева обрушились лавы всадников. Французы неслись, угрожающе размахивая саблями. Командир Вязников лишь успел скомандовать: «К пальбе готовьсь!» — и началось.
Палили из ружей почти в лошадиные морды, штыками и прикладами отражали удары сабель, иные храбрецы хватали коней под уздцы, бросались на всадников и стаскивали их с седел.
— За царя-батюшку! За отечество! Круши их, братцы! Осиливай! Бей!
Крики, стоны, ржание разгорячённых лошадей, выстрелы, лязг металла — всё слилось воедино. В гуще схватки оказался генерал Жеребцов.
— Наша берёт, братцы! Сдюжим! — кричал он, носясь верхом.
С его головы слетела шляпа-треуголка, и он, с распалённым лицом, седовласый, напоминал воинственного бога Марса.
— Вперёд, детушки! Ещё одно усилие!
Повинуясь призыву генерала, солдаты дрались не щадя себя, не ведая страха. Французские конники отступили.
Сбившись в колонны, гренадерские роты грозно двинулись к городу, и, казалось, ничто не смогло их сдержать в неукротимом порыве. В городке колонны рассыпались, и солдаты бежали по широкой, выложенной брусчаткой улице, не замечая жужжащих пчёлами пуль. Справа и слева, впереди и сзади тоже были гренадеры. Они тоже что-то кричали, громкое, бессвязное, подавляя криками затаившийся в глубине каждого страх.
Выбежав на площадь, атакующие увидели перед собой плотную людскую стену в голубовато-серой форме и поблескивающие штыки ружей, которые были нацелены на них.
— А-а-а-а! — раздалось оглушающее.
Атакующие бросились на эту стену.
— Бей, братцы! Круши!
Гренадеры и егеря бежали за убегающими французами, миновали окраину города. И тут послышалось:
— Генерала-а убило-о!.. Генерала!..
В следующий миг кто-то хрипло прогудел:
— Отходи, братцы! Отходи!
И все поддались этому голосу.
— Не сметь! Остановитесь!
Раскинув руки, на пути бегущих солдат вырос батальонный командир.
— Не сметь отступать! Остановитесь, братцы! Стой! — призывал он.
Но его никто не слышал. Не противясь панике, все бежали мимо него.
Сражение продолжалось весь день и завершилось с наступлением темноты. Французам удалось захватить в плен командующего русским корпусом генерала Германа, а также нескольких офицеров. Значительные потери убитыми, ранеными и пленными понесли полки.
Оставшийся главным в русском экспедиционном корпусе генерал Эссен доносил Павлу о произошедшем сражении:
«Восьмого числа в 4-м часу утра до рассвета атаковали мы неприятеля, выбили оного из трёх ретраншементов [20] , взяли штыками несколько батарей, завладели тремя укреплёнными деревнями и небольшим городом Бергеном… Утомлённые сими усилиями солдаты, ещё не совсем оправившиеся после трудного мореплавания, не могли идти далее… к тому же ещё и по недостатку артиллерии… Из сил выбившееся от усталости войско, имевшее только штыки для своей обороны, стало отступать без порядку. В сей беспорядочной ретираде [21] оставлены были взятые как неприятельские, так и часть своих пушек, у которых лошади были убиты и лафеты повреждены… Вообще потеря наша убитыми, в плен взятыми и ранеными пробирается до 3000 чел.; неприятель потерял более…»
В донесении генерал ещё писал, что оставшиеся полки отведены к морю, где они были посажены на суда и вывезены на английские острова.
Так завершилось печальное для русского войска, малоизвестное сражение, произошедшее 8 сентября 1799 года в Голландии, неподалёку от города Бергена.
Политика что капризная девка с Лиговки: сегодня милуется с одним, а завтра по душе ей другой. Ещё вчера Наполеон был ненавистным врагом России, но вдруг всё круто изменилось. Врагом стала вчерашняя союзница Англия.
Всё началось с письма, которое доставили Павлу в декабре 1799 года. В нём сообщалось, что первый консул французской республики Наполеон Бонапарт пожелал вернуть в Россию русских пленных, захваченных в Швейцарии после разгрома корпуса генерала Римского-Корсакова. Из текста явствовало, что глава республики делает это из чувства уважения к России, русскому императору, считая его великим человеком. Речь шла не об обмене пленными, а о передаче из плена на почётных условиях, вместе с полковыми знамёнами.
Неожиданное предложение, тщательно выверенный до каждого слова и запятой текст выказывали уважение. Оно заставляло Павла задуматься. Ему было невдомёк, что к письму приложил руку дипломат из дипломатов, ловкий Талейран, которому Наполеон повелел добиться перемирия с Россией.
— Бонапарт человек, не лишённый благородства, — прочитав послание, произнёс Павел.
Никто из находящихся в кабинете не посмел не согласиться. Каждый понимал, что письмо есть пробный шар для дальнейших переговоров.
Россия нуждалась в мире, но ещё большую необходимость испытывала в том Франция. Война истощила её, народ устал.
Вскоре поступило письмо и от министра иностранных дел Франции князя Талейрана-Перигора. Он как бы пояснял первое послание, подсластил его уверениями, что победы в Италии над французами одерживали не англичане и не австрийцы, а только русские войска, о которых первый консул весьма высокого мнения.
Наполеон был убеждён, что в случае благоприятного исхода хитрого замысла и выхода России из войны коалиция европейских стран распадётся и противником Франции останется лишь Англия. Она стоит на его пути к полному господству на Европейском континенте. Англию можно победить, если от военных действий отстранить Россию, а ещё лучше, если заключить с ней военный союз. Тогда Англии против Франции не устоять. К тому же для Франции откроется на востоке обширный рынок торговли.
Павлу подсказали, что нелишне было бы послать во Францию генерала, чтобы окончательно решить дело о передаче пленных.
— Конечно, нужно послать, — согласился Павел. — Сколько же наших пленных?
— Шесть тысяч.
— Как же угораздило стольких попасть в плен к французам?
— Война, ваше величество, — сдержанно ответили ему. — А потом Каменский — это не Суворов.
Решено было послать в Париж генерала Спренгпортена. В военных делах он не силён, зато умеет тонко вести переговоры, тактичен, изъясняется по-французски, умён. Перед отъездом Павел долго объяснял ему, как вести переговоры, что говорить и о чём молчать. И обязательно ему нужно встретиться с самим Бонапартом.
Спренгпортен приехал в Париж в середине декабря 1800 года. Пока он находился в пути, французская армия разгромила австрийцев в двухдневном сражении при Гогенлиндене. К Франции перешли Северная Италия и прирейнские владения Австрии.
Письменное извещение о победе и сообщение французов, что шесть тысяч русских пленных одеты за счёт французской казны в новые мундиры по форме их частей, получили новую обувь и вооружены, — всё это совершенно пленило русского императора.
И к генералу Спренгпортену в Париже проявили особое внимание, покорив его предупредительностью и обхождением. Уже на второй день он удостоился чести быть принятым Бонапартом.
Указав гостю на диван, первый консул сел рядом и с присущей ему актёрской любезностью повёл разговор. Справившись о погоде и дороге, он перешёл к более серьёзным делам. При этом больше говорил сам, не выпуская из рук инициативу. Он напомнил, что война нужна только Англии, но никак не ему, Наполеону, и, конечно же, не России; что он жестоко покарал вероломную Австрию, которая предала в делах благородного русского императора: что если Павел пожелает прислать в Париж доверенное лицо, то в течение двадцати четырёх часов между Францией и Россией может быть заключён мир. Всё зависит от русского императора, к которому он, Наполеон, питает больше, чем уважение.
— Ваш государь, мой генерал, и я, мы оба в равной мере призваны изменить лицо Земли. — Наполеон прощупывал Спренгпортена. — Заявляю с полной ответственностью.
Генерал слегка кивнул, как бы соглашаясь, про себя же подумал, что Наполеон, мечтая о единовластии, что-то ещё держит на уме.
— Мы можем вернуть Европе тишину и покой, но лишь после того, как поставим на колени Англию. И с этим нужно спешить, пока мы во власти диктовать условия, — продолжал тот.
Потом неожиданно Наполеон повёл речь о казаках, об их быстроте передвижения, способности действовать в далёком отрыве от главных армейских сил, упомянул имя Платова, назвав его казачьим вождём.
Спренгпортен слушал с непроницаемым лицом, отмечая даровитость собеседника, его глубокие познания военного дела, умение плести политические сети для далёкой и невидимой добычи.
В конце беседы, чтобы окончательно завоевать на свою сторону Павла и рассорить его с англичанами, Наполеон заявил, что готов передать России остров Мальту в Средиземном море, чтобы великий Павел стал великим магистром Ордена мальтийских рыцарей. Правда, остров сейчас после его двухлетней блокады находится в руках англичан, но Мальта неотъемлемая часть Франции и он, Наполеон, готов пойти на жертву во имя будущей дружбы.
При возвращении Спренгпортена всю дорогу мучила мысль, почему Наполеон вёл разговор о казаках, даже обронил, что, мол, если бы у него в армии были казачьи полки, он бы завоевал мир. Назвал и имя казачьего атамана Платова.
«За этим что-то скрывается, неспроста Наполеон упоминал о казаках», — терялся в догадках генерал.
Вёз он из Парижа и личное послание первого консула Франции русскому императору, в котором предлагалось не только заключение мира, но и военный союз двух великих держав. Прочитав его, Павел тут же объявил о желанном союзе с Наполеоном и повелел для переговоров направить своего представителя Колычева.
Вскоре удалось достигнуть полной договорённости. С Францией был заключён договор о дружбе. Англия становилась врагом.
Чтобы окончательно поразить экономическую мощь Англии, Наполеон задумал предпринять поход в Индию, средоточие богатства и могущества метрополии. Планом предусматривалось участие в грандиозном походе войск России и Франции. Начать его должно казачье войско. Во главе с отважным Платовым ему надо пройти через огромные безводные степи и пустыни и через Хиву и Бухару выйти к горам, преодолеть их и обрушиться на сказочно богатую колонию Англии. А в это время полмиллионная армия Франции выйдет вслед за казаками к Волге, спустится на судах к Каспийскому морю и дальше к Астрабаду. От Астрабада до Индии всего три недели ходу.
— За три-четыре месяца владычеству Англии придёт конец, — уверенно заявлял Наполеон.
План пришёлся Павлу по душе. Не дожидаясь окончательного согласования, он решил действовать на свой страх и риск: немедленно послать к далёким и неизведанным горам донских казаков.
В Париже многие были шокированы такой опрометчивостью русского царя. Наполеон рассмеялся:
— В табакерке моего друга Павла мой портрет. Это ли не знак преданности! Он меня очень любит, и я этим пользуюсь. Скор на действия мой друг Павел, очень скор! Это мне и нужно.
Январским утром Павел сказал дежурному генералу:
— Мне нужен Платов.
— Он в заточении, ваше величество, — осторожно заметил тот.
— Мне нужен Платов, — с металлом в голосе повторил император и взглянул так, что генералу оставалось лишь произнести:
— Слушаюсь.
Матвей Иванович Платов — походный атаман в Персидском походе Валериана Зубова — оказался в числе изгнанных из армии военачальников при восшествии на престол нового императора.
Он и сам не мог понять, что послужило тому причиной. То ли, что верно служил Екатерине-государыне, может, то, что не поспешил бросить штаб Зубова, как требовал рескрипт, а возможно, злые наветы соперников удачливого казака. Словом, его не только уволили, но и направили одного, без семьи, на жительство в Кострому, а точнее в ссылку, без права выезда за городскую черту.
Более трёх лет провёл он в ссылке, но последовала царская милость и разрешение на выезд к родному дому. Не теряя времени, он поехал на Дон. Он был уже у Москвы, когда его догнал курьер с приказанием следовать в Петербург.
По приезде в столицу Платова прямиком направили в Петропавловскую крепость и заточили в сырой и холодный Алексеевский равелин. Случилось это 9 октября. С той поры он и прозябал там, не ведая, сколько времени ещё ждать суда.
Как ни оберегал Палён тайну задуманного, однако слухи о заговоре неведомо как растекались по столице. Об этом говорили не только придворные и государевы чиновники, но и простой люд на улицах, базарах, в кабаках.
— Слышь, сосед, новость-то давеча какую узнал, — с таинственным видом переговаривались людишки. — Сказывают, скоро будет новый ампиратор. Один долгогривый толковал: то ли монах, а может, расстрига. Но грамотей!
— А нам-то что от того, ежели придёт новый? Нонешний хоть с барами крут, нас не трогает, а новый, ежели придёт, потрафит им, станет на мужике отыгрываться.
— Тут я с тобой согласен. Да и ноне не жизня, а сплошная маета.
На Исааковской площади перед собором один оборванец, выучив на потеху рыжую суку, прилюдно требовал:
— Ну-ка, изобрази, как может мадам Шевалье!
Столичному люду было известно имя этой французской артистки, которая будто была любовницей Павла. Когда псина по требованию хозяина опрокидывалась на спину и, скуля, начинала сучить лапами, на всю площадь гремел хохот. Полицейские, как бы не замечая происходящего, степенно удалялись.
Людям было невдомёк, что балерина прибыла в российскую столицу неспроста: в Париже ей долго объясняли, с кем в России она должна поддерживать отношения, что ей необходимо узнать и кому сообщать о новостях.
Шевалье стала любовницей не Павла, а Кутайсова, который от её ласк совсем потерял голову и выполнял все её капризы и желания.
Народ настораживало и то, что, вызвав из-за границы жениного племянника, князя Вюртембергского, Павел прочил его, чужеземца, в наследники, намеревался по своей кончине передать ему трон.
Ничто в тот роковой день не предвещало необычного. Как всегда, первым встретил императора Кутайсов. С лакейской учтивостью усадил его в кресло, навёл на лице великого императора красоту. Потом в сопровождении генерал-адъютанта император присутствовал на разводе караулов. Настроен он был миролюбиво и даже шутил.
Весь день Павел провёл на прогулке вместе с Кутайсовым. В сопровождении казаков охраны они верхом объехали город и изрядно промёрзли, хотя после февральских морозов вдруг потеплело. Однако с залива дул пронизывающий ветер.
После рюмки водки Павел почувствовал себя превосходно, заботы отошли на задний план.
— Приглашаю, граф, отобедать, — сказал он Кутайсову, но тот упросил императора освободить его.
В тот день он договорился о встрече с мадам Шевалье. Оставив мужа дома, она прикатила к царскому брадобрею в присланной графской карете.
— Только недолго, мой друг, — предупредила она немолодого, но пылкого любовника. — Дома ждёт муж.
А вечером у императора был ужин. Кроме семьи Павла на него были приглашены генерал от инфантерии Кутузов с дочерью-фрейлиной, князь Юсупов, графы Строганов и Нарышкин, статс-дама и фрейлина Палён и ещё графиня Ливен.
Павел первый сел за стол, и по неписаному этикету сделали это и все остальные. Рядом с ним было место сына Александра. Он был молчалив и чем-то озабочен.
— Что с вами, сударь? — спросил его отец.
— Я, государь, чувствую себя не очень хорошо.
— В таком случае обратитесь к врачу и излечитесь. Недомогание нужно пресекать сразу, чтобы не допустить серьёзной болезни.
Александр промолчал, потупился, поспешно полез за платком. И тут же чихнул.
— Будьте здоровы. За исполнение ваших желаний, — сказал Павел.
О, если б он знал, что этот понедельник и ужин будут для него последними!..
Самого Палена на ужине не было. Вечером он сумел внушить императору подозрение на заступивший караул конного полка.
— Ненадёжный полк, ваше величество. В нём одни якобинцы.
— Вы так думаете?
— Нельзя оставлять его на ночь в замке. Надо бы сменить, пока не поздно.
Павел подозвал командира полка.
— Полковник! Караул ваш должен удалиться из замка. Ваш полк будет выслан из города и распределён по деревням. Два бригадных майора станут провожать полк до седьмой версты. Распорядитесь, чтобы в четыре часа утра все были готовы выступить со своими пожитками.
А на недалёкой квартире под видом офицерской пирушки собрались заговорщики во главе с Палёном.
Кто-то предложил идти в Михайловский замок и разделаться с императором за все порочащие честь и достоинство дела.
— Нет, господа, я не одобряю ту меру, какую вы предлагаете, — заявил один из присутствующих, майор.
— Стало быть, вы за то, чтобы россияне гибли на чужбине, не ведая во имя чего?
— Но ту меру, что вы предлагаете, я не приемлю.
— Поймите же, как можно поступить с человеком, который наделён могучей властью, защищён, а в своих действиях непредсказуем?
В разговор вмешался полковник с густыми бакенбардами:
— А вы знаете, господа, почему выпроводили Витворта? — И, глядя на смолкнувших офицеров, продолжил: — В письме, посланном в Англию, он утверждал, что российский император не в своём уме, что он больной человек… Да-да, господа, именно так, больной человек, имея в виду болезнь ума. А тайная канцелярия вскрыла письмо и, конечно, донесла императору. Тот распорядился выслать Витворта из России как нежелательную персону.
Близко к полуночи к Летнему саду, примыкавшему к Михайловскому замку, направились солдатские батальоны. На центральной аллее начальник Преображенского батальона подполковник Талбанов встал пред строем.
— Солдаты-гвардейцы, верите ли вы мне?
— Верим, — прозвучало в ночи.
— Готовы ли идти со мной на опасное дело?
— Готовы!
— Тогда слушай меня: напра-а-во, шаго-ом ма-арш!
Гулко ударили по расчищенной от снега аллее сотни солдатских сапог, с гвалтом поднялась с деревьев вспугнутая воронья стая.
Михайловский замок темнел в ночи огромной глыбой. В окнах редкие огни свечей. Мосты подняты, но солдаты прошли рвы по льду, быстро и ловко обезоружили наружную охрану. Адъютант Преображенского полка полковник Агромаков быстро расставил солдат у лестниц и дверей, часть повёл к покоям императора. Дверь спальни была на запоре. Полковник осторожно постучал.
— Кто там? — послышался голос изнутри.
— Дежурный офицер. Нужно доложить рапорт по Преображенскому полку.
— Приходите утром.
— Так уже утро, шесть часов.
Едва сонный слуга открыл дверь, как его оттолкнули, приказали молчать:
— Не то худо будет!
В спальне была ещё небольшая комната — тамбур. В ней тоже находилась охрана: два могучих гренадера сторожили самого императора. Один из них попытался сопротивляться, но его ударили палашом, и он, обливаясь кровью, упал. Второй убежал.
В покои государя ворвались придворные генералы: Платон и Николай Зубовы, Беннигсен, князь Яшвиль, гвардейские офицеры Татаринов и Скарятин.
Платон Зубов подбежал к кровати. Она была пуста.
— Он скрылся! — Зубов побледнел. — Мы пропали!
— Жребий брошен. Надо действовать, — пророкотал педантичный Беннигсен. Он подошёл к постели, пощупал её. — Гнездо тёплое, птица недалеко. — И шагнул к ширме.
Там стоял полураздетый Павел, недавно покинувший Анну Лопухину.
— Государь, вы арестованы!
Его окружила возбуждённая толпа. Впереди всех Николай Зубов. Огромный, необыкновенной силы, он едва сдерживал себя, зажав в кулаке золотую табакерку.
— Что я вам сделал, господа? — произнёс Павел.
— Вы мучаете нас уже четыре года, — прозвучало приговором, и офицеры бросились на него…
Когда солдат гвардии выстроили для присяги новому императору, они зашумели:
— Это при живом-то императоре присягать новому! Не пойдём!
— Да старый-то скончался, от апоп… лексического удара, — с трудом выговаривалось незнакомое слово.
— Не верим! Пусть покажут! Хотим видеть! — упорствовали гвардейцы.
— Ладно. Назначайте одного, которому вы поверите, покажем ему почившего императора.
Гвардейцы избрали Григория Иванова:
— Иди посмотри, а потом нам скажешь.
Солдата провели в покои императора, подвели к неподвижно лежащему Павлу с жуткими следами побоев на лице.
— Ну вот, смотри, действительно ли умер император?
— Вижу, ваше высокоблагородие, крепко умер.
— Присягать новому императору будешь?
— Теперь буду… Нам-то всё равно: кто ни поп, тот и батька.
На второй день после страшной ночи генерал из Военной коллегии доложил новому императору Александру об ушедших к неведомой реке Индусу донских казаках. О походе в столице знали немногие, из предосторожности, чтобы тайна не просочилась за границу.
— И казакам не дано продовольствия? Есть ли на пути наши базы? — справлялся у генерала Александр.
— Земля нам неведома, даже карт нужной численности нет, и баз снабжения никаких.
— Большой ли отряд?
— Около тридцати тысяч.
— Но они же обречены на погибель! Разве они сумеют преодолеть пески Черной пустыни и снежные горы!
— Такова была воля покойного императора, государь. Можно ли было его ослушаться?
— Повелеваю сегодня же направить вослед казакам гонца с приказом немедленно возвратиться на Дон! Поход отменить!
Конец отставки
Зимой, когда Нижегородский полк из Закавказья вышел к Тереку, Николай Раевский получил приказ сдать командование и убыть в своё украинское имение Каменку.
Никто толком не мог объяснить причину отстранения его от армейской службы.
Дядя Николая, граф Александр Николаевич Самойлов, решил обратиться за разъяснением к генералу Гудовичу, ставшему главнокомандующим русскими войсками на Кавказе и в Грузии.
Тот ответил письмом: «Мне самому совершенно неизвестно, за что он со службы исключён, как и в высочайшем приказе о том не сказано. А жалею искренне, знавши Раевского всегда достойным офицером».
В позже поступившем высочайшем приказе от 10 мая 1797 года было указано, что Николай Раевский отстранён от службы по воле императора.
Раевский был лишён основного источника существования для семьи. Он решил всерьёз заняться хозяйственными делами.
Каменка — большое селение Киевской губернии, — куда приехал Раевский, принадлежала гвардейскому офицеру Льву Денисовичу Давыдову. Выйдя в отставку, он расширил и обогатил имение. В его собственности были земли более двадцати сел, огромную площадь занимал лес, заливной луг. Главная усадьба располагалась в долине реки Тясмины.
У двухэтажного каменного дома с широкой лестницей и мраморными колоннами раскинулся ухоженный парк с лебедями в пруду. В нём было полно дичи и живности.
Неожиданно овдовев, Давыдов женился на юной Екатерине Николаевне Самойловой-Раевской, ставшей полновластной хозяйкой Каменки.
Дети Льва Денисовича от первого брака разъехались: старшие сыновья Александр и Пётр находились в столице на службе, дочь Софья вышла замуж за генерала Бороздина, младший сын воспитывался в петербургском пансионе. Екатерине Николаевне было уже за сорок, и годы брали своё. Что касается Льва Денисовича, то он тяжко болел.
При приезде Николая мать сказала ему:
— Может, это и к лучшему, что уволили со службы. На тебя теперь вся надежда. Бери хозяйство в руки и владей.
— Наверное, матушка права, — добавила жена, Софья Алексеевна, и он согласился.
У её ног крутился первенец Александр, а сама она ожидала второго ребёнка.
Николай Николаевич промолчал, но в душе испытывал боль и обиду за отставку от армейской службы, к которой прикипел всей душой.
Обстановка требовала заняться мирными сельскими делами, в которых, приобщившись, вчерашний офицер нашёл полное удовлетворение.
Вспоминая ту пору жизни своего родственника, Денис Васильевич Давыдов, тогда гусар-поручик, а позже поэт, генерал, писал о Раевском:
«Там с ежедневным восхождением солнца мы видели его в простой одежде поселянина, копающего гряды и сажающего цветы, с беспечностью о хвале, гремящей деяниям его за пределами сего мирного приюта, и наслаждающегося с восторгами младенца успехами невинных трудов своих. Там занимался он мелочными для ума его хозяйственными заведениями, с заботливостью вникал в судьбу своих подданных и устраивал их благовоспитание. Обладая умом просвещённым и обладаемый страстью к испытанию во всех её отраслях, он излечивал страждущих телесными недугами. Та рука, которая мановением своим обливала кровью врагов отечества поля сражения, — та самая рука пользовала и своих, и чужеземных страдальцев, спасённых ею на тех же полях сражений. Но при новом вызове на службу отечества Раевский от сохи опять послушно из объятий семейства, из уединения, столь им любимого, являлся на знакомые ему бои с тем же спокойствием духа, как бы с огорода на пашню или с пашни за семейственную трапезу, и, озарённый славою искусного полководца, достигший высоких званий и почестей, обожаемый, благословляемый как отец, чтимый как герой войсками, им предводительствованными, — возвращался по окончании в сельское своё убежище, к своей семье, к своим детям и огородам с тою же ясною, неомрачённою тщеславием душою, с тою же скромностью и благонравием философа, как будто не он, а другой воевал и побеждал неприятеля».
В этот период Раевский решал проблему своей дальнейшей судьбы. Среди дворянства Чигиринского уезда он приобрёл немалый авторитет, и его избрали начальником земской милиции. Назначение обескуражило его: продолжительное время он находился вне армии, однако думал о ней, надеялся на дальнейшую в ней службу, тем более что после вступления Александра на престол был издан указ о восстановлении на службе в армии изгнанных Павлом генералов и офицеров, и в числе таковых оказался Николай Раевский. К тому же ему присвоили чин генерала.
Всегда благосклонный к нему, дядюшка граф Самойлов подсказал, что нужно ехать в Петербург и добиться приёма у графа Ливена, ведавшего при императоре военными делами. Однако Ливена в Петербурге не было: он уехал в Пруссию на главную квартиру к императору, находившемуся у главнокомандующего русской армией генерала Беннигсена. Подождав немного, Раевский выехал в ставку.
Добиться положительного решения Николаю Раевскому помогло обострение международной обстановки. Возглавивший французское правительство, Бонапарт претендовал на земли Австрии и Германии, готовился к вторжению на территорию Англии. В портах ожидали прибытия кораблей для переправы войск через Ла-Манш. «Мне нужны только три дня туманной погоды, — говорил Наполеон, — и я буду господином Лондона, парламента, английского банка».
Против Франции выступала мощная коалиция из более полумиллиона штыков, включая русскую армию. Весной 1804 года во Франции распоряжением Наполеона был судим и расстрелян герцог Эншенский. Он доводился родственником господствовавшей ранее королевской семье Бурбонов.
Узнав о том, русский император Александр выразил Наполеону протест. Тот в ответ прислал ноту. В ней он писал, что Александр должен смотреть за своими, а не за чужими делами, язвительно напомнил, что убийство императора Павла, совершенное по проискам Англии, осталось безнаказанным: никто из заговорщиков не понёс заслуженной кары.
В Прибалтике
25 апреля 1807 года вышел высочайший приказ о зачислении Николая Николаевича Раевского на службу в действующую армию в чине генерал-майора. Вначале он был назначен в кавалерийский корпус генерала Уварова, однако это решение было изменено.
Главнокомандующий граф Беннигсен помнил Раевского по походу в Персию, где молодой полковник служил в бригаде, которой командовал граф. Раевский оставил о себе добрую память как храбрый офицер.
— Его надобно направить в авангард Багратиона. Такой генерал очень нужен Петру Ивановичу, — сказал Беннигсен.
Багратион встретил Раевского как старого знакомого по Екатеринославской армии Потёмкина, действовавшей в Новороссии.
В егерской бригаде, которую вручили Николаю Николаевичу, имелось три егерских полка: 5-й — полковника Вуича, 20-й — полковника Бистрома и 25-й — полковника Гочеля. Все командиры не уступали друг другу в храбрости, новый командир егерской бригады высказывал одобрение каждому.
К самому командиру солдаты поначалу приглядывались, не видя его ещё в бою, но вскоре прониклись к нему уважением.
Тогда бригада стояла близ небольшого аккуратного городка Прейсиш-Эйлау, где недавно происходила грозная схватка с корпусами Наполеона. В двухдневном сражении каждая из двух армий — французская и русская — понесла потери почти в тридцать тысяч человек.
Вскоре после вступления в должность Николаю Николаевичу сообщили, что один из командиров батальона бригады отбил из чужого транспорта пять возов с хлебом, чтобы накормить солдат. Дело дошло до командующего генерала Беннигсена, и он приказал судить офицера.
Разобравшись в деле, Раевский добился встречи с командующим. Тот терпеливо выслушал его доводы.
— Я удивлён, что вы находите возможным вступаться за мародёров, разлагающих наши доблестные войска, — заметил Беннигсен.
— Пойти на этот шаг солдат заставили обстоятельства.
— Обстоятельства? Какие же?
— Отсутствие во многих частях авангарда продовольствия.
— Были перебои с доставкой, но хлеб получали всегда. И вчера его доставили в полки в достаточном количестве. Разве вы не получили?
— Получили… впервые за две недели. К тому же хлеб выпекли из овса и чечевицы.
Голос подал находившийся в кабинете Беннигсена английский посол Вильсон:
— Даже если это так, солдат должен терпеть. Русский солдат известен своей неприхотливостью.
Раевский едва сдержал себя, но всё же ответил:
— Я говорю с командующим русской армией. О качестве русского солдата не вам, сударь, судить. Русский солдат более английского нуждается в питании.
— Послушайте меня, генерал Раевский, — произнёс Беннигсен. — Я прикажу пересмотреть дело вашего офицера. И мы улучшим снабжение солдат авангардных частей.
Об этом разговоре узнали не только офицеры, но и солдаты.
— Достойный генерал! — оценили они своего начальника.
В свою очередь генерал Беннигсен, признавая оценку деятельности генерала Раевского, какую дал его непосредственный начальник князь Багратион, записал: «Н. Н. Раевский в сражении неустрашим, 24 мая особенно отличился, когда неприятеля, покушавшегося взять наш правый фланг, выгнал из леса и, твёрдое заняв положение, удерживался и после того при атаке на все пункты неприятельской линии сбил его фланг и понудил к ретираде».
А неприятелем были французские войска из корпуса отменного маршала Нея!
Позже, упоминая то сражение, руководители русской армии отмечали, что Раевский вёл егерский бой согласно своим боевым правилам — бросался на неприятеля «пылко» в штыки, перестрелкой не занимался и действительно «всегда имел сильный резерв, вводя полки в бой постепенно, что давало ему возможность не только выбивать неприятельскую пехоту в несоразмерном количестве, но и удерживать превосходного неприятеля, а потом нанести решительный удар, способствуя прогнанию неприятеля».
За бой при Альткирхе, происходивший 25 мая 1807 года, Николай Раевский был награждён орденом Святого Владимира 3-й степени и удостоен высочайшего рескрипта. В нём указывалось:
«Господин генерал-майор Раевский.
В воздание отличной храбрости, оказанной Вами в сражениях 24-го и 25-го числа прошедшего мая противу французских войск, в коих вы: в первом — покушавшегося неприятеля взять правый фланг выгнали из леса и заняли твёрдую позицию, а потом при атаке на все пункты неприятельской линии сбили его фланг и понудили к ретираде; в последнем же — обошли на фланге важную неприятельскую батарею, действием сей атаки заставили удалить оную, за чем последовало и отступление неприятеля, которого с неустрашимостью преследовали до реки Пасарги, — жалую Вас кавалером ордена Равноапостольного князя Владимира 3-й степени, коего знак… к Вам доставляя, повелеваю возложить на себя и носить по установлению, уверен будучи, что сие послужит Вам поощрением к Вашему продолжению усердной службы Вашей.
Пребываю вам благосклонный
Александр».
2 июня произошло сражение под Фридляндом. Накануне генерал Раевский был ранен пулей в ногу, но боевой строй не покинул. Багратион, руководя гвардейскими частями, поручил Раевскому принять командование егерскими полками. Тот, раненный в ногу, своим мужеством, твёрдостью и решительностью вызвал у подчинённых уважение к себе. В семидневном сражении он несколько раз водил егерей в штыковую атаку, удерживая назначенный рубеж. Егеря отступили, когда на то поступил приказ.
На военном совете Беннигсен отметил действия генерала Раевского.
На заседании были генералы и полковники. Главнокомандующий обратил внимание всех на висевшую на стене большую карту сражения. На ней были изображены красные и зелёные прямоугольники и квадратики, обозначавшие русские и неприятельские войска, пунктиры движения, хищно устремлённые к вражескому расположению стрелы ударов пехоты и кавалерии, значки артиллерийских батарей.
Беннигсен стал объяснять задачу для войск:
— Основная цель сражения заключается в том, чтобы разгромить выдвинутый к реке Алле корпус французского маршала Нея. Положение его таково, что вполне благоприятствует осуществлению цели. Правый фланг корпуса примыкает к небольшой деревне, а левый упирается в лес. Следовательно, обходя деревню и используя для скрытого движения лес, мы можем внезапно обрушиться на неприятеля и заставить его отступить. Нужно, конечно, иметь в виду, что справа и слева рассыпаны его стрелки, а у флангов находятся артиллерийские батареи. Здесь и здесь, — он ткнул указкой в места с изображением неприятельских орудий. — И тем не менее, господа, эти позиции являются для французов западней, если их обойти справа и слева и действовать решительно для перехвата в тылу путей отхода.
Несмотря на импозантный вид и кажущуюся смелость, Беннигсен как полководец генералами не принимался. «Нерешительный и медлительный начальник», — называл его Багратион. Такого же мнения о нём были и другие генералы.
Беннигсен стал в этой войне главнокомандующим по воле случая. Командуя корпусом в армии престарелого фельдмаршала Каменского, ему посчастливилось у Пултусска нанести поражение французскому корпусу Ланна. В посланном императору Александру донесении Беннигсен сообщил, что ему удалось разбить самого Наполеона, имевшего к тому же превосходящие силы.
Эта весть произвела в столице сенсацию: «Вот кто может остановить непобедимого Бонапарта!» Генерал-немец предстал как достойный противник Наполеона.
Между тем уже был заготовлен рескрипт о замене старика Каменского генералом Буксгевденом. Никто среди военных не представлял Беннигсена в роли главнокомандующего, но по воле императора Александра он им стал. Подписанный рескрипт на Буксгевдена отставили.
1 января 1807 года Беннигсен, заменив Каменского, вступил в командование. Первое, что он сделал, — добился отставки из армии своего соперника — Буксгевдена. Узнав об этом, тот вызвал его на поединок, назначив место дуэли в Мемеле. Но Беннигсен вызова не принял, отказался даже ответить…
— Главная задача в сём сражении, — продолжал главнокомандующий, стоя у плана, — падёт на авангард, на корпус Багратиона. Действиями своих дивизий вы, князь, должны приковать к себе как можно больше сил неприятеля. Нужно добиться, чтоб Ней не смог помыслить о переброске сил на другие участки или даже об отводе войск без опаски быть при этом уничтоженным.
— Разрешите, ваше сиятельство? — поднялся Багратион.
— Подождите, князь. Я знаю, что вы хотите заявить: у вас незначительные силы, всего две бригады…
— Притом малой численности, а наступать придётся против корпуса.
— Это мне известно. Главное, князь, должна быть стремительность действий и решимость. Этого у вас не занимать. К тому же вам будут помогать Сакен и Горчаков. Они должны обойти неприятельские фланги и ударить в тыл врага. — Указка скользнула по бумаге по направлению действий этих корпусов. — Что же касается войск генералов Дохтурова и Платова, то они должны потеснить, а потом и прогнать неприятеля за реку Пассаргу.
Беннигсен обвёл взглядом генералов и спросил:
— Есть ли какие-нибудь вопросы?
— У меня просьба, — вновь поднялся Багратион. — Учитывая значимость поставленной авангарду задачи и небольшую численность конницы в нём, просил бы подчинить мне лейб-казачий полк.
— Постойте, князь, он же находится в распоряжении его величества. Без его согласия не могу решиться удовлетворить вашу просьбу.
— Казачьими полками, как известно, распоряжаюсь я, — подал голос Платов.
— У вас, Матвей Иванович, своих полков и так предостаточно, — произнёс Дохтуров. — Сколько их?
— Десять и две батареи, — ответил Платов.
— Хитришь, Матвей Иванович, — подмигнул Дохтуров. — Есть ещё два регулярных полка кавалерии.
— Господа! Прошу слушать, — заговорил Беннигсен и обратился к Багратиону: — Вашу просьбу, князь, я доложу императору…
После затянувшейся зимы в прибалтийском крае наступила запоздалая оттепель. Забурлили талые воды, реки взбухли, разлились, и войска с трудом передвигались не только по полям, но и по дорогам. Однако бои продолжались.
Памятным было и другое сражение, где воевал авангард, возглавляемый Раевским. Его бригада находилась на левом фланге, на правом — егеря генерала Багговута. Между ними расположились артиллерийские батареи, готовые поддержать огнём передовые войска. За батареями сосредоточились резерв и два казачьих полка, одним из которых был лейб-казачий.
К рассвету передовые полки достигли линии французских дозоров, вспыхнула стрельба. Рассчитывая на подход корпусов Сакена и Горчакова, Багратион атаковал неприятеля со свойственной ему решительностью. Вскоре егеря Раевского ворвались в неприметное селение.
— А теперь казаков вперёд! — последовала команда Багратиона.
Опередив егерей, эскадрон Орлова-Денисова произвёл атаку на французскую батарею и захватил два орудия. Углубившись в неприятельское расположение, напал на обоз, где был экипаж французского маршала Нея. Почти двенадцать вёрст продолжалось преследование.
В другой раз сражение в первый день развивалось не очень успешно. Лишь авангард Багратиона да корпус Дохтурова выполнили боевую задачу. Опоздали с выходом корпуса генералов Сакена и Горчакова, не смогли преодолеть сопротивление врага и казачьи полки Платова.
Взбешённый неудачей, главнокомандующий всю вину взвалил на генерала Сакена. Он отстранил его от командования, донёс об этом императору, а тот приказал судить Сакена.
Суд продолжался три года и закончился тем, что генерала отставили от армии. Он находился в немилости до 1812 года, после был вновь призван к службе. В заграничном походе он отличился не раз, и тогда Александр признался, что Беннигсен обманул его, и снял с Сакена царскую немилость…
Признав неудачу сражения в первый день, главнокомандующий Беннигсен приказал продолжать наступление следующим утром. Однако и второй день не принёс успеха: французский корпус маршала Нея, отражая атаки русских, перешёл через реку Пассаргу и занял там оборону. Победа ускользнула.
Поутру в местечко, где находилась бригада Раевского, примчался Багратион. Бросив нагайку, с которой он не расставался, стукнул кулаком о стол:
— Проиграли сражение! Не схватили Нея! А ведь могли же! Ни за понюшку табаку отдали победу! Надобно быть идиотом, чтобы не брать переправу у Деппена! Туда нужно было бросить силы с фланга. Захватили бы мост, и тогда бы французы оказались в мышеловке. Ну скажи, Николай Николаевич, почему нам не везёт с главнокомандующим?
Тактичный Раевский промолчал.
— Теперь Наполеон непременно начнёт наступать. Не сегодня, так завтра жди его атаки, — заключил Багратион.
Раевский не выделялся внешностью: средний рост, лобастое большеглазое лицо, — однако он словно бы являлся центром внимания. К каждому его слову прислушивались и почти всегда с ним соглашались. Все, кому приходилось иметь дело с Раевским, признавали его ум, уважительное отношение и величайшую скромность. Когда говорили о его делах, он обычно возражал, заявляя, что ничего подобного с ним не случалось, и старался уйти. Его называли человеком чести и долга.
Вот и Багратион прибыл сейчас к нему, чтобы вылить накипевшее на душе. Он знал, что Раевский поймёт его, разделит неудачу.
Получив задачу разведать обстановку на мосту, полковник Орлов-Денисов из лейб-казачьего полка выехал с эскадроном к Пассарге. Едва они приблизились к реке, как по ним открыли стрельбу. Простым глазом были видны залёгшие в кустарнике французские солдаты, а по мосту на ближний берег переправлялись пехота и орудия.
— А вот и конница! — указал казак в сторону леса, где находился брод.
«Сбылось предположение князя!» — вспомнил Орлов-Денисов слова Багратиона, сказанные им Раевскому.
Возвратившись из разведки, Орлов-Денисов встретил у квартиры донских казаков из отряда Платова.
— А вы-то, земляки, как здесь очутились?
— На подмогу к вам прибыли, к князю Багратиону.
У Раевского собрались сразу пять командиров казачьих полков: Иловайский 2-й и Иловайский 5-й, оба генералы, полковник Греков 9-й, Киселёв и командир лейб-казаков Чернозубов 5-й.
Казачий начальник доложил Раевскому результаты разведки, от себя добавил, что князь Багратион был прав: укрывшись за рекой, французы теперь опять выдвигаются, чтобы начать наступление.
Командиры обсудили положение и составили план действий.
Всё произошло, как задумали. Подчинённые Раевскому егерские полки заняли прочную оборону, а казаки умчались вперёд, занимая по мере продвижения места засады.
Эскадрон Орлова-Денисова встретил французов первым. Создавая видимость отхода, казаки потащили за собой неприятельских всадников. Они словно играли с ними: подпустят, выждут немного, а когда те развернутся для атаки, уносятся прочь. Так и подвели их к Эльдигену, где находились егеря.
Первая атака французов была отражена огнём. Они отошли, подождали подкрепления — и снова бросились вперёд. И вновь были отбиты.
В третий раз, уже значительными силами, французам удалось ворваться в деревушку, но их выбили штыковым ударом.
А казачьи полки все сидели в засаде и терпеливо ждали, когда неприятеля окажется поболее. Дожидались команды генерала Раевского.
Вечером французы пошли в четвёртый раз. Их подпустили к самой окраине, а потом ударили из пушек. Картечь смела передних, но шла вторая цепь и третья. Неприятельские силы превосходили силы егерей, и, когда завязалась схватка в самой деревне, из засады с правого и левого флангов вынеслись казачьи полки.
Эскадрон лейб-казаков оказался в самой гуще дерущихся. Распалённый корнет Мелик-Осипов не заметил, как оторвался от товарищей. На него насели со всех сторон: одному французу удалось схватить коня под уздцы, двое попытались сбросить всадника с седла.
— Братцы, корнет в беде! — Хорунжий Богатырев устремился на помощь.
За ним рванулись шесть казаков. С остервенением рубя, пробились к раненому товарищу. Тот едва держался в седле.
— Отходи! — подал команду хорунжий, отражая удары врага…
Французы понесли значительные потери. Полк их драгун был совершенно разбит. Одних пленных было более ста человек, и среди них сам командир полка.
Разгромив в предыдущих сражениях прусско-саксонскую армию, Наполеон обрушился на русские войска. Они отступали к Фридлянду.
Фридлянд — небольшой городок, расположенный у реки Алле. Берега её поросли кустарником и деревьями, поникшие ветви касались воды. Неподалёку возвышалась колокольня полуразрушенной кирхи, сооружённой чуть ли не в XVI веке. Ничто ныне не напоминает о разыгравшемся там кровопролитном сражении, разве лишь могила с мраморной плитой на одной из улиц. Могила ограждена тяжёлой цепью, у орудийного ствола пирамида ядер. На плите надпись: «Здесь захоронены русские воины, погибшие 2 июня 1807 года».
В арьергарде колонны Багратиона находились егеря генерала Раевского и казаки Платова. Они с трудом сдерживали корпус Сульта, чтобы дать возможность главным силам перебраться на правый берег Алле.
Атака следовала за атакой. Свистели и взрывались в боевых цепях ядра, но егеря и казаки словно вросли в землю. Французы подкатили ещё орудия, ударили картечью.
— Разрешите атаковать пушки! — вырос перед генералом Раевским капитан.
Взгляд его был полон решимости.
— Попробуйте, — не стал возражать начальник.
Удар смельчаков с фланга оказался внезапным, артиллеристы бросили орудия, побежали прочь.
Ночью егерям была поставлена задача провести разведку расположения неприятеля, пребывающего за рекой.
Вглядываясь в лица егерей, Николай Николаевич прошёл вдоль строя.
— Предстоит серьёзное дело, братцы. Требуется команда в десять удальцов. Есть ли желающие?
— Что там желающие! Назначайте, на кого глаз пал, — послышались голоса. — Каждый готов!
— Дозвольте мне, — вызвался рыжеусый корнет Журин.
— Хорошо, пойдёте старшим.
— А почему он? Я тоже согласный, — подал голос унтер Баландин.
— И я… и я…
— Пойдёт Журин. Он первый дал согласие, — объявил Раевский. — Ему определять команду. Ружья в дело зря не пускать, — продолжил он, — стрелять в крайнем случае. Действовать втихую. Без пленного не возвращаться, и чтобы был офицер.
— Всё сделаем, как требуете, — отвечал Журин.
Шлёпая копытами по грязи, кони со всадниками скрылись во тьме.
Ожидая возвращения разведчиков, Раевский не мог заснуть. Он вспомнил о письме, которое вечером доставили из главной квартиры, и развернул помятый лист.
Писала жена Софья Алексеевна. Он представил её миловидное и такое желанное лицо. Вспомнил сыновей: двенадцатилетнего Александра и шестилетнего Николая, толстощёкого, подвижного. Вспомнил дочерей: старшую дочь Екатерину, которой недавно исполнилось десть лет, и младшую, любимицу генерала, годовалую Машутку.
Команда охотников возвратилась под утро.
— Разрешите доложить: приказание ваше выполнено, — отрапортовал Журин. Его уставшее лицо светилось. — Капитана схватили! Насилу приволокли.
— Как же получилось?
— Сноровка помогла: подобрались поближе, прошли французские посты — и схватили. Вы же приказывали взять офицера…
На допросе пленный поведал, что его взяли, когда он на минуту вышел из дома. А дом находился в середине расположения батальона. Непонятно только, как удалось его схватить.
Пленного поспешили доставить к Багратиону. Князь сам допрашивал его. Переводчиком был Николай Николаевич.
— Прежде спросите, кто он таков, из какого полка, кто начальник?
Офицер ответил, что он капитан Жюно и что его полк входит в корпус, которым командует маршал Мортье. Корпус собирался с утра выступить в сторону Ландсбрега.
— Зачем? — насторожился Багратион.
— Чтобы продолжить путь к крепости Кёнигсберг.
Багратион потребовал карту, взглянул на неё и отложил.
— Что ему ещё известно? Справляйтесь даже о мелочах.
Но капитан сообщил совсем не новость: вместе с корпусом Мортье туда же направляется и корпус Даву.
— Немедля отправьте француза к главнокомандующему Беннигсену, — распорядился Багратион.
Когда пленного увели, он, глядя на карту, сказал:
— Нужно решительно наступать! Тогда удар придётся как раз по тылу неприятеля. Вот случай, о котором можно лишь мечтать!.. Впрочем, Беннигсен не решится на такой шаг. Суворов не упустил бы шанса.
Всё так и получилось, как предполагал Багратион. Вместо того чтобы атаковать, Беннигсен приказал отступить.
— Необходимо сосредоточить там все наши силы! — объяснил он свой манёвр.
Первым помчался к городу отряд гвардейской кавалерии генерала Кологривова. В авангарде отряда был лейб-казачий полк.
Когда лазутчики донесли, что русская армия вдруг поднялась и двинулась к Фридлянду, жаждавший генерального сражения Наполеон воспрянул духом и велел тотчас повернуть туда все корпуса.
В это время во Фридлянде находился поручик Каменов. При нём имелось двадцать пять казаков и столько же егерей. Это была команда, прибывшая на армейский склад за продуктами.
Получив и погрузив в обоз продукты, команда двинулась из Фридлянда в дивизию. Но на полпути их догнал егерь:
— Французы в городе! Мост норовят сжечь!
— Во Фридлянде? — не поверил Каменов. — Сколько же их?
— Да сотни две будет.
Не раздумывая, поручик повернул назад. Увидев у моста неприятельских солдат, он атаковал их и отбросил прочь. Казаки и егеря удерживали мост, пока не подоспела подмога.
Русские войска заняли оборонительные позиции на западном берегу Алле, оставив Фридлянд в недалёком тылу. Очертаниями рубеж обороны напоминал дугу, концы которой упирались в реку. Глубокий овраг разделял войска на два крыла: северное и южное. В южном находились главные силы армии, которыми командовал Багратион, там же была и егерская бригада Раевского.
Против корпуса Багратиона сосредоточились корпуса Нея, Виктора и Дюпона, конница Лотур-Мобура. Замысел Наполеона был прост: ударом своих главных сил прорвать на южном участке позиции русских войск, ворваться в город, а потом выйти им в тыл.
Сражение продолжалось весь день, упорное, ожесточённое, кровопролитное. В нём трудно было отдать предпочтение какой-либо стороне. Особенно активно действовали егеря генерала Раевского и подчинённый ему казачий полк. Но на исходе долгого дня французский генерал Сенармон сосредоточил против южного крыла тридцатишестипушечную батарею.
Картечь рвала русских защитников, образовывала в их рядах бреши, но эти бреши тотчас затягивались подходящими из глубины резервами, которые отражали атаки врага.
Когда французам всё же удалось ворваться в расположение русских войск, Багратион повёл на них Московский полк. Дорогой ценой полк сумел оттеснить неприятеля от моста. Однако силы были неравны. К тому же в бой вступила бывшая до того в резерве гвардия маршала Мортье.
Сгущались сумерки, но сражение не прекращалось. Прижатые к реке русские полки дрались с остервенением. В их рядах находились Багратион, Ермолов, Раевский.
Решив разделаться с горсткой храбрецов, на них поскакали закованные в латы кирасиры. Но на помощь подоспели казаки. Действуя пиками, они били всадников по шлемам, сбрасывали их, тяжёлых и неповоротливых, с коней.
Русская армия потеряла в сражении около десяти тысяч человек, французы — двенадцать.
Несмотря на поражение, русские войска показали в этом деле мужество, стойкость и отвагу. Один из английских наблюдателей доносил своему правительству: «Мне недостаёт слов описать храбрость русских войск. Они победили бы, если б только одно мужество могло доставить победу. Офицеры и солдаты исполняли свой долг самым благородным образом. В полной мере они заслужили похвалы и удивление каждого, кто видел Фридляндское сражение».
А потом был отход армии к Тильзиту, и бригада Раевского находилась в арьергарде, отражая многочисленные атаки конницы Мюрата.
В ночь на 7 июня русская армия перешла Неман. Едва арьергард ступил на правый берег, как мост запылал. Французские конники бросились было к нему, но не смогли проскакать через огненную завесу.
Позже, когда в Тильзите было подписано перемирие и французские военачальники встретились с русскими, маршал Мюрат похвастался, что он был в числе первых вышедших к Неману:
— Я даже попытался пронестись по мосту через огонь.
— А жаль, что этого не случилось, — посочувствовал ему генерал Раевский. — Мы бы имели лишнего пленника.
Тильзит
До последнего времени Неман считали рекой мира. Пять лет назад после завершения Русско-прусско-французской войны на реке был заключён мир. Русская армия тогда сражалась в союзе с Пруссией против Франции. Война для союзников сложилась неудачно, в жестоких сражениях у Прейсиш-Эйлау, Веллау, Гутштадта, Фридлянда они потерпели поражение. Когда войска подошли к Неману, Наполеон вдруг предложил заключить мир. Александр — император российский — и прусский король выразили согласие.
Местом заключения мира был избран приграничный Тильзит. Наполеон пожелал придать этому событию необычайную торжественность, которая подчёркивала бы могущество европейского владыки.
Так как граница проходила посередине реки, он приказал соорудить на Немане плот с двумя павильонами из белого полотна. Больший павильон с коврами и роскошью предназначался для монархов, меньший — для их свиты. На фронтонах павильонов были выведены огромные буквы: А — со стороны России, N — со стороны Тильзита, где находились французы. Вензель прусского короля Фридриха Вильгельма отсутствовал.
Против плота у берегов были причалены лодки с гребцами, которые должны были доставить монархов к месту встречи. В ожидании появления Наполеона Александр расположился в недалёкой корчме.
Дальнейшие события с детальными пояснениями описал историк Шильдер, известный своим четырёхтомным сочинением о жизни и деятельности российского императора Александра Первого. Будучи свидетелем происходящего, он изложил наблюдаемое во всех подробностях:
«Флигель-адъютант торопливо отворил дверь корчмы и сказал: „Едет, ваше величество“. Государь хладнокровно и нимало не торопясь встал со своего места, взял шляпу, перчатки и со спокойным лицом вышел обыкновенным шагом из комнаты.
Взоры всех устремились за Неман. Наполеон с пышным конвоем нёсся верхом между двух рядов своей Старой гвардии. Гул восторженных приветствий и восклицаний гремел вокруг него и доносился до нашего берега.
Оба императора вступили в лодки в одно время. Государя сопровождали цесаревич Константин Павлович, генерал Беннигсен, барон Будберг, князь Лобанов-Ростовский, генерал-адъютанты граф Ливен и Уваров. С Наполеоном находились: Мюрат, Бертье, Бессьер, Дюрок и Коленкур.
Когда обе лодки отчалили, величие зрелища, ожидание событий мировой важности взяли верх над всеми чувствами…
Наполеон стоял в лодке впереди своей свиты особо и безмолвно, со сложенными на груди руками, как его представляют на картинах. На нём был мундир Старой гвардии и лента Почётного легиона через плечо, а на голове та маленькая историческая шляпа, форма которой сделалась известной всему миру. Причалив к плоту несколько ранее императора Александра, Наполеон быстро взошёл на него и поспешил навстречу государю. Соперники подали один другому руку, обнялись и молча вошли в павильон…
„Я ненавижу англичан не менее вас, — было первым словом императора Александра, — и готов вас поддержать во всём, что вы примете против них“.
„Если так, — ответил Наполеон, — то всё может быть улажено и мир упрочен…“
В дальнейшем разговоре Наполеон постарался внушить государю, что он был жертвою своих союзников, что он ошибается, покровительствуя немцам, этим неблагодарным и завистливым соседям, и поддерживая интересы жадных купцов, являющихся представителями Англии…
Затем Наполеон стал восхвалять поразившие его под Аустерлицем, Прейсиш-Эйлау и Фридляндом доблесть и храбрость русских войск; он находил, что солдаты с обеих сторон сражались как истинные титаны и что соединённые армии России и Франции могут господствовать над миром, даруя ему благоденствие и спокойствие…
Льстя Александру, Наполеон продолжил: „Мы скорее придём к соглашению, если вступим в непосредственные переговоры, отстранив министров, которые нас нередко обманывают или же не понимают; мы вдвоём в один час более подвинем дело, чем наши посредники по прошествии нескольких дней. Между вами и мною никого не должно быть. Я буду вашим секретарём, а вы будете моим“.
Первое свидание продолжалось час и пятьдесят минут.
Уступая настойчивым просьбам Александра, Наполеон согласился допустить на плот на следующее свидание прусского короля.
Затем императоры представили сопровождавших в свите генералов. Подойдя к Беннигсену, Наполеон вспомнил сражения под Прейсиш-Эйлау и Фридляндом, где тот командовал русскими войсками, и сказал: „Мы уже встречались с вами, генерал, и я нашёл, что вы были иногда злы!“
В свою очередь Александр весьма лестно отозвался о маршалах Мюрате и Бертье, признав их достойными помощниками полководца Наполеона».
Тут же было оговорено, что город Тильзит будет разделён на две половины: французскую и русскую. В каждую назначат своего коменданта. Александр пожелал, чтобы в город ввели первый батальон Преображенского полка. Им командовал граф Михаил Семёнович Воронцов.
— Прислуживать Бонапарту не желаю, — заявил офицер.
— Какому Бонапарту? Император повелел отныне именовать его Наполеоном. И не иначе, — изрёк комендант.
— Это всё равно: что Наполеон, что Бонапарт. Он — враг России, если не сейчас, то будет, — упорствовал граф Воронцов и заявил, что неожиданно заболел, а нездоровому нести гарнизонную службу не положено.
Вместо первого батальона Преображенского полка было назначено другое подразделение.
Позже, по заключении мира в Тильзите, состоялась встреча императоров с представителями российских иррегулярных войск[22]. Не скрывая удивления, Наполеон смотрел на воинов странной наружности.
— Вы кто? — спросил он одного.
— Башкир, — ответил тот, прищурив рысьи глаза.
— А вы?
— Калмык, — ответил стоявший рядом скуластый воин.
— А вы?
— Татарин.
— А это их оружие? — указал Наполеон на лук и колчан со стрелами. — Оно, кажется, пошло от гуннов?
— В войне, ваше величество, и дубина хороша, когда защищаешь родную землю, — ответили ему.
Тут выступил Платов и с ним группа казаков. Атаман обратился к императору Александру:
— По вашему повелению представляю казаков из рода Иловайских.
— Ах, да! — вспомнил Александр об отданном накануне приказе. — Сколько же их? Семь братьев? И все из одной семьи?
— Так точно! Сыновья генерала от кавалерии Дмитрия Иловайского.
Наполеон и прусский король с удивлением смотрели на происходящее. Переводчики им объясняли.
Александр подошёл к стоявшему в шеренге справа генерал-майору:
— Вы кто?
— Иловайский второй, Павел Дмитриевич!
— Какого года рождения?
— Одна тысяча семьсот шестьдесят четвёртого.
— Стало быть, вам уже сорок три года. А вы? — спросил император стоящего рядом, тоже генерала.
— Иловайский третий Иван Дмитриевич. — И, не ожидая очередного вопроса, доложил: — Сорок лет недавно исполнилось.
— Полковник Иловайский восьмой Степан Дмитриевич, — ответил третий и назвал возраст.
— Подполковник Иловайский девятый Григорий Дмитриевич, двадцать семь лет, — отрапортовал четвёртый.
— А вы? — указал Александр на левофлангового юнца.
— Есаул Иловайский четырнадцатый! Пётр!
— Сколько же тебе лет?
— Шешнадцать!
Довольный произведённым впечатлением, Александр произнёс:
— Вот какие у меня служат воины — семь сыновей у отца, и все воюют. С такими только и вершить ратные дела.
Наклонившись к прусскому королю, он сказал негромко:
— Потерпите. Мы своё воротим.
Тогда же Наполеон имел беседу с атаманом Войска Донского Платовым.
— Велико ли ваше войско? — спросил он его.
— Оно, ваше величество, что Дон: не вычерпать его ни ковшом, ни ведёрцем, — ответил атаман.
В конце встречи Наполеон достал из кармана золотую табакерку со своим портретом на крышке и протянул её Платову:
— Просил бы вас в знак искреннего признания принять эту скромную вещицу.
В ответ Платов протянул Наполеону лук и колчан со стрелами:
— А вас я прошу принять это оружие. Его стрелы летят не столь далеко, как пули, но благодаря твёрдой руке, острому глазу и преданному родине сердцу метко поражают врага.
Против шведов
Не успела завершиться война с Наполеоном в Прибалтике, как в Петербурге заговорили о войне со Швецией. Стремясь обезопасить Петербург и установить контроль над Финским заливом, правительство России намеревалось овладеть территорией Финляндии, входившей в состав Швеции.
С этой целью у границы Финляндии был сосредоточен двадцатичетырёхтысячный корпус генерала Ф. Ф. Буксгевдена в составе 5-й дивизии Н. А. Тучкова, 21-й дивизии П. И. Багратиона и 17-й дивизии Н. М. Каменского. Шведские войска в Финляндии насчитывали девятнадцать тысяч человек, и, кроме того, значительные силы представляли резервные части, находившиеся в глубине территории.
В ночь на 8 февраля 1808 года русские войска перешли границу и развернули наступательные действия. Они велись по трём направлениям. На правом фланге 5-я дивизия Тучкова, идя на Куопио, должна была отрезать путь отхода на север финляндской группировке. В центре 21-й дивизии Багратиона следовало выйти на побережье Ботнического залива и перерезать неприятельские войска на две части. На левом фланге вдоль побережья Финского залива на Гельсингфорс наступала 17-я дивизия Каменского.
Движение войск на указанных направлениях происходило успешно. В 5-й дивизии особенно удачно действовал отряд генерала Николая Николаевича Раевского. Проявив смелый манёвр, отряду удалось овладеть Христианштадтом и Вазой.
В связи с новым неожиданным назначением генерала Тучкова его место освобождалось, и в командование вступил генерал Раевский. Ему подчинялись полки: Севский, Калужский, Белозерский, Петровский, Великолукский, Пермский и Могилёвский; части егерских полков: 12, 23, 24 и 26-го, а также два эскадрона лейб-казаков.
Зима стояла суровая: морозная и снежная. Полкам приходилось пробиваться по глубокому снегу, доходившему местами до роста человека.
У одного из хуторов шедший впереди дозор натолкнулся на неприятельский заслон.
Егеря попытались было ворваться во вражеское расположение, но едва они бросились вперёд, как перед ними с грохотом стали валиться на дорогу огромные сосны, преграждая путь.
— Братцы!.. Братцы!.. Выручай!..
К попавшим в беду бросились на помощь, но по ним открыли стрельбу засевшие на деревьях вражеские стрелки.
Занятый неприятелем рубеж как бы седлал дорогу: его левый фланг скрывался в дремучем, с навороченными валунами и буреломом лесу, через который нельзя было пробиться, правый же обрывался у глубокого ущелья, уходившего к озеру. Саму дорогу преграждал завал из могучих деревьев. За ними засели облачённые в белые балахоны невидимые и меткие стрелки.
Командовавший дозором был из молодых неискушённых офицеров.
— Без пушки тут не обойтись, — высказался он не очень уверенно.
— А что это даст? — возразили ему. — Картечью врага не достать, мешает завал, а фугасными ядрами бить в снег — напрасная затея.
Примчался верхом на коне генерал Раевский. Покинув седло, он направился к дозорным. Старший с лычками унтера доложил обстановку.
У Николая Николаевича было правило: в сражении с принятием решения не спешить. Прежде чем объявить его, он узнавал мнение других.
Выслушав унтера, генерал приказал вызвать сюда казачью сотню. Когда объявился хорунжий, он велел ему обойти неприятельский рубеж с фланга, со стороны озера:
— Лед крепкий, надёжный, коней выдержит. Зайдёте поглубже и ударите по неприятелю с тыла. А мы вас отсюда поддержим пушками.
Подобравшись незамеченными, казаки внезапно ворвались в хутор. Однако противник не впал в панику, вступил в бой и яростно сопротивлялся. Но его атаковали с фронта егеря, проделав в завалах проходы.
Теснимый с двух сторон, неся потери, враг отступил. Часть его бежала в лес, несколько человек были пленены.
После жаркой схватки дивизии удалось вышибить шведов из города Кумо, а затем занять Бьернеборг. Командуя передовым отрядом, Раевский отлично справился с заданием: 6 марта он занял Нормарк, а 12 марта русские солдаты ворвались в Христианштадт. Оставив в городе небольшое подразделение, генерал Раевский повёл преследование отступавших к Вазе шведов. Через пять дней он занял и этот город.
Когда кончилась весенняя распутица, прибыло подкрепление. Генерал Буксгевден произвёл переформирование вверенных ему войск: создал три корпуса. Раевский с семью тысячами солдат представлял первый корпус, сосредоточенный у Гамле-Карлеби, вторым корпусом такой же численности командовал Барклай-де-Толли. Корпус сосредоточили в районе Вильманстранда и Нейшлота. Остальные силы, около шестнадцати тысяч человек под начальством графа Каменского и князя Багратиона, расположились в обороне морского побережья.
Раевский и Барклай должны были наступать с корпусами на запад, тесно взаимодействуя с отрядами. Шведский главнокомандующий Клингспор ожидал высадки русских десантных отрядов на Аландских островах. Действия отрядов Раевского он принял за начало десантной операции, атаковал их превосходящими силами и сам предпринял высадку шведов в тыл русских войск.
Корпус попал в очень тяжёлое положение, однако его командир, генерал Раевский, проявил полководческий талант, и почти весь неприятельский десант вместе с начальником десанта — адъютантом шведского короля — был взят в плен.
Летом в штаб корпуса прибыл для координации действий наступающих корпусов генерал Каменский. Это был сын выдающегося русского фельдмаршала Михаила Фёдоровича Каменского. Николай Михайлович проявил себя как блестящий, подающий надежды молодой генерал.
С его прибытием боевые действия стали носить характер смелых и решительных операций. Последовал ряд победоносных сражений, в которых участие генерала Раевского приобрело новые полководческие черты. В сражениях у Карстула, Перхе, Лаппо шведские войска потерпели тяжёлые поражения.
23 августа возглавляемый Николаем Николаевичем отряд совершил смелый обходящий манёвр, в жестоком сражении нанёс шведскому отряду существенный урон и принудил его к отступлению.
Успешное действие корпуса Раевского в немалой степени способствовало войскам, возглавляемым Багратионом, завершить беспримерную операцию по овладению Аландскими островами, которые по окончании войны отходили к России.
17 сентября 1808 года было подписано перемирие. Война со Швецией закончилась. Она много дала Николаю Николаевичу. Прежде всего он освоил особенности управления войсками в лесисто-озёрном крае. Приобрёл он также опыт руководства небольшими, разобщёнными между собой отрядами не только пехоты, но и кавалерии, артиллерии, осознал важность совершения в сражениях обходов и охватов неприятеля и последующих внезапных ударов по нему.
За участие в войне со шведами Раевский был произведён 12 апреля 1808 года «за отличие» в генерал-лейтенанты и включён в свиту его императорского величества. Через два дня — 14 апреля — он был назначен дивизионным начальником 21-й пехотной дивизии, ранее находящейся под командованием генерал-лейтенанта Багратиона.
В Молдавской армии
По завершении войны со шведами Николаю Николаевичу Раевскому предложили ехать в Молдавскую армию. На Дунае, несмотря на перемирие, отношения России с Турцией по-прежнему оставались крайне напряжёнными. Известное влияние оказал на турецкое правительство и недавний союзник России Наполеон. Используя нарушение Россией условий Тильзитского договора, он стремился изолировать её от западноевропейских государств, рассчитывая на использование турецкой армии в своих интересах. В военных планах Наполеона Турция должна была вторгнуться в Россию с юго-запада и, пройдя Украину и Белоруссию, овладеть Крымом и причерноморскими землями.
Главнокомандующим Молдавской армией назначался старший сын почившего фельдмаршала Каменского граф Сергей Михайлович Каменский… Он показал себя в войне со шведами, и теперь выбор главнокомандующего пал на него. Имея в подчинении опытных военачальников, он в кампании 1810 года отличился в боях при штурме Шумлы, в сражении при Батине, при занятии Никополя. Вскоре он принял командование 3-й Западной армией, главные силы которой находились в районе Луцка.
В командование Молдавской армией вступил младший сын фельдмаршала Каменского. Не имея полководческого дара, он не приобрёл в войсках должного успеха. Об этом прямой и справедливый Раевский заявил ему во всеуслышание.
Вскоре на должность командующего Молдавской армией заступил генерал Багратион.
Прослужив недолго, он был назначен главнокомандующим 2-й Западной армией, занимавшей оборону у Волковыска и Белостока.
Перед отъездом он заверил Раевского, что тот непременно поступит в его подчинение командиром 7-го пехотного корпуса.
В 1811 году, когда война с Турцией зашла в тупик, Александр Первый назначил главнокомандующим Молдавской армией Кутузова. Приняв армию, Михаил Илларионович в первом же Рущукском сражении нанёс противнику сокрушительный удар. Он преднамеренно отвёл свою армию на левый берег Дуная, заставил противника оторваться от баз, добился расчленения его сил и, применив искусный манёвр, разгромил сорокатысячную армию под Слабодзеей.
Лишившись армии, Турция запросила мира, попыталась затянуть переговоры, но Кутузов слыл не только выдающимся полководцем, но и умелым дипломатом. Ему удалось преодолеть все трудности, и 28 мая 1812 года, всего за месяц до вторжения Наполеона в Россию, заключить выгодный Бухарестский мирный договор.
По этому договору турецкая граница отодвигалась от Днестра к Пруту, Бессарабия освобождалась от турецкого ига, значительно облегчалась участь сербов, болгар и других славянских народов. А войска Молдавской армии могли быть частично пере брошены на западную границу.
Узнав о подписании Бухарестского мирного договора, Наполеон не смог сдержать негодования:
— У этих болванов турок дарование быть биты ми! Победа Кутузова так велика, что я предвидеть этого не мог!
Принимая участие в сражениях в Молдавской армии, генерал Раевский выказал особое отличие при осаде и взятии крепости Силистрия в 1810 году, за что удостоился шпаги с бриллиантами и надписью на ней: «За храбрость». Позднее он отличился в сражениях под Шумлой.
В 1811 году Раевский вступил в командование 7-м пехотным корпусом, входившим в состав 2-й русской Западной армии.
Часть четвёртая ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА
Начало
памятной встречи в Тильзите прошло пять лет. Подписывая на Немане мирный договор с Россией, Наполеон надеялся укрепить своё положение властелина в Европе. Однако его надежда не оправдалась. Россия по-прежнему сохраняла узы доверия с давними своими союзниками в ущерб интересам Франции.
А кроме того, произошёл непредвиденный конфликт с императором Александром. Расторгнув брак с законной женой Жозефиной, Наполеон при казал послу в России Коленкуру спешно заручиться договором о заключении брака с младшей сестрой Александра, великой княжной Анной Павловной.
— Да ей только четырнадцать лет! — возмутилась вдовствующая императрица Мария Фёдоровна. — Пусть он подождёт.
Но не таков был император Франции, чтобы выслушивать поучения.
На торжественном приёме дипломатического корпуса в Париже он во всеуслышание обратился к русскому послу князю Куракину с гневной проповедью.
— На что надеется ваш государь? — угрожающе произнёс он, требуя, чтоб Россия незамедлительно подписала выгодное для Франции соглашение.
Оробевший Куракин ответил, что он не имеет полномочий для подписания такого акта.
— Нет полномочий? Так потребуйте себе эти полномочия! Я не хочу войны, я не могу восстановить Польшу, но вы сами хотите присоединения к России герцогства Варшавского и Данцига. Пока секретные документы вашего двора не станут открытыми, я не перестану увеличивать армию, стоящую в Германии!
Оправданий и объяснений Куракина Наполеон не принял. Заключая свою тираду, он заявил с угрозой:
— Не знаю, разобью ли я вас, но мы будем драться!
И Наполеон направился к Неману, где была сосредоточена шестисоттысячная французская армия, для осуществления своей угрозы.
Весь день 11 июня кавалькада императора находилась в пути. От частых дождей дорога раскисла, лошади с трудом тянули кареты, колеса порой по ступицу вязли в грязи. Восседавшие на передках кучера хрипло покрикивали, хлестали кнутами.
Впереди маячили верховые головной охраны, а позади трусили всадники эскадронов Старой гвардии.
Дорога вела к реке, на противоположном берегу которой был город Ковно с русскими войсками.
В головной карете ехал Наполеон. Он, рассеянно слушая спутников, думал о предстоящем деле — войне, которую он не сегодня-завтра развяжет против недавней союзницы России. Коленкур попытался было отвлечь императора от тяжких мыслей, но получил оскорбительный для себя упрёк: тот назвал его русским.
— Я не русский, мой император, я француз. И в России нёс службу по вашей воле, — ответил Коленкур с вымученной улыбкой.
— Да-да. Я помню.
Наполеон снова погрузился в мысли о России, о бывшем союзнике императоре Александре, против которого он поведёт изготовленные к войне войска.
В сумерках кавалькада подъехала к глухому хутору. Вокруг кирпичные мызы, тёмные островерхие строения, у крыльца особняка с ярко освещёнными окнами застыл строй генералов и полковников.
— Мой император, — вырос перед Наполеоном маршал Даву, — войска корпуса ждут вашего приказа, чтобы начать поход в Россию.
— За этим дело не станет. Далеко ли до города?
— До Немана одно лье, а Ковно по ту сторону.
— Распорядитесь подать коней, поедем к реке…
— Может, с дороги отдохнуть? — предложил было маршал, но тут же осёкся. — Кони будут.
— Где сапёрный начальник?
— Это генерал Аксо. Он здесь.
Наполеон недолюбливал маршала Даву, считал его претенциозным и самовлюблённым, не в меру хваставшим своими успехами.
Даву, как и Наполеон, окончил Парижскую военную школу. Встав на сторону революционной армии, он за восемь лет стал бригадным генералом. Начальствовал над кавалерией в египетской экспедиции Наполеона в 1799 году, потом принял командование корпусом и отличился в сражениях при Ульме, Аустерлице и Прейсиш-Эйлау. Теперь его корпус должен был первым перейти русскую границу и наступать на Вильно.
Из свиты вышел небольшого роста толстенький генерал.
— Я Аксо, ваше величество.
Наполеон смерил его взглядом, как бы оценивая человека, ведавшего в корпусе инженерными делами.
— Хочу знать, генерал, где вы наметили места переправы и каков порядок перехода войск через Неман?
— Этим делом занят генерал Эльбе. У него всё готово, и он ждёт команды, чтобы приступить к наводке мостов.
— Покажите мне эти места.
— Мой император, сейчас ехать туда нет резона. Нужно выждать рассвета.
— Убедили. — Наполеон обернулся к Даву: — Подождём до рассвета.
Рассвело, когда они выехали. Наполеон, его начальник штаба маршал Бертье, Даву и Аксо впереди, на небольшом удалении позади — свита. Свернув с дороги, они направились к реке по заросшему бурьяном бездорожью.
И тут произошёл неожиданный конфуз. Из-под ног коня Наполеона метнулся серый комок. Конь прыгнул в сторону, дико захрапел, а всадник, не удержавшись, вылетел из седла и беспомощно распластался на земле.
— Мой император! — соскочив с коня, бросился к нему Бертье. — Что случилось? Вы не ушиблись?
Ухватив Наполеона под руки, Даву пытался его поднять.
Находившиеся поодаль генералы свиты замерли: они знали, что Наполеон был далеко не блестящим наездником, но такой пассаж с императором шокировал их.
Отряхивая пыль и потирая ушибленный локоть, Наполеон криво улыбался:
— Чёрт бы побрал этого зайца.
— Это дурная примета, — негромко произнёс кто-то из свиты.
— Затеваемое дело может плохо кончиться, — послышалось в ответ.
Наполеон вскипел:
— Замолчать!
Он повернулся к Даву:
— Они-то зачем? Они мне не нужны!
— Господа! Останьтесь здесь. Вас пригласят, если будете нужны, — распорядился Даву.
Прежде чем тронуться с места, Наполеон уже другим тоном проговорил:
— На всякий случай дайте шинель. Не хочу, чтоб с той стороны меня узнали.
Шинель тотчас доставили. Для низкорослого императора она была великовата. Ему помогли надеть её. Рукава он подвернул, пуговицы не стал застёгивать.
У реки генерал Аксо указал, где будут установлены понтонные мосты. Их будет три, по ним войска должны перейти Неман. Аксо показал, каким путём колонны станут выдвигаться к мостам из леса, где сейчас сосредоточиваются войска.
— Понтоны сейчас тоже в лесу, а сегодня, с наступлением темноты, их начнут подтаскивать, — объяснял он. — К рассвету все три моста установят. А перед тем мы высадим на противоположный берег батальон польских егерей, которые обезопасят работу сапёров. Лодки для них уже готовят.
Наполеон слушал, изредка прерывая Аксо вопросом.
— Какой полк переправляется первым?
— Дивизия генерала Морана.
— Меня интересует не дивизия, а полк!
— Тринадцатый пехотный, — виновато отдал честь генерал. — Первый его батальон переправится на лодках, остальные пройдут по мостам. Полк закрепит за собой плацдарм и обеспечит переход через Неман дивизии генерала Морана.
Наполеон удовлетворённо кивнул.
— Переправу начать в предстоящую ночь. К утру корпус должен вступить в пределы России.
— Будет выполнено, мой император! — ответствовал Аксо.
На рассвете 12 июня Наполеон с высоты прибрежной кручи наблюдал, как войска переходили реку.
Он стоял в своей излюбленной позе, сложив на груди руки, выставив ногу и надвинув на лоб треуголку. Позади находились ближайшие его помощники: Бертье, Мюрат, Даву, Ней, генералы, адъютанты. Они негромко переговаривались, чтобы не потревожить Великого.
По трём сооружённым мостам тек бесконечный людской поток. Шагала пехота, катила тяжеловесная артиллерия, выбивала дробь о настил мостов кавалерия. Один батальон сменялся другим, за полком вступал новый полк, а по протоптанным к мостам дорогам уже подходила очередная дивизия.
Завидев императора, солдаты восторженно кричали «виват», размахивали киверами. Шагали французы и австрийцы, пруссаки и поляки, испанцы и итальянцы, швейцарцы, баварцы, саксонцы. Шла непобедимая «двунадесят языц» армия, равной которой по силе не было в мире.
Перейдя Неман, войска сливались, словно ручьи, в колонны и шли по дороге на восток.
— На Вильно! — слышались голоса. — Скоро будем в Вильно!.. И в Смоленске!.. И в Москве!..
Накануне Наполеон подписал приказ, который был доведён до войск:
«Солдаты! Вторая польская война начата. Первая кончилась во Фридлянде и Тильзите. В Тильзите Россия поклялась в вечном союзе с Францией и клялась вести войну с Англией. Она теперь нарушает свою клятву. Она не хочет дать никакого объяснения своего странного поведения, пока французские орлы не перейдут обратно через Рейн, оставляя на её волю наших союзников. Рок влечёт за собой Россию, рок её судьбы должен совершиться. Считает ли она нас уже выродившимися? Разве мы уже не аустерлицкие солдаты? Она ставит нас перед выбором: бесчестье или война. Выбор не может вызвать сомнений. Итак, пойдём вперёд, перейдём через Неман, внесём войну на её территорию. Вторая польская война будет славной для французского оружия, как и первая. Но мир, который мы заключим, будет обеспечен и положит конец гибельному влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает на дела Европы».
Никогда ещё не вторгалась на русскую землю сила, исчисляемая шестьюстами тысячами человек при полутора тысячах орудий. Им противостояла русская пограничная армия численностью двести тридцать тысяч защитников и девятьсот орудий. Она не смогла сдержать врага и отходила.
Всё, казалось, располагало французского полководца к доброму настроению: и ясное румяное утро, и успешно начатая переправа, и ликование солдат. Однако Наполеона не покидало необъяснимое и тревожное чувство. Оно вызывалось и досадными восклицаниями генералов, когда накануне он упал с коня, и многочисленными высказываниями приближённых в сомнительном успехе войны с Россией, и заклинаниями одного из его министров: «Император! Умоляю во имя Франции, во имя нашей славы, во имя вашей и нашей безопасности! Вложи те меч в ножны, вспомните о Карле Двенадцатом!»
«Несчастный! — мысленно ответил тогда Наполеон. — Я докажу, что французская армия не шведская. Кто устоит против неё, закалённой в грозных сражениях? И могут ли русские военачальники сравниться с моими многоопытными маршалами и генералами? В первом же сражении я нанесу поражение русской армии, а потом заставлю императора Александра подписать мир, который я, Наполеон, ему продиктую. Да, я знаю, что русская армия — грозная сила и одолеть её совсем непросто, но я готовился к войне, всё учёл и взвесил… Нет, я верю в свою звезду, верю в победу…»
С трудом пробившись на мосту через встречный людской поток, к холму, нахлёстывая коня, мчался всадник. Лихо соскочив, он подбежал к Наполеону:
— Мой император! Рад доложить, что нами взят город Ковно! Взят без боя! В нём не было ни одного русского солдата!
— Поздравляю, господа, с первой победой! — обратился Наполеон к свите. — Ковно пал, теперь очередь за Вильно.
— Так мы дойдём и до Москвы, — сказал кто-то, чтобы сделать императору приятное.
— Нет, до Москвы далеко. Мы разобьём русских ещё до Смоленска. Возможно, и ранее.
Имея превосходство в силах и учитывая разобщённость трёх русских западных армий, Наполеон свёл замысел разгрома сил неприятеля к частям. Прежде всего он решил разбить расположившуюся у Ковно и Вильно 1-ю армию генерала Барклая-де-Толли, потом нанести мощный удар по 2-й армии генерала Багратиона, открыв для победного марша решающее направление через Смоленск на Москву.
Генерал-лейтенант Николай Николаевич Раевский, вступив 31 марта 1811 года в должность командира 7-го пехотного корпуса, находился во 2-й Западной армии, которой командовал генерал Багратион.
Армия прикрывала минское направление, имея в своём составе 48 тысяч человек и 216 орудий. Находясь в пятистах километрах от 1-й армии, она уступала ей в боевой численности; армия Барклая имела 127 тысяч человек и 558 орудий.
О той обстановке, в которой пребывала 2-я армия и, в частности, 7-й пехотный корпус, дают представление письма генерала Николая Раевского, адресованные родному дядюшке по матери, графу Александру Николаевичу Самойлову. В своё время тот служил в армии, был генералом, в конце царствования Екатерины Второй его произвели в действительные тайные советники, он был также генерал-прокурором, государственным казначеем, членом Верховного совета.
Вот отрывки из писем Раевского.
«25 февраля. Радомысль
Через два дня моя дивизия и вся армия выступают в поход, я буду поблизости Ковеля, Волынской губернии, и вся армия, как сельдь в бочонке, на границе герцогства Варшавского.
Прошу Вас, милостивый государь дядюшка, писать ко мне в Дубну; проведя несколько дней в Житомире, я туда направлюсь. Повеление из Петербурга, ничего не объясняющее. Квартиры и маршруты присланы оттуда. Мы будем стоять так тесно, что скоро или вперёд пойдём, или нас принуждены будут распустить. Неожиданный поход чрезвычайно затруднителен войскам и мне. На продовольствие не прислано ни копейки, а получили только по январь: заготовили на мои собственные способы. Теперь всё оставляем и вновь надобно снабжаться — вот наше положение. О неприятеле известно, что через Одер не проходил…»
«12 апреля. Вельцы
…Движение армии нашей служит причиною отправления жены моей восвояси. Скажу Вам причину оному и что как у нас делается. Вам уже известно, что главная квартира Первой армии в Вильно, коей фланг примыкает к морю. На 500-й дистанции, нас разделяющей от неё, был корпус Эссена, в двух дивизиях состоящий, в Прусанах против Бреста, позади его болота непроходимые, — здравый рассудок всякому скажет, что неприятель, сосредоточив свой правый фланг, опрокинув слабый корпус Эссена, соединёнными силами может напасть на Первую армию прежде, нежели Вторая до половины дороги дойдёт к ней на помощь, превосходными силами истребить её может; но видно, что они или не готовы к войне, или не были хорошо о сём извещены, или также, будучи люди, ошиблись, не пользовались нашим невыгодным положением. Теперь есть известие, что несколько полков показались на правом берегу Вислы, и мы спешим исправить погрешности наши, до чего можно нас не допустить, буде они имеют сие намерение. Итак, корпус мой, Докторова и дивизия сводных гренадер Воронцова выступают, а другие выступили к Прусанам. Каменецкого корпус остаётся на месте и входит в состав армии Тормасова. Главная квартира, говорят, будет в Дубно.
С турками мир: Вам должно быть сие известно…»
«28 мая, на биваках близ Несвижа
…Неприятель начал свою переправу у Ковно и Олиты. Вместо того чтобы остановить его, Первая армия тотчас без выстрела отступила за Вильну. Князь Пётр Иванович (Багратион. — А.К.) получил тогда приказание подкрепить Платова, который был в Белом с восьмью казачьими полками. Платову же приказано ударить на их тыл. Сия слабая диверсия в то время, когда Главная армия ретируется, поставила нас в опасность быть отрезану. Князь о сём представил и предложил, буде угодно, хотя у нас оставалось не более тридцати тысяч, идти на Остроленку (мы тогда были в Волковишке, где была главная квартира польских войск) или ретироваться в Минск и оттуда соединиться с Главной армией. По первому предположению, мы, разбивши поляков, отступили бы к Торшасиву, а Главная армия тоже должна была действовать наступательно. Князь получил в ответ идти на Минск и оттоль стараться соединиться с Первой армией. Едва сделали мы несколько маршей, нам вдруг пишет государь, что он будет стоять в Свенцианах, чтобы шли на пролом корпуса Даву и с ним соединились. Мы уже начинали сходиться с французами, как вдруг получили от государя, что он отступает и что, как ему известно, против нас отражены превосходные силы в трёх колоннах, то чтоб и мы отступали. Мы хотели идти опять на Минск и направили туда наше шествие, но получили известие, что все дороги перерезаны неприятелем; продолжение сего направления лишало бы нас обозов и продовольствия. К величайшему нашему огорчению, получили мы известие, что государь предоставляет князю уже не искать с ним соединения, но действовать по его воле; почему мы следуем к Слуцку, а может, и к Бобруйску, где остановимся. Девятнадцать дней мы в движении без роздыхов. Не было марша менее сорока вёрст. Не потеряли ни повозки, ни человека. Берём реквизицию, поим и кормим людей. У меня в корпусе больных только семьдесят человек. Никогда все мы не хотели так драться, и конечно, имея пятьдесят тысяч, мы восьмидесяти не боимся. Итак, без выстрела отдали Польшу. Завтра государь с армией за Двиной. У нас вчерась первая была стычка. Три полка кавалерии насунулись на Платова. Платов их истребил. Начало прекрасное. Государь пишет, что все силы и сам Бонапарт устремится на нас. Я сему не верю, и мы не боимся. Если это так, то что ж делает Первая армия? Я боюсь прокламаций, чтобы не дал Наполеон вольностей народу, боюсь в нашем крае внутренних беспокойств. Матушка и жена, будучи одни, не будут знать, что делать…»
2-я армия начала переправу через Неман поздним вечером 22 июня. Был установлен следующий походный порядок. В авангард под начальством генерал-адъютанта Васильчикова вошли Ахтырский гусарский и один казачий полки, Сводная гренадерская дивизия, Нарвский пехотный и 5-й егерский полки и конноартиллерийская рота.
Главные силы должны были двигаться двумя эшелонами. Первый эшелон составили войска 7-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Раевского, второй эшелон — войска 8-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Бороздина. Во главе каждой колонны находилось по одной сапёрной роте для исправления дорог и мостов. Упустив время отхода 2-й армии, её бросились догонять корпус брата Наполеона Жерома и части корпуса Даву. Их силы намного превышали численность преследуемой ими армии Багратиона.
Первые бои в направлении отхода 2-й армии на Могилёв провели против французов и поляков отряды Платова и полковника Дорохова. По приказу они должны были прикрывать отход войск 1-й армии, однако превосходящими силами противника были оттеснены к югу и действовали в интересах 2-й армии.
26 июня французы решили отбросить отряд Платова, чтобы пробиться к основным силам армии генерала Багратиона. Схватка произошла близ местечка Мир. Завершилась она разгромом неприятеля. В донесении генералу Багратиону Платов писал:
«Поздравляю Ваше сиятельство с победой, и с победой редкою. Сильное сражение продолжалось часа четыре, грудь на грудь. Я приказал придвинуть гусар, драгун и егерей. Генерал-майор Кутейников подоспел с бригадою и ударил с правого фланга так, что из шести полков неприятельских едва ли останется одна душа или, быть может, несколько спасётся…
У нас урон невелик. Генерал-майор Иловайский получил две раны: сабельную в плечо легко и в правую ногу пулею, — но он докончил своё дело. Генерал-майор Васильчиков отлично с первым эскадроном ударил по неприятелю и удивительно храбро сражался; генерал Краснов в сей победе много способствовал… При самом начале сражения был приказ, чтобы казаки, лишившиеся лошадей, бились пешие, легко раненные не отдалялись бы и каждый бился бы до изнеможения сил. Мы должны, были показать врагам, что помышляем не о жизни, но о чести и славе России».
Вскоре отряд Платова ввязался в бой с польскими кавалеристами у селения Романово. Поляки понесли значительные потери. Поле и дорога были усеяны вражескими телами. В плен было взято семнадцать офицеров, более трёхсот пятидесяти нижних чинов.
В конце июня генерал Барклай-де-Толли принял решение миновать так называемый Дрисский лагерь и продолжить отход к Витебску. Преследуемая войсками Мюрата и Нея, 1-я армия всё далее и далее отходила от маршрута 2-й армии.
С потерей Минска армия Багратиона могла идти лишь на Бобруйск, и 5 июля она достигла этого города.
После поступления отряда Платова в подчинение Багратиона казачий отряд занял место в арьергарде, сменив 7-й пехотный корпус Раевского.
И тут на имя атамана Платова поступило распоряжение главнокомандующего 1-й армией генерала Барклая о незамедлительном поступлении казачьего отряда в состав 1-й армии.
Несуразность данного приказа не вызывала сомнения. Но Барклай был не только главнокомандующим 1-й армией, он был ещё и военным министром. Его приказ не мог быть невыполненным.
Багратион не выдержал.
— Пишите мой ответ военному министру, — велел он начальнику штаба 2-й армии генералу Сен-При. — «Обстановка вынуждает задержать при вверенной мне армии донские войска до моего повеления. Багратион».
Не скрывая удивления, Сен-При покачал головой.
— Письмо незамедлительно направить в штаб генерала Барклая, — распорядился Багратион. — А вам, Матвей Иванович, приказываю оставаться на месте.
Французскому корпусу маршала Даву удалось овладеть Могилёвом, где находилась главная переправа через Днепр. Другая переправа была южнее по реке, у Нового Быхова, там проходил маршрут 2-й армии. Чтобы воспользоваться ею, нужно было задержать французские войска маршала Даву в Могилёве. Тогда, переправившись через Днепр у Нового Быхова, войска армии Багратиона могли бы выйти к Смоленску и там соединиться с войсками 1-й армии.
7-му корпусу генерала Раевского было приказано занять оборону южнее Могилёва и своими действиями внушить французскому маршалу ложное представление, что здесь русские войска намерены дать решительное сражение. В подтверждение к южным подступам к Могилёву была выдвинута гренадерская дивизия генерала Воронцова.
Был инсценирован побег взятого ранее в плен французского майора, которому удалось услышать отдаваемое распоряжение одного из русских генералов на разгром у Могилёва войск Даву.
Тщеславный французский маршал решил выждать, чтобы в ближайший день окончательно разгромить у Могилёва русских, которых он преследовал около трёх недель.
У Смоленска
Около семи часов 11 июня авангард 7-го пехотного корпуса в составе 6-го и 42-го егерских полков решительно атаковал французские позиции у небольшой речушки Салтановки. Отбросив неприятельские сторожевые посты, егеря прорвались к мосту. За ним виднелись недалёкие избы деревни Салтановки.
— Вперёд, братцы! — призывал солдат к броску командир полка Глебов.
Однако преодолеть небольшое простреливаемое ружейным огнём и артиллерии пространство было непросто. Кроме того, находившийся у деревни французский батальон перешёл в контратаку против горстки смельчаков и отбросил их за реку.
Наблюдая за этой ожесточённой схваткой, генерал Раевский понял, что у противника здесь имеются значительные силы и одолеть их нелегко. Более того, противник наверняка предпримет атаку против правого фланга корпуса и может, обойдя его, прорваться в тыл. К тому же было видно, что французские войска сосредоточиваются и слева, у деревни Фатово, где ведут бой части 26-й пехотной дивизии генерала Паскевича.
Примчался адъютант от генерала Багратиона.
— Командующий требует донести ему обстановку.
— Передайте: «Неприятель остановился за рекой… Место у него крепкое. Я послал Паскевича, приказал обойти французов, а сам с Богом, грудью!»
По многим описаниям и документальным источникам бой у Салтановки происходил так.
По принятому генералом Раевским решению 26-й пехотной дивизии надлежало совершить по узкой лесной тропинке манёвр в сторону деревни Фатово и атаковать находившиеся там французские войска. Начало этой атаки должно было служить сигналом для перехода в наступление главных сил 7-го пехотного корпуса.
Дивизия вышла на задание одной колонной, имея впереди пехоты три артиллерийские батареи и в замыкании кавалерию. При подходе к деревне Фатово в лесу головные батальоны столкнулись с батальоном 85-го полка противника. Этот батальон предназначался для внезапного удара во фланг выдвигавшихся частей русских.
Обнаружив неприятеля, егеря открыли по нему залповый огонь из ружей, ударили также орудия. Французы в панике бежали. Но им на помощь подоспел батальон из 108-го полка. Оба подразделения залегли на южной окраине деревни Фатово.
В голове выдвигавшейся русской дивизии были подразделения Орловского и Нижегородского полков. Генерал Паскевич приказал им с ходу атаковать залёгшую неприятельскую цепь. Находившиеся в колонне двенадцать орудий спешно заняли огневые позиции и открыли по врагу ураганный огонь.
Скрытые французские резервы вынуждены были перейти в контратаку. Завязалась рукопашная схватка…
В это время обострилась обстановка в полосе наступления корпуса Раевского. Против Смоленского полка, одного из лучших в корпусе, противник сосредоточил превосходящие силы. Произошло кровопролитное сражение.
Решительный и опытный генерал понял, что наступил тот момент, который определяет исход схватки, и он оказался в гуще сражающихся.
— Всем за мной! — скомандовал он.
— А нам где быть? — вдруг вырос перед ним его старший сын — шестнадцатилетний Александр.
Рядом стоял и второй сын — одиннадцатилетний Николай.
— Быть со мной! Не отставать ни на шаг!
Так и пошли они в атаку впереди Смоленского полка. Их догнал прапорщик, державший древко развёрнутого полкового знамени.
— Позвольте мне взять знамя? — попросил его Александр.
— Не отставайте, поручик, от генерала! — ответил тот юному воину. — Я и сам готов умереть со святыней.
После схватки Николай Николаевич спросил у младшего сына, Николая:
— Знаешь ли ты, зачем я водил тебя против неприятеля?
— Знаю, папа: для того, чтобы мы погибли вместе, — ответил Николенька.
От захваченных во время боя пленных Раевский узнал, что под Салтановкой маршал Даву сосредоточил до пяти дивизий, однако добиться успеха не смог.
Если потери корпуса Раевского составили 2548 человек, то корпус Даву потерял 4134 человека.
Докладывая Багратиону о результате этого боя, генерал Раевский сообщал:
«Единая храбрость и усердие российских войск могли избавить меня от истребления… толико превосходного неприятеля и в толико невыгодном для меня месте; я сам свидетель, как многие штаб-, обер- и унтер-офицеры, получа по две раны, перевязав оные, возвращались в сражение, как на пир. Не могу довольно не похвалить храбрость и искусство артиллеристов: в сей день все были герои…»
К числу отличившихся под Салтановкой относились сам генерал Раевский и оба его сына — Александр и Николай.
Позже участник Отечественной войны 1812 года и выдающийся русский поэт Василий Андреевич Жуковский в известной поэме «Певец во стане русских воинов» посвятил этому событию следующие строки:
Раевский, слава наших дней, Хвала! перед рядами Он первый грудь против мечей С отважными сынами.Человек исключительной храбрости, Николай Николаевич обладал необыкновенной скромностью. Он не любил говорить об участии своих детей в деле под Салтановкой.
Объясняя опасность обстановки, он утверждал:
— В тот момент солдаты пятились, и я ободрял их. Со мной были адъютанты и ординарцы. По левую сторону всех перебило и переранило, на мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Вот и всё тут.
Наступление Смоленского полка в направлении Салтановки завершилось к ночи. По приказу Раевского войска 7-го пехотного корпуса отошли к Дашковке, стараясь ввести неприятеля в заблуждение относительно своих дальнейших действий. Ожидая атак, противник усиленно укреплял занимаемые позиции.
А тем временем главные силы 2-й армии начали переправу через Днепр по отстроенному там мосту. По нему переправился и корпус Раевского, составляя арьергард армии.
За проявленную в бою под Салтановкой храбрость 409 человек из состава 7-го пехотного корпуса были награждены.
23 июля армия Багратиона достигла Смоленска и заняла позиции на левом берегу Днепра, преграждая дорогу из Красного в Смоленск.
В Смоленске уже находилась 1-я армия генерала Барклая-де-Толли, и в городе произошло объединение двух армий. Замысел Наполеона, рассчитанный на уничтожение русской армии, был сорван.
Марш-манёвр 2-й Западной армии представлял собой замечательный пример в истории русского военного искусства. Отчитываясь о нём, генерал Багратион отмечал: «Быстроте маршей армии, во все времена делаемых по самым песчаным дорогам и болотистым местам с теми тягостями, которые на себе ныне люди имеют, и великий Суворов удивился бы».
Особая роль в отмеченном успехе принадлежала генералу Раевскому, чей 7-й пехотный корпус являлся ведущим звеном в армии.
После соединения двух армий создались благоприятные условия для перехода к наступательным действиям. Французские войска были разбросаны, часть их находилась на марше. Однако численность их в 183 тысячи человек превышала численность российских войск, имевших 110 тысяч человек.
Тогда же в Смоленске состоялось военное совещание, на котором было принято решение начать против французов наступательные действия.
В докладной записке императору Александру, направленной в Петербург, Барклай-де-Толли писал:
«Общим мнением решено было двинуться от Смоленска прямо к Рудне и оставить пред Смоленском сильный отряд пехоты с несколькими казачьими полками. Я согласился на сие решение потому, что оно принято было общим мнением, но с условием отнюдь не отходить от Смоленска более трёх переходов, ибо быстрым наступательным движением армия была бы приведена в затруднительнейшее положение, все выходы, полученные столь великим трудом, исчезли бы для нас. Я при сем заметил, что мы имели дело с предприимчивым полководцем, который не упустил бы случая обойти своего и тем исторгнуть победу… 26-го выступили обе армии к Ру дне… Но 27-го числа нашёл на квартире ген. Себастиани дневной приказ, удостоверивший нас, что неприятель известился о намерении нашем и отступил с умыслом…»
Не дремала и русская разведка. 3 августа она донесла, что неприятель со всеми силами переправился на левый берег Днепра и сломил сопротивление 27-й пехотной дивизии генерала Неверовского. Часть сил отошла к Смоленску. В качестве трофея французам досталось семь орудий.
— Семь орудий! — не скрывая возмущения, воскликнул Наполеон. — Я ожидал сообщения, что будут уничтожены все, кто сопротивлялся.
Учитывая удалённость 1-й армии от Смоленска на сорок километров, а 2-й армии — на тридцать километров, непосредственно защищать город назначили 7-й пехотный корпус генерала Раевского. Заняв боевые позиции в шести километрах от города, командир корпуса подчинил себе отходившие к Смоленску части.
А к городу уже спешили корпуса Нея, Мюрата и Даву. Прибыл и сам Наполеон, решивший во что бы то ни стало сломить сопротивление защитников Смоленска.
Предвидя штурм, генерал Раевский решил все свои войска сосредоточить в городе и в нём, используя крепостные строения, оказать врагу сопротивление. Позже он писал: «В ожидании дела я хотел уснуть, но признаюсь, что, несмотря на всю прошедшую ночь, проведённую на коне, не мог сомкнуть глаз: столько озабочивала меня важность моего поста, от сохранения которого столь многое или, лучше сказать, вся война зависела…»
Уверенность в успехе дела придало ему полученное от Багратиона распоряжение: «Друг мой! Я не иду, а бегу, желал бы иметь крылья, чтобы скорее соединиться с тобою. Держись. Бог тебе помощник…»
К вечеру прибыли на подкрепление четыре полка гренадер, они были направлены в резерв. А до того в распоряжение Раевского поступили кирасирская дивизия, полк драгун и полк улан. Кирасирскую дивизию он оставил на правом берегу Днепра, а драгун и улан расположил на левом фланге своей пехоты.
Перестрелка завязалась с утренней зарей. Неприятель повёл главные атаки на правый фланг оборонявшихся, примыкавший к левому берегу Днепра. Французы надеялись захватить там мост и воспретить отход русских войск по нему. Но все атаки были отражены с нанесением противнику значительных потерь огнём артиллерии и пехотой Орловского полка. Берег Днепра, особенно у моста, был завален сотнями трупов.
Однако, несмотря на убийственное поражение, неприятель продолжил безуспешные атаки.
Один из офицеров-адъютантов позже писал:
«Я выехал за Малаховские ворота, близ которых был построен редан [23] . На валу лежал генерал Раевский, при коем находился его штаб. Он смотрел в поле на движения войск и посылал адъютантов с приказаниями. По миновании редана я увидел две дороги. Шагах в 200-х от правой стояли наши стрелки; на другой дороге, которая вела прямо, бы ли на расстоянии 1/4 версты от городской стены сарай, около коих происходил жаркий бой. Французы несколько раз покушались сараи сии взять на штыки; но наши люди, засевшие в них, отбивали атаку. Ружейная пальба была очень сильная…
Скоро затем неприятель открыл по городу огонь из орудий, и через голову мою стали летать ядра; тут пришла мне мысль о возможности быть раненным и оставленным на поле сражения… поехав назад рысью, я возвратился в город, где среди множества раненых пробрался в Королевскую крепость: так назывался небольшой старинный земляной форт с бастионами, который служил цитаделью и был занят пехотою с батарейною артиллериею. Взошед на вал, я следил за действием орудий и видел, как одно ядро удачно попало вкось фронта французской кавалерии, которая неслась в атаку. Часть эта смешалась и понеслась назад в беспорядке.
Вечером получено было приказание к отступлению, и во всём лагере поднялось многоголосное роптание».
Очевидцы рассказывали, что, когда полки генерала Дохтурова пришли на смену утомлённым воинам 7-го пехотного корпуса генерала Раевского, эти последние сказали: «Мы не устали, дайте нам биться, рады все умереть!»
Русские не уступали ни на шаг, дрались, как львы. Наполеон велел жечь город. Много лет спустя он вспоминал:
«Пятнадцатитысячному русскому отряду, случайно находившемуся в Смоленске, выпала честь защищать сей город в продолжение суток, что дало Барклаю-де-Толли время прибыть на следующий день. Если бы французская армия успела врасплох овладеть Смоленском, то она переправилась бы там через Днепр и атаковала бы в тыл русскую армию, в то время разделённую и шедшую в беспорядке. Сего решительного удара совершить не удалось».
Генерал Раевский видел боевые действия 26-й пехотной дивизии генерала Паскевича и велел офицерам штаба отправляться вместе с ним к отважному военачальнику. Подъехав к командному пункту Паскевича, он соскочил с коня и, не выслушав рапорта, обнял его:
— Спасибо, дорогой Иван Фёдорович! Сей победоносный день принадлежит нашей блестящей истории. Мы все, при помощи Всевышнего, спасли не только Смоленск, но гораздо более и драгоценнее — обе наши армии и дорогое наше общество! Благодарю всех, кто ныне находился под вашей командой!
В обороне Смоленска отличилась и 27-я пехотная дивизия генерала Неверовского, действовавшая в составе 7-го пехотного корпуса, которым командовал генерал Раевский.
На подступах к городу против неё выступал пятнадцатитысячный корпус кавалерии, возглавляемый маршалом Мюратом. Используя подвижность, французы обошли левый фланг русского отряда, намереваясь атаковать с тыла. Но находившийся там Харьковский драгунский полк первым бросился в атаку. Однако силы были неравны: на двенадцать вёрст, отражая неприятельские атаки, драгуны отошли по дороге в сторону Смоленска. Французам удалось захватить семь орудий, прикрывавший дивизию казачий полк был оттеснён. Не было ни артиллерии, ни кавалерии. Пехота действовала самостоятельно, будучи окружённой со всех сторон. Противник удвоил атаки в надежде сломить русский отряд, не допустив его к Смоленску.
Не добившись успеха, к генералу Неверовскому направили делегацию с предложением сдаться. Он отказался, заявив, что подчинённые скорее умрут, чем сдадут врагу оружие.
На пятой версте отхода был самый большой натиск французов. Неприятель ввёл в сражение новые полки, но и они не смогли добиться успеха. Драгуны отступали в плотном боевом строю, отражая атаки французской кавалерии.
На двенадцатой версте противник захватил подразделения прикрытия и колонну тыла.
— Русские, сдавайтесь! — предлагал он, сблизившись с драгунами почти вплотную.
Но как сдаваться, если до Днепра остаётся меньше версты! Ушедшие ранее в тыл орудия дивизии заняли огневые позиции и открыли по неприятелю губительный огонь. Их поддержали орудия корпуса генерала Раевского.
Увидев близкий берег, воины 27-й пехотной дивизии генерала Неверовского закрепились у реки и стойко отражали наскоки французских кавалеристов.
Смоленск был первым русским городом, который французам приходилось штурмовать, и потому Наполеон хотел показать силу своей армии. Город выдержал удары града ядер: рушились здания, полыхали пожары, падали сражённые защитники. Но город не сдавался. Стойкость и мужество его защитников позволили выиграть время.
Барклай и на этот раз принял решение отступить. Определяя задачу на марш, он с невозмутимым спокойствием говорил:
— У Валутиной Горы сражается с пехотой Нея отряд Тучкова третьего. Неприятель пытается его обойти и окружить. Этого нельзя допустить. У Заболотья действует конный отряд, который займёт там оборону и задержит противника.
На твёрдом и усталом лице Барклая залегли глубокие морщины. «На его плечах судьба всей России», — читалось во взглядах окруживших его генералов и офицеров.
Тяжёлой походкой он направился к поджидавшей его коляске.
Генерал Раевский хорошо знал генерал-майора Павла Алексеевича Тучкова, именуемого в документах Тучковым 3-м. Он слыл отважным и мужественным военачальником, под стать своим родным братьям. Старший брат — пятидесятитрёхлетний Николай Алексеевич, генерал-лейтенант, — командовал пехотным корпусом в армии Барклая; средний брат, Сергей Алексеевич, был дежурным генералом в Дунайской армии; Тучков 4-й, Александр Алексеевич, командовал бригадой.
Накануне начальник штаба 1-й армии генерал Ермолов назначил бригаду Тучкова 3-го в авангард направлявшихся к Днепру войск.
— По выходе на Московскую дорогу вам надлежит поворотить налево, в сторону Бредихина, — уточнил по карте Ермолов. — А казаков послать к Днепру, где Соловьёвская переправа. Следуйте строго по маршруту, не уклоняйтесь!
Всю ночь бригада находилась в пути, выбираясь просёлками на Московский большак, и утром достигла его. Предстояло повернуть влево, к Бредихину, как указал Ермолов, но что-то удержало генерала сделать это. Правее на Московской дороге располагалась деревня Лубино, за ней Латышино. Там наших войск не было, и вообще отсутствовало прикрытие. А именно там, вероятнее всего, ожидалось появление противника.
Как поступить? Повернув направо, он, Тучков 3-й, нарушит приказ командования, а следовать влево — значит подвергнуть угрозе главные силы. Ударом во фланг неприятель сомнёт идущий за авангардом корпус брата, Тучкова 1-го, и вынудит его ввязаться в сражение. Возникнет угроза и над всей армией. Обстановка диктовала отказаться от выполнения полученной задачи.
— Головному дозору поворотить направо! — решился генерал и повёл авангард к Лубину.
Пройдя версты три за село, Тучков 3-й увидел высотку с несколькими избами. Рядом пролегала Московская дорога.
— Как называется эта деревня? — спросил он у мужика.
— Валутина Гора, — ответил тот.
Здесь генерал и решил занять оборону, чтобы задержать неприятеля. Расположив егерей по обе стороны дороги, он оставил в резерве пехотные полки и развернул артиллерию.
Едва солдаты изготовились, как появилась пехотная часть из корпуса Нея. Она с ходу атаковала позиции русских, но была отброшена огнём. Последовала вторая атака, перешедшая в рукопашную схватку. И снова позиции остались за русскими. Подошло подкрепление, и последовала третья атака. Лишь после четвёртой атаки, под угрозой охвата бригады с фланга, тучковцы отошли и закрепились на противоположном берегу речки Строгань.
Узнав об этом, Барклай направил к Валутиной Горе генерала Ермолова, поручив ему руководить сражением. Туда же помчались казачий отряд генерала Карпова и три гусарских полка, а затем последовал приказ и генералу Орлову-Денисову.
Его отряд прискакал к деревеньке Заболотье, находившейся неподалёку от Валутиной Горы, в разгар сражения.
Перед деревней распростёрлось широкое поле, посреди которого тянулась дорога. Залёгшая у неё французская пехота ударила по отряду залпами. Вблизи не было никакого укрытия. Оставалось либо отступить, либо решиться на атаку.
— Пики к бою! — подал генерал команду и первым помчался в сторону неприятеля.
Вслед за лейб-казаками понеслись в атаку два других полка: лейб-уланский и бугский казачий. Французы были смяты и отброшены к лесу.
Наполеон, наблюдавший схватку из леса, пришёл в бешенство. Он приказал направить к дороге подходившую дивизию генерала Жюно, чтобы оттеснить русскую кавалерию и выйти к Валутиной Горе.
Однако сделать это было непросто. Спешившиеся казаки и уланы поражали огнём неприятеля, не позволяя тому приблизиться.
Наполеон подозвал адъютанта:
— Передайте Жюно, что при таких успехах ему не носить маршальских эполет.
Выслушав адъютанта, мечтавший о маршальском звании генерал бросил в атаку все силы, которыми располагал.
Французы шли по кочковатой, покрытой мохом равнине, проваливаясь в трясину. Сзади их подгоняли командиры, а впереди по ним вели губительный огонь русские стрелки.
Русские стояли насмерть. Впрочем, отступать им было некуда: позади простиралось болото. Командир распорядился передать приказ: «Исход для нас один: одолеть врага или с честью умереть». Он не знал, что у Валутиной Горы французам удалось окружить бригаду Тучкова, а самого генерала пленить.
В сумерки в расположении отряда невесть откуда появился мужик.
— Кто таков? Как сюда попал? — набросились на него солдаты.
— Из Заболотья я. Местный.
— Так тебя ж, дурака, подстрелят! Зачем пришёл?
— Дак вас же выручать. Кругом-то твань!
— Болота, что ли?
— По-вашему — болота, а по-нашенски — твань. Без меня вам отсюда не выбраться.
— И тебе известна дорога?
— А то как же! Не знал бы, не пришёл.
Они начали отход в полной темноте. Дорога была тяжёлой, местами приходилось идти по зыбкой трясине. Лишь под утро отряд вышел из болот.
— Ну, спасибо тебе, братец, за помощь. Спасибо за выручку, — благодарил мужика генерал. — Как же твоё имя?
— Иваном звать. Иван Заболотнев. У нас тут все так прозываются… Заболотные.
Накануне Великой битвы
Вечером из Царёва Займища в штаб Раевского приехал командир 12-й пехотной дивизии генерал-майор Васильчиков.
— Есть новость, — объявил он, входя к Николаю Николаевичу. — Прибыл новый главнокомандующий!
— Кто же? Уж не Кутузов ли?
— Он самый!
О необходимости замены Барклая-де-Толли говорили давно. Возмущались столь долгим отступлением и уклонением от генерального сражения. Высказывалось, что, мол, иноверцу Барклаю ничто русское не свято. Называли много кандидатов: и Беннигсена, и Багратиона, но более всего склонялись к назначению Кутузова.
И как ни уважал Раевский Барклая, однако симпатии к Кутузову брали верх. Он знал его ещё со службы в Екатеринославской армии Потёмкина и позже слышал о Кутузове лестные отзывы, как об умном и весьма осторожном военачальнике, который умеет в сражении выждать, чтобы в удобный момент ударить наверняка.
— А видеть Кутузова не довелось?
— Лицезрел, когда он вместе с Барклаем прикатил на квартиру. Тяжело ему будет: лет-то много, да и с тяжкими ранениями он.
Кутузову было под семьдесят, и не единожды он был ранен. Одна турецкая пуля пробила ему левый висок и вылетела в правый глаз, вторая, попав в щёку, вышла в шею. Поэт Державин по этому поводу писал: «Смерть сквозь главу его промчалась, но жизнь его цела осталась!»
— А о сражении что говорят? — расспрашивал Раевский Васильчикова.
— О нём тоже идут разговоры. Намерение такое, чтобы дать его в ближайшие дни. Толь уже носится с картами, что-то рассчитывает, рисует.
Полковник Толь исполнял должность главного квартирмейстера армии, ведавшего делами подготовки сражений.
— Ну наконец-то, — вздохнул Николай Николаевич. — А для нас-то готов приказ?
— Ермолов объявил, что завтра уйдём к Шевардину.
Ночь была неспокойной. Неприятель в нескольких местах пытался обойти выставленные пикеты, но каждый раз нарывался на дозоры, поднимал стрельбу.
К полудню авангард достиг Царёва Займища, где находился штаб 1-го Кавалерийского корпуса. Однако войск там не оказалось.
— Все, все ушли, — сообщили жители. — С утра тронулись.
Вопреки намерению дать сражение вблизи Царёва Займища, Кутузов вдруг распорядился отступить.
— Ну вот! И новый главнокомандующий боится Бунапарту, — слышалось в солдатских рядах. — Так, гляди, и до Москвы дойдём…
Умчавшись с адъютантом вперёд, командир кавалерийского полка полковник Доронин нашёл штаб корпуса в Гжатске.
— Где генерал? — спросил он гусара, нёсшего от колодца воду.
— А там вот, — кивнул тот на рубленую избу, подслеповато глядевшую тремя окнами.
Генерал Уваров встретил полковника Доронина официально. Выслушав рапорт, он, не приглашая сесть, степенно прошёлся из угла в угол. Кроме него, в комнате находился ещё незнакомый подполковник: худой, с жидкой чёлкой, носатый. С одного взгляда Доронин признал в нём иностранца.
— Признаться, полковник, я доволен, что ваш полк прикомандирован к корпусу, — сказал Уваров.
Ему было лет сорок. Среднего роста, с шапкой чёрных волос, густыми бакенбардами, он выглядел по-гусарски щеголевато. Блестели начищенные сапоги, расшитый позументами мундир плотно облегал его сильное тело. Тонко позванивали серебряные шпоры.
— Велики ли в полку потери?
— Как им не быть? В каждом эскадроне по три четверти состава.
— Тогда ваш полк в моём корпусе будет шестым. И ещё в корпусе имеется артиллерийская батарея о шести орудиях. Так что сил для победных действий достаточно.
— Слышал, что главнокомандующий принял решение о генеральном сражении, — осторожно поинтересовался Доронин.
— Совершенно верно. Скажу больше: уже избрано место, и вроде бы князь Кутузов выехал рекогносцировать его.
1-й кавалерийский корпус, следуя в колонне главных сил, составлял резерв Кутузова.
— Вы незнакомы? — спросил Уваров и представил сидевшего за столом иностранца: — Квартирмейстер корпуса подполковник Клаузевиц, прошу любить и жаловать. А это полковник Доронин.
Имя Клаузевица среди военных кругов было известно. Закончив военное училище в Берлине, он участвовал в войне с Францией, затем служил в прусском генеральном штабе, где проявил себя теоретиком, глубоко мыслящим в делах организации армии. Позже преподавал стратегию и тактику в офицерском училище, писал статьи по вопросам ведения войны. В мае 1812 года он перешёл на службу в русскую армию.
— Где сейчас находится полк? — спросил Уваров Доронина.
— На марше, — ответил тот и щёлкнул крышкой часов. — Через час с четвертью будет на окраине Гжатска.
— Я хотел бы его видеть. А вы, Карл Филиппович, не желали бы посмотреть?
— Вас? Что? Посмотреть? О да! Яволь!
С небольшого курганчика на краю города они увидели вдали колонну кавалерии.
— Вот и полк! — объявил Доронин, узнавая его по красным мундирам, в которые были облачены всадники.
Клаузевиц поспешно достал часы и хмыкнул.
— Что, Карл Филиппович? Чему удивляетесь? — поглядел через плечо Уваров.
— Пунктуалиш… Пунктуалиш… Зеер гут!
Стрелки часов показывали двенадцать.
Глядя на всадников, не верилось, что только вчера они имели жаркие схватки с врагом, а до того провели в боевых делах более двух месяцев. Выдавили лишь бинтовые повязки да выгоревшее под солнцем и наспех залатанное обмундирование.
Полк прошёл, и Уваров проследил за его последней шеренгой, по которой опытный начальник мог определить многое. Не напрасно командиры ставили в неё самых лучших, отборных всадников на добротных конях и в справном снаряжении.
— Хороший полк, граф, — сказал Уваров. — Надеюсь, он и в сражении покажет себя превосходно.
— Яволь, яволь, — сказал немец. — Так точно…
А тем временем к Бородину, где сосредоточивалась для генерального сражения русская армия, подходили резервы из глубины страны. Генерал от инфантерии Милорадович привёл к Гжатску шестнадцать тысяч пехотинцев, кавалеристов, артиллерию. Из Москвы прибыло двадцать тысяч ратников ополчения. Из Смоленского ополчения поступило семь тысяч. Все они горели желанием схватиться с наступающим к Москве врагом.
23 августа, когда на Бородинском поле шли спешные работы по оборудованию оборонительных позиций и войска занимали определённые планом сражения места, арьергард под начальством генерала Коновницына отходил к Колочскому монастырю. Основанный четыре века назад монастырь находился в восьми вёрстах от Бородина, у реки Колочи, откуда и брал своё название. Неподалёку от его высоких стен проходила главная дорога на Москву.
Готовясь к генеральному сражению на не совсем выгодной для русской армии местности, главнокомандующий рассчитывал восполнить её недостатки путём искусного использования войск и инженерных укреплений, но для этого нужно было выиграть время.
— Арьергарду держаться до последнего! — приказал он Коновницыну через офицера. — Держать неприятеля до конца!
Не слишком многословный генерал ответил:
— Передайте главнокомандующему, что ни одна французская душа далее монастырских стен не пройдёт.
Генерал был человеком дела, понимал, что сил у него недостаточно, но верил в стойкость русских солдат, сознавал, что для успеха генерального сражения сделать такое необходимо, чего бы это ни стоило. За спиной — Москва.
Весь день 23 августа арьергард сдерживал врага на подступах к монастырю. Вначале схватка закипела у деревни Твердики, перед которой заняла позицию часть арьергарда. Французская пехота прямо из колонн перешла в атаку, намереваясь с ходу овладеть деревней. Но это не удалось. Сначала ей нанесли потери стрелковым огнём, потом решительным штыковым ударом отбросили назад.
Тогда французы выкатили пушки и открыли ураганный огонь. На деревню и засевших в ней русских стрелков обрушился шквал ядер. Запылали строения, от изб летели обломки, и вскоре на месте их остались торчащие печные трубы.
Попытки французов обойти фланги обороняющихся не приводили к успеху. Едва они начинали манёвр, как вырастали конные отряды генерала Сиверса и казачьего генерала Карпова. Они устремлялись на атакующих и обращали их в бегство.
Всё же к вечеру превосходящие силы неприятеля смогли потеснить русский арьергард к деревне Гриднево. До Колочского монастыря было рукой подать.
На рассвете французским кавалеристам удалось, обойти монастырь и выдержать горячую схватку.
Узнав о прорыве неприятеля в глубину расположения русских войск, главнокомандующий распорядился подчинить арьергарду 1-й кавалерийский корпус.
Вызвав полковника Доронина, генерал Уваров приказал:
— Без промедления скачите с полком к Коновницыну. Арьергард испытывает нужду в резерве. Я с остальными следую вслед за вами.
Арьергард действительно попал в трудное положение.
В направлении Шевардина устремились главные силы французского корпуса Понятовского. Отряд Сиверса, отступая, продолжал драться в полукольце. Справа, где находился отряд генерала Крейца, неприятелю удалось окружить немногочисленные силы русских. Они с упорством дрались у деревни Глазово, и, если б не рискованная дерзость драгун Сибирского полка, вряд ли бы им удалось вырваться.
Генерала Коновницына полковник Доронин нашёл у Московской дороги. Избрав для наблюдения место у леса, тот стоял в окружении штабных. На его лице залегла усталость, было видно, что ночь он провёл без сна. Вслед за казачьим полком прибыл полк изюмских гусар.
— Два полка — это хорошо, — произнёс Коновницын. — Надобно бы более. Полагаю, французы намерены выйти к деревне Валуево и оказаться в нашем тылу. Так что поспешайте.
Русские смогли опередить неприятеля. Едва французские гусары показались на опушке леса у Валуева, как полковник подал команду:
— Лучшие рубаки, вперёд!
Из строя выехали удальцы, славившиеся не только отвагой, но и владением саблей.
— Достаточно! — вскинул руку Доронин. — Эти со мной! Прочие эскадроны по флангам прикроют нас. За мной!
Схватка была короткой и жестокой. Три неприятельских эскадрона были истреблены.
Проведя рекогносцировку района предстоящего сражения, новый главнокомандующий, князь Кутузов, послал в Петербург донесение императору Александру. В нём он писал:
«Позиция, в которой я остановился при селе Бородине, в 12 вёрстах впереди Можайска, одна из наилучших, какую только на плоских местах найти можно.
Слабое место сей позиции, которое находится с левого фланга, постараюсь я исправить посредством искусства.
Желательно, чтобы неприятель атаковал нас в сей позиции, в таком случае имею я большую надежду к победе; но ежели он, найдя мою позицию крепкою, маневрировать будет по дорогам, ведущим к Москве, тогда должен буду идти и стать позади Можайска, где все сии дороги сходятся. Касателъно неприятеля приметно уже несколько дней, что он стал чрезвычайно осторожен, и когда двигается вперёд, то сие, так сказать, ощупью.
Вчерашнего дня посланный от меня полковник, князь Кудашов, с 200 казаков всю конницу корпусов маршалов Даву и короля Неаполитанского заставил несколько часов сидеть на лошадях неподвижно. Вчера неприятель ни шагу вперёд движения не сделал. Сего дня казачьи наши форпосты от меня в 30 вёрстах, и боковые дороги наблюдаются весьма рачительно.
Корпус генерала Милорадовича прибыл ко вверенным мне армиям. Завтрашнего числа прибудет из Можайска Московское ополчение. Арьергардом командует ныне генерал Коновницын.
Важных дел в сём корпусе ещё не происходило, и неприятель удерживается в большом к нам по чтении».
Для предполагаемого сражения создавались четыре группировки, каждая из которых имела определённую задачу. На правом крыле от села Малое до деревни Горки располагался корпус 1-й армии, который должен был надёжно прикрыть кратчайший путь на Москву. Им командовал генерал Милорадович.
В центре от деревни Горки до батареи Раевского находился 6-й пехотный корпус генерала Дохтурова, а позади него — 3-й кавалерийский корпус. Они прикрывали Новую Смоленскую дорогу. Войсками правого крыла и центра командовал генерал Барклай-де-Толли.
Левое крыло, расположенное от высоты Курганной, где были орудия батареи Раевского, до деревни Утица, включая Семёновское с оборудованными поблизости от него флешами[24], состояло из войск 2-й армии и подчинялось генералу Багратиону. Войска прикрывали Старую Смоленскую дорогу. Здесь же находились и восемь казачьих полков генерала Карпова на случай обхода французами левого фланга русских.
Кроме того, за центром боевого порядка располагался сорокатысячный резерв.
Определив в дислокации задачи войскам, Кутузов писал в ней: «Полагаюсь на известную опытность главнокомандующих (Барклая и Багратиона. — А.К.) и потому представляю им делать соображения действий на поражение неприятеля. Возлагая все упование на помощь Всесильного и на храбрость и неустрашимость российских воинов, при счастливом отпоре неприятельских сил, дам собственное повеление на преследование его, для чего и ожидать буду беспрестанных рапортов о действиях, находясь за 6-м корпусом. При сем случае не излишним считаю представить гг. главнокомандующим, что резервы должны быть оберегаемы сколь можно долее, ибо тот генерал, который сохранил ещё резервы, не побеждён. На случай наступательного движения оное производить в сомкнутых колоннах к атаке, стрельбою отнюдь не заниматься, но действовать быстро холодным оружием. В интервалах между пехотными колоннами иметь некоторую часть кавалерии, также в колоннах, которые бы подкрепляли пехоту. На случай неудачного дела генералом Вестицким открыты несколько дорог, которые он гг. главнокомандующим укажет и коими армии должны отступать. Сей последний пункт единственно для сведения гг. главнокомандующих».
Кавалерийский корпус Уварова, как и казачий корпус Платова, находился в резерве 1-й армии. Их части располагались за правым крылом в Масловском лесу.
24 августа выдвигавшиеся по Новой Смоленской дороге основные силы великой армии во главе с Наполеоном подходили к деревне Шевардино. Идущая впереди разведка донесла:
— Пути к основной русской позиции преграждает весьма возвышенный редут[25], расположенный в виде гигантского передового моста перед выходом на равнину.
— Редутом овладеть! — последовала команда Наполеона.
Укрепление атаковали одновременно с трёх сторон: с юга дивизии Понятовского, с запада — мар шала Даву и с севера — кавалерия Мюрата. На редут и примыкающие к нему укрепления были брошены 30 тысяч солдат пехоты и 10 тысяч кавалерии.
Сражение продолжалось с переменным успехом до наступления темноты. Русские воины сопротивлялись с непередаваемым упорством и лишь глубокой ночью, теснимые превосходящими силами французов, вынуждены были отойти.
Один из участников ночного боя позже писал в письме: «Множество лежащих кучами трупов свидетельствовало об энергичном сопротивлении и об усилиях наших солдат. Особенно много убитых было во рвах и на внутренней стороне валов. На наружной их стороне лежали трупы французских солдат, которых во время приступа погибло ещё больше, чем русских гренадер на противоположном конце вала».
На рассвете в палатку Наполеона вошёл дежурный генерал Коленкур. Не смыкавший ночью глаз, он принимал донесения от сражавшихся у Шевардина. Там ни на минуту не стихал шум боя. Только под утро наступило затишье. Не спал и Наполеон.
— Кто вошёл? — спросил он.
— Генерал Коленкур, сир, — ответил тот. — Рад сообщить, что сражение закончилось. Редут — наш.
— Сколько русских взято в плен?
— Ни одного, сир.
Помолчав, Наполеон потянулся к стоявшей в изголовье лампе и прибавил света.
— Разве Мюрат опоздал со своей кавалерией?
— Нет, он вовремя вступил в сражение.
— Так в чём причина? Неужели русские решили победить или умереть?
— Похоже, что так, — дипломатично ответил Коленкур.
Наступило 25 августа. С утра Наполеон собирался выехать в Шевардино, на место сражения, но из Парижа примчался префект дворца императора Боссе. Он доставил папку с документами и кожаный футляр с рисованным портретом.
— Примите, мой император, подарок незабвенной императрицы Марии Луизы, — торжественно с глубоким поклоном произнёс вельможа.
Раскрыв застёжки футляра, он извлёк заключённый в белую раму портрет мальчугана.
— Этот портрет вашего сына, мой император, — продолжил префект. — Его рисовал Франсуа Жерар. Он совсем недурной художник и сумел до предела передать сходство.
Взяв в руки портрет, Наполеон, не скрывая, залюбовался им. Ему вспомнилось 20 марта прошлого года. В тот день молодая императрица должна была родить. Это немаловажное событие решили по воле императора отметить во французской столице орудийным салютом.
Во дворце все волновались. Кто будет? Сын или дочь? Решили, что если родится дочь, то залп прогремит двадцать один раз, а если долгожданный сын, наследник династии Бонапартов, то жителей Парижа оповестит сто один пушечный залп.
Орудия прогремели двадцать один раз… и смолкли.
«Дочь», — решили парижане. И тут же прогремело снова. «Двадцать два… Двадцать три…» — считали они. Последовал сто один выстрел в честь новорождённого наследника. Теперь его портрет разглядывал Наполеон у небольшой деревни Подмосковья Бородино.
— Выставьте его на обозрение солдатам гвардии, — распорядился Великий.
Его ждали дела: завтра будет большой бой. От него зависит многое. А сегодня он должен к нему подготовиться.
У деревни Шевардино он внимательно осмотрел место вчерашнего сражения. Поднялся к редуту, заглянул в ров, где схватились в штыковой атаке его солдаты с защитниками укрепления. Следы побоища были свежи: пятна крови, обломанное оружие, искорёженные каски русских кирасир.
Покинув редут, Наполеон направился к недалёкому кургану. Обратившись к маршалу Бертье, он сказал:
— Здесь будет командный пункт.
— Да, сир. К утру он будет готов.
Сопровождавшая Наполеона свита проследовала к Колочскому монастырю. Они застали монахов в трапезной. Поговорив с ними, Наполеон попробовал щей. Ему принесли полную миску, и он с аппетитом поел, похвалив еду.
Потом он взобрался на колокольню и оттуда долго рассматривал в подзорную трубу русские позиции. Его внимание привлекли высоты, где находилось Бородино и проходила Новая Смоленская дорога. Укрепления там были сильные, особенно курган с артиллерийскими орудиями.
— Что скажете, Бертье, относительно позиций русских? — спросил он начальника своего штаба.
— Позиции, мой сир, крепкие. Прежде чем мы их взломаем, придётся много положить…
— Без того, чтоб не положить, сражений не бывает, — недовольно произнёс Бонапарт. — Меня интересует другое. Видите ли вы в позициях слабое место?
— Пока не нахожу, — неуверенно ответил Бертье.
— А я нашёл. Ключ победы в сражении не на высотах, где Бородино, а южнее: у Семёновских флешей. Там, у Бородино, течёт Колоча, берега её круты и представляют собой труднопреодолимое препятствие, у Семёновских же флешей берега размыты, а сама река преодолима вброд. Здесь и должны быть наши главные силы. Ней, Даву, вы поняли?
— Так точно, сир!
— А кого же направим на Бородино? — вгляделся в карту Бертье.
— Там будут войска Евгения Богарне и корпус Понятовского.
Находившиеся здесь пасынок Наполеона Евгений и польский генерал Понятовский шагнули вперёд.
— Мой сир, — подал голос Даву, — дозвольте высказать. Прошу направить мой первый корпус с отрядом из корпуса Понятовского по Старой Смоленской дороге в тыл русскому воинству. Мы сумеем ночью пробиться глубоко в его расположение, овладеем редутами и к семи часам утра завершим раз гром неприятеля на его левом фланге.
Манёвр был дерзким и заманчивым. Всем присутствующим на колокольне военачальникам он не показался авантюрой. Они, и в том числе Наполеон, ценили боевые качества маршала, несмотря на его слабость: излишнее восхваление самого себя.
«А что?» — вопрошал взглядом Бертье. Он был склонен принять предложение Даву.
— Нет, — после недолгого раздумья произнёс Наполеон. — Не станем рисковать ночным нападением. Мы добьёмся победы и в дневном сражении. А через шесть дней будем в Петербурге.
В то самое утро, когда Наполеон разглядывал с высокой колокольни русские позиции при Бородине, князь Кутузов в бревенчатой избе вглядывался в лежавшую пред ним карту с диспозицией войск на предстоящее сражение.
Его внимание привлёк левый фланг, где находились подчинённые Багратиону войска. Кончик карандаша, скользивший по карте, остановился у флешей, которые по замыслу должны были огнём орудий и засевшей в них пехоты рассечь боевой порядок французов и затормозить их продвижение.
— Здесь, когда неприятель употребит свои последние резервы на левом фланге Багратиона, я пущу ему во фланг и тыл скрытые войска, — сказал Кутузов стоявшему пред ним офицеру штаба, устремив на того единственное око. — Вам понятен замысел?
— Так точно, понятен, ваше высокопревосходительство, — отвечал капитан инженерной службы.
— А если понятно, то немедленно отправляйтесь в третий пехотный корпус к генералу Тучкову и передайте ему мой приказ, чтобы он со своими войсками и московским ополчением скрытно расположились вот здесь. — Карандаш оставил на карте чёткий след — овал, где должны быть войска. — К вечеру они должны быть перемещены в новый район.
Не тратя времени, капитан поспешил к генералу Тучкову и передал ему приказ главнокомандующего Кутузова.
— Выходит, корпус с ополчением будут находиться в засаде? — спросил Тучков.
— Именно так.
— Замысел понятен. К вечеру займём указанный рубеж.
Но вечером, когда войска заняли указанный Кутузовым новый район, офицер-инженер был свидетелем приезда к генералу Тучкову начальника штаба генерала Беннигсена.
Беннигсен имел право отдавать распоряжения подчинённым войскам от имени главнокомандующего. К нему подошёл командир ополченской бригады полковник Вуич. Он с жаром стал объяснять Беннигсену, что его бригада поставлена на жертву: пространство столь велико, что, пока они преодолеют его и дойдут до занимаемых войсками Багратиона флешей, неприятель уничтожит всю бригаду ополченцев.
Выслушав полковника, Беннигсен подозвал Тучкова:
— Свой корпус и ополченцев переместите в прежний район, ближе к левому флангу войск Багратиона.
Генерал Тучков попытался объяснить ситуацию, но Беннигсен остался непреклонным:
— Поступайте, как я приказываю.
Командиру корпуса пришлось подчиниться.
А Беннигсен не стал докладывать главнокомандующему об отмене его приказа.
Так и канул в вечность этот случай.
В тот же день у Кутузова был и казачий генерал Платов.
— С чем, атаман, пожаловал? Не приглашал ведь тебя, и пока ты мне не надобен.
Казаков Платова он распорядился до времени держать в скрытности, в Масловском лесу, с намерением использовать их в деле в наиболее подходящий для успеха момент.
— Позвольте, ваша светлость, доложить о случае, пустячном, но, полагаю, немаловажном для сражения.
— Ну, докладывай, послушаю. Только на долгие разговоры, извини, времени нет.
Кутузов говорил с атаманом на «ты» по причине давнего, более сорокалетнего знакомства.
— Не извольте беспокоиться, не задержу. Случай не со мной, а с казаком произошёл.
И Матвей Иванович рассказал обо всём слышанном от казака.
— Так ты говоришь, что казак был в неприятельском расположении? За его левым крылом? И беспрепятственно туда проник? — выслушав Платова, переспросил Кутузов и склонил над картой седую голову.
Тяжело дыша, он вглядывался единственным глазом в то место на карте, где находилось за речкой селение Малое. Оно лежало на невидимой границе огромного поля предстоящего сражения. Далее на север за лесом протекала Москва-река.
— Совершенно точно, ваша светлость, — ответил Матвей Иванович. — У селения Малое тот казак перебрался через Колочу, а потом скакал на заход, сиречь на запад.
Наступила пауза. Главнокомандующий уставился в карту и напряжённо думал. На виске, у красновато-сизого шрама, оставленного турецкой пулей, нервно пульсировала жилка. На втором виске, где та пуля вышла, тоже виднелся шрам. И ещё на большой голове был один.
«Вот уж кого Бог миловал. Две раны, обе в голову, обе смертельные», — отметил про себя Платов.
— Так-так, — неопределённо сказал главнокомандующий и постучал в раздумье пальцем по столу. — Скажу тебе, Матвей Иванович, что случай сей утверждает задуманное мной. А ранее я замыслил ударить в разгар сражения конницей по левому неприятельскому крылу. Как раз там, где твой неразумный казак гонялся за зайцем. Вот какие бывают совпадения. А посему быть тебе, Матвей Иванович, в полной готовности к рейду в неприятельский тыл. Чтобы пошебуршить там возможно более да заставить неприятеля приковать к себе часть сил и тем самым облегчить участь нашего войска, которое будет действовать с фронта.
— И когда же последует на сей рейд команда?
— В разгар сражения. Как сложатся к тому выгодные обстоятельства. А для пущего удара присовокупим к делу и корпус Уварова. Твои казачки до утра пусть находятся в лесу, а потом переместим их на новое место. Оттуда и начнётся рейд. А казачьими полками надобно ударить вот куда.
Елозя по карте пальцем, фельдмаршал стал объяснять, как надо действовать казакам: куда пробиться, что атаковать, как предупредить ответный неприятельский удар, чтобы он не был для них неожиданным. И ещё Кутузов приказал нынешней ночью провести разведку и возвратиться на рассвете, потому что с утра начнётся генеральное сражение.
— Дозоры нужно пустить веером. Правые крайние пусть прочешут местность до самой Москвы-реки, а левые — до Беззубова и далее, — объяснял фельдмаршал. — Туда, к Беззубову, пойдёт корпус генерала Уварова. Задачу ему поставлю днём. Сам же буду находиться на возвышенности у Горок. Оттуда сподручней наблюдать за сражением. Возникнет надобность, ищи меня там.
В тот день князь Кутузов встретился и с генералом Раевским.
Был поздний вечерний час, когда тот прибыл в главную квартиру командующего — бревенчатую избу в селе Бородино.
— Надеюсь, вам понятна диспозиция наших войск на предстоящее сражение? — спросил Кутузов, поправляя чёрную повязку поверх пустой глазницы.
— Так точно, известна…
Три дивизии 7-го пехотного корпуса — 12, 24 и 26-го — располагались в центре боевого порядка русских войск, занимая в гряде холмов главную высоту, именуемую Курганной.
Находившийся на левом фланге 1-й армии корпус Раевского прикрывал одновременно и фланг армии Багратиона. К тому же через Курганную высоту пролегала дорога от Семёновских флешей к селу Бородину, выходящая далее к Новой Смоленской дороге. Нетрудно было определить, что именно тут и будет нанесён главный удар французских войск.
Именно это Раевский, набравшись смелости, и высказал главнокомандующему.
— Вы правы, — одобрил тот. — Курганная высота является главным узлом всей обороны наших войск. От стойкости находящихся на высоте войск зависит устойчивость обороны. Высота есть главный ключ к ней. А потому ваша задача, генерал, создать на высоте и примыкающих к ней склонах недоступные для пехоты Нея и кавалерии Мюрата позиции. Здесь нужно расположить нашу главную ударную силу — артиллерию.
— Оборудовать огневые позиции для батарей? — спросил Раевский.
— Нет, не для батарей, а для всех имеющихся в корпусе орудий. Сколько их у вас?
Решение Кутузова было для генерала неожиданным. Никогда ещё не приходилось сосредоточивать в одном месте столько орудий! У него в корпусе и дивизии было более двухсот стволов, и все орудия установить в одном районе?
— Да, на Курганной высоте и вблизи её нужно установить все двести орудий. На этот счёт мной уже даны указания Барклаю, Ермолову, артиллерийскому начальнику Кайсарову. К утру все орудия должны быть на огневых позициях и находиться в полной готовности для стрельбы. А батарею для краткости назовём вашим именем: батарея Раевского.
Минуя штаб, Николай Николаевич направился к высоте Курганной, чтобы решить на месте полученные от главнокомандующего указания.
Однако там уже полным ходом шла работа. Горели костры, освещая солдат, готовящих огневые позиции для орудий, укрытия для расчётов и рвы.
Заметив генерала, к нему устремился полковник Богданов, ведавший инженерными работами. Он доложил, что для главной восемнадцатиорудийной батареи позиция подготовлена, показал высокий бруствер для укрытия, ров, который рыли прибывшие для помощи ополченцы, подъездной путь для орудий.
— Всё это хорошо, — одобрил генерал. — Но сделано мало. Перед позицией нужно отрыть незаметные волчьи ямы, чтоб сдержать кавалерию, когда она начнёт атаку. И ещё надо подготовить места для других батарей.
— Сколько же их будет? — озадачился полковник Богданов.
— Много. Не менее двадцати. Впрочем, генерал Кайсаров внесёт ясность.
К ним направлялся моложавого вида генерал-майор, возглавлявший артиллерию.
Он внимательно выслушал генерала Раевского и стал объяснять, как лучше расположить на высоте многие орудия, которые уже прибывали на боевые места. Расставить тяжёлые орудия артиллеристам помогали прибывшие ополченцы.
До полуночи Раевский находился на высоте, давал последние указания командирам дивизий и полков, забыв о своём отдыхе перед сражением.
Войска тоже задолго начали готовиться к сражению: прочистили стволы ружей и пистолетов, навострили сабли, артиллеристы подготовили орудия к стрельбе. Используя затишье, мылись, стирали бельё, портянки, чистили и латали амуницию, словно собираясь на торжественный парад.
Настроение у всех было благостное, даже крикуны, избегая осуждения товарищей, сдерживали себя.
— Когда телом чист, умирать легче, — говорили солдаты, облачаясь в чистое бельё.
Многие вешали на шею вместе с крестиком ладанку с горсткой родной земли.
— Неужто собрался умирать? — спрашивали их. — А как же быть с Парижем? Непременно сможем в нём побывать.
— Человек предполагает, а вот Бог располагает. Прежде чем в Париже быть, надобно не пустить в Престольную хранца[26].
— Не пустим, — отвечали храбрецы.
— А бельё чистое надобно не только для могилы, — утверждал казак Буданов из полка Доронина.
Потеряв в схватке, когда брали языка, зубы, он вовсю шепелявил. Чтобы не вызывать насмешек, ему нужно было бы молчать, но усмирить свою страсть к разговорам он не мог.
— Вот, помнится, под Гутштайном был случай. При Конькове мы тогда находились. Царство ему небесное. — Буданов перекрестился. — Еду, значица, я от одного хуторка — глядь, а в будыльях[27] что-то виднеется.
— В каких будыльях? — возразили ему. — Там их сроду не бывало, не растут там будылья.
— Ну не будылья, значица, трава такая навроде будыльев, ажно по пояс. Поглядел, а там — ребятёнок, совсем малой. Ножками едва сучит и чуток попискивает. А трохи подале — баба мёртвая, мать, значица, ребятёнка. Сошёл я зараз с коня, взял ребятёнка. Не бросать же невинную душу помирать! Отъехал подале, держу на руке. А тельце-то у него нежное, кожица тонюсенькая, аж вся светится, и трётся он ею об шерстянку чекменя. Остановил я коня, слез, стащил с себя исподнюю рубашку. Накануне только надел. Завернул в неё ребятёнка и повёз. Чистая рубаха, значица, пригодилась вместо пелёнки.
Ночь была по-осеннему тёмной. С бархатного неба ярко светили, перемигиваясь, крупные звёзды. От горевшего костра слышались голоса людей, сухой треск пожираемого огнём дерева и порой чувствовался острый запах дыма.
Как ни привычен был Николай Николаевич к полевому ночлегу, но сон на этот раз не шёл: будоражили мысли о предстоящем сражении. Знал, что оно будет трудным, что к вечеру определённо многих недосчитаются, возможно, что и к нему самому судьба не будет благосклонной. Ну что ж! Чему быть, того не миновать! Только бы остановить врага, не пустить его далее, к Москве!
Не справившись с обуревавшими мыслями, Раевский поднялся. С буркой на плечах направился к костру, где дремали вестовые от полков. Завидев его, двое поднялись было, но он махнул рукой: лежите, мол.
— Что не спите? — спросил он, присаживаясь.
— За огнём бдю, — ответил один с побитым рябинками лицом. — А ему вот не спится.
— A-а, Гаврила Тимаков, — узнал Раевский второго, рыжебородого ефрейтора. — О чём ведёте разговор?
— О всяком, ваше превосходительство. Думки разные одолевают, — признался Тимаков.
Николай Николаевич помолчал, лишь понятливо покачал головой: у самого такое.
— Сказывают, ваше превосходительство, у Бунапарты войска тьма, будто саранчи в туче.
— Испугались?
— Мы-то что? Мы пужатые. Чего нам пужаться? Пусть он, Бунапарта треклятый, страшится.
— Сил действительно у французов много, да и у нас их в достатке. И новый командующий достойный.
— Кутузов-то? — спросил рябоватый. — Солдаты промеж себя говорят, что хитрущий дюже он, Кутузов-то, не ровня Барклаю.
— Само собой, — отозвался Тимаков. — Тот же немецких кровей, куда ж ему! А Кутузов — свой, россиянин. Его, слыхал, даже Бунапарта сторонится…
Бородино
Кутузов выехал из деревни Татариново в Горки, откуда наметил управлять сражением, ещё до того, как первый луч солнца позолотил купол бородинской церкви. Горки находились на возвышенности, удобной для наблюдения. Он уже был на ней три дня назад, когда проводил рекогносцировку. Теперь деревни не было, осталась лишь одна изба для работы штабных, прочие строения разобрали, употребив брёвна для артиллерийских сооружений.
Михаил Илларионович неторопливо слез с коляски, прошёл немного вперёд и вгляделся в затянутую прозрачным туманом даль. Справа, за рекой Колочей, скрывалась деревенька Малая, прямо виднелись домишки Бородина, золотился купол церкви. Через Бородино тянулась дорога на Москву — новая дорога. Левее дороги оборонялся 7-й корпус Раевского. На его позиции возвышалась высота Курганная, где располагались артиллерийские батареи. Батарея, по замыслу Кутузова, должна была в сражении выполнять роль огневого утёса, о который разбились бы мощные волны наступающей французской армии.
Разглядывая местность, Кутузов старался закрепить её в памяти, а также расположенные на ней войска, чтобы потом, когда начнётся сражение и всё затянется дымом, можно было, по коротким донесениям штабных и адъютантов, ясно представлять происходящее и принимать безошибочные решения.
Южнее Курганной высоты находилась деревня Семёновское, а неподалёку от неё флеши на двадцати четырёх орудиях. Флеши и подступы к деревне защищали 2-я сводно-гренадерская дивизия Воронцова и 27-я пехотная дивизия Неверовского. Далее, в лесу, тянулась скрытая от глаз старая дорога на Москву, которую прикрывали 3-й корпус Тучкова и донские казаки Карпова.
— Может, присядете, ваше сиятельство? — предложил полковник Толь.
Адъютант Кутузова поднёс скамеечку.
— Багратион меня беспокоит, — отмахнувшись, сказал Кутузов. — Непременно туда ударит Наполеон. Особливо нужно следить за той флешью…
Раскалывая утреннюю тишину, гулко прогремел со стороны Шевардина пушечный выстрел. Он раскатился над холмами, речкой, лесом, отозвался многократным эхом и нехотя затих. Тотчас на французской стороне послышалась пальба, и у Бородина, и в самой деревне, и у дальнего Семёновского, и на флешах взметнулась земля от разрыва ядер. Сразу же отозвались русские орудия. Сражение началось.
Предвидение Кутузова сбылось: главный удар Наполеон наносил по левому крылу русского боевого построения, по флешам у Семёновского, названным Багратионовыми. Одновременно корпус Богарне атаковал лежавшее на правом крыле Бородино. Там французам удалось в первой же атаке захватить деревню и выйти к Колоче, где они встретили упорное сопротивление русских полков. Продвинуться далее они не смогли.
Первая атака, предпринятая маршалом Даву против Багратионовых флешей, не увенчалась успехом. Приблизившись к укреплениям, французы встретили залпы картечи и откатились назад, бросая убитых и раненых.
К отступившим прискакал возбуждённый маршал.
— За мной! — крикнул он и бросил своих пехотинцев во вторую атаку.
На его глазах тяжело ранило генерала Компана.
Падали от русского огня солдаты, но Даву упрямо вёл подчинённых на флеши.
— Не отставать! — кричал он.
Осколком взорвавшегося ядра под ним сбило лошадь, сам он был контужен.
— Ещё вперёд! — повторял маршал.
Но перед ним вдруг выросла русская цепь. Солдаты со штыками наперевес бросились в контратаку. Их вёл неустрашимый генерал Неверовский. Уволакивая контуженого маршала, французы снова отступили.
От Кутузова ничто не ускользало: ни штурм Багратионовых флешей, ни бой у Бородина, ни незримая отсюда схватка корпуса Тучкова с французами.
— Карлуша, — подозвал он помощника, полковника Толя, — распорядись послать князю усиление. Направь туда дивизию Коновницына. И Раевский пусть примет левее. Ещё надобно подтянуть корпус Багговута.
Разрабатывавший диспозицию полковник Толь с полуслова понимал главнокомандующего.
В девять часов утра последовала третья атака на Багратионовы флеши. Теперь на них уже наступал и корпус маршала Нея. На одном участке неприятелю удалось ворваться в укрепление. Казалось, участь его была решена, но раненый генерал Воронцов повёл своих гренадер в штыки, и те выбили французов.
В четвёртой атаке действовала уже и конница Мюрата. Защищённые броней кирасиры прорвались к орудиям, но подоспели русские конники и солдаты-пехотинцы из дивизий Неверовского и Воронцова. Они снова выбили врага.
Сражение кипело и в Семёновском, и у батареи Раевского, на Курганной высоте и в деревне Утица. На старой дороге отражал атаки превосходящих сил корпус генерала Тучкова. Сам Тучков пал. В восьмой атаке на флеши тяжело ранило Багратиона. Был контужен Ермолов.
Не считаясь с потерями, французы теснили левый фланг русских, чтобы прорваться в тыл их армии и выйти к новой дороге, преградив путь отхода к Москве.
Кутузов осознавал всю сложность положения. Он знал, что Наполеон не из тех, кто останавливается на полпути. Этот для достижения победы пойдёт на всё, даже бросит свой последний резерв. Кстати, в дело ещё не вводилась гвардия — ни Молодая, ни Старая. Если он на это решится…
— Сейчас мы поставим банки, — произнёс вдруг Кутузов и подозвал генерала Уварова.
— Что твои гусары, граф? В готовности ли?
— Так точно! — Щеголеватый Уваров щёлкнул каблуками.
— Пройдись с ними к Беззубову, вон туда. — Кутузов рукой указал в сторону правого крыла, где темнела лесная опушка. — О задаче я вчера высказался. Правее будет действовать с казаками Платов. Вам надобно забраться в неприятельский тыл, да поглубже!
Понять замысел Кутузова было нетрудно. Этот рейд должен был стать для французов полной неожиданностью. Упоенный атаками Наполеон никак не ждал от неприятеля наступательных действий, тем более появления в своём тылу русских конников. А удивить — значит победить, так говорил ещё Суворов. Принятое Кутузовым решение было единственным, отвечающим обстановке решением, благодаря которому у Наполеона должна быть вырвана в этом сражении победа.
Кутузов наблюдал, как Уваров сбежал с высоты, вскочил на коня и в сопровождении адъютантов помчался к Масловскому лесу.
Наблюдая с высоты командного пункта происходящее сражение, генерал Раевский видел, а когда видеть не удавалось, то угадывал всю жестокость происходящего.
Первая атака, какую пришлось выдержать солдатам корпуса Раевского, произошла около девяти часов утра. Прикрываясь зарослями кустарника и оврагом, французы приблизились к передовым укреплениям, занимаемым егерями. Оттеснив их, французские батальоны рванулись вперёд, к вершине высоты Курганной. Завязалась отчаянная рукопашная схватка. В пробитую французами брешь устремились кавалеристы.
— Эй, орудия! Лафетники! Выручай! Пали! — истошными голосами кричали засевшие в недалёкой траншее егеря. — Да стреляй же!
К орудию рванулся капитан-артиллерист.
— Заряжай! — закричал он хриплым голосом. — Наводи! Картечью!
Одно за другим с разрушительным звоном ударили по атакующим два орудия.
— Ещё огонь! — скомандовал офицер, и ещё ударили два орудия.
Картечь разорвалась в самой гуще атакующих. На земле оказалось с десяток лошадей. Возле них появились раненые всадники.
Снова последовал орудийный залп. По французам били соседние батареи. Разрывы их ядер тоже были удачными.
Атаки следовали одна за другой, вся высота Курганная утонула в облаках пороховых разрывов. Её склоны с траншеями, рвами, укрытиями и прочими заграждениями представляли чудовищно искорёженную труднопреодолимую местность.
После жестокого боя восемь неприятельских батальонов были отброшены с большими для них потерями.
Вторая атака последовала через час. Ей предшествовал сильный огонь французской артиллерии по высоте. Теперь в атаку пошла дивизия неприятельской пехоты. Под мощным артиллерийским огнём сопровождения французам удалось прорваться к вершине Курганной высоты и захватить находившуюся там восемнадцатиорудийную батарею.
Раевскому с горсткой находившихся при нём храбрецов выпало биться в окружении.
На помощь пришли воины соседних дивизий: 12-й пехотной Васильчикова и 26-й пехотной Паскевича. Нанося удары по прорвавшемуся противнику с флангов, они помогли в атаке сводному отряду трёх полков, возглавляемому генералом Ермоловым.
Высокую отвагу и мужество показал в том бою двадцативосьмилетний генерал артиллерии Кутайсов. Умело управляя огнём артиллерии, он нанёс противнику серьёзное поражение, вынудив его отступить.
В полдень, когда сражение продолжалось уже более шести часов, в бою за Курганную высоту отличилась 24-я пехотная дивизия генерала Лихачёва, подчинённая генералу Раевскому.
Лихачёв вместе с пятнадцатью офицерами штаба был захвачен в плен в битве за Курганную высоту.
Докладывая о результатах боя, один из генералов Наполеона сказал ему:
— Нам удалось взять в плен русского генерала.
— Русский генерал? Кто он? В каком чине?
— Генерал-лейтенант. Он командовал дивизией.
— Где его схватили? Он ранен?
— Его взяли на батарее Курганной. Сражался вместе с солдатами. Он едва держится на ногах. У него шестнадцать ранений.
— Я хочу его видеть.
Седой генерал, по-стариковски склонив голову, сидел на скамье у бревенчатой стены. Лицо у него было в крови, он держал в руках бинт. Эполета висела на плече, держась на нитке. Пуговицы были оторваны, а в лопнувшем шве мундира проглядывали клочья ваты.
— Как ваше имя, генерал? — спросил Наполеон.
Продолжая сидеть, тот взглянул на французского императора усталым и безразличным взглядом.
— Генерал Лихачёв, — ответил он наконец и приложил бинт к окровавленной голове.
— Где вы дрались?
— На батарее Раевского.
— Раевского? Это где же такая?
— Мой император, она находится на высоте Курганной, — пояснил маршал Бертье.
Выслушав его, Наполеон отступил и окинул раненого долгим взглядом.
— Генерал, уважая вашу храбрость, я возвращаю вам оружие. — Император перевёл взгляд на Бертье. — Подайте шпагу генерала.
О, Наполеон был артистом, умевшим превосходно играть роль Великого.
Взяв в обе руки оружие, он великодушно протянул его Лихачёву. Тот, бросив взгляд на шпагу, покачал головой.
— Что же вы не берёте, генерал? — повысил голос Наполеон.
— Это не моё оружие, — усталым голосом ответил Лихачёв.
— Уберите его! — произнёс в гневе Наполеон.
К полной неожиданности всех, кто находился в избе, Лихачёв поднялся.
— Русский генерал чужое оружие в руки не берёт, — сказал он по-французски.
Наполеон посмотрел на него в упор и, ничего не ответив, направился к выходу.
Кровавое сражение продолжалось уже за полдень. Отоомные жертвы несли и русские войска и французы, ни одна из сторон не имела зримого успеха. Маршалы слали к Наполеону гонцов с просьбой ввести в сражение Молодую и Старую гвардии, последний резерв. Только эти надёжные войска, испытавшие ранее жестокие сражения, могли добиться долгожданного перелома в битве.
И Наполеон сдался. Приказал: «Гвардию — в бой!» Он был уверен в ожидаемом успехе ветеранских полков. Знал, что они сломят сопротивление русских полков, обороняющих высоту Курганную. Именно эта высота, которую защищали воины генерала Раевского, стояла на пути к победе.
Вдали показались с десяток всадников, несущихся аллюром. Они мчались к месту нахождения императора. Наполеон узнал в переднем своего приёмного сына, Евгения Богарне.
Соскочив с коня, он чуть ли не бегом направился к Наполеону.
— Там против моего корпуса и обозов… казаки! Они крушат всё!
Решение пришло моментально.
— Бертье! Гвардию оставить на месте! Атаки прекратить! А я — туда! — указал Наполеон сторону левого фланга своих войск.
Вскочив на коня, он помчался к опасному участку.
Всего полчаса назад шесть полков кавалерийского корпуса генерала Уварова и девять казачьих полков Платова растеклись по долине двумя лавами. Колочу они одолели с ходу, словно и не было преграды с крутыми берегами и вязким дном. Дальше лошади несли всадников к лежавшей в глубине неприятельского расположения деревне Беззубово.
Кроме своего лейб-казачьего полка, в подчинении Орлова-Денисова были ещё лейб-гусарский и полк Доронина. Перед рекой Война на их пути выросли пехотные каре. Шеренги угрожающе ощетинились штыками. Обойдя неприятеля с фланга, конники вынудили его отойти. Ведя частую стрельбу и соблюдая порядок, французы отступали к плотине у пруда. Там занимали боевые позиции два орудия.
Громыхнули орудийные выстрелы, ядра пролетели над головой и упали позади казачьего строя. Новые ядра угодили прямо в цель.
Путь к Беззубову лежал через плотину, по которой перебегали последние французские солдаты, а у деревни уже маячили всадники. Вглядевшись, полковник Доронин распознал в них казаков. Платовцы! Они уже неслись дальше, заходя глубже в неприятельский тыл, а навстречу им двигались французские войска.
Орлов-Денисов бросился к казакам.
— Донцы! Станичники! Там, у деревни дерутся наши земляки! Им нужна помощь! За мной!
Вырвав из ножен саблю, генерал повернул коня к плотине, увлекая за собой всадников. Послышались крики:
— Руби супостатов!
— Ату их! Коли!
Лава устремилась к плотине. По ней ударили из орудий, захлопали частые ружейные выстрелы, но ничто не могло сдержать казачий порыв.
— Ура-а! Ура-а! — неслось отчаянное из сотен глоток.
Несколько казаков, оберегая генерала, обогнали его и первыми прорвались к плотине. Пустив в ход пики, они на ходу поражали бежавших прочь французов.
Через плотину удалось прорваться лишь полку лейб-казаков. На последовавший за ним гусарский полк обрушился такой огонь, что передних всадников сдуло с седел словно ветром. Остальные поворотили, не решаясь испытывать судьбу.
Орлов-Денисов издали увидел Платова и поскакал к нему.
— Всё видел, Василий! Действуй вот с ними, — указал Платов на удалявшихся в неприятельский тыл всадников.
В разгар схватки Орлов-Денисов услышал испуганный голос ординарца:
— Вашество!.. Берегитесь!..
Бросив взгляд в сторону, Орлов-Денисов увидел французского солдата. Тот палил в него из ружья. Генерал рванул узду, пытаясь бросить коня в сторону, но перед глазами вдруг мелькнул красный мундир, перехваченный ремнём. Всадник вдруг сник и стал валиться. Падал и француз, поражённый чьей-то пикой.
К вечеру небо нахмурилось, пошёл дождь. Он продолжался и тогда, когда поступил приказ на отход.
Долгими и печальными колоннами двигались войска на Можайск. Их прикрывал арьергард из полков Раевского.
Ночью на одном из привалов Николай Николаевич услышал разговор солдат:
— Знать, не одолели Бунапарту, ежели отходим.
— Это он нас не одолел, — возразил глухой голос.
— Неужто теперь сдадим Москву?
— Чего буровишь! Неможно сдать Первопрестольную!
— Как же неможно?.. Эх, лучше б мне остаться под Бородином!
— Да не терзай ты душу, и так горько! Только помни, мы ещё в Париже побываем…
Думал ли этот безвестный солдат, что его слона станут вещими. Пройдёт немного времени, и русские войска вступят в Париж. И первыми войдут во французскую столицу полки генерала Раевского.
Несмотря на отход, сражение у Бородина оценили как победу русской армии. Наполеоновская сила понесла столь большие потери, что её боеспособность существенно пала. Это в таком-то отдалении от Франции! Из Петербурга последовал указ о производстве Михаила Илларионовича Кутузова в фельдмаршалы…
Выбрав свободную минуту, Николай Николаевич написал жене письмо. В нём он извещал её, что сражение было жестоким, кровопролитным, но Богу было угодно, чтобы он остался жив. Баталия же с Бонапартом выиграна.
После гибели Багратиона в командование 2-й армией вступил генерал Дохтуров. В рапорте ему генерал Раевский сообщил об одном эпизоде сражения за высоту Курганную, которую оборонял 7-й пехотный корпус:
«…Неприятель, устроив в глазах наших всю свою армию, так сказать, в одну колонну, шёл прямо на фронт наш; подойдя же к оному, сильные колонны отделились с левого его фланга, пошли прямо на редут и, несмотря на сильный картечный огонь моих орудий, без выстрела головы оных перелезли через бруствер. В то же самое время с правого моего фланга генерал-майор Паскевич с полками атаковал штыками в левый фланг неприятеля, за редутом находящегося. Генерал-майор Васильчиков то же самое учинил на их правый фланг, а генерал-майор Ермолов, взяв батальон егерей полков, приведённых полковником Вуичем, ударил в штыки прямо на редут, где, истребив всех, в нём находящихся, взял генерала, ведущего колонны, в плен. Генерал-майоры Васильчиков и Паскевич опрокинули в мгновение ока неприятельские колонны и гнали оные до кустарников столь сильно, что едва ли кто из них спасся. Более действия моего корпуса описать остаётся мне в двух словах, что по истреблении неприятеля, возвратясь в свои места, держался в оных до тех пор против повторных атак неприятеля, пока убитыми и ранеными приведён был в совершенное ничтожество и уже редут мой занял г. генерал-майор Лихачёв…»
В Москве
Сражение продолжалось допоздна. Особенно долго пальба доносилась от высоты Курганной, через которую пролегала дорога к деревням Горки и Бородино и где сражались полки 7-го пехотного корпуса Раевского. Там стрельба продолжалась всю ночь и затихла лишь к утру. И тогда же неспешно стали отходить к Москве русские войска.
Удерживая ключевую высоту, полки генерала Раевского перемешались, сражались небольшими безымянными отрядами, которыми командовали храбрейшие офицеры, унтеры, а то и просто рядовые.
После сражения генерал Раевский говорил: «Корпус мой был так рассеян, что даже по окончании битвы я едва мог собрать 700 человек. На другом день я имел также не более 15 000».
Потери в сражении понесли обе стороны. В русской армии они составили 44 тысячи человек, у французов из 135 тысяч числившихся под ружьём были исключены 58 тысяч.
В рядах отступавших русских войск слышалось:
— Неужто отдадим неприятелю Москву?
— Никак того не может быть, — доносились возражения. — Кутузов обещал устроить Наполеону ещё одну головомойку.
О судьбе Москвы ещё не было принято решения ни высшим генералитетом, ни самим главнокомандующим Кутузовым. Впрочем, к одному решению он склонялся всё более и более, однако его нужно было утвердить на военном совете.
Наконец он объявил главному квартирмейстеру армии полковнику Толю:
— Надобно первого сентября в деревне Фили устроить военный совет. Предупредите приглашённых генералов.
Деревня Фили находилась неподалёку от окраины Москвы и состояла из нескольких убогих рубленых изб.
— Кого предупредить? И на какой час?
— Часам к четырём пополудни. А пригласить надобно… Барклая да Беннигсена, Дохтурова — нынешнего командующего армией, Ермолова да Коновницына, Остерман-Толстого…
— А Раевского?
— Его непременно. Как же без него?.. И самому быть. И моего адъютанта полковника Кайсарова…
К назначенному времени все генералы, кроме Беннигсена и Раевского, чьи войска находились в арьергарде, явились с опозданием. До их прибытия совет не начинали.
Кутузов сидел в кресле у стола, размышляя над картой, распластанной на большом столе. Возле него находились полковники Толь и Кайсаров.
Беннигсен, а вслед за ним и Раевский прибыли лишь в пять вечера и сразу же перешли к делу.
Спор разгорелся между Беннигсеном и Барклаем. Начальник главного штаба настаивал на необходимости сражения перед Москвой, Барклай выступал против. Ссылаясь на потери, он утверждал, что последнее сражение может погубить армию, а с ней и мощь России.
Горячий, недолюбливавший Барклая, Ермолов выступал на стороне Беннигсена, но запротестовал Остерман-Толстой.
Николай Николаевич сидел за столом и наблюдал за спорящими генералами. Ему вспомнился Багратион. Он, конечно же, высказался бы за очередное сражение. Его всегда поддерживал Раевский. Но сейчас он никак не согласился бы с ним. Его спросили:
— А каково ваше решение, Николай Николаевич?
Он твёрдо ответил:
— Я за то, чтобы армию сохранить, а потом, собрав силы, разгромить Наполеона.
Решающее слово было за Кутузовым. Сознавая всю ответственность за сдачу Москвы Наполеону, он, однако ж, заявил, что с потерей Москвы не потеряна Россия и сохранена армия, которая должна разделаться с врагом, добиться его уничтожения в пределах России.
— А потому приказываю отступить.
На рассвете сентябрьского утра русская армия начала движение по улицам Москвы. К вечеру её главные силы находились уже в полутора десятках вёрст к востоку от столицы.
После заседания в Филях Раевский не стал задерживаться в штабе и направился в арьергард. Тут ом встретил генерала Винценгероде. Австриец по происхождению, тот большую часть военной службы провёл в русской армии, вместе с Суворовым участвовал в Итальянском походе, отличился в Аустерлицком сражении. Был несколько раз ранен, картечная пуля прострелила ему ногу, и он хромал. Ныне он командовал войсками, прикрывавшими петербургское направление.
— Мой друг! — обратился Винценгероде к Николаю Николаевичу. — Генерал Беннигсен приказал находящийся у вас лейб-казачий полк графа Орлова-Денисова подчинить мне.
— Возражать не буду, если на то будет приказ.
— Приказ есть. Его подтвердят. Но нельзя терять время. Орлов-Денисов должен немедленно ехать в Петербург — вручить важный документ императору.
— Тотчас же направлю, — пообещал Раевский.
Генералу Орлову-Денисову Винценгероде приказал:
— Вам надлежит, граф, отправиться в Петербург. Немедленно. Передать пакет от главнокомандующего. Он пишет о своих планах на дальнейшее ведение войны. Пакет вручите графу Аракчееву.
Алексей Андреевич Аракчеев, в прошлом военный министр, ныне ведал военными делами в Государственном совете и пользовался большим влиянием при дворе.
— И ещё, граф, — продолжил Винценгероде, — в дороге никому не сообщать, что сдали Москву. О сём можно распространяться после императорского слова.
Не заезжая в полк, Василий Васильевич Орлов-Денисов вместе с казаком Буслаевым помчался в Петербург.
Ехали на перекладных, меняя вне очереди на станциях лошадей. Не доезжая до Клина, на почтовой станции Подсолнечная генерала обступили крестьяне.
— Дошли слухи, будто в Белокаменной хранцузы. Неужто отдали её, родимую? Скажи нам, господин хороший, не утаивай правды.
Генерал вспомнил строгий приказ Винценгероде.
— Тяжело армии, мужики, неприятель силён Чтобы сдержать его, нужно большое войско.
— А мы-то на что! Аль непригодны? Сами в ополчение просимся. Готовы не то что с ружьём и топором, а с дубьём да кольём выступить. Лишь голос подай!
Пять дней тому назад, когда армия подходила к Москве, Василия Васильевича разыскал управляющий его имением. Это имение перешло к владельцу после смерти тестя. Управляющий спрашивал у него разрешения вступить крестьянам в ополчение, чтобы бить неприятеля на дорогах. Мог ли он отказать!
— Вооружай их, Северьяныч, чем сподобится, — сказал Орлов-Денисов управляющему. — А ушедших мужиков пока бабы заменят в хозяйстве.
— Ну, значица, барин, так тому и быть, — с благодарностью ответил управляющий и перекрестился.
Узнав о том, Михаил Илларионович Кутузов с чувством пожал Василию Васильевичу руку и сказал: «Спасибо, генерал, спасибо и мужикам твоим, не побоявшимся выступить против супостата».
— Ещё слыхали, барин, — продолжали расспрашивать крестьяне, — будто при Бородине сражение было страшное. Много в нём душ солдатских полегло. Правда ли это?
— Правда, мужики. Сам был в нём.
— И уцелел?..
Утром третьих суток вестники достигли Петер бурга и подкатили прямо к департаменту.
Уклонившись от расспросов, Орлов-Денисов потребовал встречи с Аракчеевым.
— Дайте пакет, — поднялся тот из-за стола.
Во внешности этого человека не было ничего такого, что соответствовало бы той недоброй молве, какая сложилась о нём в народе: «притеснитель», «властелин». За столом стоял человек в строгом мундире, среднего роста, сухощавый, с курчавыми, сильно поседевшими волосами. Вот только взгляд — холодный и суровый, из-под густых нависших бровей — словно обжигал.
— Сдали Москву… Отдали Первопрестольную. — Он тяжко вздохнул, перекрестился и уставился на Василия Васильевича. — Когда сие произошло?
— Со второго на третье сентября.
— Ах, Кутузов, Кутузов…
— Я слышал, ваше сиятельство, что так решил генералитет.
Аракчеев помолчал.
— Сказывали ли кому здесь о случившемся?
— Ни с кем не встречался, к вам прямо с дороги.
Через минуту и казак Буслаев был в кабинете.
— Находиться обоим здесь. Не выходить, — сухо бросил Аракчеев и, взяв со стола доставленное графом письмо, быстро вышел.
Казак застыл у двери, в недоумении разглядывая огромный кабинет со строгим порядком расположения в нём стульев и кресел, со стопками разложенных на столе бумаг.
— Не приходилось бывать в таких апартаментах? — спросил его Василий Васильевич.
— Никак нет. А видать, сей генерал суров до порядка.
— Да. Этого у него не отнимешь.
Аракчеев отсутствовал недолго. Он вошёл с озабоченным лицом, на ходу махнул рукой казаку, чтобы вышел. Заняв место за столом, объявил:
— Сейчас же, генерал, возвращайтесь к армии. До почтовой станции вас будут сопровождать, а далее домчат перекладные. Предупреждаю: о том, что Москва сдана неприятелю, никто не должен знать. Потребуйте неукоснительного молчания и от своего казака. И сами следите за ним. От черни всего можно ожидать, когда она узнает о поражении армии. Народ подл, того и гляди, взбунтуется.
Под негласной охраной чиновника из департамента Орлов-Денисов и Буслаев доехали до почтовой станции, там их усадили в первую карету и отправили назад, к Москве.
В ночь на 2 сентября главные силы русской армии миновали Поклонную гору и прошли через Москву. За ними по пятам следовали передовые отряды Мюрата. Ворвавшись в город, они распространились в нём, отрезав некоторые русские части от главных сил.
А в полдень к Поклонной горе подкатила свита Наполеона. Уставший, ещё не оправившийся от пережитой битвы, он ехал вначале в карете и, только подъезжая к Москве, пересел на коня.
Высоту называли Поклонной потому, что идущие в город богомольцы, поднявшись на неё, совершали поклонение московским святыням.
День стоял ясный, солнечный. Купола сорока сороков церквей сияли золотом.
— Москва! Москва! — послышались голоси подъехавших французов. Они бросились вперёд, чтобы лучше лицезреть дома недалёкой Дорогомиловской слободы, скрытой кирпичной городской стеной. В её широкие ворота нескончаемым потоком вливались французские войска.
— Вот она, Москва! Наша победа и конец войны! — торжественно произнёс Наполеон, окружённый маршалами.
— Виват! Виват! — посыпались восклицания. Слава Наполеону!
Кто-то сообщил, что Москва оставлена жителями;
выехали не только чиновники города, но и его простые обыватели от мала до велика, захватив скарб.
— Дикари! — пренебрежительно процедил Наполеон.
Он представил, как ловкие журналисты высмеют его в Берлине, Вене и даже в Париже: «Делегация должна быть! Должна!»
И её собрали из каких-то иностранных торгашей с десятком простолюдинов сомнительной внешности. Испугавшись, что пришёл их конец, они что-то говорили вперемешку с увещеваниями и мольбами. Никогда они не находились в такой близости от высоких военных чинов, да ещё из Франции.
Это был тяжёлый удар по самолюбию Наполеона, понимавшего, что перед ним разыгрывается фарс. Сев на коня, он прервал эту комедию.
В ожидании привычной церемонии вручения от поверженного города ключей Наполеон пребывал в добром настроении. Сколько уж раз приходилось ему делать это, и каждый раз он испытывал сладостные минуты щекочущего самолюбия. В этой церемонии, когда к его стопам склонялись головы совсем не слабых мужей, проявлялась сила, власть, величие победителя. А победителем был он, Наполеон!
Сколько в его жизни было поверженных городов! Да что там городов! Вся Европа у его ног! Не сломлены лишь Великобритания да Россия, но теперь конец упорству русских уже близок. Он верит, что скоро, очень скоро Россия признает его могущество. И первый акт в этом произойдёт с минуты на минуту, когда ему вручат ключи от древней златоглавой Москвы.
Наполеон мысленно отрепетировал свою роль. Не делая ни шагу навстречу и не скрывая своего торжества, он примет свою привычную позу, в которой выражено его величие. Таким его привыкли изображать художники. Скрестив на груди руки и твёрдо выставив ногу, он с холодной маской на лице выслушает извинительные слова побеждённых. Конечно, это будет прикрытый мнимым благородством жалкий просительный лепет. Он не прервёт его, терпеливо дослушает, а приняв ключ, небрежно передаст его Мортье. Начальника Молодой гвардии он намерен назначить московским генерал-губернатором. Потом он, возможно, одарит жаждущих его милости москвичей немногими словами, в которых прозвучит назидательный упрёк и снисходительное прощение.
Таким мыслям предавался Великий, глядя с высоты на Москву. Подле стояла свита во главе с верным Бертье. Следя за всемогущим, генералы и маршалы бросали нетерпеливые взгляды в сторону ворот, откуда должна была появиться делегация. Прошло уже сорок минут, а делегации всё не было.
— В чём дело, Бертье? — спросил Наполеон маршала. — Где Дюронель?
Генерал Дюронель был назначен комендантом Москвы и должен был отвечать за предстоящую процедуру.
— Он в городе. Я только что послал к нему третьего вестового офицера.
— А где Мюрат? Что сообщает он?
— Король тоже в городе… Видимо, произошла досадная оплошность…
Наполеон не стал слушать. Демонстративно повернувшись к маршалу спиной, он устремил взгляд на город, лежавший в туманной дымке осеннего дня. Сверкали золотом купола соборов и церквей, в одном месте поднималось чёрное облако пожара. А в ворота заставы всё продолжали втягиваться колонны войск.
Наконец из ворот вырвался всадник и намётом помчался к горе. Подъехав, он протянул Бертье донесение:
— От генерала Дюронеля.
— Что там? — насторожился Наполеон.
— Дюронель сообщает, что не мог найти русскую делегацию, вероятно, её нет.
Наполеон молча уставился на Бертье.
— Как это понимать?
— Нужно подождать, что донесёт Мюрат.
Однако примчавшийся вскоре от него офицер рассеял сомнения: церемонии с ключами не будет, нет никакой делегации московского муниципалитета.
— Варвары! Скифы! — сквозь зубы процедил Наполеон.
Взглянув на Москву, он увидел, как в южной её стороне вырвались густые клубы дыма и взметнулись языки пламени.
Ночь Наполеон провёл в придорожном трактире. За обоями шуршали тараканы, беспокоили клопы, наутро он встал в дурном расположении духа и с твёрдой решимостью ехать в Кремль.
Утром ему сообщили, что в городе возникли пожары, которые некому тушить.
Москва горела. С вечера заполыхала Солянка, потом — Китай-город, загорелись дома за Яузским мостом, и над городом нависла чёрная туча дыма. Пожар уже опустошил Немецкую слободку, свирепствовал на Покровке. Огонь возникал там, где хозяйничали предавшиеся грабежам пришельцы.
По дороге к Москве внимание Наполеона привлёк прохожий. Остановив коня, Наполеон спросил:
— Кто ты?
— Французский книгопродавец Рисе.
— A-а, стало быть, мой подданный?
— Да, но я давнишний житель Москвы.
— Где Растопчин?
Граф Растопчин командовал войсками московского гарнизона.
— Он выехал.
— Скажи, где московское городское правительство?
— Магистрат? Так и он выехал.
— Кто же остался?
— Никого нет из русских.
Книгопродавец Рисе готов был поклясться.
— Этого не может быть, — проговорил Наполеон и в сердцах ударил плетью коня.
Наполеона поразила пустота и безмолвие улиц. Не было восторженной людской толпы, которую он видел в ранее покорённых им городах и которую он ожидал увидеть в Москве. Слышался гул огненного пламени, рвавшегося ввысь бешеными языками, треск дерева, грохот рушившихся строений.
Сопровождаемый свитой, Наполеон проехал по улицам к Кремлю, так и не встретив ни одной живой души. Лишь у Красной площади, неподалёку от огромного здания Гостиного двора, он заметил французских солдат с тюками награбленного. Он хотел высказать недовольство находившемуся в свите Мортье, но понял, что это бессмысленно: грабежи не прекратишь. Солдаты и начальники считали грабёж законным делом, платой за трудный поход и пролитую в сражениях кровь.
Огонь подступал к Кремлю. Из опасения, что пожар перенесётся через стену, Наполеон приказал Мортье, чтобы он использовал для тушения пожаров свою гвардию. К вечеру огонь удалось несколько унять. Но ночью вдруг задул сильный ветер, и утром Москва представляла собой бушующее мо ре огня. Пылала Пречистенка, Арбат, Остоженка, Тверская. Пламя объяло Замоскворечье. Подхватывая головешки и космы огня, ветер переносил их через реку, метал на Кремль. Расположенные на крышах кремлёвских зданий гвардейцы Мортье с трудом гасили их.
Наполеон то и дело подходил к окнам, молча взирал на разбушевавшуюся стихию. При виде близкого огня его охватывала нескрываемая тревога. Бывавшие с ним в боевых переделках приближённые не видели его таким раздражённым. И Мюрат, и Богарне, и Бертье стали уговаривать его покинуть Кремль. И он сдался.
Вот как описывал бегство недавнего завоевателя из Кремля его адъютант Сегюр:
«Мы были окружены целым морем пламени; оно угрожало всем воротам, ведущим из Кремля. Первые попытки выйти из него были неудачны. Наконец найден был под горою выход к Москве-реке. Наполеон вышел через него из Кремля со своей свитой и Старой гвардией. Подойдя ближе к пожару, мы не решались войти в эти волны огненного моря. Те, которые успели несколько познакомиться с городом, не узнавали улиц, исчезавших в дыму и развалинах. Однако же надо было решиться на что-нибудь, так как с каждым мгновением пожар усиливался всё более и более вокруг нас. Одна узкая извилистая улица казалась более входом, нежели выходом из этого ада. Император пешком, не колеблясь, пошёл вперёд по этой улице. Он шёл среди треска пылающих домов, при грохоте разрушавшихся сводов, среди падавших вокруг него горящих брёвен и раскалённых кровельных листов железа. Груды обломков затрудняли его путь. Пламя, высоко поднимавшееся над крышами, силою ветра наклонялось над нашими головами. Мы шли по огненной земле, под огненным небом, между огненных стен. Сильный жар жёг наши глаза, но мы не могли закрыть их и должны были пристально смотреть вперёд. Удушливый воздух, горячий пепел и вырывавшееся отовсюду пламя спирали наше дыхание, короткое, сухое, стеснённое и подавляемое дымом. Мы обжигали руки, стараясь защитить лицо от страшного жара, и сбрасывали с себя искры, осыпавшие и прожигавшие платья. В этом-то ужасном положении проводник наш сбился с пути. Здесь кончилась бы наша жизнь, исполненная треволнений, если бы случайное обстоятельство не вывело императора Наполеона из этого грозного положения».
Их заметили грабившие дома французские солдаты из корпусов Даву и Нея. Они и вывели свиту к Москве-реке у Дорогомиловского моста. Измученные и потрясённые пережитым, французы лишь к ночи добрались до Петровского дворца. Там была назначена главная квартира.
Много позже, в 1850 году, русский поэт Н. С. Соколов описал переживания Наполеона, находившегося в Кремле. Вот это стихотворение:
Кипел, горел пожар московский Дым расстилался по реке, На высоте стены кремлёвской Стоял он в сером сюртуке. Он видел огненное море, Впервые полный мрачных дум, Он в первый раз постигнул горе И содрогнулся гордый ум! Ему мечтался остров дикий, Он видел гибель впереди, И призадумался великий, Скрестивши руки на груди; И погрузился он в мечтанья, Свой взор на пламя устремил, И тихим голосом страданья Он сам себе проговорил; «Судьба играет человеком; Она, лукавая, всегда То вознесёт тебя над веком, То бросит в пропасти стыда. И я, водивший за собою Европу целую в цепях, Теперь поникнул головою На этих горестных стенах! И вы, мной созванные гости, И вы погибли средь снегов, — В полях истлеют ваши кости Без погребенья и гробов! Зачем я шёл к тебе, Россия, В твои глубокие снега? Здесь о ступени роковые Споткнулась дерзкая нога! Твоя обширная столица — Последний шаг мечты моей, Она — надежд моих гробница, Погибшей славы — мавзолей».Начиная с 5 сентября над Москвой стал лить сильный дождь. Он несколько притушил пожары, но совсем их не погасил. Когда Наполеон возвращался из Петровского дворца в Кремль, над городом стелился дым, тлели обуглившиеся остатки строений на пожарищах.
Повсюду в уцелевших зданиях располагались французские солдаты, бульвары приспособили под отдых лошадей. Горели костры, в которые бросали всё уцелевшее в домах.
Многие были пьяны и в пьяном угаре делили меж собой награбленное. На одной из площадей судили слепого старика, обвинив его в поджоге. В назидание свидетелям его тут же повесили.
Вскоре на стенах домов и досках объявлений появились афишки, в которых французских солдат предупреждали, что каждый, кого уличат в грабеже, будет предан военному суду по всей строгости законов. Но эта угроза была бессильна: грабежи и насилия продолжались.
В загородном дворце, пережидая пожар, Наполеон находился четыре дня. Это было для него тягостное время. Овладев столицей России, он оказался в ней в положении узника того, с кем вёл войну.
Потеряв в сражениях значительную часть своих сил, армия и с овладением Москвой продолжала таять.
Выезжавшие за фуражом в окрестности Москвы отряды подвергались нападению казаков и местных партизан. Расправа с пленными становилась всё ожесточённее. От недостатка корма лошади падали сотнями. Кавалерийские части превращались в пехотные. Лишалась конной тяги и артиллерия. В Москве не прекращались грабежи. В армии росло воровство, насилие. Дальнейшее пребывание в городе угрожало окончательным разложением армии.
Ещё в начале войны некоторые генералы осторожно высказывали опасения неудачи в далёком походе на Москву. Однако Наполеон им не внял. Он не любил отказываться от задуманного.
Начиная войну, он был уверен, что она продлится недолго: первый бой станет её концом. План сражения в районе Дрисского лагеря, составленный прусским горе-теоретиком Фулем, был ему известен. Он знал его порочность и готов был в первой же схватке разгромить русскую армию. Однако сражение у Дриссы не состоялось. Неожиданно Барклай-де-Толли отвёл армию к Витебску, и тогда Наполеон послал Александру своё первое письмо.
В нём он писал: всё произошедшее доселе «не вяжется с характером Вашего величества и личным уважением, которое Вы мне подчас выказывали… Ещё когда я переправился через Мемель, я хотел послать к вам адъютанта, как всегда делал во время военных кампаний». Когда Александр не пожелал принять посланного гонца, «я понял, — писал Наполеон, — что незримое Провидение, чью силу и господство я признаю, должно решить исход этой кампании, как, впрочем, и многих предыдущих… Мне не остаётся ничего другого, как закончить это письмо просьбой помнить, что я по-прежнему неизменен в своей симпатии к Вам».
Это письмо осталось без ответа. Тогда из Смоленска Наполеон вновь послал к Александру гонца. Тот отказался передать письмо, но признался, у него есть брат, который служит в главном штабе русских.
— Вы окажете мне любезность, — сказал нарочному Наполеон, — если ваш брат доведёт через великого князя до императора Александра моё самое большое желание — заключить мир.
Генерал Бонапарт никого не просил. Он был выше этого. Но предчувствие затаившейся угрозы вынудило его просить, вопреки привычке, после смоленской неудачи.
Находясь в Кремле, Наполеон узнал о нахождении в Москве начальника Московского воспитательного дома генерал-майора Тутолмина. Вызвав своего подчинённого генерал-интенданта Дюма, Наполеон приказал пригласить того в Кремль для беседы. Он долго говорил с генералом о жестоком, варварском способе ведения русскими войны, о бесцельности сожжения Москвы, спросил, не смеет ли тот просить его о чём-нибудь. Тутолмин высказал желание послать донесение о состоянии вверенного ему воспитательного дома его покровительнице — императрице.
Услышав это, Наполеон поспешил воспользоваться данным случаем для осуществления своего скрытого замысла.
— Вы можете послать донесение, — произнёс он, — и я прошу вас написать при этом императору Александру, которого я уважаю по-прежнему, что я желаю мира. Донесение доставит в Петербург ваш чиновник, который возвратится с ответом императора. Я прикажу провести вашего гонца через наши форпосты.
Наполеон явно рассчитывал на установление не посредственной связи с Александром.
— Я подумаю о вашем предложении, — сказал в конце беседы генерал Тутолмин, ставя под сомнение выполнение плана французского завоевателя.
Там же, в Кремле, Наполеону сообщили, что отставной капитан гвардии Яковлев желает получить пропуск для выезда из Москвы его семьи, прислуги и крестьян.
— Пригласите. Я с ним поговорю.
Он принял капитана в тронном зале. Вначале вы сказал возмущение по поводу московского пожара и опустошения страны бесцельной войной.
— Надо наконец закончить кровопролитие, пора нам помириться… Мне нечего делать в России… Если император Александр желает мира, то ему только стоит известить меня об этом: я пошлю одного из моих адъютантов, Нарбона или Лористона. Мир немедленно будет заключён. Но если он желает продолжать войну, то и я буду продолжать. Тогда мы пойдём на Петербург, и этот город испытает участь Москвы.
Наполеон пообещал капитану пропуск на выезд из Москвы, если тот, устроив свои дела, отправится в Петербург.
— Но к императору меня не пустят, — заявил Яковлев.
— А вы обратитесь к обер-гофмаршалу Толстому. Он человек порядочный. Или же велите камердинеру доложить о вас императору, а может, и сами постараетесь увидеть его во время ежедневной прогулки.
— Нет, нет! Это невыполнимо. К императору меня не допустят, — повторил капитан.
— Тогда я напишу царю письмо и поручу вам его передать.
В тот же вечер Наполеон написал письмо императору Александру.
«Государь, брат мой… Великолепной красавицы Москвы больше нет… Это деяние отвратительно и бесполезно. Вы хотели лишить меня источников снабжения армии? Но они находились в погребах, куда огонь не добрался. Разве допустимо разрушить один из красивейших городов мира, создававшийся веками, ради столь ничтожной цели! Из гуманных соображений и в интересах Вашего величества и этого великого города я взял его под свою опеку, когда русская армия его покинула. Следовало бы по крайней мере оставить там органы власти и полиции, как было в Берлине и Мадриде и дважды в Вене. Так поступила Франция и в Милане, когда туда вошёл Суворов. Невероятно, чтобы Вы сами, с Вашими принципами и с Вашей душой дали согласие на эти мерзости, недостойные великого народа и его властителя.
Увезя пожарные насосы, оставили в городе 150 пушек… Я пошёл войной на Ваше величество, не тая на Вас злобы. Несколько строк от Вас до либо после последнего сражения остановили бы моё продвижение, ради Вас я даже захотел бы избежать вступления в Москву… Если в Вас осталось хоть что-то от прежних дружеских чувств ко мне, Вы воспримете это письмо с приязнью. Во всяком случае, Вы должны быть благодарны мне за то, что я ставлю Вас в известность о происшедшем».
Прошло две недели, но Наполеон не получил на своё письмо никакого ответа. Тогда он решил искать мир другим путём.
Как вспоминал генерал его свиты Коленкур, в сентябре Наполеон предложил ему попытаться ехать в Петербург. Генерал отказался, заявив, что эта миссия совершенно бесполезна.
«Видя, что ему не удастся меня уговорить, император сказал:
— Ладно. Отправляйтесь тогда в штаб фельдмаршала Кутузова.
Я ответил, что эта поездка увенчалась бы не большим успехом. Я добавил ещё, что Александр не подпишет мира в своей столице; так как этот шаг с нашей стороны оказался бы безрезультатным, то целесообразнее не делать его.
Император резко повернулся ко мне спиной и сказал:
— Хорошо. Я пошлю Лористона. Ему достанется честь заключить мир и спасти корону нашего друга Александра».
Лористон также сделал попытку отказаться от щекотливого поручения. Раздражённый Наполеон воскликнул:
— Я желаю мира! Мне нужен мир! Отправляйтесь же немедленно в русский лагерь!
Свидание Лористона и Кутузова состоялось на другой же день, 23 сентября, в Тарутинском лагере. В письме Кутузову Наполеон писал:
«Князь Кутузов! Посылаю к Вам одного из моих генерал-адъютантов для переговоров о многих важных делах. Хочу, чтобы Ваша светлость поверила тому, что он Вам скажет, особенно когда он выразит Вам чувства уважения и особого внимания, которые я с давних пор питаю к Вам. Не смея сказать ничего другого этим письмом, молю Всевышнего, чтобы он хранил Вас, князь Кутузов, под своим священным и благим покровом. Наполеон».
В главной квартире русской армии, где посланца принял Кутузов, Лористон начал с того, чтобы произвести обмен военнопленными и запретить жестокости русских партизан в отношении французских солдат.
На это предложение Кутузов ответил отказом. Он заявил, что первый раз в жизни слышит жалобы на горячую любовь целого народа к своему отечеству, народа, защищающего родину от чужеземного врага.
На предложение о заключении мира русский военачальник также ответил отказом. Он заметил, что не русские начали войну, для них она только начинается. «Я буду проклят потомством, если во мне будут видеть какого бы то ни было соглашателя, потому что таково теперешнее настроение моего народа».
Надежды Наполеона на заключение мира не оправдались.
Разгром Мюрата
Русская армия отступала. Нескончаемым потоком шли от Москвы по дорогам на Рязань сильно поредевшие полки и дивизии. Преследуя, за ними двигались кавалерийские отряды Мюрата.
У Боровского перевоза армия переправилась через Москву-реку и, неожиданно свернув с Рязанской дороги, пошла в сторону Подольска. А двум прикрывавшим отход армии казачьим полкам последовал приказ продолжать двигаться к Рязани.
— Главное, полковник, сильней пыли, — передал полковнику Ефремову генерал Милорадович волю главнокомандующего. — Своим движением вы должны увести неприятеля подалее к Рязани. Справишься — честь тебе и слава.
До самых Бронниц не подозревавший хитрости Мюрат гнался за разъездами, полагая, что непременно настигнет русскую армию и нанесёт ей поражение. Но за Бронницами отступавшие вдруг исчезли. Были — и нет! Не стало их.
Мюрат выслал разведку к Рязани и направил дозоры на фланги, приказав найти главные силы русских. Однако поиски были безуспешными.
Две недели Наполеон находился в полном неведении, куда могли скрыться русские войска. Такого с ним никогда не случалось. Стотысячная армия словно провалилась!
А она в это время сосредоточилась у Тарутина. Своим манёвром она заняла угрожающее местоположение относительно находившихся в Москве и её окрестностях французских сил. Русские отрезали им доступ в не разорённые войной южные области, откуда к армии поступало не только людское пополнение, но и снабжение всем необходимым.
В Тарутине войска встали лагерем, занимая выгодные позиции. С фронта они прикрывались рекой Нарой, имевшей высокие крутые берега, за которыми в удалении расположились передовые посты. Они закрепились на небольшой речке Чернишной, притоке Нары.
1 октября генерал Орлов-Денисов выехал с ординарцем Полосухиным на правый фланг передовой линии, где его лейб-казаки несли охрану.
День выдался тёплый, солнечный, в воздухе лениво плавали серебристые паутинки. Генералу вдруг вспомнилось, как год назад в такую же осеннюю пору он проводил свой отпуск в родной станице Черкасской. Он сидел у Дона и думал о своей жизни, беспокойно-тревожной, с бессонными ночами, долгими походами, частыми сражениями. Такой жизнью жили его дед и отец, и такая же судьба уготована каждому казаку, стражу земли Русской…
«Курлы-курлы» — донеслось с неба. В белесоватой голубизне плыл журавлиный косяк.
— К нашим краям летят, — поглядел на птиц из-под ладони Полосухин. — Через неделю-другую над Доном пролетят.
— Пролетят, — согласился генерал.
Они миновали Спасское, по мосту перебрались на левый берег Нары и взяли направление к видневшемуся вдали перелеску. Их встретил сотник Урюпинский, бородатый, с быстрыми глазами. Сам он был с Хопра и фамилию носил по названию родной станицы Урюпинской.
— На аванпостах тихо, и никаких происшествиев не случилось, — держа ладонь у папахи, доложил он.
В сторожевом охранении было создано три линии. В передовой дозорные попарно дежурили в течение суток. В версте от первой линии была вторая. Там также несли круглосуточное дежурство. А в третьей линии располагались резервные подразделения.
— Неужто за сутки так ничего и не было? — усомнился генерал. — А что неприятель?
— А он далече. Видать, сидит и боится сблизиться. Это уж точно. Вчера мы с Тимохой Токмаковым углубились в лес до самого Хоросина-села, ни души не повстречали.
— Кто разрешил? Почему проявили самоуправство? — нахмурил брови генерал.
— Виноват. Извините за необдуманность. Хотел только дойти до леса, поглядеть хранцуза поближе, да потом азарт захватил: дай, думаю, выясню, где хранцуз нечистый скрывается.
— И где же он?
— Так мы его не видели! Рыскали-рыскали по лесу и даже к опушке подбирались — нигде нет!
— Ну-ка, ну-ка, — возбудился генерал и полез в сумку за бумагой с вычерченным на ней расположением аванпостов и неприятельских частей. — Покажи-ка, сотник, как ехали, где были.
Урюпинский, столкнув со лба папаху, склонился над планом и засопел: в таких делах он был не очень горазд.
— Вначале, значица, мы выехали отсель и потрусили вот сюды, — ткнул он пальцем в угол обозначенного на бумаге леса. — А оттель пошли лесом в сторону хранца. Ехали версты две, а может и более. Хоросино-село правей нас и чуток позади оказалось. Тут мы повстречали девчонок малых, те бродили по грибы, с лукошками. Я их, значица, расспросил о том о сём, поинтересовался насчёт хранца. Заходили, гутарят, а сейчас в селе никого. Тогда решили ехать мы через лес, на опушку, авось там его найдём…
— Доехали до опушки?
— Не-е. Не стали испытывать судьбу, поехали назад. Так никого и не повстречали.
Генерал, уставившись в план, о чём-то размышлял. Потом перевёл взгляд на лес, всмотрелся в холмистую равнину.
— Послушай, сотник, а если сейчас поедем, проведёшь по тем местам?
— Где был вчера? А то как же!
— Тогда мигом собирайся, поедем. И дозорного с собой бери.
— Токмакова? Он дежурит, но я подмену вышлю. А ещё надобно с десяток прихватить. Не дай Бог, на хранца наскочим.
— Хорошо, давай команду на сбор.
— Сей момент… А бережёного Бог бережёт.
Вскоре прибыл в полной форме шустрый Токмаков, за ним восемь верховых гвардейцев во главе с урядником Бутовым.
— Поехали! — скомандовал генерал, и все направились к лесу.
Возвратились они к вечеру, уставшие, голодные, возбуждённые от удачно проведённой разведки. Проехав по вчерашнему маршруту, они не встретили ни одного француза, хотя до неприятельского расположения оставалось не более полуверсты. Не иначе как французы боялись заходить в лес. Поблагодарив подчинённых за службу, генерал поспешил в Леташевку, где находилась квартира главнокомандующего Кутузова.
Первого, кого Василий Васильевич встретил в селе, был полковник Толь. Едва он повёл рассказ о поездке, как полковник насторожился.
— Продолжайте, граф, это очень интересно. — Он развернул карту и стал следить по ней, отмечая карандашом путь, который проделал Орлов-Денисов. — И ни одного французского разъезда не повстречали? И какие на сей счёт ваши соображения?
— Надобно учинить диверсию против неприятельского фланга, воспользоваться оплошностью врага и внезапно напасть на него. Непременно добьёмся виктории. Поручите мне это дело и дайте полков поболее, пять, а может, и шесть. Их сейчас вон сколько с Дона прибыло! Целых двадцать шесть! Матвей Иванович Платов определённо сие дело одобрит.
Толь молча слушал, покусывая губу, думал своё.
— Резон есть, только у Мюрата сила немалая: до тридцати тысяч на позиции да артиллерии сколько! — наконец сказал он. — Тут нужен основательный удар, а для этого и силы значительные. Нужно доложить главнокомандующему. Полагаю, Михаил Илларионович замысел одобрит.
Подошёл начальник главного штаба генерал Беннигсен. С утра, после того как он прочитал адресованное ему письмо самого императора, генерал был не в духе. Александр объявил ему из Петербурга строгий выговор за то, что он посмел встретиться на передовых позициях с Мюратом и вступить с ним в переговоры. Разговор не выходил за пределы личных отношений, однако Мюрат был врагом, и русский генерал не должен был терять своего достоинства.
Увидев Орлова-Денисова, Беннигсен вскинул бровь.
— С чем прибыли, граф? Как будто у нас к вам не было дела.
— Генерал только что вернулся из разведки, привёз новости чрезвычайной важности, — ответил за него Толь и не без умысла добавил: — Мы как раз собирались доложить вам о них.
— Новости? Что-нибудь важное?
— Совершенно верно. Прошу выслушать.
Толь стал докладывать сообщение Орлова-Денисова. Сухое, деревянное лицо Беннигсена оставалось неподвижным.
— Вот у нас и возникла мысль внезапно напасть на Мюрата с одновременным ударом на его фланг и тыл.
— Думать надо, думать, — неопределённо ответил Беннигсен. — Это прерогатива главнокомандующего. Ему доложите. С моей стороны возражений нет. Если возложат на меня ответственность, приму командование.
Толь без труда разгадал смысл высказанного хитроумным ганноверцем: конечно же, он одобряет дело и готов его возглавить, но предлагать главнокомандующему, с которым не ладит, не станет.
Михаил Илларионович слушал Толя без особого, казалось, интереса. Сидел в кресле, положив на стол пухлые старческие руки и поглядывая единственным оком на карту с вычерченными цветными знаками. Когда полковник кончил, Кутузов помедлил с ответом, потом произнёс:
— В диспозиции, Карлуша, необходимо учесть реальные силы французов. Они велики. А потому, чтобы добиться успеха, нужно предусмотреть внезапность нападения. В ней, во внезапности, скрыта победа. Наступать нужно по всему фронту неприятельской позиции, а главный удар нанести в левый фланг. Сюда направь Орлова-Денисова и дай ему десять казачьих полков, да ещё присовокупи армейский корпус кавалерии. И артиллерией обеспечь.
— Может, дать роту донской артиллерии?
— Пусть так. В диспозиции предусмотри, чтобы этот Орлов забрался подалее в тыл французам. Он сделает. — Кутузов словно бы убеждал в том самого себя. — Орлов генерал лихой и надёжный. Только чтоб в диспозиции всё было согласовано да точно выполнено.
— Кому же сие предприятие поручить? — спросил Толь.
Кутузов вздохнул: «Конечно, с этим бы делом блестяще справился Багратион, но нет Петра Ивановича. И умный Барклай, ссылаясь на болезнь, уезжает из армии на излечение. Остаётся Беннигсен…»
— Пусть Леонтий Леонтьевич возглавит… Ты же, Карлуша, тщательно распиши диспозицию, но прежде сам побывай на том месте, особливо где будут наступать главные силы. И после того пиши диспозицию. Наступать надобно не поздней пятого октября. Передай мою волю Беннигсену.
4 октября войска не были готовы к выступлению. К тому же Беннигсен написал в дополнение к основной диспозиции ещё свою и внёс путаницу. В отряд Орлова-Денисова, кроме десяти казачьих полков и кавалерийского корпуса Меллера-Закомельского, состоящего из четырёх полков, он включил также пехотный полк.
— А егеря-то зачем? Известно ведь, что конный пешему не товарищ! — возмутился Василий Васильевич.
— Тут есть ещё один заковыристый пунктик. — Подполковник Мирошников держал в руках беннигсеновское дополнение к диспозиции. — Вот послушайте: «По достижении деревни Стремилово отряду остановиться и ждать выхода пехотных корпусов из леса и начала их действия против неприятеля». А ежели они опоздают и придут после рассвета? Тогда всё предприятие рушится…
— Ладно, Иван Степанович, будем поступать, как велено, — припечатал ладонью о стол генерал. — Объяви всем: завтра повечеру, как стемнеет, тронемся. Распиши порядок движения и сообщи об этом каждому начальнику. Эскадрон Чеботарёва держать в голове, он будет подручным, для разных дел.
Надвигались осенние сумерки, когда командир казачьей бригады генерал Греков доложил Орлову-Денисову о готовности. Отдельно донёс о своих гусарах Меллер-Закомельский. Сын генерал-аншефа и барон, он считал ниже своего достоинства подчиняться казачьему генералу из ополчения, каким был Греков.
Вперёд уже ускакал с дозором сотенный Урюпинский. Он должен был вести разведку и выставлять на маршрутах «маяки», чтобы главная колонна не сбилась с пути. Колонну вёл сам Орлов-Денисов.
Перед выходом казаки проверили подгонку снаряжения и конскую сбрую, чтобы не делать лишнего шума. Но разве его избежишь! Мерно били о мягкую землю копыта, храпели кони. Порой что-то лязгало и поскрипывало в колёсах пушек. Запряжённые парным цугом сильные кони неторопливо тащили орудия и зарядные ящики. В батарее донской артиллерии было шесть орудий. Командовал ими войсковой старшина Кирпичев. За артиллерией следовала колонна гусар, замыкал отряд казачий полк Карпа Шамшева.
Ночь выдалась тихой, тёмной. «Хорошо бы дождь пошёл или задул ветер», — пожелал Василий Васильевич. Дорога тянулась правее леса, за которым находились французы. Он ясно представил неприятельское расположение по обе стороны большого Рязановского оврага. На левом, ближнем к лесу фланге, у деревни Тетеринки, занимали позиции полки Себастиани, в центре стоял корпус Понятовского, а на правом фланге, против которого должен был наступать корпус Милорадовича, сосредоточились силы дивизии Клапареда и кавалерия Сен-Жермена.
Все эти французские войска следовало атаковать с фронта пехотными корпусами Багговута, Дохтурова и Остермана-Толстого. Атака была намечена на рассвет.
До него было ещё часа два, когда отряд достиг назначенного диспозицией рубежа атаки. Вдали в расположении неприятеля мерцали костры.
— Вон там, на косогоре, — полки Себастиани. Местность пред нами ровная, небольшие овраги подалее. Нападение будем учинять отсюда, от леса, и наступать вдоль дороги, минуя деревню Дмитровскую, — объяснил генерал Орлов-Денисов. — Готовность к семи утра, как подойдёт корпус генерала Багговута. Егерям скрытно выдвинуться к оврагу, что у Дмитровской, и быть в готовности отразить нападение французской кавалерии. Батарее же продвигаться по дороге.
Не успели командиры разъехаться к полкам, как из тьмы выплыли два всадника, а меж ними пеший.
— Кто таковские? — окликнули их.
— Дозорный Токмаков с пленным французом.
Пленного подвели к генералу Орлову-Денисову.
Он что-то быстро заговорил, задёргал руками.
— Так вы поляк? — определил генерал. — Развяжите ему руки! Где схватили?
— Неподалёку от деревни, — ответил Токмаков. — Гутарит, вроде бы к нам шёл, в лес. Сотник Урюпинский приказал доставить его к вам.
— Я полек, полек, — тыкал себя в грудь пленный, хотя на нём была форма французского улана.
Толмач, понимающий по-польски, переводил несвязную и торопливую речь унтер-офицера из корпуса Понятовского.
— Он говорит, что бежал к нам, русским, чтобы отомстить несправедливому начальнику. Сам он французов ненавидит и готов нам помочь схватить самого Мюрата. Квартира маршала неподалёку от того места, где стоял его полк.
— Он знает, где находится Мюрат? — переспросил Орлов-Денисов.
— Так точно, и может нам помочь его изловить… — повторил толмач. — Ежели дадут сто человек, то непременно схватят.
— Неужели так сказал? — не поверил генерал.
— Да-да, я это сделаю, — начал уверять поляк. — Мюрат будет в ваших руках!
— Василий Васильевич, дозвольте мне отправиться, — попросил генерал Греков. — Подвернётся ли ещё такой случай!
Орлов-Денисов сам понимал, что захватить Мюрата — соблазн велик. А если поляк подослан и действует с умыслом?
— Послушай, если ты исполнишь обещание, получишь сто червонцев, но, если ты лжёшь, велю повесить! Разумеешь?
Поляк и без переводчика понял генерала, ударил кулаком себя в грудь и упал на колени.
— Ладно! Рискнём, — обратился Орлов-Денисов к Грекову. — Бери, друг, свой и Ребрикова полк и марш-марш за Мюратом!
Пока генерал Греков ставил задачу войсковому старшине Василию Ребрикову да вытягивались полки, тьма дрогнула, стало светать.
— Ну где же пехота? — волновался Орлов-Денисов.
По диспозиции его отряд должен был атаковать французов одновременно с корпусом Багговута. Пехоте следовало уничтожить неприятеля в Тетерниках, а кавалерии, обходя деревню, обрушиться на врага с фланга.
Примчался дозорный, ранее посланный к месту сосредоточения корпуса, и доложил, что войск там не обнаружил, ни одной живой души.
— Ах, чтоб тебя! Ведь если пехота не подойдёт до рассвета, французский лагерь пробудится, отпадёт и внезапность нападения. Нарушится весь план, и ушедшие за Мюратом полки обнаружат себя раньше времени…
Орлов-Денисов поглядел в сторону французского расположения: ему показалось, что там уже появились люди. Поздно, определённо поздно!
— Полосухин! — кликнул он ординарца. — Скачи к генералу Грекову, пусть немедленно возвращается!
Стрелка часов медленно ползла по циферблату. Полки выстроились и ждали сигнала к атаке. Волнение людей передалось и коням: они нетерпеливо перебирали ногами, вздрагивали и хрипели.
Прискакал Греков.
— Почему назад?
— Поздно, генерал. Полкам занять места в боевом строю. Начнём атаку, не ожидая пехоты. Бог с ним, с Мюратом.
Орлов-Денисов понимал, что в случае неудачи вся вина падёт на него. Но делать было нечего: отряду придётся нападать, не ожидая подхода корпуса Багговута. Скупым движением руки он осенил себя крестом и вполголоса скомандовал:
— Вперё-ёд!
Растянувшись в широкий фронт, с опушки вынеслась конная лава. Убыстряя бег, кони неслись в сторону склона, где ещё догорали костры.
Первыми достигли неприятельского лагеря находившиеся на левом фланге гусары. Захваченные врасплох французские уланы небольшими группами отбивались от русских конников. Многие были полураздеты, без коней. На помощь им поспешили всадники из лежавшей за оврагом деревни Тетерники. Оттуда же громыхнула пушка. Ядро упало с недолётом и поразило своих же улан.
Казаки Грекова, не ввязываясь в схватку, пронеслись дальше, стремясь вырваться к дороге, что пролегала из Тарутина на север, к Спас-Купле. По всадникам открыли слева беспорядочную стрельбу из ружей, но это не смогло сдержать лавину. Скакавшие впереди заметили скопище повозок.
— Обоз, братцы! Всё наше!
Охота пошебаршить в чужом добре была у казаков в крови. Брали мелочь: в суму много не положишь, но привычка не отпускала. Из вспоротых чемоданов, саков, узлов грудами вываливалось содержимое.
— Ах, сучьи дети! Совсем обезголовились! Бери артиллерию, а не обоз! — носились среди телег начальники и без разбора хлестали плетьми.
Наступавшая справа лава Иловайского наскочила на артиллерийский парк. Стоявшие в строгом порядке орудия с зарядными ящиками образовали длинный ряд. Из находившихся неподалёку землянок и укрытий к орудиям бежали полураздетые артиллеристы. Завидев всадников, они открыли по ним беспорядочную стрельбу из ружей. Пули снесли с седел нескольких передних верховых, однако скакавшие за ними врубились в толпу и вовсю работали саблями.
К предполагаемой стоянке Мюрата направили эскадрон Чеботарёва. Рядом с командиром под его строгим присмотром скакал захваченный поляк.
Левее лавы загромыхали орудия. Орлов-Денисов понял, что это бьют неприятельские орудия, он даже увидел расположенную вдали на открытом месте батарею. Вглядевшись в подзорную трубу, различил повёрнутые в сторону русских орудия. Они стреляли по лесу, из которого должен был наступать корпус Багговута. Так и есть! От леса шли к французскому лагерю колонны войска.
— Слава богу, наконец-то подоспели, — проговорил подполковник Мирошников. — Теперь нам будет легче.
Но легче не стало. Первым же ядром был смертельно поражён генерал Багговут, и это отразилось вначале на управлении, а потом и на войске. Атаку пехота произвела недружно, без согласованности, неприятелю удалось отразить её.
Вслед за первым корпусом в сражение вступил второй, генерала Остермана-Толстого. Хотя неприятель и оказывал сопротивление, но его боевые порядки дрогнули.
«Пора дать дело и артиллеристам», — определил Орлов-Денисов и послал за войсковым старшиной Кирпичевым. Тот примчался без промедления.
— Батарея к развёртыванию готова, — доложил он.
— Разворачивай немедля и отсекай неприятеля ядрами, чтоб не ударил нам во фланг.
— Понял! Разрешите выполнять? — Не ожидая ответа, войсковой старшина помчался к батарее.
Мюрат безмятежно спал, когда в предрассветной ночи прогремели орудия. Дежурный генерал насторожился, послал офицера послушать и выяснить, откуда доносится гром да кто стреляет.
Офицер прислушался — выстрелы доносились с левого фланга, где находилась дивизия Понятовского.
— Ну что там? — поспешил вслед за офицером генерал.
— Наверное, дозор неприятельский отгоняют. Ишь как бьют!
— Мигом на коня! Узнать, в чём дело, и назад, чтобы доложить маршалу!
Пальба меж тем усиливалась, она растеклась по всему фронту, в неё влилась ружейная перестрелка. Не ожидая возвращения гонца и прибытия с передовой линии посыльных, дежурный генерал поспешил к Мюрату.
— На левом фланге затевается дело. Пушки вовсю палят, и ружейная перестрелка вспыхнула.
— Коня! Лагерю тревога!
Всегда требовательный к своему виду, Мюрат сейчас выскочил из избы в мундире, небрежно на брошенном поверх нательной рубахи. Он услышал и оружейные выстрелы и стрельбу из ружей и сразу определил, что и где происходит.
— Так это же у Себастиани!
— Теперь и там, а ранее началось у Понятовского, — объяснил дежурный генерал.
Прискакал верховой от Понятовского.
— Казаки напали! Заходят нам в тыл! Захватили орудия и обоз!
Подоспел гонец и от Себастиани.
— Русская пехота ворвалась на позицию. Продвигается в расположение. Генерал велел доложить, что неприятельские силы велики!
Мюрат понял всю серьёзность обстановки. Кольнула сознание мысль о разведке, о необходимости посылки её не только на фланг, в леса, но и к Тарутину, к главным силам русских. Прозевал! И сторожевое охранение следовало иметь более надёжное, ведь лес подступал почти вплотную к позициям корпуса Понятовского. Теперь приходится расплачиваться за упущения.
— Играть всем отход! Немедленно! Отступать на Спас-Куплю!
Вскочив на коня, Мюрат бросился к ближайшему бивуаку[28] кавалеристов. За ним помчались офицеры штаба, адъютанты. Увидев метавшихся в панике гусар, маршал скомандовал:
— Всем ко мне! Живо! Сюда!
К нему подскакали такие же, как и он, полураздетые и перепуганные люди.
— Стройся!
Все бросились выполнять команду маршала. Заметив офицера, он приказал:
— Ваш эскадрон, капитан? Командуйте! Вперёд, на русских!
Капитан повёл гусар к месту нападения.
А Мюрат меж тем уже летел к другому бивуаку, собирая вокруг себя подавленных паникой кавалеристов. Когда их набралось с сотню, он сам повёл их туда, где слышалась пальба.
Стоявший рядом с Чеботарёвым поляк вдруг придержал коня и всмотрелся вдаль. Сейчас он напоминал гончую в стойке, заприметившую неподалёку добычу. Вытянув руку в сторону французских всадников, поляк воскликнул:
— Мюрат!.. Мюрат!..
Но бывалому воину было достаточно и услышанного. Пришпорив коня, он полетел на французских кавалеристов.
Орлов-Денисов тоже узнал в полуодетом всаднике Мюрата. Он не однажды видел его в Тильзите, когда пять лет назад императоры заключали мир. Черноволосый, порывистый в движениях, с решительным лицом — в нём сразу угадывался отважный боец.
Мюрат видел, как к нему, устрашающе выставив пики, мчались казаки. Но это его не испугало. С обнажённым клинком он бросился на рыжебородого казака. Тот увернулся, выставил пику и ткнул ею Мюрата.
Маршал почувствовал тупой удар в бедро и с трудом удержался на коне. Он получил бы ещё удар, если б не подоспел на помощь какой-то майор с полусотней всадников. Заслонив собой маршала, майор сразу бросился на бородача.
— Вот тебе! — рубанул он, высекая на металле пики сноп искр.
— Вы ранены, мой маршал! — услышал Мюрат голос адъютанта. — Вам нужно уйти…
Придерживая Мюрата, адъютант повернул коней назад.
Лишь ускакав от места схватки на безопасное удаление, маршал почувствовал слабость и боль в бедре, перед глазами стлался туман.
Это было первое ранение безудержно отважного военачальника. Никогда за двадцать два года службы он не получил даже царапины. А уж в каких только переделках он не побывал! В Итальянском походе отличился в жестокой битве при Маренго, в сражении при Вертингене он со своей кавалерией пленил шестнадцатитысячную австрийскую армию во главе с её командующим, показал себя под Аустерлицем, Иеной, Эрфуртом, Прейсиш-Эйлау, Фридляндом.
Сын трактирщика, он в двадцать пять лет стал генералом, в тридцать три — маршалом Франции, королём Неаполитанским. «Баловнем победы» называли его. Он был правой рукой Наполеона, и тот говорил, что Мюрат превосходит храбростью всех на свете, в поле настоящий рыцарь и что нет на свете генерала, более способного к командованию кавалерией.
И вот здесь, у малоизвестного местечка Тарутино, безудержный и непобедимый маршал терпит поражение! Первое в своей победной жизни…
Судьбе было так угодно, что это поражение стало переломным в его биографии, всё потом пойдёт кувырком, от этого местечка Тарутино до итальянского берега Калабрии, куда он попадёт через три года ненастным сентябрьским утром 1815 года.
Тогда, спасаясь от преследователей, Мюрат с небольшим отрядом в двести пятьдесят человек отплыл на нескольких кораблях от берегов Франции в надежде утвердить себя королём Неаполитанским. Но, на его несчастье, в море разразилась буря, корабли разметало, и он высадился с немногими сподвижниками, потерявшими веру в своего императора.
В первой же деревне его схватили.
— Я Мюрат, король Неаполитанский, — возмутился он действиями местных властей.
— Вы — Мюрат? Тот самый, что был помощником Наполеона? Маршал?
— Совершенно верно.
— В таком случае нам крупно повезло. Вы-то нам и нужны.
Его тут же предали австрийскому военно-полевому суду. Процесс продолжался четверть часа: трибунал вынес смертный приговор. Мюрата вывели за околицу деревни.
— Виват…
Он не успел закончить: прогремел залп, и маршала не стало…
Но это будет потом, а сейчас его корпус и он вместе с ним бежали к небольшому местечку Спас-Купля на Московской дороге, спасаясь от казаков.
Французы понесли значительные потери: более двух с половиной тысяч убитыми и ранеными, тысяча пленных и среди них генерал Дери. Были захвачены тридцать восемь исправных орудий, сорок зарядных ящиков, в руки русских попал весь обоз, в том числе и личный обоз Мюрата. Это была первая победа русских войск над французской армией, положившая начало изгнанию оккупантов из пределов России.
Докладывая о сражении императору, Кутузов писал:
«Победа сия решалась действием правого фланга, то есть десятью казачьими полками под командою генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова, четырёх полков кавалерии под командою генерал-адъютанта барона Меллера-Закомельского, бывших казакам в подкрепление, 2, 3 и 4-м пехотными корпусами».
В полдень 6 октября Наполеон проводил смотр находившихся в Москве войск. Он стоял на возвышении, а перед ним, отбивая шаг, проходили полки за полками.
— Да здравствует император! — кричали им, и из плотных шеренг неслось:
— Вива-ат! Вива-ат!
Внушительно стучали о булыжную мостовую башмаки, солдаты вытягивали затянутые в мундиры груди, старались показать бравую молодцеватость. Но Наполеон опытным глазом примечал, что шагавшие были далеко не теми солдатами, которые переходили Неман четыре месяца назад: и выправка не та, и строгость равнения отсутствовала, и сила духа утрачена.
За время пребывания в Москве армию словно подменили: её разъедал тлетворный микроб мародёрства, насилия, пьянства. Не проходило дня, чтобы не заседал суд и не выносил строгий приговор. Но, несмотря на это, грабежи и нарушения воинского порядка не прекращались…
— Слава непобедимому императору!
— Вива-ат!
Нет, Наполеон не чувствовал себя победителем. Он находился в положении незадачливого охотника, сумевшего вцепиться зверю в загривок, но не смеющего его прикончить. Пошёл уже второй месяц пребывания в Москве, но каждый день лишь усложнял положение.
Если бы заключить перемирие. Если бы добиться его… Любой ценой… Наполеон посылал русскому императору предложения, писал письма, но безрезультатно: ответ не приходил.
Узнав недавно о том, что какой-то русский офицер просит разрешения на выезд из Москвы, Наполеон приказал доставить того к нему.
— Вы собираетесь покинуть Москву? — спросил он офицера.
— Да, сударь, — отвечал тот так, словно пред ним был обычный смертный.
— Вы получите пропуск, но с тем условием, что обещаете прежде быть в Петербурге.
— Туда мне незачем ехать.
— Но мне это нужно! — повысил голос Наполеон. — Мне, императору Франции! Надеюсь, вы понимаете, кто с вами говорит!
— Конечно, сударь.
— Так вот, представитесь Александру и передадите ему моё желание заключить с Россией мир. Если он желает мира, а он не может не желать его, то ему нужно только известить меня об этом. Мир будет немедленно заключён…
— А если не пожелает?
— Какой же он болван! — обратился Наполеон к Бертье. — Не ваше это дело!
— Но такого обещания я дать вам не могу. У меня нет права на аудиенцию с царём, — возразил офицер.
— Хорошо. Я не настаиваю на аудиенции. Я напишу письмо, и вы должны в Петербурге передать его по назначению. Это вас устраивает?
— Это приемлемо, — согласился наконец офицер.
Через полчаса ему вручили пропуск и письмо Наполеона императору Александру. В письме Наполеон писал: «Простая записочка от Вас прежде или после последнего сражения остановила бы моё движение, и, чтобы угодить Вам, я пожертвовал бы выгодою вступить в Москву. Если Вы, Ваше величество, хотя отчасти сохраняете прежние ко мне чувства, то Вы благосклонно прочтёте это письмо».
Прошло немало времени, а ответа из Петербурга так и не поступило…
Всё это вспомнил Наполеон, проводя смотр своей армии.
А он между тем продолжался. Пехоту сменила кавалерия, наполнив воздух звонким цокотом копыт. Проходили в красочном одеянии гусары.
— Слава императору!..
К Бертье обратился взволнованный офицер, он что-то сказал. Бертье поспешил к Наполеону.
— Ваше величество, прошу выслушать.
Он доложил то, что поведал ему офицер.
— Что-о? Мюрат ранен?
— Не только это. Его войска отступили и понос ли большие потери. Оставили русским тридцать восемь орудий.
— Бертье! Слушайте внимательно и немедленно доведите до войск мой приказ. Завтра мы выступаем, идём назад. Маршрут — через Калугу, и горе тому, кто встанет на моём пути.
В тот же день Наполеон имел разговор с Мортье, начальником Молодой гвардии.
— Мы покидаем Москву, — сказал император. — А вы с гвардией остаётесь.
Лицо у невозмутимого маршала дрогнуло, и это не ускользнуло от Наполеона.
— Вы с гвардией остаётесь, — повторил он. — И уйдёте из Москвы, когда её уничтожите. Сжечь магазины и склады, разрушить казармы. Захваченное в арсенале оружие привести в негодность. Кремль тоже разрушить. И уничтожить собор на площади…
— Ваше величество… — хотел что-то спросить маршал, но Наполеон не дал ему говорить.
— Взрывать, поджигать всё, что только можно. Чем больше нанесёте ущерба, тем лучше.
— Я сделаю, как вы повелеваете, — обещал Мортье.
Полки Молодой гвардии, насчитывающей около десяти тысяч человек, располагались в Кремле и окрестностях. Собрав начальников, маршал передал приказ императора. На следующий день команды подрывников и поджигателей приступили к чёрному делу.
Вновь вспыхнули пожары, загремели по всему городу взрывы. Стучали заступы у Кремлёвской стены, где сооружались подкопы для мин. Катили бочки к храмам.
— Что же вы делаете, проклятые? — возмущались горожане. — Есть ли у вас совесть?
Генерал Винценгероде, чей отряд прикрывал дорогу на Петербург, узнав об отходе французов из Москвы, приказал авангарду немедленно перейти в наступление. Авангард состоял из казачьих полков, и командовал им Иловайский 12-й.
Было уже темно, казаки собирались отойти ко сну, но в приказе говорилось, чтобы полки были подняты и без промедления атаковали неприятеля, занимавшего Химки.
Василий Дмитриевич Иловайский сделал это перед рассветом. Не ожидавшие нападения французы не смогли оказать упорное сопротивление. Уцелевшие от казачьих пик и сабель солдаты и офицеры, восклицая спасительное «пардон», вскинули руки.
Продолжая наступление, авангард уже достиг Петровского дворца, когда его атаковали французские конники. Их численность превосходила численность авангарда, но казаки не дрогнули. Они не только отразили удар, но и сами обрушились на врага с фланга и заставили его бежать.
Наблюдавший эту схватку генерал Винценгероде не сдержал своего восхищения дерзостью и удалью казаков.
— До сего дня я считал лучшей конницей венгерскую, но теперь понял, что ошибался. Никто не может сравниться с казаками.
Петровский дворец находился недалеко от Москвы, и до слуха вдруг долетели глухие взрывы. Они неслись со стороны города.
— Что такое? Что там происходит? — недоумевали казаки.
К городу выслали дозоры, чтобы схватить сведущего языка. Вскоре доставили француза и горожанина.
— Взрывают, супостаты, дворцы и храмы, жгут почём зря Белокаменную, — сообщил беглец из Москвы. — Кремль норовят разрушить.
Пленный француз из Молодой гвардии подтвердил сообщение.
Услышав об этом, генерал Винценгероде пришёл в ярость.
— Это варварство, так могут поступать лишь вандалы! Я сейчас же отправлюсь к Мортье и потребую прекратить разрушение города!
Вместе с адъютантом, ротмистром Нарышкиным, и казаками охраны он поскакал в сторону Москвы.
Уверенный в своей правоте, он добрался до начальника гвардии Мортье.
— Маршал, я требую прекратить безумие, какое творят ваши солдаты! Это недопустимо правилами войны! Вы оскверняете не только творение рук человеческих, но и свою честь!
— Кто вы такой? Как понимать ваше появление?
— Я действую от имени армии. Я её представитель и веду разговор как парламентёр.
— Ну уж нет! Вы не можете быть парламентёром. Где ваш трубач? Где флаг? Он должен быть при вас. Вы не соблюли надлежащих условий.
— Маршал, если взлетит в Москве хоть одна церковь, я прикажу повесить находящихся в моём отряде французских пленных.
— Вы не сможете это сделать, генерал. С сей минуты вы и сопровождающий вас офицер — пленные французской армии. Извольте сложить оружие!
— Но это вопреки правилам! — возмутился русский генерал.
— О правах потом. Сейчас я вынужден отослать вас как военнопленных к императору.
Узнав о пленении Винценгероде, Наполеон приказал отправить его во Францию, чтобы там судить. Как преступников, под конвоем, генерала и ротмистра Нарышкина повезли в Минск.
Первыми в Москву ворвались казаки Василия Дмитриевича Иловайского на рассвете 9 октября. Лил холодный осенний дождь. Горели подожжённые французскими солдатами дома, и по улицам расползалась ядовитая гарь.
— К Кремлю!
Генерал направил туда передовую сотню.
Он знал, что там ставка Мортье и опасность более всего угрожает зданиям, находящимся в центре города.
Казаки были у реки, когда прогремел оглушительный взрыв. Он словно расколол землю. В лицо ударила воздушная волна. Послышался тяжкий грохот обвала, зазвенели посыпавшиеся из окон стёкла. Вслед за этим донеслись истошные крики людей.
И снова прогремело… А потом ещё и ещё… Взрывы доносились со стороны Кремля.
Несмотря на дождь и ранний час, на улицах показались люди. Они шарахались в подъезды домов и переулки, заслышав стук копыт. Однако, увидев своих, казаков, спешили вслед за ними.
По мере приближения к Кремлю картина разрушений становилась всё ужаснее. Теперь уже взрывы были не отдалёнными, а близкими. Видно было, как за высокой кремлёвской стеной бушевали языки пламени и всё небо занимало огненное зарево.
Угловая башня от взрыва покосилась, вторая, с Никольскими воротами, наполовину разрушилась.
— Вот они! Вот! Держи их! — раздавались голоса людей вслед убегающим в Кремль французам поджигателям.
Из выходящих на Красную площадь улиц высыпали толпы французских солдат. Они открыли по казакам и горожанам стрельбу.
— Шашки наголо! — последовала команда.
Из Кремля тоже открыли огонь. Несколько человек в толпе горожан оказались ранеными.
Ничто не могло сдержать казаков. Расправившись с неприятельской бандой, они через Спасские ворота ворвались в Кремль. Следом за ними туда же прибежали горожане. В их руках были колья, ружья, топоры.
Открывшаяся пред ними картина поразила всех.
— Боже мой!.. Боже мой!.. Что натворили! — произнёс Василий Дмитриевич и перекрестился.
Темнело пустыми глазницами окон сгоревшее здание дворца. В таком же состоянии были и соборы.
— Уничтожить всю нечисть! Изничтожить до конца! — не сдерживая себя, командовал генерал.
Пребывание Наполеона оставило о себе чёрную память. Были взорваны Арсенал, часть кремлёвской стены, Водовзводная, Петровская и частично Никольская и Боровицкая башни. Большинство каменных зданий города оказались разрушенными, три четверти деревянных строений сгорело.
Вместе с пожаром были преднамеренно уничтожены в госпиталях Москвы около пятнадцати тысяч русских раненых. Один из очевидцев писал: «Кудринский вдовий дом сгорел 13 сентября, во вторник, от зажигателъства французов, которые, видя, что в том доме раненых русских было около 3000 человек, стреляли в оный горючими веществами, и сколько смотритель Мирицкий ни просил варваров сих о пощаде, до 700 раненых наших в оном сгорело; имевшие силы выбежали и кой-куда разбрелись…»
На третий день после вступления в Москву отряда Иловайского в Страстном монастыре — единственном храме, который французы не успели разграбить и осквернить, — состоялось торжественное богослужение по случаю изгнания врага из города.
А Винценгероде в Париж не попал. Казаки из Молдавской армии Чичагова, шедшей к Березине, заметили на дороге кавалькаду из двух колясок и полутора десятков верховых.
— Ну-ка, Тимоха, определи, кто в ейных колясках, — приказал урядник дальнозоркому казаку.
Тот вгляделся:
— Никак французы везут наших! Кажись, там генерал!
С гиком вылетела сотня из укрытия и в четверть часа разделалась с охраной, освободив пленных. Казаки были из полка Степана Дмитриевича Иловайского 8-го.
К Неману
11 октября шедшая в авангарде французской армии дивизия Дельзона подошла к Малоярославцу. Город возвышался на холме за рекой Лужей и казался неприступной крепостью, которой нужно было овладеть. От города шла дорога на юг, к Калуге, где находились огромные русские склады и были сосредоточены запасы для армии. Дивизии Дельзона предстояло овладеть городом, а потом пробиться к Калуге. Таков был приказ Наполеона.
Вечером полки Дельзона отбросили от реки отряд горожан, выступивший против них, и ворвались в Малоярославец. Но на рассвете их атаковали русские солдаты. Сломив сопротивление французов, они завязали на улицах бои. Это были части корпуса генерала Дохтурова.
— Неприятеля выбить и город удержать! — потребовал от генерала Кутузов.
Он разгадал намерение Наполеона и тут же отдал приказ генералу Раевскому немедленно выступить к Малоярославцу. 7-й пехотный корпус после сражения у Бородина совсем недавно пополнился личным составом, имел некомплект вооружения и боеприпасов. Однако обстановка не терпела промедления. В течение ночи 12-я пехотная дивизия Васильчикова и 26-я дивизия Паскевича совершили труднейший марш и в четырнадцать ноль-ноль 12 октября с ходу вступили в бой. В течение часа они очистили город от противника. Но Наполеон ввёл в сражение ещё две пехотные дивизии из корпуса маршала Даву, которые по наведённому мосту через реку Лужу ворвались в город.
Войска генералов Дохтурова и Раевского оставили Малоярославец и заняли позиции южнее города, откуда корпус Раевского и подошедший 8-й пехотный корпус генерала Бороздина предприняли новую атаку, переросшую в яростную схватку. Дрались штыками, клинками, прикладами, кулаками, душили друг друга. На стороне неприятельских полков действовали отборные солдаты-ветераны наполеоновской гвардии. В рядах русских частей были молодые солдаты недавнего призыва, впервые вступившие в бой. Русские парни, воспитанники генерала Раевского, ни в чём не уступали противнику. Трижды город переходил из рук в руки. В одной из схваток был убит французский генерал Дельзон. Сражение в городе продолжалось восемнадцать часов. С каждой стороны в нём участвовало до двадцати пяти тысяч человек, потери составили немалые: у французов они были пять тысяч человек, у русских — три тысячи.
Один из французских генералов заявил Наполеону, что «для подобного предприятия нет мощи даже у гвардии».
— А каков неприятель? — потребовал ответа Наполеон.
— Разве не видели мы поля последней битвы, не заметили того неистовства, с которым русские ополченцы, едва вооружённые и обмундированные, шли на верную смерть?
Что же делать?
Отступать по известной нам дороге к Неману, и как можно скорее, как можно поспешнее, — отвечал генерал.
Под Малоярославец прибыл Кутузов.
— Без генерального сражения неприятелю не быть в Калуге, — полный решимости, произнёс он.
Поспешил к городу и Наполеон. Расположившись в небольшом селе Гродня, он до глубокой ночи раздумывал, какое решение принять. Давать генеральное сражение он не осмеливался. Утром, перед рассветом, он выехал к городу, чтобы на месте решить окончательно.
Наполеон и свита были у опушки рощи, в двухстах саженях от дороги, когда словно из-под земли выросли всадники. С пиками наперевес они неслись прямо к дороге, где тянулась колонна французской артиллерии.
Охрана отстала, рядом с Наполеоном находились начальник штаба французской армии маршал Бертье, командующий гвардейской кавалерией маршал Бессьер и ещё несколько генералов.
— Это же казаки, — бледнея, признал Бессьер всадников и обнажил саблю.
Остальные сделали то же.
Гудела под копытами коней скованная морозом земля. Тускло поблескивали стальные острия пик. Всадники подступали всё ближе и ближе.
Это была бригада казачьего ополчения, посланная накануне Платовым. Её вёл генерал Иловайский 3-й. Имея приказ громить на дорогах неприятельские колонны, генерал решил напасть прежде на двигавшуюся колонну артиллерии, и всё внимание нападавших было устремлено к дороге.
Конная лава пронеслась вблизи свиты французского императора. Один из скакавших ткнул пикой всадника, выехавшего навстречу с саблей, и тот замертво упал с лошади.
— Иван, не отставай! — послышался голос из лавы, и всадник с пикой, даже не оглянувшись на поражённого, помчался вслед за товарищами.
В тот день французы потеряли одиннадцать орудий. Сознавая, что был в шаге от опасности, Наполеон стал носить при себе пузырёк с сильнейшим ядом: на случай, если угодит в руки русских.
14 октября он повелел своей армии отступить от Малоярославца. Она повернула на разорённую Смоленскую дорогу, по которой летом шла к Москве.
Вдогонку ему направили сильный отряд Милорадовича и казаков Платова, начали преследование и главные силы, в составе которых находился корпус Раевского. Рванулись вглубь вражеского расположения и партизанские отряды.
По дороге от Гжатска до Смоленска должен был действовать отряд Дениса Давыдова, от Можайска до Гжатска — генерала Дорохова, у Можайска — капитана Фигнера.
Первым, кто подал голос за создание партизанских отрядов в неприятельском тылу, был офицер штаба 2-й армии Денис Давыдов. Доводясь родственником Николаю Николаевичу Раевскому, он поделился с ним задуманным.
— Мысль полезная, но ещё не проверенная. Обратись за поддержкой к Петру Ивановичу Багратиону. Он наверняка даст дельное решение.
Генерал Раевский не ошибся: выслушав офицера, Багратион пообещал доложить о том главнокомандующему. Михаил Илларионович Кутузов приказал создать такой лёгкий отряд из кавалеристов Ахтырского гусарского полка, где служил офицер Давыдов, и казачьего полка Платова. Всего численностью сто пятьдесят человек.
Первое дело отряда было столь успешным, что Кутузов велел представить ему командира-храбреца. Когда он увидел перед собой невысокого, с дерзким взглядом офицера, то не удержался: обнял и воскликнул:
— Ах, какой же молодец! Столько французов уложил!
И приказал для малой войны создать ещё подобные отряды.
В конце сентября, когда отряд Дениса Давыдова действовал вблизи Смоленска, командир узнал, что совсем неподалёку находится 7-й пехотный корпус, а штаб его и сам генерал-лейтенант Раевский — в ближней деревне.
Николай Николаевич заканчивал совещание, когда дверь распахнулась и на пороге появился незнакомый офицер в полевой заснеженной форме и с громким постукиванием сабли о пол.
Сидевшие против командира корпуса генералы бросили на вошедшего недовольные взгляды, удивлённо посмотрели и офицеры. Николай Николаевич же оборвал себя на полуслове, всплеснул руками и поднялся. В следующий миг он обнял вошедшего, расцеловал.
— Извините, господа, за сию вольность, — проговорил он, обращаясь к находившимся в доме. — Это мой добрый и очень близкий родственник… Прошу тебя, Денис Васильевич, минуту-другую переждать. Мы кончаем деловой разговор.
Узнав, что вошедший — сводный брат генерала и что он и есть легендарный партизанский командир Денис Давыдов, его обступили. Посыпались вопросы.
— Мы утром закончили операцию. О её результатах донесли в главную квартиру, самому Михаилу Илларионовичу Кутузову.
— Стоило ли о том беспокоить главнокомандующего? — скрывая иронию, спросил командир дивизии генерал Паскевич.
— Нас обязали доносить о всех делах, — ответил Денис Давыдов.
— И каковы же результаты дела?
— Нами разгромлен французский отряд во главе с генералом, взято в плен шестьдесят офицеров и две тысячи рядовых.
— О-о! Об этом, конечно же, главнокомандующему нужно доносить!
А тогда в партизанском отряде Давыдова произошло вот что. Накануне разведка сообщила, что в селе Белкине, находящемся близ Ельни, сосредоточился французский отряд.
Объявив о том командирам соседних отрядов Сеславину и Фигнеру, руководство отряда решило напасть на неприятеля и уничтожить его. Однако, поразмыслив, сочли, что рассчитывать на успех нельзя: у французов две тысячи человек, а партизан вдвое меньше. Решили сообщить командиру лейб-гвардейского отряда, чтобы он, взяв партизан под своё начало, совместными силами разгромил неприятеля.
Командир лейб-гвардейцев не стал возражать.
— А кто командует французами? — поинтересовался он у прибывшего от партизан поручика.
— Какой-то генерал… Как его?.. Кажется, Ожеро.
— Ожеро? Вот выпал случай разделаться с ним!
Оказывается, несколько дней назад, после сражения у Малоярославца, лейб-гвардейцы имели стычку с бригадой генерала Ожеро. Тогда отряд калужских ополченцев перекрыл ей путь отступления. Силы были неравны, и калужане попали в окружение. Их бы всех уничтожили, если б не лейб-гвардейцы. Они бросились на выручку и смели бы французов, но те скрылись в лесу.
— Ожеро теперь мы не упустим, — сказал командир и написал Денису Давыдову о скором прибытии к партизанам.
Удалось установить, что в ближайших сёлах находятся французские гарнизоны.
— Прежде всего нужно перекрыть дороги к ним, изолировать их от Ляхова, — решили партизаны.
Туда были направлены отряды Давыдова и Фигнера. Главные же силы начали наступление на французскую бригаду.
Вспыхнула ожесточённая перестрелка. Поняв, что деревню не удержать, генерал Ожеро попытался прорваться к селу, где находилась французская часть полковника Барага-Дилье. Однако эту попытку пресекли партизаны Давыдова. Они заставили неприятеля отойти назад.
На требование прекратить сопротивление и сдать оружие генерал Ожеро ответил отказом.
— Как вы можете предлагать такое французскому генералу, к тому же брату маршала! — возмущённо заявил он.
Его брат действительно был маршалом наполеоновской армии и прославил своё имя военными победами.
— Не желает подобру, заставим силой, — решили партизаны и приказали подготовить к делу резерв.
Они поняли, что Ожеро надеется на ночь и помощь соседей. И действительно, помощь не заставила себя ждать: из Долгомостья показались облачённые в броню кирасиры.
— Латники! — передалось по гвардейской цепи.
Кирасиры были серьёзным противником для русских, вооружённых лёгким оружием. Однако гвардейцы научились одолевать такого врага: били пикой в голову. Получив удар, оглушённый всадник валился с седла, а на земле в своих железных доспехах он становился неповоротливым и беспомощным.
На помощь подоспели казачьи полки. Нанеся кирасирам поражение, они обратили их в бегство.
После этого Ляхово было атаковано всеми силами. Несдобровать бы французам от разгорячённых схваткой гвардейцев и партизан, если бы Ожеро не выкинул белый флаг.
Генералы и офицеры вскоре разошлись. Николай Николаевич и Денис Давыдов остались одни. Заговорили о своих делах.
— А где Саша? Где Николенька? — спросил Денис.
— Александр в своём Нижегородском драгунском полку. Прапорщик. Командует взводом.
— Сколько же ему?
— Уже семнадцать. А Николеньку на днях я в Каменку направил, пусть с маменькой побудет. Он лихорадку где-то подхватил.
— А где Лев?
— Левушку, брата твоего, к Дмитрию Сергеевичу Дохтурову послал. Там он под надёжным взглядом пребывает.
Они уже было собрались сесть за стол, как примчался связной.
— Господина подполковника Давыдова срочно требует главнокомандующий! — сообщил он.
Следить за действиями партизан генералу Раевскому не довелось, а наблюдать казачью уловку пришлось.
В авангарде корпуса находилось пять казачьих полков: Иловайского 2-го и Иловайского 5-го, полковника Грекова, офицера Киселёва и лейб-гвардейцы Чернозубова.
Предстояло упредить противника на переправе и напасть на него на противоположном берегу.
— Французы уже начали переправу, — донёс разведывательный дозор.
— Вентель бы им поставить, — предложил генерал Иловайский 5-й.
— Вентель? — спросил Раевский. — Это что за хитрость такая?
— Это наша казачья уловка. Вроде западни. Вот только бы скорей француз переправлялся, — ответил генерал.
Иловайский стал по карте объяснять, что и как нужно сделать:
— Вашим егерям надобно занять оборону у берега, и постарайтесь подолее держать там неприятеля, да заодно заставьте его свернуть на просёлок, где мы станем его ждать. А уж далее наша забота.
— Согласен! По местам! — поднялся Раевский. — Не будем терять время.
Иловайский не сдержал улыбки.
— Легко с вами воевать, Николай Николаевич. Чем и любы мне.
— Ладно, комплименты потом. Сейчас — задело.
Выехав к дороге, Иловайский начал разъяснять командирам план действия.
— Кто-то должен пойти навстречу французам, на приманку, — оглядел офицеров Николай Васильевич.
— Дозвольте мне с эскадроном, — вызвался Чернозубов.
— Может, пошлём наших казаков? Они привычны к этому, посноровистей, — предложил Киселёв.
— Как это «наших», войсковой старшина! — возразил Чернозубов. — А мои гвардейцы не казаки, что ль?
— Ладно, быть по сему, — согласился генерал. — От твоих лейб-казаков требуется притворным отступлением выманить на себя неприятельскую конницу, чтобы она оторвалась подалее от пехоты и артиллерии. Но так, чтобы передних малость попридержать: пусть неприятеля соберётся поболее.
Оживлённо разговаривая, французы проехали мимо того места, где находился генерал с лейб-казаками, стали спускаться к мосту и скрылись из глаз. А главная колонна меж тем приближалась. Впереди ехали несколько верховых, и нетрудно было догадаться, что это были начальники, а за ними, соблюдая порядок, шагали в строю егеря.
«Только б не было кавалерии», — пожелал Иловайский. Он знал, что успех тогда будет не столь значительным. Но нет, из-за гребня гряды продолжали появляться подразделения пехоты, а потом показались и артиллерийские упряжки с орудиями и зарядными ящиками. Получалось всё, как предвидел генерал. Не зря он предупреждал о возможности нападения на артиллерию.
Миновав речку, дозорные поднялись по склону, исчезли, и ехавшие в голове колонны всадники вступили на мост. Генерал Раевский взглянул на часы: стрелки показывали девять.
— Давай! — скомандовал он Иловайскому.
Ротмистр Чеботарёв метнул гранату. Прогремел взрыв. Из леса за дорогой вынеслась казачья лава, возглавляемая Грековым. Всадники врезались в пехотный строй, орудуя пиками и саблями. Французы тем не менее не дрогнули: одни открыли по казакам стрельбу, другие сбились в группы и отбивались ружьями и палашами, часть бросилась к лесу, но оттуда выскочили конники Киселёва.
Возникла схватка и у моста. Первая сотня полка Иловайского 5-го атаковала голову колонны, остальные казаки растеклись вдоль дороги, расправляясь с неприятельскими солдатами. Сражение кипело и у батареи, на которую тоже напали казаки. Артиллеристы бились отчаянно, но силы были неравны. Казаки отбили пять орудий, поворотив их с дороги, погнали к лесу. Остальные французы уносились прочь кто куда.
Таким был устроенный казаками вентель.
После разгрома у Ляхова бригады генерала Ожеро отряд Орлова-Денисова действовал совместно с партизанами Давыдова, Фигнера и Сеславина.
По приказу фельдмаршала Кутузова отряд направился по южной дороге, выводящей к городу Красный. У села Пронино дозоры обнаружили большой неприятельский отряд и продовольственные склады. В результате нападения и непродолжительной схватки удалось пленить тысячу триста человек, захватить более тысячи лошадей, предназначенных для артиллерийских частей, овладеть складами.
У Красного, в местечке Червонное, отряд Орлова-Денисова и партизаны ночью напали на польский отряд Понятовского, двигавшийся было с утра на Могилёв, и почти весь его разгромили.
2 ноября отряд соединился с авангардом генерала Милорадовича, а наутро следующего дня у города Красный русские войска сумели отрезать от главных сил противника его замыкающую часть. Французы оказались в ловушке: справа находился незамерзающий ещё Днепр, слева — глухие леса. Перед ними на дороге закрепились части генерала Милорадовича с сильной артиллерией.
Первая попытка французов прорвать оборону успехом не увенчалась, а вторую атаку они не успели провести. Отряд Орлова-Денисова, скрытно обойдя неприятельское расположение, обрушился на врага с фланга. Нападение было столь внезапным, что он не сумел оказать организованное сопротивление и бежал. В течение двухдневного сражения казакам удалось захватить более двух тысяч пленных, среди которых оказались генералы Альмерас, Вюрт и Дюфуа. Трофеями стали и одиннадцать орудий, отбитых в результате налёта лихих всадников.
А зима уже вступила в свои права. Недавно тихая, совсем как во Франции, осень сменилась студёной погодой, небо затянули тяжёлые хмурые облака, завьюжило, повалил снег.
Непривычные к такой погоде французы надевали на себя всё, что попадало под руку и могло спасти от холода. Многие лошади от бескормицы пали, и драгуны, уланы, кирасиры, даже лихие гусары брели пешком по заснеженной дороге, кутались в конские попоны, ворованные из крестьянских изб лоскутные одеяла, женские платки и шали, мужичьи тулупы и понёвы. Всё шло в ход.
Французы шли, забыв о воинской дисциплине и правилах, с одной лишь мыслью добраться к вечеру до тёплого ночлега, но деревни на пути были уже разорёнными, а сохранившиеся избы не могли всем дать укрытие, и многим приходилось долгую ночь пребывать у костра, без сна, отдыха и горячей еды.
«Когда же кончится этот ад! Скорей бы граница! Неман! Поскорей бы из этой России!» — такие мысли владели теми, кто полгода назад с бравым видом победителей маршировали на восток, к Москве.
Но страшнее русской зимы были летучие отряды русских, состоявшие в своём большинстве из казачьих частей. Они почти беспрерывно кружили вокруг отступающих, внезапно налетали на французские колонны, сметали их с пути, загоняли в леса, где нередко таились партизаны близлежащих деревень.
После сражения у Красного генерал Раевский занемог. Два дня он крепился, не поддавался болезни, но она всё же одолела его.
— Вам бы отлежаться, — советовали ближайшие помощники Николая Николаевича. — Надобно сообщить светлейшему. Он распорядится…
— Не сметь! — возражал генерал. — Не тот час, чтобы беспокоить Михаила Илларионовича по пустякам. Всё пройдёт.
А потом ему доставили почту, в том числе и от любезного дядюшки, графа Александра Николаевича Самойлова. Привыкший к точности и исполнительности, он в тот же вечер написал ответ. В нём сообщил о ратных делах и, между прочим, прописал о своём недомогании. Наутро он вручил конверт фельдъегерю, приказав не медлить с доставкой.
— Как можно, ваше высокопревосходительство! Доставим без задержки, — отвечал седовласый унтер.
Но болезнь у генерала Раевского не проходила, и, узнав о ней, главнокомандующий распорядился направить к больному армейского доктора Виллие.
— Постарайтесь поставить его на ноги как можно скорей, — потребовал он. — Такой генерал сейчас дороже золота.
Вместе с Виллие поехал и генерал Бороздин. Они застали Николая Николаевича лежащим в жару. Тепла в уцелевшей избе не было, сквозило.
— Свалила, проклятая, — с виноватой улыбкой сказал больной.
На его лице выступил нездоровый румянец, ко лбу колечками липли волосы.
— Чему быть, того не миновать, — успокоил его доктор. — Все под Богом ходим.
Осмотрев больного, он заключил:
— Неделю, а может, полторы придётся полежать под присмотром. Собирайтесь, поедем…
— Куда? А отряд?
— А вот Михаил Иванович его примет, — кивнул доктор на Бороздина. — Так приказал главнокомандующий.
— Ладно, — тяжко вздохнул Николай Николаевич. — Сейчас созову начальство…
— Никаких собраний! Передавайте командование — и дело с концом, — запротестовал доктор.
Появился Мирошников. Он тоже принял сторону Виллие:
— Всё, что надобно будет, я разъясню, а вам нужно скорей избавиться от хвори.
На больного натянули полушубок, валенки, запахнули ещё и бурку. В карету с ним сел Виллие. Сопровождала их охрана из казаков.
Они выбрали путь в объезд главной дороги. Кони шли резво, легко скользили полозья кареты, под ними безумолчно шуршал снег. Не проехали и половину пути, когда ездовой вдруг затормозил. Отворив дверцу, он тревожно сообщил:
— Никак французы! Идут по дороге прямо на нас!
Доктор побледнел, застыл в углу.
— Сколько их? — спросил Раевский.
— Цельная колонна! Сотни две, а может, и более! Что делать прикажете?
— Поезжай!.. Их главного пригласи. Скажи, что генерал требует.
Послышались голоса, и карету окружили французские солдаты. Распахнулась дверца, заглянул какой-то начальник.
— Заходите, заходите! Я везу больного! — преодолев оцепенение, сказал по-французски Виллие, и офицер послушно протиснулся внутрь кареты.
С первого взгляда нельзя было определить, кто он такой: на голове треух, на плечах драная шуба. Лишь голубые форменные штаны да сапоги со шпорами выдавали в нём кавалерийского офицера.
— Капитан Лафонтье, — произнёс он простуженным голосом.
— Капитан! — заявил вдруг больной. — Я генерал. Мой отряд в получасе отсюда. Встреча с ним не обещает вам добра. Надеюсь, понятно? Обещаю сохранить жизнь, если немедленно сложите оружие.
— Я посоветуюсь…
— Вы начальник, вам решать, как поступить.
Раевский выставил из-под бурки пистолет.
— Пусть будет плен! — воскликнул француз. — Мы сдаёмся.
Через несколько дней Николая Николаевича доставили для излечения в родное поместье Каменку, близ Киева.
Уход и забота жены и близких благостно сказались на состоянии больного. Дело пошло на поправку. В поместье был и любезный дядюшка Александр Николаевич.
Однажды, когда Раевский уже заговорил о возвращении в армию, чтобы продолжать сражаться против Наполеона, Александр Николаевич подал ему письмо.
— Прочитай, Николай, и ты поймёшь, кто выручил тебя из беды.
С волнением тот развернул лощёную бумагу и прочёл:
«Милостивый, государь мой, граф Александр Николаевич!
По письму Вашего сиятельства от 11-го сего месяца о болезни г. генерал-лейтенанта Раевского доводил я до сведения государя императора, и его Величество Высочайше указать соизволили позволить ему прибыть в Киев до выздоровления. Уверения Вашего сиятельства касательно невозможности прибыть ему к армии напрасны; я знаю его за усерднейшего слугу монарху и ревностного сына Отечеству, который без крайности не потеряет и минуты, предстоящей к пользе общему плану, и потому уверен, что в настоящее время г. Раевскому Киев столь же тягостен, сколько всегда приятно ему быть на поле славы. И мне более не остаётся, как сожалеть о временной потере столь известного по храбрым делам своим генерала. С истинным почитанием в таковой же преданности честь имею быть, милостивый государь мой, Вашего сиятельства всепокорнейший слуга
Князь Михайло К. Смоленский,
г. Плоцк».
— Теперь ты знаешь, кто спас тебя от хвори. Письмо можешь взять и беречь его… — произнёс граф Самойлов.
Николай Николаевич поспешил с отъездом.
Часть пятая В ЗАГРАНИЧНОМ ПОХОДЕ
«Битва народов»
тъезд в армию ускорила тревожная весть о болезни Кутузова. Раевский знал Михаила Илларионовича с давней поры, когда начинал службу в потёмкинской армии. Там он часто встречался с израненным генералом, ведавшим охраной морского побережья. Тогда у опытного военачальника, героя штурма Измаильской крепости, и молодого полковника возникли тёплые доверительные отношения, сохранившиеся по сию пору.
На рассвете экипаж, в котором ехал генерал, подкатил к застывшему Неману. За рекой начиналась земля Польши, на которую перенеслись боевые действия против отступившей армии Наполеона.
Глядя на замерзшую реку, Раевскому вспомнилось стихотворение поэта-офицера Батюшкова. Он служил в штабе Кутузова, умело сочинял вирши, о которых Пушкин позже отзывался с похвалой.
В Каменке больной Раевский прочитал в рукописи стихотворение Батюшкова о переходе русских войск через Неман 1 января 1813 года:
Снегами погребён, угрюмый Неман спал. Равнину льдистых вод, и берег опустелый, И на брегу покинутые сёла Туманный месяц озарял. Всё пусто… Кое-где на снеге труп чернеет, И брошенных костров огонь, дымяся, тлеет, И хладный, как мертвец, Один среди дороги, Сидит задумчивый беглец Недвижим, смутный взор вперив На мертвы ноги. И всюду тишина…Там, у Немана, Раевскому действительно представился французский солдат, покинутый ушедшей с российских просторов армией.
Как ни спешил генерал представиться главнокомандующему, однако застать в живых Михаила Илларионовича Кутузова не успел. 16 апреля 1813 года он умер в небольшом силезском городке Бунцлау. Совсем обессиленный, он тем не менее продолжал командовать, уверенный в успехе предпринятого заграничного похода.
С большими почестями прах Кутузова был похоронен в Казанском соборе в Петербурге. «Великая для всего Отечества потеря. О нём плачет вся Россия», — писали в те дни современники.
В Бунцлау позже был воздвигнут памятник с надписью: «До сих мест довёл князь Кутузов-Смоленский победоносные российские войска, но здесь положила смерть предел славным дням его. Он спас Отечество своё, он открыл путь к избавлению народов. Да будет благословенна память героя».
Раевского принял Барклай-де-Толли:
— Принимайте под своё начало гренадерский корпус.
— Гренадерский корпус? Не ослышался ли?
Таких пехотных формирований в русской армии не было. Имелись полки, дивизии, в которые зачислялись крепкие, сильные солдаты, способные не только владеть штыком штуцера и метко стрелять, но и далеко метать совсем не лёгкие гранаты, поражая неприятеля в ближнем бою.
— Вы не ослышались, — пояснил главнокомандующий. — Предлагаем вам командовать новым корпусом. В нём три дивизии, солдаты уже прошли начальную выучку.
Николай Николаевич, конечно же, не стал возражать. Руководить он привык, подчинённые в него верили и весьма уважали.
Первой битвой, в которой генералу Раевскому пришлось командовать гренадерским корпусом в заграничном походе, была битва под Бауценом. Имея численное превосходство, французские войска вынудили союзные армии отступить. Потери с обеих сторон были значительными: французы потеряли 18 тысяч человек, союзники — 12 тысяч.
Используя победу, Наполеон предложил заключить перемирие. Союзники предложение приняли: они готовились к большому сражению, в котором нанесли бы врагу сокрушительное поражение.
И такое сражение произошло в первых числах октября под Лейпцигом. Его назвали «битвой народов». На стороне союзных войск в ней участвовало свыше 300 тысяч человек и почти 1400 орудий, у французской армии было 200 тысяч человек и 700 орудий.
Первыми донесли о сосредоточении у Лейпцига французских дивизий русские разведывательные дозоры. Выдвинувшись восточнее и южнее города, неприятельские войска приняли боевое построение, напоминавшее гигантское полукольцо. Главные силы в нём Наполеон сосредоточил в южной части, в которой находились русские корпуса. Эта армия, которой командовал австрийский фельдмаршал Шварценберг, должна была наступать на Лейпциг с юга. С севера надвигалась Силезская армия прусского фельдмаршала Блюхера.
Накануне сражения состоялся военный совет. На нём присутствовали русский император Александр, прусский король Франц Вильгельм и австрийский император Франц.
Генерал-квартирмейстер Толь, дав волю опыту и предвидению, изобразил на карте обстановку, вероятное построение неприятельских колонн и направление их перемещений, наметил контрмеры.
Фельдмаршал Шварценберг долго вглядывался в карту, водил по ней пальцем и неопределённо хмыкал.
— Вы полагаете, что Наполеон примет такое решение? — спросил он генерала.
— Да, мы полагаем, что у неприятеля наиболее вероятным станет такой боевой порядок, — отвечал Толь. — Главные усилия ста двадцати корпусов будут направлены против центра нашей армии, чтобы овладеть селением Гессы и находящимися там высотами.
— Какие же там у неприятеля могут быть силы?
— По всей вероятности, не менее четырёх корпусов, а за ними значительное число кавалерии. И будет сосредоточена артиллерия.
Толь говорил с такой уверенностью, словно ему был известен план Наполеона. Это покоробило самолюбие тщеславного австрийца:
— Это ваше личное мнение?
— Это и моё убеждение, — подал голос до того молчавший Барклай.
— А там ли основные силы? — покачал головой Шварценберг.
— Там, непременно там, — с уверенностью отвечал Толь.
Его предположение, как подтвердили события, оказалось верным. Именно там, где на карте были обозначены французские колонны, Наполеон сосредоточил пять пехотных корпусов. Расположил он их в две линии, за которыми поставил гвардию. Сюда же было подтянуто без малого шестьсот орудий, которые должны были поддержать наступление пехоты.
— У меня иной план, — возразил Шварценберг. — Я предлагаю главные наши силы сосредоточить западнее, между реками Плейсса и Эльстер. Сюда мы направим корпус Мерфельда, войска австрийского принца Гессен-Габсбургского, прусскую и русскую гвардию, гренадер…
— Но этим мы ослабим главное направление, — запротестовал Барклай. — Не уничтожив главные силы неприятеля, нельзя надеяться на успех.
Генерал Толь заявил австрийцу:
— Успех наступления по мостам в междуречье сомнителен по той причине, что местность там сильно заболочена, она труднопроходима в сухое время, а сейчас, после дождей, по ней почти невозможно передвигаться.
— Откуда вам это известно? — возразил Шварценберг.
— От местных жителей. Да и ходившие в разведку дозоры о том донесли.
— Наступая в междуречье, мы создадим угрозу Наполеону тем, что можем выйти в его тыл. А там мосты. Если мы овладеем ими, то отрежем неприятелю путь отхода, — не сдавался австрийским фельдмаршал.
— Когда имеешь дело с Бонапартом, нужно быть трижды осмотрительным, — невозмутимо отвечал Барклай. — Прежде чем мы достигнем мостов, ударная группа неприятеля прорвёт наш ослабленный центр. Нет, я решительно против вашего плана.
Барклаю были известны не столь высокие достоинства Шварценберга, которому он был вынужден подчиняться. И ещё ему вспомнился совет французского маршала Моро, перешедшего на сторону союзников и бывшего советником в главной квартире. В одной из бесед с Барклаем он поучал: «В сражении французскую армию одолеть можно, но при том условии, если нападёте на те войска, где нет поблизости Наполеона. Избегайте наступать против той части армии, где сам Наполеон, нападайте на его маршалов!»
Возникший между Шварценбергом и Барклаем спор привлёк внимание императора Александра. Выслушав доводы военачальников, он сказал:
— Полагаю, что доводы Михаила Богдановича убедительны.
— Я с этим не согласен, — заявил Шварценберг. — Я являюсь здесь главнокомандующим!
— Делайте с австрийской армией, что хотите. Что же касается русских войск, то они будут находиться там, где предлагает русский генерал, — проявил твёрдость император, и австрийцу пришлось согласиться.
К утру 4 октября союзные войска заняли исходное для наступления положение. В главную группу войск Богемской армии вошли четыре русских и два союзных корпуса. Русскими соединениями командовали генералы Витгенштейн, Палён и Раевский. На фланге этой группировки, которой командовал Барклай, находились казачьи войска.
В десятом часу утра прогремел орудийный выстрел, и Барклай двинул войска на французские позиции.
С небольшой высоты генерал Раевский видел аккуратные дома селения Гессы. Холодно поблескивали пруды, виднелись многочисленные колонны русских войск, направлявшихся в сторону Лейпцига. За колоннами заняли огневые позиции артиллерийские батареи. Над орудиями часто вспыхивали пухлые облачка и наблюдались ответные взрывы французских ядер.
По другую сторону Лейпцига тоже шло невидимое отсюда сражение: там наступала Силезская армия, возглавляемая фельдмаршалом Блюхером. Против неё действовал французский корпус маршала Нея.
На высоте, где находился наблюдательный пункт союзного командования, расположились русские, австрийские, прусские и шведские генералы. Здесь же были и императоры. Шварценберг добровольно уступил Барклаю главную роль в руководстве сражением.
Наполеон двинул в контрнаступление свои корпуса. Для развития успеха он сосредоточил всю кавалерию. Вручая её под начало Мюрата, он сказал:
— Вам нужно захватить селение Гессы. Похоже, там, на высотах, находятся владыки неприятельских держав. Когда вы туда прорвётесь и завершите дело, я прикажу всем церквям бить в вашу честь в колокола.
Сотни французских орудий ударили с новой силой, расчищая путь для кавалерии Мюрата. На русские войска обрушились более десяти тысяч всадников. Атака была столь решительной, что передовые части не смогли устоять, они были смяты, сокрушены. Стоявшие в первой линии тридцать орудий оказались в руках врага, а их прислуга была изрублена.
Французская кавалерия неслась вперёд, уничтожая всё живое. Бросившаяся навстречу русская кавалерийская дивизия и казачьи полки не сумели остановить её. Она рвалась к селению Гессы и находившейся за ним высоте, и, казалось, не было силы, которая смогла бы её сдержать.
— Стоять насмерть! Не отступать! — приказал солдатам герой Бородинского сражения генерал Неверовский.
Вырвав из рук умирающего солдата ружьё, он встал в первый ряд воюющих.
Как отважно ни дрались солдаты, однако им пришлось отступить. Иссечённого осколками гранат генерала Неверовского с поля боя вынесли на руках. Через несколько дней он скончался от ран.
Наблюдавший за сражением Барклай понял, что только артиллерией можно сдержать этот бешеный поток кавалерии.
— Выдвинуть все орудия! — приказал он артиллерийскому начальнику генералу Сухозанету.
Но тот ещё раньше по собственной инициативе велел выкатить орудия на угрожаемое направление. Все 112 пушек.
Удар картечью смял конников первой линии, заставил их сдержать бег и повернуть назад. В рядах французов произошло замешательство, нарушился боевой порядок. В этот миг на неприятельский фланг обрушились казаки. Удар этой горстки храбрецов вынудил врага отступить, вырвал из его рук близкую победу.
Пытаясь добиться решительного успеха, Наполеон в течение ночи на 7 октября стянул к Лейпцигу значительные силы. Против русской армии Барклая на фронте около шестнадцати вёрст он сосредоточил почти 150 тысяч человек и 630 орудий. Главный удар был нацелен на гренадерский корпус генерала Раевского и дивизию генерала Неверовского.
— Позицию держать любой ценой! Ни шагу назад! — приказал Раевскому и Неверовскому генерал Барклай-де-Толли.
Он знал мужество, и воинское мастерство этих военачальников. Под Смоленском они одержали победу над превосходящими силами французской армии; такую же стойкость и геройство проявили их подчинённые в битве у Бородина. Теперь им предстояло выдержать ещё один удар наполеоновской армии в грандиозной битве народов.
Силы были неравны. Находившиеся на боевой линии корпуса генералов Витгенштейна, Вюртенберга и Палена отступили. Ожесточённый бой вели солдаты-егеря Неверовского на занимаемых ими позициях. Тяжело раненный, генерал находился в боевой цепи.
Ожесточённые схватки кипели неподалёку от наблюдательного пункта генерала Раевского. Рядом с ним был его адъютант, офицер Батюшков, который позже так описал этот момент:
«Под Лейпцигом мы бились у красного дома. Направо, налево — всё было опрокинуто. Одни гренадеры стояли грудью. Раевский стоял в цепи мрачен, безмолвен. Дело шло не весьма хорошо. Я видел неудовольствие на лице его, беспокойства нималого. В опасности он истинный герой, он прелестен. Французы усиливались, мы слабели, но ни шагу вперёд, ни шагу назад. Минута ужасная. Я заметил изменение в лице генерала и подумал: „Видно, дело идёт дурно“. Он, оборотясь ко мне, сказал очень тихо, так, что я едва услышал: „Батюшков, посмотри, что у меня“, взял меня за руку (мы были верхами) и руку положил себе под плащ, потом под мундир. Второпях я не мог догадаться, чего он хочет. Наконец и свою руку, освободя от поводов, положил за пазуху, вынул её и очень хладнокровно поглядел на капли крови. Я охнул, побледнел. Он сказал мне довольно сухо: „Молчи!“ Ещё минута, ещё другая, пули летали беспрестанно; наконец Раевский, наклоняясь ко мне, прошептал: „Отъедем несколько шагов: я ранен жестоко…“ Кровь меня пугала, ибо место было важно; я сказал это на ухо хирургу. „Ничего, ничего, — отвечал Раевский, который, несмотря на свою глухоту, вслушался в разговор наш и потом, оборотясь ко мне, сказал: — Чего бояться, господин поэт…“ Изодранная его рубашка, ручьи крови, лекарь, перевязывающий рану, офицеры, которые суетились вокруг тяжко раненного генерала, лучшего, может быть, из всей армии…»
Раевский получил рану с раздроблением кости. Ранение надолго оторвало его от армии.
Четырёхдневное сражение у Лейпцига завершилось победой союзных войск. У французов были убиты маршал Понятовский, четыре дивизионных и четыре бригадных генерала, двадцать тысяч офицеров и нижних чинов. В плен попали король Саксонский, принц Дармштадтский, два корпусных начальника, двадцать дивизионных и бригадных генералов, до сорока тысяч солдат и офицеров. Разгром наполеоновской армии привёл к освобождению Германии и Голландии, к распаду Рейнского союза, объединявшего под протекторатом Наполеона тридцать шесть германских государств.
Взятие Парижа
В январе 1814 года союзные войска переправились через Рейн и развернули боевые действия на территории Франции. Численность наступавших доходила до 460 тысяч человек. Наполеон же имел лишь 160 тысяч. Несмотря на меньшую численность, французские войска в частных сражениях добивались успеха и удерживали важные рубежи и объекты.
У союзников имелись три армии: Силезская, которой командовал фельдмаршал Блюхер, Богемская, с главнокомандующим австрийцем Шварценбергом, и Северная, которая состояла из бельгийских войск. Во всех этих армиях имелись русские корпуса и дивизии, представлявшие значительную силу.
В начале марта произошло сражение у Арси-сюр-Об. Закрепившись в этом районе, союзное командование сделало попытку организовать мирные переговоры. Однако Наполеон отверг её. Тогда союзное командование решило наступать на Париж, куда Наполеон отвёл корпуса двух своих маршалов — Мармона и Мортье.
Узнав о намерении союзного командования, Наполеон решил произвести хитрый манёвр, который сорвал бы наступление на Париж его врагов. Наполеона не зря называли великим полководцем, который достигал искомого успеха в самых неблагоприятных для него условиях.
Он не имел привычки выдавать перед сражением свои замыслы. Когда его спрашивали о них, он говорил: «Вначале нужно с неприятелем схватиться, а что дальше делать, подскажет обстановка».
Когда на этот раз начальник штаба маршал Бертье спросил, какое решение Наполеон готов принять, тот помолчал, подтянул лежавшую на столе карту и склонился над ней.
— Оставьте меня. Мне нужно подумать.
Наполеон вглядывался в распластанный на столе лист, словно выискивая в нём разгадку предстоящего сражения.
Вот уже двадцать один год, как он, Наполеон, посвятил свою жизнь военной деятельности, добиваясь в кровопролитных сражениях победы над врагом. Началось это в далёком 1793 году, когда он командовал в Ницце артиллерийской батареей и был капитаном. Произошло это у Тулона.
Тулон являлся портом на Средиземном море с глубокой бухтой и был прекрасным укрытием для кораблей, если на море разыгрывался шторм.
Вблизи порта, с бесконечными стоянками кораблей, доками, складскими помещениями и мастерскими, раскинулся город Тулон, обнесённый кирпичными стенами и рвами, позициями для пушек крепостной артиллерии, арсеналом с неисчислимым запасом вооружения. В нём были заводы для плавки чугуна и стали, оружейные цехи, канатная фабрика. Тут же находились посёлки с жилищами рабочих, моряков, торгашей и прочего мелкого люда.
С началом революции, когда смели королевскую власть и учредили Национальный конвент, в город бежали многие противники революции. Поддержанные английским правительством, они в мае 1793 года подняли мятеж. Корабли Англии вошли в Средиземное море и бороздили его воды на подступах к Тулону.
Для усмирения восставших была послана республиканская армия под началом генерала Карто. Политическую должность занимал в ней и давнишний друг Наполеона, его земляк, корсиканец Салигетти.
Однажды они вдвоём выехали в окрестности города, чтобы провести рекогносцировку занимаемых мятежниками позиций.
— Это форт Мальбуке, — указал Салигетти на бетонное укрепление с орудиями в амбразурах. — А тот, другой, — Эгильет. Эти два форта самые главные в обороне города. Если их возьмём, город и корабли в бухте окажутся под нашим обстрелом.
— А сколько в бухте кораблей?
— Сорок шесть — и французских, и английских.
— А пехоты? — заинтересовался Наполеон.
— Английский адмирал Гуд высадил в городе девятнадцать тысяч английских и испанских солдат. Да мятежников ещё ранее было шесть тысяч. Вот и считай, какой силы гарнизон, который нужно сломить.
Слушая Салигетти, Наполеон запоминал то, что тот говорил, сравнивал с силами, имеющимися в республиканской армии, которая располагала всего семью тысячами воинов. И ещё он мысленно намечал важные пункты и рубежи, где необходимо было расположить пехоту, кавалерию и артиллерию. На артиллерию он возлагал особую надежду, считая её той могучей силой, которая смогла бы нанести мятежникам существенные потери.
После долгого размышления, поддавшись настойчивости пожелания Салигетти, Наполеон решился доложить план командующему Карто. Он знал, что Карто, в прошлом драгунский офицер, человек грубый и далеко не стратег, прославился лихими наскоками на неприятеля.
Положив в конверт план штурма Тулона, Наполеон направился к лесной опушке, где находился штаб осадной армии.
Сеял холодный дождь, дул острый, порывистый ветер. Завернувшись в плащ, Наполеон подошёл к дозорным.
— Кто такой? Что нужно? — остановили его.
— Капитан артиллерии Бонапарт. Есть важное дело к генералу Карто.
— Какое? Выкладывай! — потребовал офицер.
— Это тайна. Знать должен только генерал.
Его провели к большой палатке. От ветра полотнище хлопало, мигали подвешенные лампы.
— Генерал, — обратился Бонапарт к командующему, — я пришёл предложить план, как овладеть городом. Если вы его примете, через неделю Тулон будет у ваших ног.
Сорокадвухлетний командующий смотрел на него с недоверием.
— Вам сколько лет, капитан?
— Двадцать четыре года.
— Вы рискуете. В случае неудачи я прикажу вас расстрелять.
— Готов принять смерть, но прежде выслушайте.
— Кто вы такой? Чем командуете?
— Командир артиллерийской батареи.
— Ну что ж! Послушаю.
Наполеон разложил на столе принесённые документы, план, и начал объяснять.
Вначале Карто слушал с недоверием, задавал вопросы, требовал уточнений. Однако, получая исчерпывающие ответы, стал слушать со вниманием. Беседа затянулась. Завершая её, Карто сказал:
— План ваш оставляю. На совете обсудим, но, по вашим расчётам, нужно вдвое больше орудий, чем имеем.
— Недостаток можно восполнить. На побережье, на недавних позициях имеются неучтённые пушки.
— Но это старые орудия. Пригодны ли будут?
— Их нужно умело расставить.
Когда Карто на военном совете объявил о плане Бонапарта, генералы запротестовали:
— Кто он такой? Артиллерийский капитан? Вот пусть он и командует своей батареей, а не поучает нас, генералов, как штурмовать крепость и водить в сражение полки.
Однако Карто добился назначения капитана Бонапарта помощником начальника осадной артиллерии армии, приказав ему снять с береговых позиций старые орудия. Наполеон это выполнил: собрал около ста боевых единиц.
В начале ноября был назначен штурм Тулона. Находясь при штабе, Наполеон с болью воспринимал действия штурмующих войск. Колонны наступали нерешительно, и при первой неудаче Карто подал команду к отступлению.
— Этого делать нельзя! — воскликнул капитан и, вскочив на подвернувшуюся лошадь, бросился в гущу атакующих.
Подбитая лошадь пала, а нога Бонапарта была поражена пикой.
Неудача штурма вызвала в Париже решение отстранить Карто от командования. Вместо него назначили генерала Дюгамье.
— Где тот план, который представил капитан Бонапарт? — потребовал он. — И где он сам?
Наполеон доложил новому начальнику отвергнутый ранее план штурма города.
— Быть по сему! — выслушав, заявил тот.
Штурм назначили на 17 декабря. В своём плане главную ставку Бонапарт делал на использование артиллерии. За два дня до штурма орудия всей армии должны были подвергнуть длительному обстрелу не только город, но и находившиеся в бухте корабли англо-испанской эскадры.
Утром 16 декабря начальник осадной артиллерии и его помощник, капитан Бонапарт, были на командном пункте. И тут произошло то, что неминуемо бывает в сражении. Из городской крепости прогремел орудийный залп, и вблизи высоты разорвались ядра. На командном пункте беспомощно лежал тяжело раненный артиллерийский начальник. Заменить его мог только Бонапарт, и он дал команду на все батареи:
— Обстрел неприятеля продолжать! Пороха и ядер не жалеть!
Грянул орудийный гром. Двинувшаяся было в контратаку вражеская колонна огнём орудий была сметена. Накануне пал важный форт Тулона Мальбуке. Теперь колонна во главе с Бонапартом пошла на штурм форта Эгильет, который прикрывал выход кораблей из бухты. Предвидя опасность, адмирал Гуд приказал погрузить английских и испанских солдат на корабли и спешно сняться с якоря.
Чужеземная эскадра покидала бухту Тулона под губительным огнём французских батарей. Почти половина кораблей была уничтожена. В тот же день мятеж был ликвидирован.
Город сдался на милость победителя.
Подводя итоги проведённого штурма, генерал Дютель сообщал: «У меня слов не хватает, чтобы изобразить заслугу Бонапарта: у него знаний столь же много, как и ума, и слишком много характера, и это ещё даёт понятие о хороших качествах этого редкого офицера». В письме, адресованном военному министерству в Париже, генерал с жаром рекомендовал министру сохранить Бонапарта для блага республики. В письме указывалось на огромную роль Бонапарта «и в расположении орудий, и в искусном ведении осады и канонады, и, наконец, в решающий миг штурма его роль была ясна всему осадному корпусу».
За участие в штурме Тулона Бонапарта повысили в воинском звании. Минуя чины майора и полковника, он сразу стал бригадным генералом.
Кто-то позже сказал: «Наполеон вошёл в палатку Карто капитаном, а вышел из неё генералом».
Прошли годы. Наступил 1814-й…
Вскоре пред Наполеоном предстали маршалы Мармон и Мортье, корпуса которых занимали боевые позиции в Париже. Кроме того, в гарнизоне находилась национальная гвардия, которую представляли подразделения ополченцев. Общая численность защитников города не превышала 45 тысяч. Этого было явно недостаточно против 100 тысяч наступающих.
Бертье сообщил, что к Парижу выдвигаются также резервные силы русских войск и направляются резервы из русской армии фельдмаршала Блюхера.
— И к нам подойдёт помощь, — заметил Наполеон. — Нужно выиграть у неприятеля несколько дней. Я это сделаю.
Маршалы с удивлением взглянули на него, как бы спрашивая, каким образом он это сделает.
— Приготовьте корпуса к наступлению. Я поведу их на восток, навстречу Блюхеру и Богемской армии Шварценберга. Я заставлю их выступить против меня, Наполеона, отказавшись от наступления на Париж.
Когда в русских дивизиях и корпусах узнали об уходе французской армии из Парижа, мнения командующих разделились: австрийский фельдмаршал Шварценберг предложил прекратить наступление, чтобы бросить главные силы на поимку Наполеона, русский генерал Барклай-де-Толли с ним не согласился:
— Это хитрая уловка, чтобы отвлечь наши главные силы.
Генерал Раевский верил генералу Барклаю и принял его решение. Русские корпуса Сакена и Вреде задержались на достигнутых рубежах для отражения возможного удара противника с тыла.
Наполеону донесли о выдвижении сводного русского кавалерийского корпуса Винценгероде. Предполагая, что за ним следует вся Богемская армия, Наполеон приказал атаковать русский отряд. Понеся потери, он отступил.
На следующий день в бой с Наполеоном вступили войска Силезской армии, отрезая французам путь к Парижу.
По предложению русского императора Александра решено было двинуться не за армией Наполеона, а напрямую к Парижу.
13 марта маршалы Мармон и Мортье, выдвигавшиеся для соединения с Наполеоном, столкнулись с союзной кавалерией. Схватка была жестокой и закончилась победой русских конников.
Поняв тщетность своего замысла, Наполеон с остатками своих войск направился к Парижу, но войти в него ему не удалось: союзные войска перекрыли ведущие в город дороги и ему оставалось повернуть к императорскому дворцу в местечке Фонтенбло.
Основная тяжесть преследования французских войск и выхода к столице Франции выпала на корпус генерала Раевского. Попытка с ходу ворваться в Париж сорвалась. Сопротивление гарнизона было немалым, и решено было начать штурм в пять часов утра 18 марта.
Позиции французов находились на выгодных рубежах, труднопреодолимых для наступавших. Командовал гарнизоном брат Наполеона Иосиф, имевший в своём распоряжении до 40 тысяч человек при 154 орудиях.
Корпус Мармона должен был оборонять Роменвильские плато, а корпус Мортье и дивизия Мишеля — Монмартр. Генерал Минеей с волонтёрами и национальной гвардией занимал рубеж на окраине города.
Накануне штурма император России Александр направил пленного французского офицера к главнокомандующему французскими войсками. Посланный передал, что «русский государь требует сдачи Парижа, он стоит под стенами города с многочисленной армией и ведёт войну не с Францией, а с Наполеоном».
Другому парламентёру государь сказал: «Я теперь уверен в победе. Но Богу, даровавшему мне силу и по беду, угодно, чтобы я употребил их для мира и спокойствия вселенной. Если возможно достигнуть этой цели без боя, тем лучше; если нет, — уступим необходимости и сразимся, потому что, волею или неволею, на штыках или в параде, на развалинах или в чертогах, но сегодня Европа должна ночевать в Париже».
Однако все усилия прекратить кровопролитие оказались бесполезными.
Штурм Парижа 18 марта начался на восточном фронте, где наступала Богемская армия и русские войска под командованием генерала Барклая-де-Толли.
Первыми бросились в атаку полки генерала Раевского — на укреплённые позиции на Роменвильских высотах, где оборонялись наиболее сильные части маршала Мармона. Бой носил упорный характер. Каждое строение, узел дорог, парк стоили значительных потерь. Только к полудню оборона на высотах пала.
Наступление войск Силезской армии тоже было нелёгким, и любой успех давался с трудом. По случайному недоразумению войска Блюхера опоздали с атакой, и корпус Раевского наступал, обстреливаемый мощным огнём с флангов. Солдаты знаменитого военачальника действовали по-суворовски. Преодолевая огонь вражеской артиллерии, они решительно сближались с засевшим в окопах и укрытиях противником, в рукопашной схватке ломали его упорство, вынуждая к бегству.
Корпусу Раевского выпала львиная доля успеха. Соединение взяло в плен более трёх тысяч французских солдат. Из 125 неприятельских орудий более половины было захвачено солдатами Раевского. Под их ударами остатки французских войск торопливо отступали из столицы.
К вечеру бой стих. Париж пал.
Часть шестая ИСХОД
Раевский и Пушкин
авершение пребывания за границей было для генерала Раевского успешным. Командуя корпусом, он удостоился высочайшего благоволения Александра Первого за проведённый под Парижем смотр русским войскам. Там же император обронил, чтобы он собирался в скором времени на службу в России.
Вскоре Раевскому приказали сдать командование в Парижском гарнизоне генералу Воронцову, а самому ехать в Петербург. «Вроде бы назначаетесь командовать 3-м корпусом», — сообщили ему доверительно.
Своего преемника, генерал-лейтенанта Воронцова, Николай Николаевич знал ещё с давней поры — со встречи императоров в Тильзите в 1807 году. Тогда Воронцов командовал батальоном в гвардейском Преображенском полку, был подполковником. Ему приказали нести службу караула при Наполеоне.
— Охранять врага России? — вскипел он. — Не желаю! Передайте, что я болен и нести службу не могу.
Будучи сыном посла, он провёл детство в Англии, где получил достойное образование и воспитание. На всю жизнь в нём сохранилась свойственная англичанам чопорность.
При всех недостатках графа Воронцова называли человеком чести и долга. Когда его, раненного при Бородине, привезли в московский дом и он узнал, что из его родового имения прибыли подводы за имуществом, он распорядился погрузить на них раненых. Вместе с ним в его родовое имение Андреевское отбыли пятьдесят офицеров и триста раненых солдат.
А позже, в 1815 году, когда его корпус уходил из Франции в Россию, он оплатил из своих средств долги офицеров местному населению. Сумма оказалась немалой, почти полтора миллиона рублей. «Честь российского воина дороже любых денег!» — заявил он.
Необыкновенный по складу характера человек, Воронцов имел и необыкновенную жену, Елизавету Ксаверьевну Браницкую, приятную, умную женщину необычайной красоты.
Первая их встреча состоялась в Париже, на помолвке с дочерью графа Кочубея Натальей. Но там, увидев её дальнюю родственницу, Елизавету Браницкую, Воронцов влюбился в неё с первого взгляда.
Его отец пришёл в неистовство: «Как такое может быть! Это недопустимо! Тебе уже тридцать семь, а ей только двадцать». Но, рассмотрев портрет новой избранницы, не стал возражать, даже более: одобрил выбор сына.
Генерал Раевский вскоре распрощался с Воронцовыми, остававшимися во Франции, пожелав им успеха и скорейшего возвращения. Он прибыл в Петербург в феврале 1816 года. Там ему предложили в командование 3-й корпус.
— Я прошёл всю Отечественную войну с седьмым корпусом, и просил бы ныне вручить его мне, — сказал он.
— Вашу просьбу доложим императору, — ответили ему.
Возражений не последовало.
Вскоре Николай Николаевич переехал в Киев, вблизи которого дислоцировались дивизии корпуса.
В мае 1820 года он почувствовал недомогание, и в Петербурге ему разрешили отпуск для лечения на Кавказских Минеральных Водах и в Крыму.
На юг с Николаем Николаевичем из Петербурга выехал и его младший сын Николай — ротмистр лейб-гвардии гусарского полка, стоявшего в Царском Селе, врач генерал Рудыковский и две младшие дочери — четырнадцатилетняя Мария и девочка-подросток Софья. При детях находились гувернантка мисс Мятен и её компаньонка Анна Ивановна — крестница генерала, по национальности татарка.
Ехали в двух каретах, в одной из которых находился Раевский-старший с военным доктором. Минуя Москву, кареты держали путь на Екатеринослав, где генералу надо было дать последние указания своим помощникам.
В городе должен был встретиться со своим добрым приятелем поэтом Пушкиным и Николай Раевский-младший.
Он нашёл Пушкина в жалкой еврейской лачуге в предместье города. Небритый, бледный, худой, Пушкин в припадке малярии лежал на дощатой скамье. На Николая он произвёл удручающее впечатление.
Оказывается, по прибытии поэта в город выдался жаркий день, и он неосмотрительно решил выкупаться в Днепре.
Николаю не стоило труда уговорить отца взять с собой на Кавказ больного Пушкина. Николай Николаевич тут же написал ведавшему колониальными делами Новороссийского края генералу Инзову записку с просьбой не возражать против отъезда поэта Пушкина с ним на юг. Возражения, конечно, не последовало.
28 мая 1820 года две кареты и пароконная коляска с больным Пушкиным и его другом Николаем Раевским отправились в неблизкий путь. Впереди был Кавказ с Эльбрусом, Казбеком, сказочным пятигорьем.
На Кавказских Минеральных Водах, в Пятигорске, Раевские и Пушкин провели два месяца — с 5 июня до 5 августа, а затем выехали в Крым, где у родственника Раевского генерала Бороздина было имение. Путь их лежал по Кубани, потом из Тамани в Керчь, оттуда до Феодосии, а затем морем. Дом Бороздиных оказался недостроенным, и они поселились в Гурзуфе, в доме, принадлежавшем генералу Ришелье. Здесь Раевских ожидали жена Николая Николаевича и две его дочери — Екатерина и Елена. Пушкин прожил в Гурзуфе с 18 августа по 5 сентября.
Три недели, проведённые Пушкиным в Крыму, он посвятил отдыху и чтению.
В Пятигорске к семейству генерала Раевского присоединился и его старший сын — Александр, с которым Пушкин сошёлся очень близко. Это был отставной полковник. Получив на войне рану в ногу, он лечился целебными водами. Умный, начитанный, он, однако, имел трудный характер.
Раевский-старший писал о нём дочери Екатерине:
«С Александром живу в мире, но как он холоден! Я ищу в нём проявления любви, чувствительности и не нахожу их. Он не рассуждает, а спорит, и чем более он не прав, тем его тон становится неприятнее, даже до грубости. Мы условились с ним никогда не вступать ни в споры, ни в отвлечённую беседу. Не то чтобы я был им недоволен, но я не вижу с его стороны сердечного отношения. Что делать! Таков уж его характер, и нельзя ставить ему это в вину. У него ум наизнанку; он философствует о вещах, которых не понимает, и так мудрит, что всякий смысл испаряется…»
В лице Александра Раевского Пушкин приобрёл своенравного друга, которому позже посвятил стихотворение «Демон», изобличившее суть этого человека:
Печальны были наши встречи: Его улыбка, чудный взгляд, Его язвительные речи Вливали в душу хладный яд. Неистощимой клеветою Он провиденье искушал; Он звал прекрасное мечтою; Он вдохновенье презирал; Не верил он любви, свободе; На жизнь насмешливо глядел И ничего во всей природе Благословить он не хотел.В 1823 году в Россию возвратился Воронцов. После встречи с императором Александром он получил высокий пост новороссийского генерал-губернатора и наместника Бессарабии.
Вскоре он посетил Кишинёв, где находилась канцелярия главного попечителя края, генерала Инзова.
— А это наш поэт, коллежский секретарь Пушкин, — представил Инзов двадцатичетырёхлетнего чиновника канцелярии.
— Он не ваш. Пушкин — поэт России, — ответил комплиментом Воронцов. За чёткой округлой фразой угадывался умный, образованный человек, понимающий собеседника. — О вас мне писали столичные друзья. Я удовлетворю, господин Пушкин, их просьбу и ваше желание.
— Благодарю, ваше сиятельство. — Поэт вспыхнул румянцем, отвесил поклон.
— Полагаю, что в вас я найду достойного помощника в моей канцелярии, в Одессе. — И Воронцов обратился к Инзову: — Надеюсь, Иван Никитич, задержки с переводом не произойдёт.
— Совершенно верно. Распоряжение выполню незамедлительно.
— А вы, Александр Сергеевич, по приезде в Одессу желанный гость моего дома. Я и жена будем рады видеть вас у себя.
— Сочту за честь, — ответил Пушкин.
Встреча с Воронцовым окрылила его. Признаться, он потерял всякую надежду выбраться из надоевшего провинциального Кишинёва, который больше походил на большую станицу, знойную и пыльную, чем на город, каким именовался. Жизнь в нём проходила скучно, однообразно, с нудным пребыванием в канцелярии, застольях с одними и теми же друзьями да случайными мимолётными встречами с местными красавицами. Отрадой, занимающей ум и помыслы поэта, была поэзия. Часто засиживаясь допоздна, он утром являлся на службу утомлённым, и дела ему никак не давались.
О том да и о шумном бражничестве доносили строгому Инзову, которого боялись и уважали. Тот проявлял к поэту снисходительность. Журил, назидал, даже грозил и походил на доброго незлобивого дядьку, пестующего трудного ученика.
В Кишинёве Пушкин завершил «Кавказского пленника», «Гаврилиаду», «Бахчисарайский фонтан» и приступил к большому роману в стихах.
Здесь же он создал множество стихотворений, каждое из которых являлось маленьким шедевром.
Переезд в Одессу, в которой поэт бывал короткими наездами и куда приезжали артисты из Италии, где действовала опера, были клубы и ресторации[29], где жили его друзья, значил очень многое. Город был уголком цивилизации в этом заброшенном крае, не столь давно отвоёванном и присоединённом к России.
Конечно, возросшая из турецкого селения Хаджибей Одесса была не Петербургом и не Москвой, но она не была опостылевшим Кишинёвом. Её градоначальники Дерибас и Ришелье потрудились, чтобы придать городу у моря европейский облик.
Генерал Инзов не посмел задержать Пушкина, и вскоре тот уже писал брату Льву из Одессы восторженное письмо:
«Мне хочется, душа моя, написать тебе целый роман — три последние месяца моей жизни… Я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и, ей-богу, обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе…»
На новом месте у поэта возникли новые увлечения. На этот раз предметом его обожания стала итальянка Амалия Ризнич. С ней Пушкин познакомился ещё весной во время краткого пребывания в Одессе. Она приехала из Италии вместе с мужем — крупным коммерсантом. Привыкшая к блеску и роскоши, Амалия устраивала в своём особняке вечера для избранных людей города. Пушкин сделался её постоянным гостем.
Там же, в гостиной итальянки, он встретил Александра Раевского. Теперь Александр служил при Воронцове адъютантом.
Зашёл разговор о семье графа, его жене, Елизавете Ксаверьевне.
— Ах, Пушкин, ты не представляешь, что это за женщина! На своём веку я видел многих, но такой прелести не встречал, — признался Раевский, и его холодное, неулыбчивое лицо неожиданно потеплело, в уголках тонких губ обозначилась улыбка. — В ней всё прекрасно! И лицо, и голос, и шея…
— Похоже, Александр, ты в неё влюблён, — высказал догадку Пушкин.
— Ты прав. — Лицо Раевского вновь стало холодным. — Не влюбиться в неё невозможно. Но я служу у графа. К тому же при мне и жена. Она у меня строгая. Это тебе, холостяку, всё доступно.
— Знаю, знаю, — улыбнулся Пушкин. — Жена строга, а сам не сводишь глаз с итальянки. Я узрел…
— Дай ты, Александр, к ней сам неравнодушен.
— Я свободен, мне дозволительно.
Об Александре Раевском отзывались как о человеке недобром, чрезмерно любящем себя. Кроме того, слава Пушкина вызывала в нём зависть. Поэт же — искренний, доверчивый, с распахнутой душой — верил в доброту каждого.
В один из дней от графа Воронцова последовало приглашение.
— В субботу состоится вечер, и мы надеемся видеть вас, — со свойственной ему учтивостью сказал он Пушкину.
Воронцовы стояли вблизи парадного входа, принимая гостей. Граф, как всегда, был в мундире, но на сей раз в парадном, с эполетами, с голубой через плечо лентой, на груди поблескивали ордена, тонко звенели медали. В нём, седовласом, с худощавым лицом аскета, на котором темнел рубец ранения, как бы объединялись мужество и ум, решительность воина и обходительность.
Рядом стояла она, Елизавета Ксаверьевна. Слегка припухлые губы обнажали в улыбке белые и плотные, словно жемчужины зубы, лучились бархатисто чёрные глаза. В ней действительно всё было прекрасно: и овал лица с небольшим выпуклым лбом, и длинная шея, и голос, грудной и певучий.
— Мы очень рады видеть вас у себя, Александр Сергеевич. Я читала ваши стихи, и они меня покорили, — сказала графиня.
— Весьма польщён, — ответил поэт, целуя руку женщины.
«Раевский прав: в такую женщину нельзя не влюбиться», — подумал он.
Весь вечер Пушкин не спускал с неё глаз, испытывая волнение. Казалось, она была неодолимым магнитом, притягивавшим его всего.
Александр Раевский, отведя приятеля в сторону, произнёс:
— Я так и знал, Пушкин, что перед чарами графини тебе не устоять. Поздравляю. Если нужна будет помощь, призови, помогу. Я ведь в доме свой.
— Тогда скажи графине, что я от неё без ума и ради неё готов на всё.
Вскоре меж Пушкиным и Елизаветой Ксаверьевной возникла любовь, глубокая, тайная, понятная только им двоим. Нет-нет, это было не очередное мимолётное увлечение, каких у молодого поэта было немало. Казалось, они оба потеряли голову. Но как ни оберегали они свои чувства, их отношения стали достоянием света. Да и неудивительно! Поэтический гений Пушкина привлекал внимание многих, в нём уже признавали первейшего пиита России. А за каждым шагом Елизаветы Ксаверьевны — супруги одного из влиятельнейших особ империи — следили десятки глаз её поклонниц и завистниц. Постарался и Александр Раевский, откровенно завидовавший успеху друга.
Нашлись поэты, которые, сочувствуя влюблённым, посвящали им такие шутливые строки:
Горит вдали закат пунцовый, И Пушкин близ мятежных вод Вновь на колени Воронцовой Шальную голову кладёт. Стихи читает по привычке — Влюблённый, пылкий, молодой — И на груди у католички Целует крестик золотой. Вздыхая, будто он в печали, Она корит его опять: «О, матка бозка! Обещали Вы только крестик целовать…»Однажды Александр Раевский в кабинете начальника заявил:
— Полагаю, ваше сиятельство, для пользы дела Пушкина надобно из канцелярии удалить.
Воронцов, конечно, понял смысл сказанного адъютантом, но пожелал слушать дальше.
— Пушкин не очень старателен в делах, как я слышал. Он главным образом занимается стихоплётством, тем лишь и занят. Давеча признался в намерении просить увольнения со службы, чтобы совсем отдаться ремеслу. Говорит, что оно приносит более дохода, чем служба. На днях ему прислали из столицы две тысячи рублей за поэму о разбойниках. Это почти три его годовых жалованья.
— Интересные новости вы говорите, полковник. Вы ведь с Пушкиным в приятельских отношениях, не так ли?
— Так точно. Только долг службы для меня превыше всего.
— Разумеется.
Александр Раевский давно собирался сообщить графу о Пушкине, о его отношении к Елизавете Ксаверьевне и ждал подходящего случая. Притворяясь приятелем, он сумел войти в доверие к открытому, бесхитростному поэту, даже помог ему сблизиться с графиней, но чувство зависти к Пушкину, его успеху не покидало самовлюблённого адъютанта, оно переросло в ревность и ненависть. Пушкин же по-прежнему верил ему.
— Должен сообщить вашему сиятельству даже большее. — Раевский решил нанести решающий удар. — Речь идёт о Елизавете Ксаверьевне.
Граф вздрогнул, взгляд его остекленел.
— Об их отношениях ходят… недобрые разговоры. Нельзя, ваше сиятельство, допускать, чтобы Пушкин оставался здесь. Я давно хотел сообщить вам об этом…
— Не продолжайте, полковник. Идите. — Граф указал на дверь.
Воронцов догадывался о взаимных чувствах жены и Пушкина. Однако он сдерживал себя, старался отдалить поэта от дома. В одном из писем он писал:
«С Пушкиным я говорю не более четырёх часов в две недели: он боится меня, зная, что по первому слуху, который до меня об нём дойдёт, я его отошлю, и тогда уж никто не пожелает возиться с ним; я точно осведомлён, что он ведёт себя гораздо лучше и гораздо сдержанней в разговорах, чем это было при добряке Инзове… По всему, что я узнаю об нём, он весьма осторожен и сдержан в настоящее время, в противном случае я бы его отослал и лично был бы очень рад, так как не люблю его поведения…»
Теперь этот разговор с Александром Раевским.
Воронцов почувствовал нависшую над семьёй опасность. Его жена, с которой он состоит почти пять лет в законном священном браке, обманывает его, генерал-губернатора всего Юга России, отдаёт предпочтение находящемуся в его подчинении дерзкому поэту, бесшабашному человеку, гуляке!.. Такого он выдержать не мог.
На следующий день в Петербург было направлено письмо на имя графа Нессельроде, возглавлявшего ведомство иностранных дел. В письме Воронцов просил отозвать из Одессы поэта Пушкина по причине того, что он ничего не умеет делать, проводит время в совершенной лености, знается с молодыми людьми, «которые умножают самолюбие его, коего и без того он имеет много».
Судьба Пушкина была предрешена. Впрочем, это помогало поэту осуществить давнюю мечту: отойти от всех дел и отдаться любимой поэзии. Он уже закончил две большие главы «Евгения Онегина» и был полон других планов.
Исподволь зрел замысел новой поэмы. Она посвящена цыганам, с жизнью которых Пушкин познакомился, живя в Кишинёве. Поддавшись уговорам главы цыганского табора, он прожил у него немало дней. Остался потому, что у старика была красавица дочь Земфира.
Взглянула она на него своими глазищами — и обожгла, очаровала, чертовка! Не мог совладать с собой. Даже забыл о красавице гречанке Сандулаке, которая ждала его в Кишинёве. Более двух недель пробыл влюблённый поэт в таборе, живя в шатре рядом с Земфирой.
Однажды он проснулся, а её нет. «Не суетись, парень, — успокоили его. — Бежала твоя красавица с молодым цыганом». Он помчался вдогонку, но куда там, разве догонишь!.. Тем и кончилась его цыганская любовь.
Ну чем не сюжет для поэмы! Остаётся только воплотить пережитое в стихах. Для этого не понадобится много времени.
В конце мая три района Новороссии — Херсонский, Елизаветградский и Александрийский — постигла беда: налетела саранча. Для сбора сведений о причинённых потерях туда был направлен Пушкин. Он не соглашался ехать, но друзья уговорили. По возвращении вместо отчёта он написал четверостишие:
Саранча летела, летела И села. Во все стороны посмотрела, Всё съела И опять улетела.Это был своего рода вызов поэта начальнику. И тут же он подал прошение об отставке.
— Возражения не будет, — сказал Воронцов.
Уезжал Пушкин из Одессы 30 июля. Накануне ему удалось увидеть Елизавету Ксаверьевну. Встреча была короткой, тайной.
— Прощай, мой друг! Не забывай! Да хранит тебя Бог. — Скупым жестом она перекрестила его. — Ты будешь писать?
— Непременно, — ответил он.
— Дай свою руку… Нет, левую.
Нащупав в темноте его палец, она надела кольцо.
— Что это? Зачем?
— Молчи. Это талисман, на память. Клянись, что с ним не расстанешься.
Это был перстень с чёрным камнем, на котором искусный резчик выгравировал еврейскую надпись о верности. Потом Пушкин напишет:
Там, где море вечно плещет На пустынные скалы, Где луна теплее блещет В сладкий час вечерней мглы, Где, в гаремах наслаждаясь, Дни проводит мусульман, Там волшебница, ласкаясь, Мне вручила талисман. И, ласкаясь, говорила: «Сохрани мой талисман: В нём таинственная сила! Он тебе любовью дан. От недуга, от могилы, В бурю, в грозный ураган, Головы твоей, мой милый, Не спасёт мой талисман. И богатствами Востока Он тебя не одарит, И поклонников пророка Он тебе не покорит; И тебя на лоно друга, От печальных чуждых стран, В край родной на север с юга Не умчит мой талисман… Но когда коварны очи Очаруют вдруг тебя, Иль уста во мраке ночи Поцелуют не любя — Милый друг! от преступленья, От сердечных новых ран, От измены, от забвенья Сохранит мой талисман!»— Ну что, барин, поедем? — поглядывая в сторону ещё не взошедшего солнца, спросил Пушкина кучер.
— Сейчас… сейчас…
В утренней тиши звонко били копыта о брусчатку. От моря веяло свежестью и доносился гул. Он хо тел оглянуться, посмотреть на то, что покидал, и, пересилив себя, не стал этого делать. Знал: всё осталось в прошлом.
Тогда же в дороге родились строки злой эпиграммы на Воронцова:
Полу-милорд, полу-купец, Полу-мудрец, полу-невежда, Полу-подлец, но есть надежда, Что будет полным наконец.Она облетела Россию, но мало кому было известно письмо Пушкина, в котором он совсем по-иному относился к недавнему своему начальнику. В нём, в частности, он писал: «Вхожу в эти подробности, потому что дорожу мнением графа Воронцова, так же как и Вашим, как и мнением всякого честного человека.
Повторяю здесь то, что уже известно графу Михаилу Семёновичу: если бы я хотел служить, то никогда бы не выбрал себе другого начальника, кроме его сиятельства; но, чувствуя свою совершенную неспособность, я уже отказался от всех выгод службы и от всякой надежды на дальнейшие успехи в оной».
Переписка Пушкина и Елизаветы Ксаверьевны продолжалась недолго. В начале 1825 года он получил от неё последнее письмо. Что она писала — неизвестно, но послание навеяло на поэта грустные мысли. Плодом их стало волнующее «Сожжённое письмо»:
Прощай, письмо любви! прощай: она велела. Как долго медлил я! как долго не хотела Рука предать огню все радости мои!.. Но полно, час настал. Гори, письмо любви. Готов я; ничему душа моя не внемлет. Уж пламя жадное листы твои приемлет… Минуту!.. вспыхнули! пылают — лёгкий дым, Биясь, теряется с молением моим. Уж перстня верного утратя впечатленье, Растопленный сургуч кипит… О провиденье! Свершилось! Тёмные свернулися листы; На лёгком пепле их заветные черты Белеют… Грудь моя стеснилась. Пепел милый, Отрада бедная в судьбе моей унылой, Останься век со мной на горестной груди…Вскоре после отъезда Пушкина Воронцов предложил Александру Раевскому подать в отставку, лишив его адъютантства.
В октябре 1825 года у Воронцовых родилась дочь Софья. «Доброжелатели» — были такие и в те старые времена — настойчиво искали сходства ребёнка с Пушкиным. Девочка действительно имела сходство… только не с Пушкиным, а со своей бабкой, доводившейся племянницей светлейшему князю Григорию Александровичу Потёмкину.
В октябре 1830 года на пороге приближающейся свадьбы, прощаясь с прежними увлечениями, Пушкин написал последнее стихотворение, посвящённое Воронцовой:
В последний раз твой образ милый Дерзаю мысленно ласкать, Будить мечту сердечной силой И с негой робкой и унылой Твою любовь воспоминать. Бегут, меняясь, наши лета, Меняя всё, меняя нас, Уж ты для своего поэта Могильным сумраком одета, И для тебя твой друг угас. Прими же, дальняя подруга, Прощанье сердца моего, Как овдовевшая супруга, Как друг, обнявший молча друга Пред заточением его.На этом можно было и закончить рассказ о влюблённых, если бы не письма, которыми они обменялись много лет спустя.
В Одессе готовилось издание альманаха «Подарок бедным», и Елизавета Ксаверьевна просила Пушкина принять в нём участие. «Не знаю, — писала она, — могу ли я Вам писать и как будет принято моё письмо: с улыбкой или с тем тоскливым видом, когда по первым словам письма ищут внизу страницы подписи надоедливого корреспондента… Простите моё обращение к прошлому: воспоминание есть богатство старости, и Ваша знакомая придаёт большую цену своему богатству…»
Пушкин ответил:
«Графиня,
Вот несколько сцен из трагедии, которую я имел намерение написать. Я хотел положить к Вашим ногам что-либо менее несовершенное; к несчастью, я уже распорядился всеми моими рукописями, но предпочёл провиниться перед публикой, чем ослушаться Ваших приказаний.
Осмелюсь ли, графиня, сказать Вам о том мгновении счастья, которое я испытал, получив Ваше письмо, при одной мысли, что Вы не совсем забыли самого преданного из Ваших рабов?
Остаюсь с уважением, графиня,
Вашим нижайшим и покорнейшим слугой.
Александр Пушкин.
5 марта 1834.
Петербург».
Такова история двух любящих сердец, страница жизни великого Пушкина и семьи генерала Раевского.
Декабрь 1825-го
Осень 1824 года была для генерала Раевского тяжёлой, безрадостной. Нелёгкие ранения и невзгоды многих сражений дали о себе знать. По его прошению он был уволен в бессрочный отпуск до излечения болезни. Но события следующего года, отразившиеся на судьбах членов его семьи, обострили её.
Всё началось осенью 1825 года в далёком от столицы российской империи Таганроге, где пребывал Александр Первый.
По желанию болезненной императрицы Елизаветы Алексеевны царствующая чета решила провести зиму на юге, в Таганроге. Ехать в Италию и на германские тёплые воды они наотрез отказались. Балтийскую непогоду с острыми ветрами, холодом, изморозью женщина переносила с трудом.
Прежде чем попасть в Приазовье, император решил совершить непродолжительную инспекторскую поездку по Крыму. Он не любил засиживаться на одном месте, в северной столице, не баловал приближённых вниманием. Казалось, он тяготился окружавшей его роскошью и строгим этикетом двора и стремился удалиться от них, пренебрегая путевыми неудобствами и непогодой, непролазными российскими дорогами и случайностью жилья. Он словно бы искал уединения в длительных поездках.
В Крыму стояли очаровательные дни уходящей осени. После пребывания у князя Воронцова в Алупке император провёл инспекторскую проверку морского экипажа в Севастополе, затем греческого батальона в Балаклаве, побывал в Георгиевском монастыре. Оттуда он снова направился в Севастополь, ознакомился с укреплениями на северной стороне. Потом были Бахчисарай, Евпатория, селение Знаменское, где дислоцировалась артиллерийская бригада. В Перекопе император посетил солдатский госпиталь, там лежали заразные больные. Неизвестно где, то ли от посещения больных, то ли от выпитого натурального сока, может, от пребывания на холодном ветру, когда погода вдруг изменилась, а Александр оставался в одном мундире верхом на лошади в сопровождении единственного казака, но там, в Крыму, он почувствовал нездоровье.
Вечером 5 ноября царский кортеж достиг наконец Таганрога. Императрица ждала супруга, и потому этот южный городок с населением всего в семь тысяч жителей казался ему ещё более желанным. Своим приближённым он сказал тогда:
— Избрав Таганрог местопребыванием для моей жены, мы поступаем в высшей степени благоразумно.
Крытая коляска подкатила прямо к калитке ограды, за которой начиналась дорожка ко входу в особняк. Жители города называли его домом, некогда построенным богатым греком-купцом, но с прибытием в него царя и его свиты он стал вдруг дворцом.
Едва экипажи подъехали ко дворцу, как лакеи и казаки охраны проворно и дружно подвезли дорожные сани, корзины, коробки.
Поддерживаемый князем Волконским, император вошёл в дом.
— Как вы себя чувствуете, ваше величество? — справился доктор Виллие.
— Не совсем я здоров, Яков Васильевич, чувствую лихорадку. Но уверен, всё пройдёт.
— Я тоже не сомневаюсь, ваше величество, — подбодрил больного опытный царский эскулап. — Сейчас, после ужина, мы займёмся вами.
Но от ужина государь отказался, попросил только любимого барбарисового сока, а выпив, лёг в постель. Елизавету Алексеевну он попросил не беспокоить.
— Скажите, что устал с дороги.
В своих чувствах Александр проявлял к ней сдержанность и даже сухость, но за последнее время он весьма изменился. В этом императрица видела Божье веление и милость судьбы.
Озабоченный врач Виллие пристроился поблизости от комнаты императора, потребовав в случае чего разбудить его немедленно.
Шли дни, но здоровье больного не улучшалось, он угасал в полном сознании от необъяснимой и нераспознанной врачами болезни. Не помогали ни примочки и микстуры, ни порошки и пиявки, ни другие снадобья, которыми пользовал опытный Виллие. Подозрения были различны: и брюшной тиф, и последствия ушиба ноги конём полкового командира на смотру в прошлом году, и простудное воспаление.
Чувствуя приближающийся конец, больной согласился пригласить соборного протоиерея для исповедования, причащения и соборования.
А 19 ноября российский император отошёл в вечность. В Петербург полетела депеша с печальной вестью. Многих, знавших пристрастие императора к поездкам, его кончина в провинциальном закутке не удивила, она казалась им совсем не случайной.
Всю жизнь провёл в дороге И умер в Таганроге.— Попечение над телом императора пусть возьмёт казачий генерал Орлов-Денисов, — пожелала убитая горем императрица. — Он всю жизнь охранял государя, пусть послужит ему в последний раз.
Генерал-адъютант граф Орлов-Денисов всю Отечественную войну, а потом и в заграничном походе командовал лейб-гвардии казачьим полком, нёсшим личную охрану Александра. Полк в марте 1814 года при торжественном церемониале первым вошёл в поверженную французскую столицу.
Внешность командира как бы служила эталоном мужества и красоты российского воина. Высокий, статный, с решительным волевым лицом, в нём безошибочно угадывался военачальник. Дед его по матери, генерал Фёдор Петрович Денисов, был первым на Дону графом, человеком необыкновенной отваги, отмеченный девятнадцатью или двадцатью ранениями. Он и передал внуку графский титул. А отец, Василий Петрович Орлов, был до Платова донским атаманом.
Однажды Орлов-Денисов пришёл на раут в партикулярном[30] платье. Увидев генерала в непривычном костюме, Александр с удивлением оглядел его.
— Граф, камзол не по вам. Я запрещаю вам облачаться в подобное. Отныне извольте носить только мундир.
Даже будучи в отставке, генерал не посмел нарушить указание императора. Он словно ожидал вызова, когда казачий офицер прискакал в его имение под Харьковом. В депеше говорилось, что он немедленно должен прибыть в Таганрог, чтобы сопровождать усопшего государя в Петербург.
В Таганрог прискакали и казаки с Дона для дежурства и сопровождения бальзамированного тела в дороге к столице.
Печальная процессия тронулась с места через шесть недель после кончины императора, 29 декабря.
Путь был долгим, и пролегал он через Харьков, Курск, Орел, Тулу. 3 февраля траурный кортеж достиг Москвы. Похороны же состоялись 3 марта. Они были многолюдными. Тело поместили в усыпальницу собора в Петропавловской крепости, в ряду гробниц российских императоров.
А через три месяца состоялось захоронение императрицы Елизаветы Алексеевны. Она заболела по пути из Таганрога в столицу и в июне в Белёве скончалась.
Пока тело почившего императора везли в столицу, там произошло событие, потрясшее устои власти. Наследником Александра считался брат его, Константин, но он давно уже отрёкся от прав на престол. Это почему-то хранилось в тайне. Императором должен был стать следующий по порядку брат — Николай.
Войска сначала были приведены к присяге Константину, и Николай сам присягнул ему; потом стали приводить к присяге Николаю. Члены тайного общества решили воспользоваться получившимся недоразумением и путём военного переворота достичь ограничения или даже свержения самодержавия. Они внушили войскам, что Константин устранён насильно, и 14 декабря вывели их на Сенатскую площадь, протестуя против Николая.
Восставший лейб-гвардии Московский полк во главе с братьями Александром и Михаилом Бестужевыми выстроился в каре у памятника Петру Первому. К ним присоединились матросы гвардейского морского экипажа и личный состав лейб-гвардии Гренадерского полка. Всего было около трёх тысяч солдат и матросов при тридцати офицерах.
Обращение духовенства к восставшим успеха не имело. Пытался уговорить солдат вернуться в казармы и генерал-губернатор Петербурга Милорадович, однако офицер Каховский смертельно его ранил.
Ожидали «диктатора» восставших, полковника князя Трубецкого, но он так и не появился.
Опасаясь, чтобы волнение не передалось черни, Николай отдал приказ применить артиллерию, стрелять по восставшим картечью.
Восстание было подавлено, началась расправа. Царский суд приговорил к виселице Пестеля, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Каховского и Рылеева.
Более 120 активных участников были сосланы в Сибирь, ещё больше разжалованы в солдаты и отправлены на Кавказ, под пули горцев.
В числе декабристов оказались и зятья Николая Николаевича Раевского. Мужем старшей дочери, Екатерины, был генерал Михаил Орлов, чья дивизия располагалась в Киевской губернии, неподалёку от имения Каменка, которым владела Екатерина Николаевна Раевская-Давыдова — мать генерала Николая Николаевича Раевского. Орлов был членом тайного общества «Союз благоденствия», затем Южного общества декабристов. В Каменку нередко для совещания наезжали будущие декабристы.
Мужем младшей дочери, Марии Раевской, был Сергей Волконский, князь, генерал-майор. Их помолвка состоялась осенью 1814 года.
Пока продолжалось следствие, оба генерала пребывали в заключении.
Арестовали и сыновей генерала Раевского, Александра и Николая.
Старший, Александр, служил в управлении генерал-губернатора Новороссийского края Воронцова и был уволен из армии в чине полковника.
Николай Раевский, младший сын Николая Николаевича, участвовал в Отечественной войне, в тринадцать лет был подпоручиком. Он находился с отцом и при Бородине, и под Смоленском, и дошёл до Парижа. В конце 1814 года он получил назначение в лейб-гвардии Гусарский полк, расквартированный в Царском Селе. Военная служба бросала его в разные концы России. С 1816 года он был в должности командира Нижегородского драгунского полка, которым когда-то командовал его отец.
Братьев в Петропавловской крепости держали недолго. Их вдвоём вызвали в Зимний дворец к самому императору Николаю первому.
Оглядев братьев Раевских, он заключил:
— Следственная комиссия разобрала ваше дело: к тайному обществу вы не принадлежали. И почему это отец ваш, прославленный генерал, заступается за отпетых негодяев — Орлова и Волконского? Если Орлов ещё заслуживает снисхождения, то Волконский наказан в полной мере.
Генералы Орлов и Волконский были в числе руководителей восстания. Но Орлова избавил от Сибири его брат — душитель декабристов. Волконский же испил чашу страданий до конца. Его осудили к двадцатилетним каторжным работам, лишив княжеского титула, состояния, гражданских прав, и приговорили к пожизненной ссылке.
Узнав о том, Мария Раевская решила ехать за мужем. Она продала свои бриллианты, заплатила некоторые долги мужа и написала письмо государю. Тот ответил ей: сочувствуя её горю, он советовал ей не пускаться в далёкий неведомый путь.
Категорически был против её поездки отец, Николай Николаевич Раевский. Она писала:
«Необходимо было, однако же, ему сказать, что я его покидаю и назначаю его опекуном своего бедного ребёнка, которого мне не позволили взять с собой. Я показала ему письмо его величества; тогда мой бедный отец, не владея более собой, поднял кулаки над моей головой и вскричал: „Я тебя прокляну, если ты через год не вернёшься!“ Я ничего не ответила, бросилась на кушетку.
Я покидала Москву скрепя сердце, но не падая духом; со мной были только человек и горничная… Ехала день и ночь, не останавливаясь и не обедая нигде, я просто пила чай там, где находился самовар, мне подавали в кибитку кусок хлеба, или что попало, или же стакан молока, и этим всё ограничивалось. Однажды в лесу я обогнала цепь каторжников, они шли по пояс в снегу, так как зимний путь ещё не был проложен, они производили отталкивающее впечатление своей грязью и нищетой. Я себя спрашивала: „Неужели Сергей такой же истощённый, обросший бородой и с нечёсаными волосами?“»
А в феврале 1828 года умер внук Николая Николаевича Раевского, которого дочь Маша оставила ему на воспитание. Это был очередной удар по сердцу старого воина. Тяжело переживая несчастье, генерал обратился к Пушкину, чтобы тот написал эпитафию. Поэт выполнил его просьбу:
В сиянье, в радостном покое, У трона Вечного Отца, С улыбкой он глядит в изгнание земное, Благословляет мать и молит за отца…Внука Николеньку так и похоронили без матери. Мария Николаевна, находясь при муже в Сибири, в районе Нерчинских рудников, не решилась на дальнюю дорогу. Она прислала свой портрет: моложавое, прекрасное, безмерно усталое лицо. Генерал Раевский поставил портрет в изголовье. Перед смертью он сказал: «Вот самая удивительная женщина, которую я знал».
Судьбы сыновей Раевского были различны. После декабрьских событий 1825 года Александр продолжил службу в Одессе, у Воронцова, затем был выслан в Полтаву. В 1834 году ему разрешили поселиться в Москве, там он женился, однако вскоре жена умерла, оставив ему дочь. В 1868 году он уехал в Ниццу, где и скончался.
Иначе сложилась судьба младшего сына, Николая. Не покидая воинской службы, он продолжал её на Кавказе. В 1839 году получил чин генерал-лейтенанта, до 1841 года был начальником Черноморской береговой линии. По выходе в отставку жил в имении в Воронежской губернии. Умер в 1843 году.
Болезнь долго подбиралась к Николаю Николаевичу Раевскому-старшему — к этому достойному человеку, герою Отечественной войны, сильному и мужественному на полях сражений, вызывавшему уважение и уверенность в победе у подчинённых, которых вёл за собой, и неуверенность в успехе у врагов.
Недуг вынудил его покинуть столичный Петербург, где он был избран членом Государственного совета, и отправиться к дорогому уголку, в котором прошло его детство, в поместье в селе Болтышки Киевской губернии.
Уходил из жизни он тяжело, но и на смертном одре не терял твёрдости духа. «Ни единого злобного слова не вырвалось из уст его, ни единым вздохом, ни единым стенанием не порадовал он честолюбивую посредственность, всегда готовую наслаждаться страданием человека по мере его достоинства. Испытание ужасное! Несколько лет продолжалось оно неослабно», — писал после последней встречи с умиравшим Денис Давыдов.
14 сентября 1829 года отмечали день рождения Николая Николаевича: ему исполнилось 58 лет.
Ему напомнили о том, и он только улыбнулся. В этот день он непременно посетил бы луг у тихой речушки, и лесную опушку, и поле со звенящими колосьями. Но увы! Силы иссякли.
Через два дня его не стало. Он ушёл навсегда, навечно оставив людям память о своих ратных делах во имя родины, любимой России. Не без основания он говорил: «Я век мой жил и служил без интриг, без милостивцев; ни к каким партиям не приставал и не отставал ни от кого из своих товарищей».
По просьбе жены покойного, Софьи Алексеевны, о назначении ей пенсии Пушкин обратился к генералу Бенкендорфу:
«Весьма не вовремя приходится мне прибегнуть к благосклонности Вашего превосходительства, но меня обязывает к тому священный долг. Узами дружбы и благодарности связан я с семейством, которое ныне находится в очень несчастном положении: вдова Раевского обратилась ко мне с просьбой замолвить за неё слово перед теми, кто может донести её голос до царского престола. То, что выбор её пал на меня, само по себе уже свидетельствует, до какой степени она лишена друзей, всяких надежд и помощи. Половина семейств находится в изгнании, другая — накануне полного разорения. Доходов едва хватает на уплату процентов по громадному долгу. Г-жа Раевская ходатайствует о назначении ей пенсии в размере полного жалованья покойного мужа с тем, чтобы, пенсия эта перешла дочерям в случае её смерти. Это будет достаточно, чтобы спасти её от нищеты. Прибегая к Вашему превосходительству, я надеюсь судьбой вдовы героя 1812 года, — великого человека, жизнь которого была столь блестяща, а кончина так печальна, — заинтересовать скорее воина, чем министра, и доброго и отзывчивого человека скорее, чем государственного мужа».
К хлопотам Пушкина присоединился влиятельный в России Алексей Петрович Ермолов. В войне против Наполеона Раевский и Ермолов были соперничавшие сподвижники. Ермолов просил проявить к вдове следующие милости: простить триста тысяч рублей ассигнациями казённого долга, а взнос ещё пятисот тысяч рублей, которые должен её покойный муж, разложить на весьма продолжительные сроки. Просьбы Пушкина и Ермолова удовлетворили. Пенсия вдове была назначена.
В память грядущему потомству о тяжкой године Отечественной войны и в благодарность тем, кто спас Россию от нашествия французских полчищ, было решено создать в Москве храм Христа Спасителя.
Его строительство продолжалось около пятнадцати лет. Открытие грандиозного сооружения состоялось 26 мая 1883 года в присутствии императора Александра Третьего.
В храме нашли место описания сражений войны и имена отличившихся героев. Среди них удостоился высокой чести генерал лейб-кавалерии Николай Николаевич Раевский.
Герой Отечественной войны Денис Давыдов писал о нём:
«Я ищу верного друга, твёрдого в бедствиях жизни, равнодушного к походам и высокому сану, им заслуженному, и довольствующегося единым миром своей совести, словом, я ищу человека и вижу одного — искусного генерала Раевского».
Он был в Смоленске щит, В Париже — меч России.Приложение ПИСЬМА Н. Н. РАЕВСКОГО
Поход в Польшу 1792 год
Милостивый государь дядюшка[31]!
Вчерашний день приехал я благополучно в армию. Причина долгого моего путешествия есть та, что от самых Дубоссар принуждён я был (ехать) на долгих, чрез Молдавию и Польшу, однако ж я не опоздал. Здесь были две стычки наших партий, ничего не значащие. Михаил Васильевич[32] меня обласкал и обнадёжил, я намерен опять проситься к Орлову до тех пор, пока не будет порядочного дела со всем корпусом.
Теперь я, милостивый государь дядюшка, ничего не пишу. Курьер сейчас едет. Послезавтра обстоятельно Вас о всём уведомлю, к тому же судьба моя может решиться.
Желаю, милостивый государь дядюшка, иметь случай показать, что я не заслуживаю тех мыслей, кои Вы обо мне имеете. Курьер сейчас едет, и я спешу кончить.
Имею честь пребыть с глубочайшим почтением, милостивый государь дядюшка.
Покорнейший Вам племянник
Николай Раевский
21 мая
Винница.
Милостивый государь дядюшка!
В последнем моём письме имел честь я Вас уведомить о благополучном моём приезде в армию. Теперь также ничего о себе сказать не могу. Я просился к казакам, но Михаил Васильевич сказал, что мне там делать нечего и что он придумает для меня что-нибудь получше. В ожидании о себе решения скажу Вам, милостивый государь дядюшка, принести мою всенижайшую благодарность, что по письмам нашим или просьбам обо мне всё исполняется так, как лучше желать мне нельзя. Михаил Ларивонович[33] меня ласкает. Орлов мне тоже во всём помогает, и словом, всё предлагает мне свои услуги. Я во всём оном вижу милости Ваши. Скажу Вам, милостивый государь дядюшка, что я никак не могу забыть тех речей, которые Вы употребляли, как Вы на меня гневались, я тогда молчал; Вы приняли то за нечувствительность. Вы мне извините, что я скажу, что, конечно, Вы ошибаетесь, хотя я не заслуживаю всего, но, не имея и не сделав ничего в моей жизни, на что б я мог опереться, я принуждён был молчать. Я не с тем говорю, чтоб оное напоминать Вам, а только скажу Вам, милостивый государь дядюшка, что при первом случае Вы перемените мысли. Не прогневайтесь на меня: чувствительность моя что я к Вам сие написал.
О здешнем ничего к Вам писать не могу. Мы теперь стоим на одном месте. Положение нашей армии должно быть Вам хорошо известно. Передовым корпусом командует Зубов, который теперь в шести вёрстах от нас; я бы весьма желал быть там, но так как там уж Салтыков за шефа Екатеринославского егерского корпуса, то мне не будет никакой команды; говорят что прибавят его, то может быть мне удастся в нём быть включену.
Вот, милостивый государь дядюшка, всё, что я имею вам сказать от чистого сердца. Желаю Вам всякого благополучия и, принеся моё всенижайшее почтение, имею честь пребыть.
Милостивый государь дядюшка,
покорнейший Ваш племянник
Николай Раевский
24 мая
Винница.
Милостивый государь дядюшка!
Во-первых, осмеливаюсь Вас, милостивый государь, просить немедленно доставить к матушке: она, услышав, что было дело, будет обо мне беспокоиться. Я имел счастье быть во всех трёх делах, которые здесь случались. Обстоятельно теперь описать их не могу, теперь мы на маршу, отдыхаем; и я пользуясь сим временем, чтобы к Вам, милостивый государь дядюшка, писать; при первом случае уведомлю о всех обстоятельствах. Я надеюсь, что имя моё и в реляции не забыто. Мы теперь разделены на разные корпуса, дабы отрезать ретирующегося неприятеля от колонны. Надеюсь, что ещё вскоре будет дело порядочное. Извините меня, что я так коротко и на такой бумаге пишу. Мы лежим на пашне. Не знаю, можно ли будет запечатать сие письмо. Имею честь пребыть с глубочайшим почтением.
Милостивый государь дядюшка,
покорнейший Ваш племянник
Николай Раевский
7 июня
на маршу.
Милостивый государь дядюшка!
Третьего дня мы были в деле, которое славно по опасности, в которой мы находились, и, конечно, мы Богу обязаны нашим спасением; их было вшестеро нас больше, и имели — не смею сказать — совершенно не знающего генерала. Пыль, показавшаяся вдали, помешала неприятелю нас окружить, ибо они сочли её пришедшим к нам сикурсом[34]. С нашей стороны потеря, считая раненых, почти тысяча человек, а выиграли мы место баталии и взяли брошенных три пушки. Их потеря нам неизвестна, хотя и писали, что в шести тысячах человек, а может быть, и меньше нашего, словом сказать, победа наша ничем не радостна. Ираклий Иванович[35] в деле так потерял голову, что от него никаких приказаний нельзя было добиться. Рекомендованы у нас все, а был в деле только один Екатеринославский полк, который очень много потерял людей; должно отдать справедливость полковнику Булгакову в его храбрости, также и чувствительность, ибо он очень плакал о потере своих офицеров. Теперь наших вместе три корпуса: наш, Леванидова и Дунина, неприятель в семи вёрстах со всеми силами и оба генерала, Костюшка и Понятовский. Нынче мы идём к ним и если они не ретируются, то будет дело опять. Я просил Михаила Ларивоновича остаться с ним, в деле. Он обещал меня употребить, он меня очень ласкает и везде хорошо отзывается, — я буду стараться заслужить его благосклонность. Имею честь Вам принести моё глубочайшее почтение и уверение об истинной моей преданности, имею честь пребыть.
Милостивый государь дядюшка,
покорнейший Ваш племянник
Николай Раевский
9 июня,
близ Заславля.
Милостивая государыня матушка!
Милостивый государь батюшка!
Третьего дня у нас было дело прежаркое. Мы считаемся победителями, потому что мы выиграли место баталии. Потеряли с ранеными близ тысячи человек.
Так как мы не ожидали такого дела, я ещё был с казаками, которых нынче оставляю, пост мой был, по счастью, на правом фланге, где была беспрерывная перестрелка, чем мы мешали коннице переправиться через болото и напасть на нас на фланге. На левом фланге нас гнали так, как нельзя лучше. Выигрыш наш состоял в трёх пушках. Число потери их нам неизвестно. Мы нашли на месте человек двести и считаем, что раненых они увозили.
Генерал наш Марков в деле слишком себя отличил. Мы считали все себя пропащими. И подлинно Бог спас: нас неприятель так окружил, но, увидя вдали неизвестно отчего пыль большую, счёл, что идёт к нам сикурс, и ретировался. Их было против нас вшестеро. У нас же никакого распоряжения не было. Всё состояло в том, что, выстроившись в одну линию, шли вперёд безо всяких резервов и, наконец, неприятель успел так переменить фрунт, что мы не приметили, как он явился против правого фланга. Тут-то мы не знали, что делать, и кой-как под картечными выстрелами выстроили против них Екатеринославский гренадерский полк. Конница наша теряла от пушечных неприятельских выстрелов много людей безо всякого защищения.
Прощайте, милостивая государыня матушка, желаю Вас и батюшку видеть здоровых и надеюсь, что в сию кампанию я что-нибудь заслужу. Имею честь пребыть с глубочайшим почтением.
Покорнейший Ваш сын
Николай Раевский
9 июня,
в 7 вёрстах от Заславля.
Милостивый государь дядюшка!
Скорый отъезд Салтыкова помешал мне, милостивый государь дядюшка, с ним писать, я же тогда находился в корпусе Кутузова, которым тогда командовал за его болезнию Тормасов, генерал-майор. У нас также было дело, которое, может, и больше (того, которое) имел Михайла Васильевич, но не надеюсь, чтоб было уважено. Мы переправились чрез Буг по понтонному мосту под батареями неприятельскими. Я был в сём деле употребляем с Екатеринославским вторым батальоном гренадер и имел удовольствие узнать после, что Тормасов писал письмо к Михайлу Ларивоновичу, в котором меня хвалит и благодарит его за меня. В сём деле у нас убито сто человек, в том числе под командою моей находившегося батальона тридцать. От пленных узнали мы, что неприятель был в пятнадцати тысячах против нас, у нас же было пехоты десять батальонов, а конницы двести человек, что препятствовало нам преследовать неприятеля, который бежал в расстройстве и подбитые пушки увёз на подводах. Когда Вы, милостивый государь, узнаете о деле другого корпуса обстоятельно, то не будете недовольны что я в нём не находился. За поздравление ваше меня с крестом имею честь принести всенижайшую благодарность. Я, конечно, принял сие награждение с должным удовольствием, но признаюсь, что я его скорее ждал за дело под Люборами. Теперь уж мы не надеемся иметь большие дела с поляками, ибо к генералу Анис. Зубову пишут, что король польский соглашается на всё, итак, я надеюсь иметь честь Вас скоро, милостивый государь дядюшка, видеть; кой час узнаю, что военные наши действия кончатся, то не мешкав буду просить ехать. Я желаю Вас застать в Петербурге. Скажу Вам, милостивый государь дядюшка, что я был столько счастлив, что всеми старее меня генералами был обласкан, даже и графом Браницким. Валер. Александрович, с которым я теперь вместе живу, также со мной, можно сказать, коротко обходится, но больше всего я обязан милостям Михайла Ларивоновича Кутузова. Будьте уверены, милостивый государь дядюшка, что всё, что я здесь ни делал, было по совету его и что ежели вы найдёте, что я что-нибудь пропустил, то, может, что-нибудь, чего предусмотреть неможно было.
Имею честь принесть моё всенижайшее почтение, уверяю Вас, что буду с оным навсегда.
Милостивый государь дядюшка,
покорнейший Ваш племянник
Николай Раевский
14 июня,
Люблин.
Милостивой государыне тётушке имею честь принести моё нижайшее почтение.
1807 год
Светлейший граф,
милостивый государь!
Известясь, что чигиринское дворянство сделало мне честь, избрало меня в уездные начальники земской милиции, поехал немедленно в Чигирин, где имел честь получить Вашего сиятельства о сём предписание. Но опытом в сём малом переезде узнал, что здоровье моё на сей раз не соответствует моему усердию, ибо по приезде моём я сделался болен, почему и принуждён был, по приказанию Вашему, уведомить о сём господина маршала, вручить присланные мне предписания господину премьер-майору Беклемишеву, теперь же еду для пользования в Киев и, когда получу облегчение, за честь себе поставлю выполнить со всевозможною ревностью все препоручения, которыми Вашему сиятельству угодно будет меня удостоить.
С глубочайшим почтением и совершенною преданностью честь имею пребыть.
Сиятельнейший граф, государь,
нижайший слуга
Николай Раевский Генваря
3-го дня 1807 года,
Чигирин.
Милостивый государь дядюшка!
Получив предварительное письмо от Вас о выборе меня в начальники уездной милиции и о том, что по первой почте Вы изволите прислать нужные предписания, поехал я немедленно в Чигирин, где получил от маршала все нужные бумаги; через несколько часов приехал господин Беклемишев и подтвердил писанное Вами, милостивый государь дядюшка, прежде, то есть средство отказаться по болезни от моей должности, и как должно было тотчас решиться, то, не дождавшись сего курьера, я отозвался маршалу, что ехал принять её, но опытом узнал, что здоровье моё не позволяет мне принять её. Каковом смысле и к Вам, милостивый государь дядюшка, прилагаю моё отношение; если вы сочтёте сие нужным, то можете до выздоровления меня уволить, а господину Беклемишеву приказания послать как к временному начальнику, а окончивши дела мои в Киеве, куда я еду лечиться, вступлю в оную должность по выздоровлении моём; отъехав в Чигирин, я в самом деле простудился и захворал. Обстоятельство, меня принудившее поступить таким образом, есть следующее. Мне надобно было непременно к 12-му сего месяца, а хлопоты милиции, конечно, до 20-го меня бы удержали, мне должно было выбрать остальных чиновников, для коего выбора созвать маршала и тысячников, которые вёрст за сорок, затем назначить сотни, распределить чиновников по 500-м и сотням, освидетельствовать людей и оружие, собрать провиант и деньги, сделать список людям и опись оружию и, составя из всего рапорт, ехать к Вам с донесением. Для осмотра всего я должен был ехать вёрст 250, быть всё время в отлучке от дома, где имею тысячу дел устроить, дабы мне можно было отъехать на контракты. Жена моя после отъезда брата опять была больна, она одна-одинёхонька; я принуждён был привезти её в Смелу, где теперь нахожусь сам сейчас действительно нездоровым, в Боктылину, откуда возвратясь поеду непременно…
Беннигсена победа меня не радует; по нашим рассказам, у неприятеля убито 15 000 человек, по нашим же рассказам мы потеряли 7000 человек, я считаю что Каменского дело точно было, но Беннигсеново было прежде, последнее должно быть важно. В рассуждение моего намерения служить скажу Вам, милостивый государь дядюшка, какие были мои на то причины и какое расположение.
Если для службы в милиции должен оставить дела, то лучше их оставлять для такой службы, где можно заслужить хорошую репутацию, к которой я никогда нечувствителен не буду, и найти покровителей, которых теперь не имею. Командование Каменского доставляет случай не одним франтовством быть известну, и кто исполнен доброй воли, тот в сём намерении успеть должен. Мне пред Вами хвастать не для чего, так поверьте, что я говорю правду. Я чувствую себя уже довольно испытанным, чтобы сказать наверное, что я тоже в числе неизвестных людей не останусь; здоровье моё дурное — это правда, но я уже давно забыл о себе думать. По болезни жены моей нужно будет ехать весной в Петербург, а я, поруча мои дела Темирову, которого уволят, мог бы ехать служить, то есть, через месяц или полтора расположа моими делами, — спешить или нечего, — через несколько дней я лично буду иметь честь Вас, милостивый государь дядюшка, видеть и испросить на всё советов Ваших, которым я всегда готов повиноваться.
Имею честь пребыть с глубочайшим
почтением, милостивый государь дядюшка,
покорнейший племянник
Николай Раевский
6 января,
Смела.
Милостивый государь дядюшка!
Письмо Ваше с Чижовым имел честь получить. В простых словах постараюсь объяснить Вам, милостивый государь дядюшка, в чём состоит заблуждение и вина Софьи Алексеевны[36], то есть столько, сколько по заочности моей о сём судить могу. Ей показалось, что Вы как со мной, так и с ней переменили милостивое Ваше обращение, почему и сочла что её посещения не будут Вам столько приятны, как были прежде. Я никак её в сём оправдать не могу, ибо долг её был удвоить старание приобрести вновь Ваше расположение, в чём — я надеюсь на Ваше доброе сердце — она успеет, а я все силы употреблю выискать способ приехать в Киев на контракты. Судьба моя ни в чём не решена. 12-го сего месяца выйдут награждения, после чего я увижу, что мне делать. Не буду я распространяться о здешней моей жизни: жена моя лучше изустно Вам, милостивый государь дядюшка, перескажет все мои обстоятельства. Беспокойства ж мои, которые ей неизвестны, сам Вам открою. Дела мои требуют моего присутствия в Киеве: здесь двое детей на руках Катерины Алексеевны, а старик тесть опасно болен водянкой, которая от ног поднялась… Проситься в отпуск, если я останусь в службе, не смею, ибо хотя бы кто был на войне герой, если он в мире не капральствует, его в грош не ставят. Мы здесь всё перефранцузили, не телом, а одеждой, — что ни день, то что-нибудь новое. Прощайте, милостивый государь дядюшка, будьте благополучны. Имею честь пребыть с глубочайшим почтением.
Покорнейший племянник
Николай Раевский
1807, 4-го, СП
P.S. Деньги 5 р. посылаю для верности письма, ибо многие на почте пропадают. Вы приказывали Петру Яковлевичу Титову продавать дорожный сервиз; прошу Вас, милостивый государь дядюшка, приказать продать его предпочтительно мне по той цене, которую давать будут.
26 апреля, Бартенштейн.
Из Петербурга имел честь писать к Вам, милостивый государь дядюшка. Теперь уже имею о себе сказать решительно: я в службе и буду иметь кавалерийскую бригаду. Беннигсен ко мне хорош и сделал мне репутацию, которую впредь оправдать постараюсь. Я, слава богу, здоров. Армии стоят по… правый фланг составляют пруссаки, к ним примыкает с кавалерией Уваров, у которого я буду немного впереди влево, в Лаунау — Багратион с авангардом, у него 12 т.; потом Толстой, потом Платов соединит нас с Тучковым, бывшим корпусом Эссена, который в Остроленке. Здесь хлеб дорог… и фураж… Французы укреплены всегда. Князь Дмитрий Петрович Волхонский без действия… а действует В.С. Попов, которому весьма хорошо у государя; он считается при государе для исполнения разных поручений. Я с ним ехал из Риги вместе, где нас потопление, от Двины происходившее, долго держало; он ко мне ласков, и я часто к нему хожу. Вот, милостивый государь дядюшка, в коротких словах малое изображение всего.
Обед через день у государя и у прусского короля, куда приглашены все генералы и полковники.
Новосильцев со мной говорит… и довольно говорит; я не делал лишних шагов, стараюсь с ним сойтись. Если Вы вздумаете прислать Григория Александровича[37], положитесь на князя Трубецкого, а ещё больше на меня, потому что никто столько Вас не любит и не может столько быть благодарен за Ваши, милостивый государь дядюшка, милости. Прощайте, милостивый государь дядюшка, и не оставляйте моих, как Вы меня не оставляли.
Прейсиш-Эйлау дело нам стоит: 300 офицеров убитых, 500 раненых, рядовых убито четырнадцать, а ранено легко восемь тысяч. Штаб офицеров очень мал. Платов делал чудеса и теперь всякий день приводит пленных. Армия наша в духе, и, если хорошо поведут, я уверен, что будем победителями.
Имею честь пребыть с глубоким почтением,
милостивый государь дядюшка,
покорный слуга
Николай Раевский.
26 апреля, Бартенштейн.
Сейчас, милостивая государыня матушка, уехал брат Александр. Я не знал, что есть случай писать письма, и от него не посылаю; он в 30 вёрстах, приехал со мной вместе, слава богу, здоров, дел никаких нет и ожидаем, что ещё долго будем без действия; я также, слава богу, здоров, присылайте брата Василия; здесь сын Ивана Александровича Нарышкина, 16 лет, служит унтер-офицером в ординарцах у князя Багратиона. Я и ему доставлю место, а унтер-офицером больше месяца не прослужит; ему надобно будет две лошади, на трое панталонов сукна тёмно-серого, бельё и тёмно-зелёного на мундир, два или три, и пол-аршина красного; впрочем, ничего, будьте уверены, что он будет сын мне, сколько я уверен. Милостивая государыня матушка, Вы мать моим детям, мне его присутствие будет весьма приятно, денег ему 100 червонцев, слугу одного, саблю, добрую пару пистолет, а прочее всё здесь ему достану; уговаривать Вас, милостивая государыня матушка, не смею, подумайте и решите, здесь много моложе его служат. С тех пор как уехал получил только одно письмо от жены моей, писанное два дня после моего отъезда, — что ж делать; удалён от дома, я приготовился ко всем неприятностям, большая отдалённость, — через Гродно получать буду скорей.
Будьте здоровы и благополучны, не оставляйте детей и жены и извините их проступки. По гроб преданный сын Ваш
Н. Раевский.
11 июня, против Тильзита на Мемеле.
Письмо Ваше, милостивый государь дядюшка, получил под неприятелем. На другой день было жестокое сражение в нашем авангарде: пять раз жестоко дрались, 8 дней прикрывали ретираду армии. Слава богу, чести не потеряли, но выиграли мало. Теперь перемирие и мир выгодный не замедлит. Нам отдают по Вислу, если только угодно государю. Поляки в дураках. Я, слава богу, здоров; был легко ранен в ногу и за сим был в двух сражениях, получил две контузии. Всё сие может иметь и трус, но я имел счастье получить генеральную признательность: я командовал егерями, а теперь имею 14 полков пехоты или всю пехоту авангарда. Перед Вами, милостивый государь дядюшка, мне не для чего хвастать, но горжусь, Вам сказав, что никто лучше меня не служил, — вот моё награждение. Сколь скоро благопристойность позволит, приеду к Вам.
Теперь не к чему посылать Григория Александровича: уже всё кончилось. Много имею что пересказать на счёт наших действий, да бумаги нет и некогда.
Семья людей, милостивый государь дядюшка, что Вы мне пожаловали, нигде не заложена; в проезде через Киев не имел времени и не вспомнил о ней сначала. Скажу Вам ещё, милостивый государь дядюшка, что за оную я выключил вдвое числом душ из села Сунок, ибо ошибкой мне продали более, чем в Сунках находится, потому мужики были под разными именами вдвойне. Ивков должен о сём знать, и я принял доложить Вам о сём, но не меньше Вы мне их пожаловали, и я принял в подарок; будьте уверены, что я Вас люблю, почитаю и горжусь названием Вашего племянника, будьте благополучны и любите пребывающего
с глубоким почтением, милостивый
государь дядюшка, покорного слугу
Николая Раевского.
Милостивый государь дядюшка. Деньги Жуковой и Титову отдал все. Червонцы по 5 р. 25 копеек, остальные к шести тысячам доплатил; что мог узнать от Титова касательно Новосильцова, будто о Вас говорил государю, и что государь промолчал, что нужно, чтобы Куракин о сём ему поговорил, и что Новосильцов хотел о сём сказать Куракину, а Новосильцов с Куракиным не в ладу, да и у государя ничего не значит, посему Вы изволите видеть, что все сии слова пустые.
Армия наша, несмотря на морозы, идёт всё вперёд; направление её неизвестно. Генерал-майор Бороздин взял крепость Лунду после отчаянного сопротивления; гарнизон оставил её и отретировался невредимым; оный состоял в сорок человек; с нашей стороны раненных мужиками два драгуна. Моя судьба должна решиться завтра. Я не оставлю Вас, милостивый государь дядюшка, о всём уведомить, желаю и надеюсь, что Вы уже здоровы. Имею честь пребыть с глубочайшим почтением.
Милостивый государь дядюшка,
покорнейший племянник
Николай Раевский.
Завоевание Финляндии 1808–1809 годы
21-го марта 1808 г., Ваза
Очень недавно, милостивый государь, получил я известие, что Вам есть легче, ибо очень недавно начал я получать письма от жены моей. Да продлит Бог дни Ваши!
Скажу вам в коротких словах о кампании нашей. Мы вошли в Финляндию 18 000 человек; к счастью, король шведский считал нас и предполагал своим без драки оставлять землю. Итак, мы разными колоннами вошли и заняли всю Финляндию, мой пункт был до Биернборга, но генерал Тучков, долженствующий занять Христианштат, Каске, Вазу, Нюкарлеби и Якобштат, никуда не поспел, почему и неприятель весь спокойно ретируется. Я преследовал его до Вазы и занял все города назначенные Тучкову, а малый мой деташмент занял Карлеби, Якобштат и теперь уже должен быть в большом Карлеби и преследовать, имея 1500 человек, неприятеля, у которого 6000, ибо главнокомандующий Клингшпорт сам был против меня. Всякий день были перестрелки, но нигде он меня не дождался, а шедши в одну колонну по пятам неприятеля по зимней узкой дороге, не имея более ста человек конницы, остановить его нельзя было. Теперь собираюсь возвратиться к Биернборгу. Финляндия вся наша, кроме крепости Свеаборга, она на островах, имеет провиант и начальником адмирала Кронштета, известного головореза, до 8-ми тысяч гарнизону. Сдаться ей нет ни малейшей причины, а коль скоро лёд растает, то её ни с моря, ни с сухого пути атаковать нельзя. Жена моя пишет, чтоб я Вам, милостивый государь, сообщил мои мысли насчёт Григория Александровича; он всё тож. Когда б он был здесь, то был бы уже послан с известием о взятии какого-нибудь города. Прощайте, милостивый государь дядюшка, будьте здоровы, благополучны и милостивы к преданному Вам племяннику и слуге
Н. Раевскому.
25 июля 1808 г., Корпилаис
Я уже давно имел честь получить письмо Ваше, милостивый государь дядюшка, но не отвечал по сие время, потому что с начала апреля по сие время я был беспрестанно в таком критическом положении, что, по чести, жену и детей забыл, но любви Вашей помню. Вы будете, конечно, интересоваться обо всех моих делах и обстоятельствах. Я теперь, хотя неприятным образом, имею покой, который мне был необходимо нужен, ибо сил моих ни моральных, ни физических уже недоставало; я узнал разницу подвергать собственно себя или подвергаться ответственности за командуемую часть, особенно под командой такого начальника, который не защищает подчинённого, а обыкновенно сваливает свою вину на него.
Прежде описания моей кампании будут отвечать на письмо Ваше в рассуждении брата Василия. Неужто Вы считаете нужным, чтобы мать или Вы, отец мой, просили бы меня сделать добро родному моему брату, если б я был в силах? Я писал из Вазы к великому князю, ожидал, как он примет письмо моё. Говорят, что он хотел отвечать мне, но сего не сделал, и я не осмелился просить его о Василии Львовиче. Великий князь мне не свой брат, и хотя он был ко мне милостив, но тем не менее я с ним не так короток. Потом после смерти моего тестя писал к государю, просился при первом свободном времени на несколько дней в Петербург, но по сие время нельзя было сего сделать, а я ещё на мою просьбу не получил соизволения. Но положение моё собственно таково, что исполнить моей просьбы нельзя. Итак, надобно взять малое терпение.
В газетах Вы, верно, читали об «авантажах», полученных мною четыре раза над неприятелем, и о двух сражениях, в которых принуждены были уступить несоразмерно превосходному неприятелю, однако ж без потери с нашей стороны, и не без славы, и не без вреда ему. После того вы видели, что мы много земли ему уступали; из описания подробного и справедливого Вы изволите всё увидеть.
Граф Буксгевден донёс прежде времени государю, что Финляндия вся покорена, чему должно бы непременно быть, если бы не его ошибки зимние, которые нам вышли боком. После сего, упорствуя исправить, ныне новыми ошибками подвергал меня несколько раз погибели, дабы загладить первые. Богу угодно было помочь мне сохранить корпус с немалой славой, и уверен, что неприятель мне более отдаёт справедливость, чем граф Буксгевден. Он имел давнюю злобу на Тучкова; отняв у него команду, поручил её мне, всячески под него подкапывался, но не умел сыскать его ошибок, а только придирался к нему в том, в чём он был сам виноват. Ко мне писал партикулярно и ордерами, считая получить против него оружие, но как он спрашивал меня только о том, в чём Тучков был прав, то и не получил желаемого, доносить же несходно моим правилам, и Тучков оправдался. 10 апреля в Гамле-Карлеби, приняв от него команду над корпусом в 5000, состоящую кавалерии в… хотя здесь она употреблена не может, я не имел провианта и неполное количество артиллерийских и ружейных зарядов. Вскоре должен был отделить полк егерский в Сариарви за 200 вёрст для сбережения транспортов, которые везены были мужиками, кои, взбунтовавшись, бросили, более потому, что обещанных денег за подводы никогда не платили, и бежали. Между тем Свеаборг сдался; более четырёх тысяч гарнизону по условию распущены по домам: в голодной земле прибавили ещё голоду. Многие возвратились в шведскую армию, другие делают нам ещё более вреда, возмущая мужиков, нападая на транспорты, на команды и на курьеров толпами до тысячи человек с мужиками. Словом, мы лишены здесь всех способов и всегда были окружены неприятелем. Пока море не вскрылось, реки были в разлитии, положение моё в Гамле-Карлеби было безопасно, несмотря на то что был отведён за 600 вёрст от всякого подкрепления. Потом море очистилось, реки спали и позволили переходить их неприятелю вброд, подъезжать и позади меня делать мне вред, истреблять мосты и отымать транспорты. Я уже принуждён был для безопасности моего тыла отрядить ещё полк в город Нюкарлеби, человек до 800 на правый мой фланг, чтобы обеспечить транспорты, которые получал из Перхоза за 105 вёрст, а сам оставался, не имея 2000 пехоты, против неприятеля, который по крайней мере имел тогда до восьми тысяч. Сей пост был весьма важен, но нужно было мне дать силы удержать его и продовольствия, но я ни того ни другого не получал. Наконец, не имея более провианта, как на 120 вёрст, то есть 4 большие марша до 1-го пункта, где мог надеяться получить его несколько, принуждённым нашёлся отступить в Лилькиро, 20 вёрст от Вазы, предупреди заблаговременно, что принуждён буду оное сделать, главнокомандующего. На походе получил я предписание отступить к Вазе. В копии с рапорта его государю я видел, что он о недостатке провианта ничего не упомянул и как будто бы соглашаясь на моё представление, предписывает мне отступить. В Нюкарлеби я оставил сильный пост, занял Лаппо и… объехал, все посты мои расположил защитою, наконец, слыша о приближении неприятеля к Нюкарлеби, шёл туда на подкрепление, но уже нашёл своих в 20 вёрстах от оного. Неприятель атаковал сей полк со всеми силами; хотя сам потерял людей, но принудил его отступить без потери. Неприятель расположился войсками от Нюкарлеби. Я усилил пост в… и занял дефиле[38] от Вазы…
На другой день моего прихода неприятель сделал со шведских берегов преглупый десант в Вазу. Он был разбит, потерял пушку, генерала и 12 штаб- и обер-офицеров, взятых в плен, также 200 человек рядовых, потеряв большие… на месте офицеров и рядовых, остальные спаслись и присоединились к…
1809 год
11 апреля, Фридрихсгам
Милостивый государь дядюшка!
Вы уже, думаю, известны, что меня отправил государь в Финляндию и сказал мне, что я сменю Багратиона, и считаю, что я буду иметь его дивизию и командовать корпусом в Або; узнаю ж все на месте. Государь сказал мне, что сам к нам будет к маю; кажется, у нас со шведами уже войны не будет. Остаётся желать, чтобы сию дивизию, которая из лучших в армии из сего худого краю… Как слышно, остаётся в Финляндии новопроизведённый генерал Барклай. Вот, милостивый государь дядюшка, наши новости; теперь скажу об интересах: я разменял червонцы Ваши по 6 руб. 73 коп., что составляет на 1060 сто шестьдесят рублей, о коих пишу я к Софье Алексеевне, чтоб оные к Вам доставила. Я, слава богу, здоров и уже половину дороги от Петербурга отъехал. Перед отъездом получил от государя словесно много благоволения и ласки, но прочие получают на дорогу денег; моё положение государю неизвестно, а просить я не умею, и с сей стороны обстоятельства мои весьма худые. Впрочем, делать нечего, — терпеть до случая, неужто в век мой ни в чём удачи не будет. Если Вы удостоите меня письмами Вашими, то извольте адресовать их в Або или к брату Петру.
Затем, пожелав Вам всякого благополучия, честь имею пребыть с глубочайшим почтением.
Милостивый государь дядюшка,
покорный племянник
Николай Раевский.
17-го мая, Або.
На пути моём сюда, милостивый государь дядюшка, имел честь писать вам. Не повторяя о себе ничего, Вы уж должны быть известны о моей участи: разве мир со шведами вытащит меня из Финляндии, которую мы надеемся получить, — по сие время мы стоим покойно, есть надежда, что нас и трогать не будут. Я бы жил здесь не так скучно, когда бы не был столь удалён от всего, что мне любезно. В первых (числах) июня ждём государя! Ждём важных известий о цесарцах. До нас так долго вести доходят!
Желал я от всего сердца и теперь желаю быть полезну Вашему сыну, а моему брату, сколько для его пользы — столько ж чтоб благодарство моё, милый государь дядюшка, показать на опыте. Другой может ему более доставить, но попечения никто столько иметь не будет. Более мне писать нечего, будьте здоровы, веселы и любите преданного и покорного Вашего племянника
Н. Раевского.
9 сентября, Ваза
По газетам узнал я, милостивый государь дядюшка, что Вы в Петербурге. Я полагаю, что Вы чрез курьера моего не могли получить письма, потому что ехали на Москву и ничего обо мне не знаете; не могу я ещё сказать, буду ли иметь удовольствие Вас видеть в Петербурге; когда у нас мир, то я скоро приеду, ибо по известным Вам моим контрактовым обстоятельствам я, хотя бы принуждён был и службу оставить, непременно поеду в дом мой, а когда война, то хотя б имения лишился, а долгом моим жертвовать не буду. Посему Вы изволили видеть, что я судьбы моей не знаю. Я теперь возвращаюсь в Або, куда прошу Вас, милостивый государь дядюшка, писать ко мне, здоровым ли Вы будете и долго ль намерены пробыть в Петербурге. Я всю нынешнюю кампанию не прослужил, а прожил, ибо у нас никаких действий не было, а только стояли как на часах и смотрели на дурачества англичан. Теперь наступает решение всему, ибо если шведы не помирятся, худо будет Стокгольму. Для общей пользы желаю мира здесь. Когда иной будет заключён, я, имея обещание быть употреблену в действующие армии, где б оные ни случились, надеюсь, что человека, исполненного доброй воли, не забудут, а я желаю только случая. Признаюсь Вам, что здешняя жизнь мне несносна; когда б я нёс службу, я б на неё не жаловался, теперь же, что называется, дела не делай, от дела не бегай! Желаю от всего сердца, чтобы Вы были Вашим приездом довольны, были бы здоровы и благополучны. Затем прощайте. С глубочайшим почтением и истинной преданностью пребыть честь имею, милостивый государь дядюшка, покорнейший племянник
Николай Раевский.
18 сентября, Або
Мир заключён, отпуски на 28 дней позволены, главнокомандующий уже обо мне представил. Покорнейше Вас, милостивый государь дядюшка, прошу приложить старание об исходатайстве оного поскорей: желание видеть Вас, милостивый государь дядюшка, есть из главных причин моей нетерпеливости. Я уже имел честь писать Вам в Петербург из Вазы, получили ль Вы письмо моё? Теперь ожидаю только позволения и тотчас отправлюсь — здесь делать нечего. Надеюсь скоро изустно принести моё глубочайшее почтение, с коим пребыть честь имею навсегда, милостивый государь дядюшка, покорнейший слуга
Николай Раевский.
Турецкая война 1810–1811 годы
1810,14 марта, Букарест
В коротких словах уведомляю Вас, милостивый государь дядюшка, что ожидание моё исполнилось, я с главнокомандующим на самой дружеской ноге, следственно буду в силах в виде сына Вашего (выразить) мою Вам благодарность. Я буду командовать особым корпусом. Силистрию осаждаем, Журжу блокируем. Сербы оставляются на произвол судьбы. Действовать будем левыми флангами. Всё идёт живо и пылко, дай Бог удачи. Дай Бог заключить мир, сохраняя завоевания, сей есть предмет двора нашего, — остальное Темиров на словах перескажет, он всему очевидец и всё знает. Извините, милостивый государь дядюшка, что пишу коротко. Темиров — живая грамота. Прощайте, будьте благополучны. Имею честь пребыть с глубочайшим почтением, милостивый государь дядюшка, покорнейший племянник
Николай Раевский.
6-го апреля, Букарест
Не стану повторять Вам, милостивый государь дядюшка, уверений, а на деле покажу, что я имею сердце благодарное: попечением о сыне Вашем, а моём брате я надеюсь ему быть полезен не по одной службе, но по молодости своей. Он имеет сердце доброе и чувства благородные, но всё зависеть будет от общества, в котором он случится. Постараюсь приобрести любовь его и доверенность и тогда уверен, что Вы, кроме утешения, ничего от него иметь не будете. Он желает быть в авангарде, и в том затруднения не будет. Генерал-майор Кульнев по дружбе своей ко мне возьмёт о нём попечение, и я буду о нём известен, как будто бы свидетель его поступков. Если я не писал о ста его червонцах, что Вы послали к князю Багратиону для него, я не забыл о них спросить и знаю, что они тогда же были отданы князю Трубецкому.
Теперь скажу Вам о наших действиях обстоятельно.
Визирь находится в Шумле, держит Базарджик по Дунаю и весь правый берег вверх, левый берег у них от Журжи вверх до Виддина. Визирь в небольшом уважении у войск, но Пегливан бывший бунтовщик, а двухбунчужный паша — храбрый, предприимчивый человек, имеет собственных разбойников тысяч до 15-ти. Визирь следует данным ему правилам, не подвергается в чистом поле, и посему хотя глупо, но укрепляется везде. Я полагаю, что он будет сидеть на дефилеях, а Пегливан будет против нас действовать, я уже теперь есть часть войск неприятельских у Туртукая, где назначена переправа корпусу Ланжерона и части корпуса Засса. Мы же все переправляемся в Гиргове. Уже у нас на той стороне действовали до 18-го числа.
Необыкновенно раннее разлитие Дуная может воспрепятствовать на сем пункте переправе остальных корпусов, тогда считаю, что мы переправляться будем в Измаиле, где во всякое время оное можно сделать с удобностью. План главнокомандующего есть тот, чтобы осадой Силистрии, которую будет закрывать главная армия, стараться выманить визиря на чистое поле. Корпус 20-батальонный пойдёт к Базарджику, и тогда визирь сделает движение, то будем стараться или совокупно атаковать его, или отрезать от гор. Если же визирь будет неподвижен, то пойдём к нему. Если он пойдёт через горы к Адрианополю, несмотря ни на что, мы пойдём за ним: нам необходимо нужно кончить здесь войну, и в три месяца всё должно решиться! Сербов оставляем на произвол судьбы. Я не опасаюсь неприятеля. Турки всё те же, но мы будем иметь недостаток в провианте, за которым Каменский не остановится. 2-й корпус действующий под командой старшего летами Каменского который беспримерно труслив и глуп. Флот наш нам не содействует, часть флотилии защищает вход в Дунай, другая идёт к Силистрии, три отряда блокируют Журжу и защищают малую и большую Валахию, резервный корпус в крепостях и Молдавии. Но теперь Вам скажу ещё обстоятельство: австрийцы желают Валахию, и у нас слухи таковы, что легко всё должно будет перемениться. В первых числах мая мы все будем за Дунаем, уже корпуса собираются к назначенным пунктам.
Граф Каменский принялся за нас, особливо за генералов, весьма строго, что необходимо было нужно. Вы знаете, милостивый государь дядюшка, что, кто выполняет долг свой от чистого сердца, тот строгости не боится, но большая часть из нас таковы, что, боясь опасения строгого взыскания, будут по-старому штукарить, ибо в прошлую войну против французов брали награждения не достойные одни, но хитрые и наглые, а наказывались безгласные. Каменский видел вред слабого командования — и пришлось круто: он в сутки едва два часа без дела бывает, все силы возможные употребляет на труды, в чём нельзя не отдать ему справедливости, и я не могу не удивляться, что он без опытности мог войти и обнять всё, как он сделал. Я всё описал Вам, милостивый государь дядюшка, что знаю, и, кажется, не упустил ничего. Я знаю, сколько должно быть Вам сие интересно, и впредь при всяком случае не оставлю уведомлять Вас. Теперь кончу принесением глубочайшего почтения, с коим пребыть честь имею, милостивый государь дядюшка, покорнейший слуга
Николай Раевский.
2 мая, Тернецы.
Из письма приложенного брата, Григория Александровича, Вы изволите увидеть, что уж он не в авангарде и как оное произошло. Я жалею, что он не при мне, что для того выгоднее бы было, хоть князь Трубецкой, конечно, будет иметь о нём попечение.
На письмо Ваше, милостивый государь дядюшка, о ссорах, которые из семьи нашей не переставали, скажу Вам, что мне чрезвычайно грустно, но нельзя мне не верить и Софье Алексеевне, потому что Александр Львович три или четыре года тому доказал, что он в состоянии забыть благопристойности и уважение, которыми обязан всякий человек женщине, особливо жене брата, который по летам в отцы им годится и перед ними виноват никогда не был. Легко можно огорчить одним словом человека, так что другой посторонний не приметит, и придраться к нему нельзя будет; все сие не помешало мне стараться быть ему полезну, равно и Василию Львовичу. Когда в них есть ещё искра совести, то ей и оставляю наказывать их.
Мне сказывали, что я назначен с корпусом идти к Туртукаю и обеспечить переправу генерала Засса. Если сие так выполнится, то я должен иметь дело с неприятелем. Когда что случится интересное, я непременно вас, милостивый государь, уведомлю. Через четыре дня мы движемся непременно. Я пользовался здешней стоянкой, маневрировал как здесь прилично, побригадно, а завтра всем корпусом буду. Вы не поверите, что из двух или трёх полков построить каре не умеют, хотя полки поодиночке весьма хороши.
Новостей у нас никаких нет, и я кончаю письмо принесением глубочайшего почтения, с коим пребыть честь имею, милостивый государь дядюшка, покорнейший племянник
Николай Раевский.
3 (мая)
Сейчас получил письмо Ваше, писанное с Темировки, и открываю моё, чтоб отвечать на оное. Вы слишком много приписываете, милостивый государь дядюшка, цены желанию моему быть полезну сыну Вашему. Сие столь натурально, чтобы воздавать добром за добро, и столь приятно, когда, как теперь, услуживать тем, кого любишь, что это, так сказать, делается из интересов. Я уверяю Вас в истинной моей Вам признательности и в дружбе к сыну Вашему. Не имел другого в виду, как успокоить Вас насчёт его. Если уже мне будет известно, что я употребляюсь в экспедицию, когда, поговорив с князем Трубецким, я выпрошу его к себе на сие время, потом перешлю его туда, где опять ему будет случай служить, теперь же должно до решения подождать.
Вчерась вечером получил я повеление идти в Гирсово, что оправдывает мне сказанное об экспедиции, мне назначенной, к Туртукаю. Ещё я думаю, что корпус мой будет усилен и кавалерией и пехотой. Там местоположение гористое и лесное. Весьма будет полезна мне сделанная кампания в Финляндии.
Посылаю письмо от Григория Александровича. Вы не пишете ничего о сестре Елене Александровне. Я надеюсь, что скоро Вас, милостивый государь дядюшка, поздравлю и надеюсь, что она будет благополучна.
7 июня, под Шумлой
Государю неугодно было, милостивый государь дядюшка, чтобы брат Александр Львович оправдал себя службой в несправедливом на него его угнетении. Он уважает, хотя уговаривал я его подождать пять дней, ибо если мир не заключат, то 11-го сего месяца атакуем Шумлу, если опять не найдёт граф Каменский предлог отложить оное. Брат Александр перескажет Вам изустно всё, что и как здесь делается. Вы верьте, что он Вам лишнего не скажет, а может, ещё не всё объяснит во всей красоте. Трусости, глупости в диспозициях и во всех военных распоряжениях несчётны. Теперь не то, что в Букаресте, — под носом у неприятеля. Турки нигде не дерутся, а мы их боимся, армия исполнена духом, а начальник и духом и телом трус и нерешим. Силистрия капитулировала для нас постыдным образом, а в ней 400 человек было военных и около двух тысяч вооружённых жителей, которые не слушали паши своего. Крепости нет… в иных местах переехать можно на доброй лошади, к тому бастионов нет и фасы не защищены батареями, — словом, её и ретраншементом назвать нельзя. Вот, милостивый государь дядюшка, как мы воюем и как заслуживаются великие репутации. Несчастливее всего что доверенность будет большая и, может, что в таком случае спохватятся, но поздно. А между тем истинно доброжелательствующие государю и отечеству… что отымаются способы показать им их усердие. Меня за Силистрию представили к бриллиантовой шпаге, а я и темляка не заслужил, и К. думает доставлять даром отличия, не награждает честного человека, который желает отличиться действительно, и даёт всё своему брату, который ему и в подошвы не годится. Вот, милостивый государь дядюшка, маленькая картина нашего положения и моего душевного.
Сын Ваш теперь при мне, я не намерен подвергать, как он сам оное делал в прошлую кампанию, но, однако ж, не отдалять от службы и опасности. Впрочем, должно ожидать скорого конца, и я надеюсь Вас, милостивый государь дядюшка, видеть здоровым. Имею честь пребыть с глубочайшим почтением покорнейшим
Н. Раевский.
23 (июня), Силистрия
Письмо сие назначено было, милостивый государь дядюшка, к отправлению с братом Александром, который поехал из Шумлы в такое время, что мы были отдалены от обозов. Дней десять после его отправления назначен я гр. Каменским в резервный корпус на смену г. — лейтенанту Олсуфиеву, которому, говорит, он причинил невольно неудовольствие и желает оное сколь возможно загладить. Обстоятельно ж дела мои, милостивый государь дядюшка, жена моя пересказать Вам может, ибо я к ней пишу все обстоятельства.
Гр. Григорий Александрович, чувствуя слабость и боль в груди, просился со мной. Я, не предвидя ничего хорошего для него под Шумлой, на оное тем легче согласился, что от воли Вашей будет зависеть возвратить его опять в действующую армию или просить по болезни в отпуск, о чём я при отъезде моего главнокомандующего предварил. На всё буду ожидать Вашего разрешения. Он представлен к золотой шпаге за храбрость.
Вдобавок к тому, что случилось до отъезда брата Александра Львовича и что он верно пересказал, уведомляю Вас, милостивый государь дядюшка, что мы заняли лагерь со всей армией против Шумлы вне выстрела, на плоскости, дорога в Царь-Град открыта, но не занята. Стояли до сего времени бездейственно с обеих сторон, и важного я ничего не предвижу. Неприятель может горами получить фураж и провиант, а большая дорога, если придёт сикурс знающий и сделает внезапное нападение, то может быть худо, ибо мы никаких предосторожностей не имеем. Разве недостаток хлеба принудит визиря оставить город, иначе ж я ничего предвидеть доброго не могу. Но и тут мира ожидать нельзя.
Вот Вам краткое описание дел наших. Я написал к жене моей, чтоб она ко мне приехала. Не оставьте её, милостивый государь, в нуждах её, у неё может быть недостаток в экипаже, который могу я тотчас Вам обратно возвратить. Добровольского я думаю некоторое время придержать и прислать к Вам с чем-нибудь интересным. Имею честь пребыть с глубочайшим почтением, милостивый государь дядюшка, покорнейший племянник
Николай Раевский.
2 июля, Яссы
Вы уже известны, милостивый государь дядюшка, через посланного офицера о всём со мной случившемся и о том, что я с братом Григорием Александровичем оставил Яссы. Насчёт его я не знал Вашего намерения и сделал с оным согласно. У него от невоздержанности возобновилась лихорадка, от которой здесь мы его избавим, и сберегать его буду от вторичной таковой шалости. Письма Вашего к главнокомандующему я не послал, считая его уже лишним; когда же Вы рассудите взять его к себе, то я могу отсюдова писать и уверен, что мне в сём не откажут. Лихорадка была два раза через день. Он здоровее меня гораздо и теперь бегает по городу. Через немного дней ожидаю я семью мою. Счастливым бы счёл себя, если бы Вы вздумали сюда завернуть, — мы бы Вас на руках носили.
Из Шумлы нового ничего нет. Говорят об австрийцах, будто уж они делают нам запросы насчёт Молдавии и Валахии. С турками ждать мира нельзя, ибо они не могут заплатить 20 000 000 пиастров, от них требуемых, хотя по Дунай отдать согласны, даже и на независимость Сербии согласятся. Не знаю, опробуете ли Вы, милостивый государь дядюшка, моё намерение: я ожидаю, что меня опять потребуют в армию, но я скажусь больным, разве дела наши будут очень худы; хорошего я ничего не ожидаю; на сие прошу Вашего совета. Будьте здоровы и благополучны, имею честь пребыть с глубочайшим почтением, милостивый государь дядюшка, покорнейший племянник
Николай Раевский.
6 июля, Яссы
Чем более узнаю сына Вашего, милостивый государь дядюшка, тем более люблю его и открываю в нём душевные качества. Хотя война продолжается, но я не совсем жалею, что я с ним в Яссах. Во-первых, мне при Каменском нельзя было надеяться дойти до моего предмета, ибо он путь мне к оному преградил, а для Григория Александровича нечего ожидать хорошего, потому что я ничего хорошего ни для кого не предвижу. Здесь были слухи весьма дурные насчёт армии, но, к удовольствию, вчерась приехал курьер, который уничтожил оные. Известно, однако ж, что в Шумлу прошло 10 000 турок, только не знаю, горами ли они пробрались или из Царя-Града, только знаю, что днём было сражение и, сколько могу я понимать, так что сделанной вылазкой Али-паша сикурс ввёл свободно в Шумлу; взято у неприятеля знамя, и, говорят, побили до 200 человек, а в реляции будет нулей больше. Сие доказывает, что они провиантом не нуждаются, на что надеяться можно было, и теперь ещё меньше ожидаю я успехов.
Я опять приступлю к Вам, милостивый государь дядюшка, с просьбой — приезжайте в Яссы. Вы найдёте здесь все удовольствия, уважение и любовь, потом общество прекрасных женщин. Здесь бывшая Лермонтова, что ныне графиня Палён, здесь прекрасная докторша с сестрой, Монтрезор с женой и прекрасной племянницей, В. Иван. Милашевич с женой, брат его Андрей с женой — вот Вам и бостон. Стол и вина хорошие, фрукты Вам известны, а со мной во дворце три большие особые великолепные комнаты. Жаль В. Ивановича: он, говорят, более трёх месяцев от чахотки прожить не может. Я желал бы иметь его место, что совершенно прилично военному человеку. Когда бы вместо Москвы предложили б мне здесь военное и гражданское губернаторство, я бы не отказался.
У Григория Александровича лихорадка кончилась. Он бы выехал к Вам на встречу. Елены Александровны в Смеле нет. Здесь Вы найдёте сына и любящего Вас как отца — племянника.
Имею честь пребыть с глубочайшим почтением, милостивый государь дядюшка, почтительнейший племянник
Николаи Раевский.
10 июля, Яссы
Вчерась получил письмо Ваше, милостивый государь дядюшка, с Софьей Алексеевной. Будьте уверены, что как мне ни приятна дружба гр. Григория Александровича, но я никак не согласился б, что б он пожертвовал чем-нибудь для моего удовольствия. Он ещё прежде моей истории просил меня найти ему случай отъехать из армии по причине грудной болезни, которую он давно чувствует, и здешние доктора запрещают ему службу. Дорогой получил было он лихорадку, которая, однако ж, прошла. Ему нужен покой. Будьте уверены, милостивый государь дядюшка, что я очень далёк от того, чтобы согласиться на отдаление его от службы, но теперь я, как и прежде писал к Вам, буду (ждать) решения Вашего: дожидаться ему здесь конца кампании или просить позволения по болезни отъехать, чего иначе он не может получить, как прямо в Петербург, к полку. К тому ж и дорогу дальнюю предпринимать ему должно с осторожностью. Он, как будто форсированное растение, выбежал чрез меру и слаб, то нужно ему укрепиться. Уведомьте, милостивый государь дядюшка, что Вы прикажете, я то исполню.
Вчерась приехавший курьер унтер-офицер сказывал, что граф Каменский идёт к Рущуку, оставив брата обсервировать Шумлу, и подорожная написана: лагерь 8 вёрст от Шумлы. Я Вам и прежде сказывал, что кампания тем и кончилась. Рущук осады не выдержит, потому что наполнен деревянными строениями. Разве визирь придёт оной препятствовать, чего нельзя будет сделать, не разбив Каменского 2-го. Ещё сказывают, что государь писал, чтоб непременно сделать мир. Как Вы видите, милостивый государь дядюшка, готовится что-нибудь другое. В рассуждении меня скажу Вам, милостивый государь дядюшка, что я весьма далёк от того, чтоб огорчаться. Каменский в Финляндии то же со мной сделал: откомандировал в Вазу, но встретил неприятеля, который, несмотря на то что был разбит в Куортапе, остановился при Оравайсе, тотчас послал за мной, и я хотя с полками 55 вёрст сделал в 20 часов, но не мог поспеть к сражению Оравайс — ибо я не успел ещё отойти пять вёрст, как услышал начало оного, — действовать (было) никак нельзя, потому что 500 человек собрать не могу, а все войска на бумаге и по крепостям; а там мне осталось дожидаться конца кампании и перемене обстоятельств, ибо мне ни с Буксгевденом, ни с Каменским служить нельзя, с Кутузовым же и никому служить небезопасно, хотя, по моему мнению, он более других имеет способность командовать. Я ожидаю, что если мира не заключать, то и здесь будет перемена, а не употребят ли Барклая-де-Толли? Вы, может быть, подумаете, что личное моё неудовольствие заставляет нам сие говорить, но верьте, что я ничего не прибавляю и мой брат Александр свидетель. Нельзя, чтоб его недостатки не открылись в Петербурге. Коляску Вашу возвращая, приношу мою всенижайшую благодарность. Григория Александровича коляска здесь, а жена моя может воспользоваться моим дормезом, когда в нём нужда будет. Я всё не отчаиваюсь, что Вы на мою просьбу согласитесь — посетить нас, (тогда) Вам будет весело, а время Вам теперь, я думаю, свободно.
Имею честь пребыть с глубочайшим почтением, милостивый государь дядюшка, покорнейший племянник
Николай Раевский.
11 июля
Вчерась получил письмо Ваше, милостивый государь дядюшка, с Фабрицием, в котором Вы уговаривали меня не огорчаться, а по любви Вашей ко мне Вы сами принимаете к сердцу, считая, что я за Силистрию не получил награждение. Когда бы в действительности так было, я за награждение никогда обижаться не буду, по вчерашний день получил я высочайший рескрипт на бриллиантовую шпагу, сверх того и сын мой должен быть произведён офицером, ибо все представленные 18 человек к производству в оные поступили. Под Силистрией никто ничего не делал, кроме Гартинга, инженерного генерала, который достоин по его незнанию быть разжалован. Под Шумлой, кроме лёгкой перестрелки, ничего не было, и то под командой князя Трубецкого, а награждения всем страшные. Я, будучи совершенно противник сему правилу, пишу Вам истину, что всё час от часа в службе упадает и всё потеряло свою цену, — выдумывают сражения, описывают их пышно и рекомендуют, а сие делается для пользы главного командира.
Армия от Шумлы отступила, — я сие знаю формально, — а была в 12 вёрстах. Гр. Каменский идёт к Рущуку, а брата оставляет обсервировать Шумлу. Вы пишете, милостивый государь дядюшка, что дела идут на попятный двор. Когда Рущук не испугается бомб, то и тогда не возьмут в присутствии главнокомандующего. Когда же дадут волю Зассу, то он будет взят, а М. Каменский наверно отступит от Шумлы, когда турки хоть немного его будут тревожить.
Я послал за меньшими дочерьми моими, буду с ними (ждать) приказания вашего насчёт Григория Александровича, буду ожидать Вас самих, милостивый государь дядюшка, с большой нетерпеливостью, засим пребыть имею честь с глубочайшим почтением покорнейший племянник
Николай Раевский.
Храбрый племянник Ивкова егерский капитан умер горячкой после трёхдневной болезни.
21 июля, Яссы
На письма Ваши, милостивый государь дядюшка, я буду отвечать строка за строку, потому прошу извинить, если не всегда будет связно, зато будет аккуратно.
Григорий Александрович с приезда своего имел здесь два раза лихорадку, и в два раза её от него отымали, и теперь он опять здоров, но, как и прежде, я имел честь писать Вам, главная его болезнь — грудь, которую нужно укрепить в спокойной жизни. Впрочем, не сочтите его уже больным грудью, но сие нужно для предупреждения болезни, могущей последовать; когда же Вы рассудите его взять к себе, то извольте только уведомить, я напишу к главнокомандующему, его отпустят для излечения из полка, а он по болезни может пробыть у Вас несколько времени в Смеле. В армию ж к нам отправить не советую, ибо ему небезопасно жить в палатке осенью на сырости и быть в походах под ветром и дождём. На совет Ваш, милостивый государь дядюшка, который по просьбе моей Вы ко мне пишете и который… Вам любовью Вашей ко мне и рассудком, скажу, что во всём оном буду следовать, и если дела пойдут не так хорошо, то думаю, что пришлют и за мной. Здесь нынче вышел у молдаван слух, что Рущук сдался. Если это правда, то и кампания кончится, ибо делать нечего будет, как стоять за Дунаем. Григорий Александрович, бывши ещё у князя Трубецкого, играл с Осиповым и что-то выиграл в долг и сей долг в счёт не ставит. Уманцев выдал раза два его играющего в банк — такую игру, на которую два или три червонца выиграть можно. Оплошности ж в нём в игре никогда не замечал, а если б и заметил, то постарался бы от ней ответить убеждением, приводя примеры в доказательство. Коляска его оставалась в Букаресте, и теперь брат Василий в ней отправляется. Он, как молодой человек, нерасчётлив на деньги. Признаюсь Вам, милостивый государь дядюшка, что в его лета легче сие простить, чем излишнюю расчётливость, которая близка к скупости. А главные его расходы на конфеты и лакомства, — он же любит угощать. В деньгах же ему недостатка не будет, пока будет жить со мной, ибо такую сумму, какая ему нужна, всегда достать могу. Вот, милостивый государь дядюшка, всё, что я имею сказать насчёт сына Вашего.
Теперь скажу кое-что о военных действиях. Генерал-лейтенант Засс за сутки до прихода главнокомандующего хотел сорвать укрепление пред Рущуком и, потеряв до 600 человек, не успел в своём намерении, и полковник взят на валу в плен. Флотилия, проходя мимо укреплённого острова, что между Рущуком и Журжево, потеряла пять лодок, кои взяты со всеми людьми и офицерами неприятелем — всего более 200 человек. Мудрено для меня будет, чтобы командующий паша в Рущуке сдал его, ибо он второй Пегливан; разве жители, кои все богатейшие купцы, к тому его принудили. Журжа упадёт сама собой, а нам за Дунай идти, кажется, более некуда; под Шумлой было сражение небольшое с отрядом Ланжерона. Неприятель ничего не мог сделать и отошёл. Вот вам, милостивый государь дядюшка, кое-что военное и семейное, теперь заключу принесением моего всенижайшего почтения, с коим пребыть честь имею, милостивый государь дядюшка, преданный племянник
Николай Раевский.
22 июля, Яссы
Сейчас отправил по приказанию Вашему, милостивый государь дядюшка, курьера Вашего к графу Каменскому. Я писал к господину, чтоб ему объяснить, что как Вы желаете, чтобы сын Ваш после малейшего облегчения возвратился, чтобы сие сделано было приватно, то есть, словесным позволением, я надеюсь, что сие так и исполнится. Рущук всё ещё не сдан. Князь Трубецкой по болезни приехал в Букарест — вот в чём состоят здешние новости. Имею честь пребыть с глубочайшим почтением, милостивый государь дядюшка, покорнейший племянник
Николай Раевский.
Я готовлю для Вас шесть бочек вина и для того прошу отправить немедленно вместе с матушкой шесть воловьих подвод, кроме же сего Вам оное не станет ни копейки и будет самое лучшее. Подводы нужны немедленно к 1 сентябрю.
1 августа, Яссы
Третьего дня получил письмо от Закревского в ответ на моё о сыне Вашем, другое о Фабриции, об одном драгунском офицере. Но Ваш курьер, посланный для сего, ещё не возвратился, видно, дожидается отправления Григория Александровича. Кой час придёт, отправлю и сына Вашего. Ему с неделю, как стало лучше. Берегите, милостивый государь дядюшка, грудь его, чтоб он не делал лишнего моциона и берёгся бы простуды.
22-го штурмовали Рущук, но несчастливо. 7000 человек убито и ранено. Более 300 офицеров и несколько генерал-майоров; обстоятельно перескажет граф Григорий Александрович. Волонтёров пустили на штурм только двух, один убит, другой ранен.
Посылаю Вам, милостивый государь дядюшка, для смеха письмо Дениса Давыдова и копию портрета князя Потёмкина, принцем де Линём выписанного из напечатанной его корреспонденции, которой в России нет.
Больше писать ничего не имею. Войска всё также под Рущуком и под Шумлой, то есть в 20 уже вёрстах, отошли от последней ещё 10 вёрст, несмотря на славную победу, Сергеем Михайловичем над визирем одержанную. Имею честь пребыть с глубочайшим почтением, милостивый государь дядюшка, покорнейший племянник
Николай Раевский.
1 августа, Яссы
Сегодня получил с детьми письмо Ваше, милостивый государь дядюшка. В четверг отправится Григорий Александрович, я его удерживаю для того, что нынче у него во время обеда пришла слабая лихорадка. Берегите его от простуды, не позволяйте ему мороженого, которого он великий охотник, лихорадка его ничего не значит, а беречь должно грудь его, ибо с ним недавно было, что он кашлял кровью, но кровью чистой, следствие сие безопасно, о чём Вы можете спросить у докторов. Ему по его молодости поберечься нужно год или два, он будет крепок и здоров, Вы можете быть уверены, что, когда бы он теперь имел болезнь серьёзную, я б сам сего не написал, но уведомляю только для того, чтоб Вы предупредили оную присмотром строгим, ибо он не выдержан, как ребёнок. Не позволяйте ему ездить с собаками верхом и никакого сильного… и при воздержанной (жизни) он будет совершенно здоров. Имею честь пребыть с глубочайшим почтением, милостивый государь дядюшка, покорнейший племянник
Николай Раевский.
О Рущуке слух был пустой, наши отбиты. В другом письме моём увидите обстоятельства.
4 августа, четверг, Яссы
Отправляя по приказанию Вашему, милостивый государь дядюшка, сына Вашего, не могу не признаться, что мне надобно привыкать к его отсутствию, поберегите его несколько времени. Служба от него не уйдёт, дайте ему укрепиться, а время сие не потеряно будет, когда он у Вас и будет читать то, что касается до ремесла его. Вчерась у него была опять лихорадка, но слабая, посылаю рецепт лекарства его употребляемого, один день принимать, и, наверно, от оной. Здешние болезни общим правилом лечить весной. Более теперь писать ничего не имею, кроме принесения глубочайшего почтения, с коим пребыть имею честь, милостивый государь дядюшка, покорнейший племянник
Николай Раевский.
23 августа, Яссы
Податель сего Денис Давыдов очевидец всему, и очевидец не молчаливый, перескажет Вам, милостивый государь дядюшка, о концах военных действий прошлых и настоящих, я же скажу только, чего и опасаюсь вперёд. Неприятель весьма усилился и приблизился к Рущуку, боюсь не только чтоб не сняли осады, но ещё чего-нибудь хуже. Дай Бог, чтоб недостаток провианта заставил Рущук сдаться.
Я живу в Яссах по-прежнему и не скучаю, ожидаю, что будет в Петербурге. Тамошние обстоятельства, может, Вам известны, я ж получить о них сведения надеюсь чрез моего адъютанта. Известно только мне, что о штурме не говорят, а сказывают, будто была вылазка. Каков Григорий Александрович, какой Вы сами? Будьте здоровы и благополучны. Имею честь пребыть с глубочайшим почтением, милостивый государь дядюшка, покорнейший племянник
Николай Раевский.
31-го
P.S. Сейчас получил известие, что сераскир, который приходил освободить Рущук, разбит и убит, взято 5000 пленных, 3-бунчужный паша, 14 пушек и 176 знамён. Должно ожидать ежечасно падения Рущука и Журжи. Денис Давыдов занемог жабой, но ему теперь уже легче. Но посему письмо сие продержано до сего числа.
Турецкая война 1811 год
8 января, Яссы
Не стану повторять причины, по коим не могу приехать в Киев, ибо жена моя Вам, милостивый государь дядюшка, их перескажет. К тому же, будучи здесь, я имею надежду продать выгодно вино, что уже отчасти сделал. Григорий Александрович здоров, но влюблён. Не выносите на меня. Здесь есть полька, жена графа Каховского — лейб-гусарский офицер, адъютант князя Суворова. Хотя брат мне не делал никакой конфиденции, но мне сие известно. Он сегодня едет. Вы извольте узнать от него о ясской жизни и дурачествах. В армии собираются делать экспедицию, как я думаю, на Тырново, но турки должны быть предупреждены, ибо все волохи о сём известны. Сумневаюсь в успехе, который если иметь будем, то не менее бесполезен, а неудача быть может вредна, даже в движении расстроенных совершенно полков, а изнурение их немалое приносит зло. Теперь уж буду я Вас, милостивый государь батюшка, просить уведомления о Петербурге, отколь должны иметь приезжих. Затем желаю Вам кончить контракты по желанию Вашему, быть весёлым и здоровым. С глубочайшим почтением пребыть имею честь, милостивый государь дядюшка, покорный племянник
Н. Раевский.
27 февраля, Яссы
Милостивый государь дядюшка!
С 12-го сего месяца ожидал ежедневно жены моей, не отправлял я нарочного, с которым полагал уведомить Вас о здешних обстоятельствах. Каменский ещё жив, но сомнительно, чтобы долго протянулся. Пять дивизий выходят отсюда на границу Галации и далее, в том числе и моя, которая пока следует до Хотина, там будет командовать, как кажется, Барклай-де-Толь. Брату Григорию Александровичу остаётся, как я думаю, ехать в Петербург, о чём нужно будет Вам, милостивый государь, переписаться. С австрийцами у нас ладно, и если мы круто приступим к полякам, чем должно начать, то они и пруссаки к нам пристанут. Вот последние известия наши из Петербурга. Вы, может, знаете больше, но я нелишним почитаю Вас уведомить. Ожидают, Кочубей будет на месте Румянцева. Я здесь ожидаю жены моей и к 13 марта буду в Хотине, письма ж Вас прошу адресовать на Каменец-Подольск…
Николай Раевский.
24 июня, Киев
Вчерась был я, милостивый государь дядюшка, у Милорадовича. Он был болен, в постеле, я ничего ему не говорил о деле по сей причине, а всячески за ним волочился. Нынче был ещё, он уже не гневался, прочёл письмо Ваше и данное право, почему согласился, что мужики суть подданные. Он ничего против Вас не сделает и хочет даже сам побывать у Вас. Буде Вы чего-нибудь от него желаете, то через некоторое время пишите к нему через меня под открытой печатью. Он человек честный, простой и смешной до приятности, но услужливый чрезвычайно. Вот, милостивый государь, всё, что касалось до дела Вашего. Мейендорф приехал из Парижа в моё отсутствие, он сказывал, что французы оставляют Гишпанию совсем. Бонапарте поставляет причиной обстоятельства политические, требующие его войска на севере Франции. Все, говорит он, приметили в нём большую перемену моральную, он стал нерешительным, и всякое известие приводит его в замешательство, хулит его войска и говорит, что все его ненавидят. Я только что возвратился. Не советую предпринимать вояж Ваш в Николаев, от жаров он будет Вам несносен. Прошу покорнейше доставить верно и немедленно писание моё к матушке. Затем с глубоким почтением пребыть честь имею, милостивый государь дядюшка, покорный племянник
Н. Раевский.
4 июля, Киев
Сейчас уехал от меня Уваров в деревню, а потом в Молдавию. Видно, ему в столице худо и по тону его, и по предприятию.
О Молдавии же я имею известия свежие, кои суть следующие. Турки в довольных силах в Разграде, на дороге от Рущука к Шумле и показались в Сербии и в разорённой Силистрии. Слышал я, что Кутузов послал государю картину сил его, способов его, что, по мнению его, неприятель предпринять может и что он против него делать будет, донеся что в его положении он никакой ответственности на себя не берёт, то есть он просит войска, ибо хотя под его командой состоят дивизия 9-я в Яссах, 15-я на дороге к Хотину, 2-я гренадерская по обе стороны Днестра близ Хотина, 18-я в Каменце и 12-я в Могилёве, но это только на бумаге и трогать оные без позволения не смеет. Вот обстоятельства Молдавии. Прошу Вас, милостивый государь дядюшка, прилагаемое письмо с нужными квитанциями доставить в Балопышку, оттудова, надеюсь, что Вы приказали по письму моему взять Вашу коляску…
Николай Раевский.
18 августа, Киев
Полки моей дивизии подвинулись вперёд; моя квартира переводится в Радомысль. На моё место из Молдавии 12-я дивизия, 24-я и 7-я тоже передвинулись. Я через несколько дней еду в Полтавскую губернию, в Ромны, для осмотра моего рекрутского депо и оттоль в Смелу прямо… Турки на нашей стороне Дуная, в Малой Валахии, 15-я и 19-я дивизии пошли с Днестра к Кутузову. Простите, что нескладно и не чётко пишу: сейчас с пожара, устал до смерти. Спасением Вашего дома обязаны мне, моему адъютанту, караулу и собственным людям, ибо мои люди, поливая дом, друг друга поливали, для того что горячо было стоять.
Бердичев горит, Остров горит и многие другие местечки, а нынче слышал то же про Дубно…
Николай Раевский.
31 августа, Каменка
В ту минуту, как я приехал сюда, не мог я с посланным матушки писать к Вам, милостивый государь дядюшка, и уведомить о известии, полученном от князя Багратиона. Он назвался главнокомандующим корпусом Докторова и тремя дивизиями, а как сия армия называться будет, не знаю. Он уже теперь должен быть в Киеве, о чём он ко мне пишет, как и о том, что остановится у меня, полагая, что я в Киеве, а я уже переведён в Радомысль. Главная квартира будет в Житомире. Через два дня буду иметь честь лично принести моё глубочайшее почтение, милостивый государь дядюшка,
Николай Раевский.
7 сентября, Киев
Неожиданно нашёл я, милостивый государь дядюшка, князя Багратиона у графини Браницкой. Елена Александровна сказала что он обещал взять Григория Александровича в адъютанты. Я ему ничего о себе не говорил, считая, что при первой встрече это будет неприлично, а на днях, будучи в Житомире, ему напомню. Ланжерон произведён генералом от инфантерии. Докторов, говорят, посылается в Молдавию, — будто Кутузов по слабости своего зрения просил помощника. Великий Злотницкий вчерась приехал в Киев, через два дня едет в Радомысль. Милорадович в Киеве в двухдневное пребывание Багратиона с ним не видался, а съехался неожиданно в Белой Церкви. Ещё слух здесь, что Беннигсен будет командовать правым флангом армии…
Николай Раевский.
27 сентября, Радомысль
Вы уже должны знать, милостивый государь дядюшка, от жены моей, что я теперь один остался с детьми, что препятствует мне тотчас ехать к Вам в Киев; кой же час она возвратится, то немедленно к Вам приеду, а Вам ещё… до выборов далеко и делать нечего, можно б и прежде оные по обещанию Вашему пожаловать к нам. Я ждал к себе к ночи Багратиона, но он поехал в Каменец. Езда его продлится дня три или четыре. На сих днях приезжал его брат из Молдавии и сказывал следующее: что турки переправились через Дунай в Малой Валахии в 2 местах и подле Журжи в пяти вёрстах от Кутузова, который не только что не знал, но они успели укрепиться в числе 13 тысяч; что посылали открывать их роту, потом батальон, потом два полка, что все сии предприятия кончились потерей с нашей стороны одного знамя и одной пушки — итого две. О визире не знают, где он, и посему ожидать можно, что, застав нас тут, может ещё где переправиться и сделать покушение, может, и не принять крепости без гарнизонов! Для меня Кутузов загадка, лукав, знающ, опытен и поступает, как ученик. В Киеве, может быть, сих приключений не знают, я ж никому не говорил. Не (называйте?), милостивый государь, меня на Багратиона…
Николай Раевский.
Отечественная война 1812 год
(Письма, относящиеся к 25 февраля, 12 апреля и 28 мая, см. в четвёртой части книги).
5 июля, Бобруйск
От Слуцка я отражён был с 25 тысячами идти день и ночь к Бобруйску, куда пришёл сего утра, а в одну ночь на походе среди марша встретил я курьера Вашего, и он Вам, милостивый государь дядюшка, сам перескажет, почему не мог я участвовать в том, что и без меня князь для нас сделал. Что теперь предпринять, не знаю. Я назначен опять ехать день и ночь с корпусом на подводах, — закрыть Могилёв. Но неподвижность неприятеля, как я думаю, переменит сей паллиатив[39]. Лучший способ закрыть себя от неприятеля есть — разбить его. Говорят, что 1-я армия в движении вперёд. Говорят, что три полка кавалерийских баварских передались к нам. Говорят, что немцы-гесинцы взбунтовались, что англичанцы и гишпанцы сделали где-то десант и что он сам поскакал во Францию. Но всё это говорят. И я ничему не верю. Ермолов Алексей Петрович — знаток большой армии. Все сему рады. Он в ежеминутном сношении с государем и робких советов подавать не будет. А наш француз не совсем большой головы. Если все три армии теперь искусно двинутся вперёд, то французы могут быть разделены по частям, ибо они также разделились, надеясь на робость нашу, и легко прервать их соединение. Матушка ко мне не пишет, Вы чаще хотя и пишете, но о жене моей ни слова, почему полагаю её в Одессе. Скажу о брате Петре, что он с гусарами везде лихо отличается, и где наши с неприятелем встречаются, то везде их положат…
Я здоров, только устал до крайности. В три дня 135 вёрст сделал с войсками тяжело…
23 (октября), Вязьма
Заглавие письма моего, милостивый государь дядюшка, обрадует Вас. Неприятель бежит. Мы его преследуем казаками и делаем золотой мост. Вот как всё происходит и происходило. После сражения 6-го сего месяца через два дня явился неприятель в Боровск, что на Калужской дороге в Москву, который с нами на одной высоте. А известие сие получено чрез Мусинов-Боровских. Мы тотчас пошли на Малый Ярославец, который занятым нашли неприятелем. Докторов и я атаковали город, восемь раз мы их выгоняли, и к вечеру половина города осталась за нами. По сие время ещё не решено, маскировал ли он своё отступление или действительно хотел следовать через Калугу, только скажу, что сей день стоит как около шести тысяч и неприятелю по крайней мере столько же. Я имел против себя итальянскую гвардию. После сего тщетного покушения неприятель пошёл на Можайск и Вязьму и, как кажется, пойдёт на Витебск и так далее за границу. Казаки его преследуют кругом. Французы мрут с голоду, подрывают ящики, и с 12-го мы имеем их до шестидесяти пушек, и великий Наполеон сделал набег на Россию, не разочтя способов, потерял свою славу, бежит как заяц. Граф Витгенштейн соединился с Штейнгелем, выгнал врагов из Полоцка, взяв две тысячи в плен и одну пушку. Чичагов, не знаю зачем, послал отряд в Варшаву, другой за Вильну, а сам одиннадцатого сего месяца был ещё в Бресте. Николай Чудотворец великий генерал, с помощью его мужики более чем войска победили французов. Наполеон считал на мир со взятием Москвы и на возмущение, но в расчётах своих ошибся. Австрия за нас, и буде она нам поможет, ибо и вся полоцкая земля подымется; можно считать, что настал перелом счастью Бонапарта. Русский Бог велик!
Мы все здоровы, брат Пётр в отряде у Милорадовича, потому не пишет. Мы все веселы, холода, голода не чувствуем. Всё ожило. Злодей наш, который осквернил и ограбил храмы Божьи, едва уносит ноги свои. Дороги устланы мёртвыми людьми и лошадьми его. Идёт день и ночь при свете пожаров, ибо он жжёт всё, что встречает на ходу своём, за то и мы хорошо ему платим, ибо пленных почти не берём, разве одни регулярные войска. Прощайте, будьте благополучны.
28 октября, близ Ельны
Я уже совсем готовился отправить Филиппа к Вам, милостивый государь дядюшка, как возвратился курьер мой с Вашим письмом. Как я командую авангардом армии, от коей теперь в 12 вёрстах, то мне нельзя самому отлучиться для выполнения комиссий Ваших у Михаила Ларионовича, а для сего посылаю М.Г., который оттуда отправлял моего курьера и напишет обо всём обстоятельно. Неприятель идёт на Смоленск, а потом, пленные говорят, на Вильну, мы пропустили случай отрезать всю армию. Задний корпус, состоящий из 30 т., в Вязьме, а теперь он уже впереди, и остаётся только казакам, холоду и голоду за нас воевать. Более писать теперь не имею и некогда.
20 ноября, Борисов
Русский Бог велик! Писали Вы мне один раз, милостивый государь дядюшка. Никогда не видели мы столько Его могущества! Великий Наполеон как школьник бежит, потеряв всю армию. Брат Василий на словах Вам лучше перескажет и наши великие дела, и Наполеоновы, Вы увидите руку Божию, которая нагнала слепоту на злодеев наших. Жажду видеть и обнять Вас, что может скоро сбыться. Я теперь ни о чём не распространяюсь. Брат Василий — живая грамота.
10 декабря, Вильна
Начну я, милостивый государь дядюшка, описанием обстоятельств и движений.
Первая и вторая армии, не считая Чичагова, Эртеля, Витгенштейна, не имеют более 30 тысяч, что удержало фельдмаршала следовать в герцогство Варшавское. Докторов с бывшим корпусом Эртеля и с частью, принадлежащей к первой армии, и Сакена корпус, который к нему присоединится, послан против Шварценберга, который ретируется в герцогство Варшавское. Наполеоновы остатки должны быть в Пруссии. Вышло их, я думаю, менее 10 тысяч. Макдональд недавно ещё был под Ригой, потому что не знал обстоятельств Наполеоновых. Туда пошёл Витгенштейн дабы его отрезать. Платов — по пятам французов, коих прусские жители бьют, как били их наши мужики.
Итак, Россия освобождена от неприятеля. Что будут делать австрийцы и пруссаки — увидим. Кажется, на будущий год кампании не будет. Русский Бог велик!..
Случай прекрасный отнять всё забранное у Наполеона. Боюсь глупости и радости австрийского императора. Бонапарт много сделал вреда России, а помещикам много пользы, ибо теперь уже не должны опасаться его внушений в народе, который его проклинает. Дорого заплатил он за ошибки свои! И ошибки его не есть ошибки великого воина! Теперь нам бывшие силы его известны, и должны признаться, что единственный способ был победить его изнурением и завлечением его внутрь России, что мы все прежде осуждали. Под Смоленском имел он под ружьём, что доказано бумагами, у них взятыми, 220 т. человек. Перешёл он границу, имея под ружьём 350 т., вышел же он с 8 т. Он надеялся, что, подобно как Австрия и Пруссия, будет ему земля повиноваться и найдёт продовольствие, считая испугать взятием Москвы и заключить мир, полагая возмутить народ, и не умел удержать войска от неистовства или, лучше сказать, не смог! Он в средине своей армии всякую минуту боится не только ослушания, но и смерти. Он употребляет всевозможные обманы, чтобы удержать её в повиновении. Вот состояние сего врага рода человеческого! Кто его протёкшей славе позавидует! Ещё побеждать можно, но он давит числом превосходным, людей не считает ни за что… Он триста офицеров своих раненых подорвал в Смоленске и множество солдат. Я спрашивал князя о бюсте государыни, он сказал что Бонапарт взял его с собой, но сие неверно. Если взял, то, верно, не вывез, ибо он уехал уже из-под Вильны, брося армию, в трёх каретах с 50 человеками конвоя, больше конных не имеет и ни одной пушки, ни повозки при армии.
13 декабря
Государь приехал 10-го нечаянно. Я ему вчера представлялся и потом обедал у Кутузова-Смоленского, который представил ему дело под Красным как генеральное сражение, почему получил 1-го Георгия, Тормасов — Андрея, Милорадович — 2-го Георгия. Как сии дела происходили под мнимым начальством последнего и узнали о его неудовольствии, побоявшись, чтоб он не высказал государю, то надели на него 1-го Владимира. А о нашей братии слуха нет, но приятно мне то, что сам великий князь вызвался взять моего сына в гвардию, а как предмет моей службы есть польза детей моих, то я других претензий не имею, как чтоб награды шли на семью мою. Мы, говорят, едем к Варшаве. Однако ж как до весны дел ожидать нельзя, то я буду проситься в отпуск и приеду прямо в Киев…
Заграничный поход 1813–1814 годы
15 февраля, 1813, Киев
27 генваря Милорадович покойно взошёл в Варшаву. Войска идут из Шлезии. Сакен блокирует Модлин, в котором слабый гарнизон. Говорят, государь отъезжает в Петербург после свидания с прусским королём. Шведы — 36 т., а датчане 25 т. войск под командою Бернадота высадятся в Померанию. Данцигский гарнизон получает только четвёртую долю положенного провианта по недостаточности оного.
Ренье разбит. Взят генерал Ностиц, пушек несколько, 1500 пленных и двадцать семь штаб- и обер-офицеров. Вот, милостивый государь дядюшка, вам военные газеты.
Мои силы возвращаются, но слух весьма медлительно. Посылаю письмо князя Кутузова. Моё получено только вчерась. Простите, что Ваше распечатал.
14 марта, Белая Церковь
По приказанию Вашему, милостивый государь дядюшка, я спрашивал у графини о контрактах, она ничего не слыхала того, что до нас дошло. От 12-го имела она от Потоцкого маршала, который, конечно, написал бы к ней, буде контракты были бы отказаны… Из армии вестей нет, а слухи следующие: что наши в Берлине, что австрийцы заняли Фиуме и Триест. Последнее важно, буде справедливо. Но сие уже есть в газетах.
Теперь, выполнив препоручения Ваши, исполню пред Вами, милостивый государь батюшка, долг сердца моего, изъявив благодарность за все милости Ваши. Титул друга Вашего, которого по чувствованиям моим я достоин, ставлю выше других, которые Вы мне давали; я не иначе, как усердный и честный сын отечества, и самое моё самолюбие выше сего меня не поставляет.
Я ночевал в Богуславле, а вчерась приехал сюда гораздо засветло. От Богуславля пыль как летом, всё сие предвещает дорогу лёгкую и приятную. Завтра поутру отъезжаю.
3 июня, Баден
…Я остановился в Бадене полечиться от глухоты, от раны и от ревматизма, но сомневаюсь кроме глухоты получить от прочего облегчение, кроме же сего на здоровье жаловаться не могу. Надеюсь скоро выздороветь; может быть, и Вы поедете в Петербург посмотреть победителей. По чести, Россия и вся Европа обязаны сказать нам спасибо…
21 июня, 1813, Нейштат
Я уже имел честь писать Вам, милостивый государь дядюшка, о победе англичан и гишпанцев над французами. Следствие оной есть сдача шестнадцати тысяч под командою Сюшета, которого они отрезали от Пиренейских гор, и теперь уже два марша на границе Франции. Наполеон уехал в Майну. Считать должно, что поехал и далее. Гвардию его повезли на подводах. Австрийцы решительно с нами. Буде (Наполеон) не согласится на сделанное ему предложение к 29-му сего месяца — это я слышал от приехавшего с большой доверенностью австрийского полковника — Коленкур не имеет доверенности согласиться на требования, кои возросли со времени побед в Гишпании. Силы Австрии в Богемии — двести тысяч. Наших и прусских в Шлезии двести тысяч. У Бернадота — сто тысяч. Из сего Вы заключить можете, с чьей стороны превосходство. Говорят, что наши действия начнутся тем, что мы в тот час чрез Богемию вместе с австрийцами пойдём в тыл неприятелю, а Бернадот будет действовать в Вестфалии. Кроме войск против Баварии и Италии, Мюрат, кажется, отложился от Наполеона, ибо с согласия Англии открыл торг с Сицилией. Интересная должна быть нынешняя кампания. Боюсь только мира, ибо все имеют причины быть уверенными в больших успехах. Вот, милостивый государь дядюшка, все обстоятельства.
У нас же всё то же. На днях будет смотр моего корпуса — четырнадцать тысяч под ружьём. Император наш, король прусский и австрийские генералы, англичане, шведы будут присутствовать, и надеюсь, что у меня будет хорошо. Если смотр сей будет удачен, сей подвиг сравнится с выигранным делом.
Брат Александр видел великую княгиню Марию Павловну в Теплице, которая, узнав, что он брат мне, публично поручила ему уверить меня в её расположении и уважении, что она знает мою службу, как и жену.
Всё это лестно, приятно, но по сие время бесполезно… Посылаю Вам подаренную мне английским путешествователем табакерку.
P.S. 25-го. Сегодня был смотр. 14 611 человек имел я под ружьём. Король прусский, австрийские и шведские генералы и министры присутствовали. Всё было хорошо. Государь был доволен, и после смотра все у меня завтракали или, лучше сказать, обедали. Я вспомнил Вас, милостивый государь дядюшка, как Вы любите угощать, говорил брату Петру…
Моро в Берлине. Что будет он делать?
29 июня, Нейштат
…Газеты правы, что шведы были в Гамбурге, но Бернадот, приехав к войску, велел его оставить, что Вы, конечно, уже знаете по следующим газетам.
Третьего дня государь ездил иметь с ним свидание за Одером. В Швеции авось подаст он хороший совет. Иные говорят, что государь желает, чтоб он принял команду над армиями. Дай Бог!
Мне известно, что Понятовский с пятнадцатью тысячами прошёл чрез часть Богемии и соединился с Наполеоном. А государь всё ещё уверен, что австрийцы будут нам содействовать. Можно бы и без них обойтись: у одного Бернадота шведских, прусских и русских войск до восьмидесяти тысяч. Когда мы делали перемирие, то прусский генерал Бюлов в тылу французов с сорока тысячами разбил Удинота и прогнал за Эльбу. Граф Воронцов поспешным маршем (прогнав французскую кавалерию, взяв до 1000 пленных) пришёл к Лейпцигу, где были все запасы неприятельские при малом числе войск, но получил от французского генерала уведомление о перемирии.
Беннигсен командует резервной армией на Висле, в которой будет (когда — не знаю) двести двадцать тысяч; но теперь должно быть до девяноста тысяч. И буде теперешний не угодит, то Беннигсен приготовлен на смену. Из огня да в пламя. Дайте нам Бернадота! Поговаривают о расстройке с турками. Мне за красненькие дела даны бриллиантовые знаки Андрея, почесть эта лучше Георгия: они стоят десять тысяч, а за Георгия 2-го сто рублей. Теперь ждём, скоро кончится перемирие, но говорят о продолжении оного ещё на четыре недели…
8 июля, Нейштатп
В добавок писанному Вам, милостивый государь дядюшка, что в Праге трактуют о мире. Наполеон отдаёт герцогство Варшавское пруссакам. Соглашается на исключение саксонцев и макленбургцев, как и Австрия от союза, но Магдебург срывает, требует некоторых вольных городов, но затруднение делает в Тироле, который, надеются, что также уступит. Он сказал (говорят), что он докажет своими пожертвованиями для мира… что он не искал завоеваний. О шведах и гишпанцах в рассуждении тоактаций не знаю.
Веллингтон разбил наголову Йозефа Бонапарта: десять тысяч пленных и полтораста пушек тому служат доказательством. Он оставил отряд преследовать рассеянные остатки, а сам пошёл на Сюшета, коего отступление должен отрезать.
Сегодня мимо меня граф Воронцов камер-юнкер проехал из Лондона с сим известием… Веллингтон сделан фельдмаршалом.
Бернадот будет иметь сто тысяч войска шведского, русского и немецкого и действовать в Вестфалии по требованиям австрийцев.
Кажется, решительно и они требуют выгодного мира или к нам пристанут, и у Наполеона отделена против них армия семьдесят тысяч…
2 ноября, Веймар
…Пишу Вам наудачу в Петербург. О успехах наших Вы должны быть известны… Я почти здоров. Был ранен в грудь пулей в шестидесяти шагах… После девятидневных несносных мучений… Вынули из груди семь костей… Рукой я правой не владею и в плече ещё чувствую боль… Государь меня произвёл (в звание генерал от кавалерии. — А.К.). Австрийский прислал крест Марии Терезии. Через две недели думаю ехать в армию… Пишу через силу…
7 декабря, 1813, Франкфурт-на-Майне
…Два месяца, как я оставил армию, к которой теперь возвращаюсь. Рана моя закрылась, только рукой худо владею… оттого дурно пишу.
2 февраля 1814 г.
Неприятель отступает, а ему дают толчки, только не от австрийцев, которые грабят, а не дерутся… До Парижа то же, что от Клина до Москвы. Прощайте, милостивый государь дядюшка. Будьте благополучны. Покорнейший племянник
Николай Раевский.
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
1771 год
Сентябрь. В Петербурге у Н.С. и Е. Н. Раевских родился сын — Николай Николаевич Раевский.
1786 год
Начало осени. Прибытие Николая Раевского в г. Чугуев по распоряжению Р. А. Потёмкина.
1788 год
1 января. Раевский произведён в чин подпоручика.
1789 год
Февраль. Перевод в Нижегородский драгунский полк в чине премьер-майора.
Осень. Раевский — подполковник.
1790 год
Раевский — командир особого казачьего полка Булавы Великого Гетмана при командующем Екатеринославским войском.
1792 год
Перемещение в Польшу, командование Нижегородским драгунским полком, награждён орденом Святого Георгия 4-й степени; Раевский — полковник.
1793 год
Награждён орденом Святого Владимира 4-й степени.
1794 год
Конец года. Возвращение из Польши в Петербург; женитьба на С. А. Константиновой — внучке М. В. Ломоносова.
1795 год
Отъезд на Кавказ, в крепость Георгиевск; рождение первенца — сына Александра (Украина, имение Каменка).
1796 год
Участие при взятии Дербента.
1797 год
10 мая. Оклеветанный Раевский получил отставку.
1801 год
Рождение младшего сына — Николая.
1807 год
25 апреля. Назначение в кавалерийский корпус, затем командиром егерской бригады; Раевский — генерал-майор.
1808 год
Участие в начавшейся войне со Швецией.
12 апреля. Раевский — генерал-лейтенант.
1810 год
Командуя дивизией, отличился при осаде Силистрии.
1811 год
31 марта. Раевский — командир 7-го пехотного корпуса.
1812 год
Активное участие в Отечественной войне (сражения под Смоленском, при Бородине, под Малоярославцем, под Красным и др.).
1813 год
Раевский — командующий гренадерским корпусом; сражался под Бауценом, Дрезденом, Кульмом; под Лейпцигом был ранен.
1814 год
Март. Участвовал в боях за Париж.
1816 год
Февраль. Прибытие в Петербург.
Переезд в Киев.
1820 год
Май. Отъезд на Кавказские Минеральные Воды и в Крым для лечения.
1824 год
Осень. Получен бессрочный отпуск «до излечения болезни».
1826 год
Раевский — член Государственного совета.
1829 год
Смерть Н. Н. Раевского.
Примечания
1
Приписник — лицо, приписанное к какому-либо военному пункту.
(обратно)2
Зипун — старинная верхняя крестьянская одежда в виде кафтана без воротника, обычно из грубого самодельного сукна.
(обратно)3
Цейхгауз — воинский склад оружия, обмундирования, снаряжения и т. п.
(обратно)4
Щепа (арчак, ленчик) — здесь: деревянный остов седла.
(обратно)5
Чекмень — верхняя, с длинными полами одежда у казаков; мундир казачьего офицера.
(обратно)6
Ятаган — кривой меч у народов Ближнего и Среднего Востока.
(обратно)7
Штуцер — старинное нарезное ружьё.
(обратно)8
Дормез — старинная большая дорожная карета, приспособленная для сна в пути.
(обратно)9
Хадж — паломничество в Мекку к мусульманской святыне Каабе или в Медину к гробу Мухаммеда, считающееся у мусульман подвигом благочестия.
(обратно)10
Бретёр — заядлый дуэлянт, задира, скандалист.
(обратно)11
Далматик — род мантии, накидки из числа принадлежностей одежды при короновании русских государей.
(обратно)12
Телемак — в греческой мифологии сын Одиссея и Пенелопы, отличавшийся воинственностью, при котором находился мудрый Ментор, дававший советы.
(обратно)13
Экзерциция — военное упражнение.
(обратно)14
Одвуконь — на двух конях, один запасной.
(обратно)15
Круг — собрание в казачьих войсках, решавшее вопросы войны и мира, организации походов, выбора атаманов и т. д.
(обратно)16
Директория — коллегиальный орган исполнительной власти во Франции (1795–1799 гг.).
(обратно)17
Вентель (вентер) — сеть.
(обратно)18
Шандал — большой подсвечник.
(обратно)19
Настройка — здесь: механизм, предназначенный для настраивания каких-либо приборов, машин, аппаратов.
(обратно)20
Ретраншемент — вспомогательная фортификационная постройка.
(обратно)21
Ретирада — здесь: отступление.
(обратно)22
Иррегулярное войско — войско, не имеющее постоянной организации, твёрдой системы комплектования, прохождения службы и обучения.
(обратно)23
Редан — полевое военное укрепление (в виде рва, окопа), имеющее форму выступающего в сторону противника острого угла.
(обратно)24
Флешь — полевое военное укрепление (в виде рва, окопа), имеющее форму выступающего в сторону противника тупого угла.
(обратно)25
Редут — сомкнутое полевое укрепление (иногда временное) самых разнообразных очертаний (круглое, квадратное и т. д.).
(обратно)26
Хранец (франец; видимо, переиначенное) — французская болезнь.
(обратно)27
Будыль — срезанный, скошенный стебель; будыльник — бурьян.
(обратно)28
Бивуак (бивак) — расположение войск для отдыха или ночлега вне населённых пунктов.
(обратно)29
Ресторация — ресторан.
(обратно)30
Партикулярный — штатский, не форменный.
(обратно)31
«Милостивый государь дядюшка!» — граф А. Н. Самойлов.
(обратно)32
Михаил Васильевич — главнокомандующий Украинской армией граф Каховский.
(обратно)33
Михаил Ларивонович — М. И. Голенищев-Кутузов.
(обратно)34
Сикурс — помощь, подкрепление.
(обратно)35
Ираклий Иванович — генерал Марков.
(обратно)36
Софья Алексеевна — жена Н. Н. Раевского.
(обратно)37
Григорий Александрович — сын графа А. Н. Самойлова, двоюродный брат Н. Н. Раевского.
(обратно)38
Дефиле — узкий проход между препятствиями (горами, болотами, озёрами и т. п.), используемый обычно для задержания противника обороняющимися войсками.
(обратно)39
Паллиатив — полумера.
(обратно)

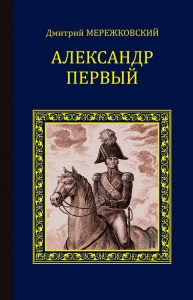


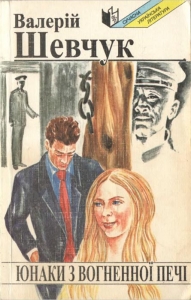



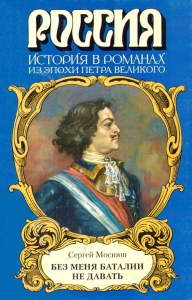
Комментарии к книге «Генерал Раевский», Анатолий Филиппович Корольченко
Всего 0 комментариев