Юрий Плашевский БЕГЛЕЦ
I
Осенью 1774 года — в лето двенадцатое счастливого матушки Екатерины второй царствования — бежал по разгроме Емельяна Пугача вниз по Яику, к Каспию, армейский поручик Михайла Волынский.
Хоронился. К жилью подходил не иначе — ночью, с оглядкой. И то: псы матушкины рыскали неусыпно. Михайле же опасаться надобилось сугубо. Было за что. Перекинулся в свое время армейский поручик к вору Емельке. Того, правда, тогда не Емелькой — Петром Федоровичем, самодержцем всероссийским звали.
Под Казанью было. Летом. Дрался в ту пору Михайла отменно. В палаши ходил на бунтовщиков не раз. Георгия получил. Да оплошал однажды, зарвался не ко времени. Навалились мужики проклятые, одолели. Лучше б смерть тогда. Да нет, связали дворянского сына, к самому представили. А сам-то, вор, дьявол чернобородый, — на стульчике малиновом, золотом расписанном, у избы сидел, платочком обмахивался. На Михайлу глянул с прищуром. Помолчал. Поиграл цыганскими глазами, повернулся резко:
— Молчишь? — сказал, будто камнем кинул, нахмурился.
Михайла и впрямь молчал, закинув голову, смотрел, как на перекладине у избы в петле капитан Хотимов, Михайлы однополчанин, жизнь свою заканчивал. Ломало и крутило сердечного, дергался, хрипел. Внизу стоял рыжий мужик с пикой, скалился, смотрел ненавистно.
Пугачев обернулся на капитана Хотимова кончину, дернул шеей, опять на Михайлу уставился, распустил губы в улыбке, бороду погладил, подмигнул — мол, и тебе то же будет, гляди. Сказал степенно:
— Храбр ты, поручик, сказывают. А такие величеству нашему нужны. Опора. Послужишь верно, пожалуем тебя. Супостатам же нашим конец один. Понял?
Понял Михайла. И — заробел. Не выдержал. Жаль себя стало. Руки своей сильной. Головы кудрявой, шеи, что в вырезе белой сорочки батистовой красовалась…
Поцеловал Емельке руку (краше бы плюнуть тогда ему, антихристу, в бороду его смоляную). Но плетью обуха не перешибешь! А поцеловав, служил верой и правдой. Мотался по Волге с Петром Федоровичем, всея Руси самодержцем, до самого конца — аж пока его казацкие старшины графу Петру Панину не выдали.
Ну а тогда уж пришлось Михайле упование положить едино только на себя самого.
Емельяна же, ясно, увезли в Москву, и там с ним на монетном дворе, что в Охотном ряду, в ножные и ручные кандалы его посадя и к стене цепью приковав, князь Волконский, губернатор, говорил истерически. При том и кнутобойца Шешковский присутствовал.
«Скверен так, — писал Волконский-князь государыне императрице о Пугачеве, — как мужику быть простому свойственно, с тою только разницею, что он бродяга». Екатерина же торопила. Не терпелось покончить с грозным врагом. А следствие затягивалось, как писал князь, — «по пространству его гнусной истории и скаредных его злых деяний».
В будущем только 1775 году не стало Емелюшки, вороненка, как он сам о себе сказал графу Панину, — потому-де как ворон, мол, еще летает.
До всего этого, впрочем, бывшему поручику Михайле не было уже ровно никакого дела. Пугачева старался не вспоминать. Во сне только иной раз привидится — грозен, хмур, печален.
Михайла брел на юг. Ночами. Днем отсыпался в буераках. Холодало. Зима гналась по пятам. Оборвался поручик. Даже бабам, у которых хлеб украдкой в деревнях выпрашивал, — на глаза показываться совестился: пугались.
На хуторе одном как-то приложился ненароком рожей к стеклянному окошку поплотнее — так в избе бабенка дурным голосом заверещала: навел страху. Шум поднялся. Бросился бежать Михайла.
Долго бежал, пока не упал, споткнувшись о камень. Хрипел, как лошадь загнанная. Крики, топот остались позади. Реветь было поручик собрался, да раздумал. Полежал, отдышался. Встал. Побрел тихонько к Яику. Не сегодня, так завтра тут схватят. За Яик надо уходить, в орду.
Вода яицкая текла у самых ног, черная, молчаливая. Михайла шел берегом. В реку лезть не хотелось, хоть плавать умел. Добрел до излучины, пошел по широкому плесу, тут на бревно и наткнулся. Тяжеленек кругляк попался, еле в воду его спихнул. Потом поверх улегся, перекрестился и отчалил.
Темной полосой уходил назад, растворялся в безлунной ночи русский берег. А впереди малое время погодя наметилась и начала расти киргиз-кайсацкая сторона.
Наконец ткнулся в песок, вылез, постоял. За Яиком было тихо и темно, только зарево бледное далеко на севере стояло. Верно, еще одну деревню граф Панин, пес государынин, жег.
Михайла сплюнул, стал выбираться по откосу. Нога, ушибленная о камень, болела. Добрался, упал и лежал долго в забытьи.
Когда очнулся, все еще была ночь. Пощупал Михайла жесткую степную землю, — пустыня! Кому ты тут нужен, дворянский сын? Голову поднял — над горизонтом низко желтая звезда стоит — смотрит в очи.
Зажмурился Михайла: тоска, как нож острый, в сердце вошла. А встать захотел — не тут-то было, взвыл. Нога распухала: ни двинуть, ни ступить.
Заря взошла над степью бледная, студеная. Подувал ветерок, взвихривая пыль, качал траву типчак, резал глаза. Михайла скатился в овраг, выломал из куста палку, заковылял по оврагу. Присел: есть охота, а нечего. До вечера тут провел — дремал, ногу у колена распухлую тер, на склон откинувшись, в небо смотрел. Там облака плыли, и все на заход солнца, в Россию. Ему туда теперь путь заказан. Здесь оставаться? Пустыня тоску наводит. Одно выходит: в чужие края, за море уходить.
А выйдет ли? И — куда?
В сумерках выбрался Михайла из оврага, заковылял дальше. Отошла нога немного. Держал опять все на юг, к морю Хвалынскому. Ничего теперь для Михайлы желаннее, чем эта гладь морская, не было. Только б дойти. А сколько еще до того моря?
А тут и снег пошел. К утру выбился совсем Михайла из сил, обмерз, оголодал. Когда собачий лай услышал, кинулся не разбирая. Не подыхать же в степи. С холма сквозь снег летящий аул киргиз-кайсацкий открылся. С десяток кибиток, люди, овцы, верблюды, собаки. Дымом кизячным, теплом человеческим потянуло. Еле переставляя ноги, поручик побрел к аулу. На него, онемев от удивления, смотрели аульные ребятишки, женщины, старики в высоких малахаях. Не дойдя немного до первой кибитки, Михайла упал. К нему с лаем кинулась собака.
Не прогнали, однако, Михайлу от аула. Приютили его кайсаки, в кибитку оттащили, в тепло. Тут беглец целый день отсыпался. А к вечеру растолкали его кайсаки, есть с собой посадили.
Михайла со сна зевал, тер глаза, таращился на огонь в углу кибитки, на кипящий казан. Из-за казана на него смотрел седобородый, молчал. Баба и девка — обе черноглазые — пялили на него глаза, не стесняясь, смеялись, подталкивая друг друга. Рядом с ними примостились дети — девочка и мальчик, тоже не отрывали глаз от гостя.
До отвала накормили в тот вечер дворянского сына степняки. Ел Михайла вареную баранину, пахучую маханину — конское мясо копченое, пил из деревянной плошки кобылье молоко. Утирался драным рукавом мундира. Осоловел от сытости, от питья хмельного.
Меркли, покрывались пеплом угли под казаном. А на воле, во тьме, завывал ветер, гнал снег.
II
Так и прожил Михайла Волынский зиму у кайсаков. Аул медленно кочевал на юг. Двигался вместе со всеми и русский.
Не обижали. Чапан дали — вроде тулупа — от стужи. Ехал во время кочевок на лошади рядом с седобородым, у которого в кибитке стоял, Канбарбеком его звали.
Молчалив был Канбарбек, хоть по-русски и разумел. Две осени — еще молодым — гонял как-то скот в Яицкий городок. Там и навострился.
Часами, бывало, едет по степи, прищуренным глазом обводит край земли и неба, по приметам малым, еле видным, дорогу следит, молчит. Редко-редко губы сухие разомкнет, процедит:
— Дурак ты, Михайла. Пошто против ханши своей бунтовал?
— Не сам я, — хрипит в ответ на ветру поручик. — Заставили. Емельян, знаешь, на расправу скор был.
— Все равно, — жует губами Канбарбек. — И он тоже… Не угадал…
— Чего?
— Того. Какой лес, такой зверь, — говорят, какое время — такой закон… Знать надо.
И снова молчит, по степи глазами рыщет. А Михайле уж и покою нет. Задал загадку. Закон. А в чем он? Спроси раньше — будто и знал. Теперь — нет. Неведомо. А что скажешь в ответ? Тошно. Еще того хуже — вспоминать. Боязно. А что? Усадьбу? Дом ветхий под старыми липами? Начни только, дай волю, — все предстанет. Комнатки в палевых обоях с цветочками, пропахшие мятой и анисом, с желтыми скрипучими половицами, — на них же солнце зимнее катается… На столе — кофейник старинный, чашки. За столом — матушка в чепце с оборками глаза щурит, на Михайлу смотрит, улыбается. А за стеной по желтым половицам — шаги легкие летят, Наташенька, сестрица, — вот-вот в комнату войдет, на шею кинется.
Михайла скрипнул зубами, замычал, развел глаза: все то же. Степь, ветер, снежная крупа. Рядом седобородый в седле качается, молчит, башкой в малахае вертит. Сзади верблюды шагают, колокольцами бренчат. Заехал бывший поручик, матушкина отрада! На край света.
Закон. Полезешь супротив — шею сломаешь. А вот Емельян — тот свой закон поставить хотел. Не боялся. Полез. Не вышло. А почему? Канбарбек говорит — не угадал. Не ко времени, мол. Ладно. Но — пойди угадай. Не ты время угадаешь, а оно тебя. А ты… Ты весь перед ним. Как на ладони. Вот и пробуй. А здесь? Здесь, конечно, просто. Солнце, небо, степь. Стада авраамовы, кибитки. Казаны над кострами. Кострам — тысячи лет. Казанам — не меньше, пожалуй.
Канбарбек чмокнул губами, вытянул руку. Михайла раскрыл глаза. Увидел вдали холм, зубчатую стену, купол.
— Мазар, — отчетливо проговорил седобородый. — Батыр похоронен… Большой храбрец был.
Храбрец. Это герой, значит. А Емельян? Неужто других хуже? Михайла сплюнул со злости. Врешь! Не хуже! А вот над ним — ни холма, ни купола. Кола осинового и того, наверно, не будет.
Черт чернобородый, буйная головушка. Вор, самозванец, дворянский супостат… Чего ж по нему сердце екает?
Летом поздним, над Волгой, вспоминается, было… Ночь теплая стояла. В лесу, в избе бунтовщики заночевали, Емельян тут же со своими дружками был. Он тогда, правда, все еще под государевым именем Петра Федоровича ходил.
Среди ночи — заметил Михайла — встал Пугачев и вышел тихо. Михайла малое время погодя — за ним. Месяц светил с неба. У избы казак дремал, опершись на пику. Пошел Михайла по тропинке. Смутно на душе было. Клял себя неистово: к кому пристал! Примерялся: а не снять ли часом буйную головушку с плеч у вора? Тогда бы и прощение недалеко оказалось, можно было бы вымолить.
Тихо шел Михайла и на поляне увидел Пугачева — стоял он на коленях, умывался у родника. Слышно было, как фыркал, отплевывался, пил студеную воду, шумно дышал, блаженно постанывал. Потом встал, утерся платком и, задрав голову к небу, долго смотрел на месяц, — не то молился, не то думал.
Не дыша стоял за березой беглый поручик Михайла, смотрел затаясь. Потом услышал — снизу, от Волги, тихий свист раздался. Пугачев встрепенулся, встал, постоял, пошел на свист.
Михайла за ним. Неужели сбежать надумал царь Петр Федорович? Меж деревьев мелькала в месячном свете темная фигура Пугачева. Потом он исчез, будто сквозь землю провалился. Михайла медленно шагнул раз, другой — и очутился у края оврага. Овраг шел к реке, к Волге. Внизу шуршало. Сунуться туда Михайла не посмел. Увидит — подумалось — конец. Пошел осторожно по верху, замирая через каждые два шага. Заметил: внизу сошлись, заговорили тихо. И лег тогда Михайла, шею вытянул, ухо наставил, и всему тому разговору овражному ночному внимал с превеликим страхом и изумлением. А говорили двое — один, толстым голосом, Пугачев, другой — пискун дребезжащий, не иначе старикашка вредный.
— Ну, казак зимовейский? — вопрошал пискун ехидно. — Куражишься? Или чужая башка на плечах? Лодка внизу. Самое время.
— Не могу, — режет Пугачев.
— Ну? — издевается пискун. — Что, в дураки записался?
— Видно, так, — раздумчиво признается толстый голос. — В каждой ведь песне концу быть.
— Без тебя допоют.
— Нет. Без меня песня не та. Да и перед ребятушками совестно. А стыд, он, знаешь, ведь и за гробом достает. Красно начинал, красно, значит, и кончай.
— А чего начинал? — опять пытает пискун. — Супротив стены? Матушка тебе покажет…
— Не в матушке дело, — размышляет толстоголосый, — в мужиках. Качнули ведь. Качнули! Значит — сила. Значит, он не таков, народушко, каков снаружи кажется.
— А толку? — пискун залился мелким смехом.
— Погоди… Будет и толк…
— Годить-то долго ли?
— Не знаю.
Тут в голосе его, Пугачева, такая выплеснулась жгучая тоска, что даже Михайла, на земле лежа и разговор тот слушая, закусил себе палец…
Внизу помолчали. Потом пискун снова заговорил и тут уж — не торопясь и степенно.
— Так. Храни, значит, тебя спас, Емельян Иванович. Тебе виднее. Юродство мое мне прости. Тошно, потому и лукавлю. Но не перечу, если чуешь, что час твой настал. Принимай крест за мужиков проклятых, за нищету, за дурость, за покорство их. Таких, как ты, не было бы, — совсем бы запсели. Дед мой, царство ему небесное, у Степана Тимофеевича в князьях ходил. Как ты Яик подымать начал, взыграло во мне сердце: неужто, подумалось, час настал? Не сподобил, однако, господь. Ну, что ж, значит, опять ждать… Еще слушай. Юлить не будешь — знаю и так. На рогатину зря тоже не лезь. И еще одно, тайное, тебе открою. Надо будет — вспомнишь. На Хвалынском море лежит на восходе Мангышлов берег. На том берегу мыс Карган, на нем же пристань. От мыса Карган — на полдень по берегу полдня ходу пешему — холм, на холме гриб каменный. От гриба на полночь, сто шагов мерных отложив, камень найдешь. Камень отвали, там яма, щебнем засыпана. В яме — золото. Давно закопано. В горшках. Запомни…
— Зачем? — медленно проговорил Пугачев. — Теперь мне поздно…
Внизу зашуршало. Пугачев, видно, встал. Михайла, замирая от страха, бросился прочь от оврага.
— Ток-тат! Стой!
Поручик вздрогнул, очнулся. Кочевой караван останавливался. Ревели верблюды, кайсаки спешивались, начинали развьючивать лошадей, ставить кибитки.
III
Стали потом досаждать Михайле закаты. На полнеба, бывало, разливался малиновый пожар, томил, клал розовые отсветы на бесснежную степь, напоминал о невозвратном.
Отойдя от аула, ставшего на ночь где-нибудь у колодца, бродил часто поручик по степи, кутаясь в бараний тулуп, смотрел, как плавится на западе красное, уставшее солнце. Тает, исходит кровью багряной, жмется к земле. Так бы и полетел за ним! Только оттолкнись, отвяжись от праха постылого, от степи, что поросла жесткими пучками травяными, будто бородавками. Не отвяжешься. Крепко держит неприютная равнина. Не уйдешь.
Мороз леденил дыхание. Михайла поворачивался, шел к аулу, к кибитке Канбарбека.
Там, внутри, уже пылал огонь, в казане булькало, дым и пар застилали глаза. Начиналась вечерняя трапеза. Михайла ел со всеми. Канбарбек подсовывал лучшие куски, хлопал по плечу, не горюй! Сквозь дым из-за казана на поручика смотрели черные глаза Айгульки, дочери Канбарбека. Смеялись черные глаза, щурились, прятались за мохнатыми ресницами. Поручик, отяжелев от еды, смотрел перед собой остекленевшим взглядом. Клевал носом. Но волнение, вызванное красным закатом, не проходило. А тут Канбарбек брал кайсацкую музыку — балалайку с долгой шеей, — бил пальцами по двум струнам, тянул тонким голосом непонятную песнь, надрывал душу.
Михайла в отчаянии таращил глаза, оглядывался дико: не сон ли? Костер угасал. А может, все другое — сон? И дом дворянский под липами, и Пугачев, и бревно на Яике? А Михайла век целый уже кочует по степи да слушает, как поет седобородый?..
Потом пришла весна. Аул медленно кочевал от колодца к колодцу, углубляясь на юг. Когда овцы съедали корм, Канбарбек подымал кибитки, вел сородичей дальше.
— Что за земля? — спрашивал Михайла.
— Мангыстау, — отвечал седобородый, щурил глаза. — Тысяча зимовий. Там — море.
— Где?
— Там, на закате.
— Мангышлов берег?
— Да. Мангышлак.
Михайла задрожал:
— Как добраться?
— Будем близко, доберешься сам.
Канбарбек помолчал, погладил редкую бороду, сдвинул малахай на затылок.
— Э, Михайла, — сказал раздумчиво, — чего торопишься, куда бежишь?
— Тошно, Канбарбек, потому и бегу.
— Молодой ты, Михайла, глупый. От скуки тебе тошно. Все думаешь. А думать много не надо. Думай не думай, все равно — от двух овец белых, что в одно время на свет родились, не убежишь никуда.
Седобородый замолчал. Слова его Михайла, однако, понял: в самую душу заглянул Канбарбек, дьявол хитрый. Давно уж горячат Михайлу прелестные сны… Дрожат в тумане два белых ягненка… Нет, не ягнята это: кожа шелковистая, гладкая, на концах — соски темные, а поверх — глаза…
Усмехаются черные глаза, то раскроются широко, то в мохнатых ресницах спрячутся. Омут. А Канбарбек? Он-то куда гнет? Екнуло у поручика сердце. Не по себе стало…
А вокруг цвела степь. Лезли на свет из жесткой земли молодые побеги, зеленым туманом одевались шары перекати-поля. Выпрямлялись, наливались соками высохшие стебли. Казалось, ночами шорох стоит над бурой землей. То затаившаяся в ней жизнь спешила начать и свершить положенное — распуститься, принести плод, покуда не выпило еще все капли воды осатаневшее солнце…
Загорались мелкими сиреневыми огоньками цветы верблюжьей колючки; красными, желтыми пятнами мелькали крошечные степные тюльпаны. А вдали чудилась уже Михайле морская гладь…
— Ну? — Канбарбек повернулся, взглянул на Михайлу мудрыми насмешливыми глазами.
— Боюсь, — прищурился тот. — В степи остаться боюсь. Достанут тут меня, чего доброго, псы государыни. Неровен час — и выдаст кто…
— Беспокойный ты, Михайла, — Канбарбек вздохнул. — Все вы беспокойные. Чего затевали?
— А что?
— А то. Говорят, если твой царь слеп, значит, и ты закрой один глаз, — Канбарбек засмеялся, стегнул лошадь, отъехал в сторону.
IV
Прощались утром, на заре. Солнце еще не взошло: озарило только из-за края земли небосклон нежным сиреневым цветом. Полосы его бежали вверх, ширились, прогоняли темень ночную. Тянул ветерок. Светлело, жемчужно переливаясь вдали, неподвижное море.
Добрался-таки до него беглый поручик!
Канбарбек кутался в халат, смотрел на водную пустыню, улыбался.
— Прогонят тебя, — прохрипел, — приходи. За холмом у колодца день стоять будем. Завтра уйдем. Прощай, Михайла!
— Прощай!
Михайла пошел по берегу. Ноги вязли в белом перемытом песке. Впереди, слева, справа громоздились белые с желтым, розовым отливом скалы. На узкой косе, уходящей в море, бродили люди, торчали шесты, на них висели сети. Курились дымки. Михайла шел не спеша. Сердце колотилось гулко. Как-никак соотечественники, кажется, язви их в душу. А каковы? И кто?.. И как встретят?
Плотнее запахнулся в чапан, голову вскинул, мордой заросшей повел, принял веселый вид, затопал быстрее. На него уже смотрели от ближнего костра трое.
Облизывая деревянную ложку, уставился старик в нагольном полушубке — порты белые, сам босой, под полушубком грудь голая, сивым волосом поросла. Рядом — парень, губы распустил, глядит доверчиво, удивляется. Третий пламя вздувал, через плечо снизу вверх глянул — равнодушно и понимающе.
— Бог на помочь! — Михайла стал, поклонился низко.
Трое молчали, разглядывали. Парень не выдержал:
— Гы-ы! Ты хто? Кыргыз?
Старик огрел его ложкой по лбу, зашипел. Парень застеснялся, молча прыская в рукав, встал, отошел в стороночку.
Третий уселся поудобнее, посмотрел внимательно, погладил бороденку.
— Откуда залетел, сокол? — спросил.
— Издалека, — ответил Михайла, усмехнулся скромно, без дерзости.
— Ну, ладно, — решил вдруг старик, крякнул, махнул ложкой, — садись, гостем будешь.
Михайла сел, сдернул малахай, перекрестился. Парень вернулся, сел на свое место.
— Ушицу вот есть будем, — шамкал старик. — Хочешь? На, — он порылся в плетеной корзинке, что стояла рядом, вытащил ложку, протянул, — ешь, хлебай да рассказывай… Кто таков, откуда.
Навалился поручик на уху, хоть сдерживался, жадности старался не показать. Стосковался, однако, по такой пище. А то вся зима у Канбарбека на мясе прошла.
Зачерпывал горячее варево, нес бережно, глотал, глаза смежив от сладости. Облизывал ложку, потом, передохнув, вел в промежутках рассказ, плел околесицу.
Врал складно, что сам он из симбирской слободы, а был-де у Демидовых на Урале, на заводе, писарем. А потом, как начали прошлым летом приписные к заводу мужики и башкирцы окрестные бунтоваться, то пришлось-де ему, Михайле Волынскому, с завода бежать. По дороге же, однако, напоролся он с попутчиками на шайку, и всех там положили, и его чуть до смерти не убили. Уцелел же случайно, потому-де как в беспамятстве его, видно, в реку столкнули, а в холоде-то он и очнулся и, за бревно уцепясь, на берег на чужой и выплыл. А там его киргиз-кайсаки подобрали и выходили, и зиму он у них в тепле и в сытости прожил, только тосковал по своим сильно. Теперь же, как они у моря оказались, то он от кайсаков ушел, прослышав, что тут на берег люди из российского государства приплывают…
Поручик умолк. Старик кивал головой, чесал грудь под полушубком, икал после еды. Парень смотрел, улыбался. Рыжебородый же, наевшись, принялся строгать складным ножом палочку. Постреливал изредка зелеными глазами в Михайлу и — видно было — не верил ни единому его слову…
Давно уж взошло солнце, начало припекать.
— Бежит народушко из российского государства, — сокрушенно пробормотал старик и вздохнул. — Бежит…
— А и хорошо, что бежит, — зло оскалился рыжий. — Хорошо!
— Чего же хорошего? — старик оторопел, поджал губы.
— Чего? А может, разбегутся все, — хохотнул рыжий, — так это неправедное дело само собой и кончится…
— Ты, Федосей, не того, — нахмурился старик. — Не говори так. Опять завел. Грех это…
— Грех? — почти выкрикнул рыжий, подобрался, согнул колени, сел на пятки. Зло оглядел всех. А человеков, как псов, гнать, — не грех? — Он ткнул пальцем в Михайлу. — Ведь он тоже бежал? Врет ведь все. Бежал! А сам-то он, может, дворянский сын!..
— А нам это все равно, — перебил старик. — Что мы за допросчики!
— Подожди. Хорошо. Нам-то все едино, — брызгал слюной Федосей, — мы не слуги государыни императрицы. — Но ведь бежал же!
— Ну, бежал, так что?
— А раз бежал, значит, невмоготу! — опять выкрикнул Федосей. — Дворянскому сыну — и тому невтерпеж! Значит, проклятая она богом, Россея! Проклятая!
Он кончил на звенящей ноте, будто оборвал. Помолчали.
— Ты погоди, Федосей, — примирительно сказал старик, — погоди. Ты откудова знаешь, что господь бог во благости своей о Россеюшке думает?
— Знаю. Как народушко твой живет, так он, батюшка, о нем и думает!
По морю к берегу быстро приближалась темная полоса ветра. Зарябило. Михайла прикрыл глаза, задремывая. Степь морозная, стужа, закаты лютые, Канбарбек, Айгулькины глаза, как звезды, черные, Яик, пожары, Пугачев — бородатый, страшный — все остались позади! Все! Было ли, не было? Только песок горячий, да свет, да блеск моря вдали. Усни, потони в теплом сиянии ея императорского величества бывший поручик! Забудь все…
— А есть, сказывают, на востоке краи теплые, — лез сквозь дремоту в уши Михайле мерный говорок Федосея. Ярость, видно, у него прошла, голос помягчел, дрожал даже ласково. — Раины, да ручьи, да поля широкие. Воздух благостный, а стужи — нет. Начальства — тоже. Туда вот и надо, значит, утекать всем, кому жизнь постыла…
— Как место-то зовут? — спросил старик.
— Белые воды…
— Врешь ты, поди, все, — послышался зевок. — Где они, твои Белые воды?
— Не мои! — опять взъярился Федосей. — Не мои, тебе говорят! Не я придумал. Отец Аввакум, протопоп, про то свидетельствовал. Есть Белые воды! Есть! За пустынями, за степями, позади гор снежных…
— Эх ты, — «за пустынями, за степями», — передразнил Федосея старик, вздохнул коротко. — А чем же те раины плохи, что на родных местах растут? Утекать. Емельян вон Иванович, наверно, утечь мог. Плюнул бы, выругал мужиков, повернулся — и ушел. Только и видели. А он не то. Он Яик из-за мужиков поднял, Волгу…
— Ну и что? Ну поднял. А конец-то? Сложил твой Емельян Иванович голову на Москве…
Михайла прянул, раскрыл глаза…
— Кто? — выкрикнул. — Пугачев?
— Он самый! — рыжебородый сощурился. — Месяца уж три будет, как вор тот Емелька, сказывают, четвертован в Москве на Болоте.
Росло дерево божье, Росло, красовалось…Михайла оглянулся. По берегу шел босой мужик, нес на плече весла, пел. Дремоты у поручика как не бывало. Он встал. Трое смотрели на него, странно улыбаясь.
— А ты, — старик пошевелил бровями, — ты часом не из его ватаги?
— А что?
— Да ничего, я так, — засуетился старик. — А ты не бойся…
V
В скалах обрывистых, в ракушечнике поодаль берега были у рыбаков келейки вырезаны, — не очень велики, а спать можно.
Под вечер Федосей, старик да молодой парень, Николай его звали, пошли на яле — лодочке рыбацкой — в море сети ставить.
Смеркалось. С неба опускалась на горячую землю прохлада. Кое-где зажигались на берегу огоньки костров. Михайла лежал на теплом камне, смотрел в море, думал.
Казнили, значит, Емельяна Ивановича на Москве.
Михайла чесал грудь, вздыхал.
Господин Руссо, философ отменный, говорит, сии все злодейства — от скопления людей. Потому как в отдельности человеки кротки и тихи. Государства же — зверям рыкающим подобны.
Федосей то же твердит: Россия-де проклята. Плюнь на нее и разбегайся. Друг от дружки подальше. Ищи всяк свои Белые воды!
Хорошо. Чего же Емелька-бунтовщик не плюнул и не бежал? За что болел? Чего ему, вору, надо было, что до муки кромешной дошел, а назад не поворотил?
Опять у Михайлы в голове видение всплывает.
— Тятя, тятя! — жаркий шепот детский слышится в темноте.
— Ну, ну, сынок, не плачь!
— Чего покинул нас?
— Миру послужить.
— Ты, сказывают, злодей?
— Нет, сынок. Всею душою — нет! Только и хотелось — за правду постоять. А без кровушки, слышь, за нее, за матушку, вступиться нет возможности…
Знакомый густой голос замолкает. Михайла стоит у шатра, смотрит на ночное небо, дрожит…
— Тятя, тятя, и я с тобой…
— Нет, — усмехается Пугачев. — Ты еще мал.
— Тятя, тятя! Что мне сделать для тебя?
— Помнить, сынок. Все помнить. Вот оно пройдет, время, а ты запомни его. И меня тоже.
— Зачем?
— Для правды. Ее ведь без памяти, как и без кровушки же, — тоже не бывает. И быть не может. Свои обиды прощать можно. Людские — нет. Ты как бы ни жил — ништо. Лишь бы народ — в добре. Тот и есть злодей сущий, кто обиды народные забывает.
Шевелятся, дрожат в угольном августовском небе звезды. Летит над землей ночь. В последний раз говорит Пугачев с мальцом своим.
Трепещут от ветра полы шатра. Внизу, под холмом, горят костры казацкие. Щурится Михайла, вздыхает тяжело, со стоном.
…Скрипнуло, зашуршало. Тяжелый ял ударился о песок. Попрыгали из лодки Федосей, старик да Николка. Потащили ял на берег.
Скоро опять запылал костер, забурлило в котле варево.
— Приезжаем сюды ловить рыбку, — рассказывал старик не торопясь, отворачиваясь в сторону от дыма. — Да. Много ее тут. А народу мало. Одни мергены, охотники, по степи. Кой-где кайсаки да трухмены кочуют. Жалуются: досаждают им когда хивинцы, а еще ино — воеводы персидские. А живут здесь сами скудно. Муки, хлеба нет. На Россею надежда, что выручит.
— Чего там! — перебил Федосей. — Просто Лошкарев — купец астраханский, жи́ла, муку сюда на шмаках парусных возит. Деньгу загребает, ирод.
— Загребает, конешно, — миролюбиво согласился старик. — На то он и купец. Да и в его, купца, положение тоже все-таки войти надо. Когда деньгу загребет, а когда и нет. Откочуют аулы в степь — сиди тогда, жди, как рак на мели…
— А не шалят здесь? — спросил Михайла.
— Бывает, и шалят. Иной мергень не только дичь, но и нашего брата зацепить норовит. Да корысти немного. Окромя рыбы — что с нас взять?
— Чего же плыть сюда, если голову потерять можно? Рыба-то везде есть…
— А соль? — зло сощурился Федосей. — Рыбу без соли не сохранишь. А на соль налог в Россее, знаешь, какой? Не укупишь. А здесь — вон, в озере лопатой греби.
— Да, — старик завздыхал, — соль тут даровая, хорошая да и вкусная. И Лошкарев купец ее возит.
— Где ж он останавливается?
— А на мысе Карган. Там и пристань есть.
— Далеко ли отсюда? — Михайла затаил дыхание.
— А вон — за косой, — старик вытянул руку.
Федосей взглянул на Михайлу, ничего не сказал. Михайла отвернулся равнодушно. Помолчали…
Близок ты, значит, оказался, близок уже, поручик, к тому кладу. Ну? Как же он говорил тогда, пискун верный, Емельяну Ивановичу? «…На том берегу мыс Карган, на нем же пристань. От мыса Карган на полдень по берегу полдня ходу пешему — холм, на холме — гриб каменный. От гриба, на полночь, сто шагов мерных отложив, камень найдешь. Камень отвали, и там яма, щебнем засыпана. В яме золото. В горшках…»
Поели горячего. Начало в сон клонить. От костра угли одни остались. Николка прикорнул, глаза смежил, губами зачмокал. Спит, на губах улыбка сладкая плавает.
Старик долго кряхтел, крестился, шептал что-то про себя, имя господне поминая. Затих. Один Федосей не спал. Сидел, колени обхватив, на уголья смотрел. Косил глазом на Михайлу. Молчал.
Была вокруг тишина великая, без ветра. Море спало. Михайла навзничь лег, в небо уставился. Раскинулось оно над ним чашею. Звезды — мохнатые, крупные, таких и нет в России, — сияли, мерцали над ним.
— А что ты, Михайла, дальше-то делать будешь? — Федосей зевнул, посучил босыми ногами. — С нами аль как?
— С вами мне никак нельзя, — раздумчиво ответил поручик.
— И то…
— Поймают здесь. За море бы утечь, в Персию, што ль, или еще далее…
— Дело…
— Все дело — как. На мыс Карган сходить, посмотреть…
— Дело! Только поберегайся…
— А что?
— На шмаках лошкаревских нет-нет и солдаты бывают. С офицером. Смотри.
— Добро, коли так.
На том и заснул Михайла незаметно, лицо к небу обратив.
VI
Утро настало опять тихое, ясное. С ракушечного свода стекала влага. Капли шлепались наземь звучно, отчетливо. Михайла приподнял голову. На небе уж взошло солнце, озарило водную пустыню.
Поели ушицы. Собрался Михайла.
— Ты берегом, берегом, — наставлял его старик. — А в случае чего обратно приходи. Нам руки-то нужны.
Зашагал. Немного времени минуло, добрел до мыса.
В море выдавалась пристанька. Невелика, для лодок только и пригодна. Корабли-то, конечно, мелководья ради, поодаль от берега становились.
У пристаньки — вехи из жердей торчат, шалаш серым войлоком крыт. В шалаше под бараньим тулупом мужик спит. Ноги голые наружу выставлены.
Походил Михайла, поглазел вокруг, у шалаша стал, кашлянул вежливо. Мужик заворочался, скинул тулуп, вылез — морда красная, волосья спутанные на глаза падают, в черной бороде шерсти рыжей клок.
— Кто таков? — спросил сипло. — Чего надо?
Михайла объяснил. Сказал, что у кайсаков зиму зимовал, а теперь подаваться куда ни то придется, потому-де как в пустыне сей скука и все голо.
— Подаваться? — мужик задрал бороду, зевнул. — А куда? Куда подаваться хочешь?
Михайла промолчал.
— Податься отсюда всякому любо, — чернобородый вздохнул. — Да не так-то оно просто. А ты садись, — махнул он рукой. — Садись. Вот меня, скажем, взять. Сижу я от Лошкарева купца здеся на мысу, как Иов, и зноем меня палит и жжет. А купец тот платит скудно и кормления же дает мало. Оно, правда, — рыбы вдоволь. Но — поживи тут, поешь ее с мое — и в рот не полезет. Тоска тут. Скука.
— А чего ж сидеть?
— То есть, чего мне тут делать? А вот слушай. Лошкарев сюда из Астрахани на шмаке своей муку возит. Трухменцам продает, ну и кайсакам, если случаются. А я в отсутствие его всем и каждому говорю, что, мол, скоро мука будет и можно не сомневаться, ждать.
— Слушают?
— А как же! Вон — несколько аулов поблизости осели. Старшины там ихние. Ждут. Лошкарев тут был уже три раза, а через недели две и опять будет.
Мужик встал, сходил к колодцу невдалеке, вытащил воды в кожаном мешке, напился, плеснул себе в лицо. Вернулся, опять сел, заговорил, глядя в море.
— Таково служу купцу астраханскому. Хорошо. Теперь сам себе думаю: неужто службы лучше сей не нашел, как на краю света на горючем песке сидеть и слезами умываться? Выходит, не нашел. А почему? А потому, что изринуло меня отечество любезное из лона своего.
Михайла помычал сочувственно. Мужик набрал песку в жменю, руку приподнял, побежал песок наземь струйкой тоненькой с еле слышным шорохом. Мужик смотрел на него задумчиво, рассказывал не торопясь.
— Ярославские мы, крестьянского звания. И отцы, и деды наши за государями всея Руси записаны были, и никого более мы не знали. На земле сидели, землю пахали, кормились. Платили казне оброк, повинность извозную исполняли. Трудно, конешно, иной раз бывало, а жить все-таки жили. И я тоже — за батюшкой да за матушкой жил. Во младости ни об чем не думал. А когда оказался на возрасте, то попал по мирскому приговору в рекруты. Известно: мир — сила. Кланяйся да молчи. Кончилась на том моя первая жизнь. Началась вторая в Ингерманландском карабинерном полку. Ремни, косы, фухтели, казармы солдатские. Где только не был! Шутка ли! Двадцать пять лет. Походил по белу свету. Пять раз ранен был. В госпиталях валялся. Последний раз под Хотином с турком баталию имел. И там вот, под Хотином, я как раз двух турецких офицеров в полон и взял. Отличился. Тут и срок мой подошел. Хорошо. Послужил отечеству, цел остался. Теперь домой. Не шел — летел. Усы отпустил, медали начистил. А что толку? Лучше бы мне в родные места и не возвращаться. Ни батюшки, ни матушки. А мужики в деревне уже не казенные, а господина Лупандина крепостные. Так-де государыня императрица распорядилась. Потому и ты, мол, тоже, защитник отечества, господина Лупандина смерд и холоп, и его над тобой полная существует воля. Спасибо, думаю, матушка государыня, пожаловала ты нас, узаконила. Конечно, ее сила. От силы и закон. Но кто же таков, к слову сказать, сам господин Лупандин? А родом своим он, оказалось, от смердов недалеко ушел. Всего-навсего сторожа ростовского Борисоглебского монастыря — сын. И в свое время он же, Лупандин, за небытие у присяги, в солдаты записан в Преображенский полк, и служил там писарем, и произведен в унтер-офицеры и сержанты. А потом из сержантов — поскольку ростом не мал — взят в лейб-кампанию и пожалован в писари, и, по восшествии нынешней государыни императрицы на мужнин престол, — в случай попал и во дворце был. И после — по именному указу — пожалован в надворные советники и определен воеводою в Мосальск. Тогда ж он государыней и владеньями оделен, и в то число и наша ярославская деревенька попала. Вся — с дедами старыми и с ребятами малыми, с девушками красными и с парнями молодыми, с березами у околицы, с полянами, с лугами и с погостом деревенским. И выходит, что оный шпынь, за великий рост да за холопство свое перед высшим начальством — над душами христианскими владыкою и мучителем же стал…
Оборвал речь свою мужик, стиснул зубы, повел бородою в сторону. Михайла молчал. Говорить было, впрочем, нечего, оставалось одно — слушать. Он подумал только, что за последние месяцы все чаще стало иногда охватывать его неведомое раньше чувство: будто вместе со словами чужими льется ему в грудь что-то тяжелое, горячее. Но доколе же литься? И доколе же грудь вмещать будет?
— Ну, вот, — выдохнул наконец чернобородый будто через силу; взглянул тоскующими глазами на Михайлу, — а потом я его, господина Лупандина, и убил. Сам. Своими вот этими руками, которыми под Хотином турков в полон брал. Он — за плеточку, а я за топор. Много раз я ему плеточку эту спускал. Не унимался барин. Сполна и получил. А я бежал. Бежал с одного места до другого, бежал день и ночь, — аж покуда сюда не добежал.
VII
Незаметно и вечер наступил. Днем к каменному грибу идти Михайла поопасился. Виден тут будешь издалека. Как на ладони. Всякому-то и западет: а чего это чужой по степи рыщет?
Пошел в сумерках. Прикидывал: часов шесть, видно, пройти надо. Как раз и месяц взойдет.
Чернобородый опять в шалаш забрался, захрапел. Тут Михайла и тронулся в путь тихонечко. За ночь, подумалось, если б обернуться, то мужик ничего бы и не заметил.
Сатана, солдатская кость. Спит себе под своим тулупом на краю света… И горя мало. А мало ли? Тоже говорит: скука. А руки-то, между прочим, — в дворянской благородной крови…
Михайла шагал по гальке. Поднимался ветер. Море начинало шуметь.
Кровушка людская. У кого ее на руках-то нет? У Михайлы вот, например, тоже есть. Вспомнилось: молоденького офицерика, мальчика, застрелил в деле под Сальниковой ватагой, в последней страшной баталии, когда под тем хутором Емельяна Ивановича войска побиты были сплошь, а фельдмаршал его, Овчинников, голову сложил.
…Налетели под вечер рейтары, а впереди скакал офицерик этот, сабелькой помахивал, вопил, Михайла же от Пугачева недалеко стоял и видел, как тот повернулся, оскалился зло, крикнул. Ударили сбоку в пики казаки, все смешалось.
Между тем лошадь вынесла мальчика с сабелькой прямо на Михайлу, и тот его из пистолета на всем скаку ссадил. Завалясь на сторону, офицерик падал с лошади, убитый наповал. Парик же у него от удара соскочил, на голове открылись кудри русые, и тут же утонули в пыли.
Пугачев что-то кричал, широко разинув рот, вытянув руку. Сбоку приближалась еще одна колонна рейтаров. Михайла с трудом оторвал взгляд от юной головы в пыли, пришпорил лошадь, бросился следом за Пугачевым.
Русские люди… И все-то русские, русские люди. И кровь одна, и злоба. А что разное? Правда? Ведь за нее только кровушку-то и льют. Но если она разная, так какая же она, дьявол ее забери, правда? И в чьих руках?
Впереди начали расти уступами отроги, обрывы ракушечных скал. Они отчетливо белели в темноте. Низко над степью стоял красный месяц. Подымаясь мало-помалу, он светлел, и вокруг тоже все светлело. Резче выступали скалы. На воде месячные блики прыгали и дробились; рваной лентой уходила вдаль лунная дорога. Как скалы приблизились к берегу, Михайла пошел, прижимаясь потеснее к ним: так незаметнее. Раза два почудились сзади шаги. Михайла останавливался и слушал, затая дыхание. Ничего не услышал, пошел дальше.
Так, а может, лучше про сие про все не думать вовсе? Говорит философ отменный, что-де всяк размышляющий муж чудищу развратному подобен. Хорошо. Пусть, кто хочет, на четвереньках ходит. А если поднялся? Тогда смотри и очей опускать не смей.
Скалы уперлись в море, закрыли дорогу к берегу. Михайла вскарабкался вверх, пошел по плоской равнине.
Ну, хорошо. Господин Руссо, перво-наперво, скажем, на вольность все-таки уповает. А таким, как Федосей, — тем чего надобно? Голая земля. Пустыня. А посреди — скит, а в скиту чтоб иереи господу хвалу пели. Ну, не иереи — так хоть сам Федосей. А кто не согласный с тем Федосеем окажется, тому он сам с превеликой охотой голову оттяпает — не хуже стервятников, что в Тайной экспедиции службу правят.
При мысли о Тайной экспедиции Михайла втянул голову в плечи, зашагал быстрее.
А через Федосея к правде, чего доброго, еще трудней пробиться-то будет. И так — что ни шаг к ней, — то по колена в красном. Диву даже даешься: до чего ж у людей кровищи этой, оказывается, много. Льют её, льют реками! — а она все не кончается, а она все льется. И когда же конец? И неужели ж без нее до правды не добраться?
Нет, поручик, не решить тебе, видно, задачи сей. Где там! Какие умы брались! А ты только ужасаться можешь и рыдать. Так млела и тосковала беглого поручика Михайлы душа, не ведая, как утолить печаль свою.
Правда… Не мужицкая, не дворянская… Для всех… Одна, как солнце… Есть ли, нет ли такая на земле? Или только будет? Только еще родиться ей, только брезжит она пока где-то — в немыслимой дали, сияет, лучами играет, манит… Дойти, дойти бы, господи! Сподобь! Но как? Опять, конечно, — в кровях умываться? Хорошо. Мы не против. Но добро бы еще — окунаться в ту кровушку, что в жилах господина Лупандина и ему равных течет. А если и в другую тоже придется? В ту, что, скажем, — из сердца мальчика с русыми кудрями выпустить надо? Тогда как? И еще не известно, в каком виде все окажется, когда ты до желанного со своими лапищами красными доберешься.
Не можешь? А вот Емельян — смог. И сыну своему — истово и с верою, как на духу, — сказал: «Не злодей я; всею душою — нет!» Это как же? Это какая же ему сила дана была? И вера?
Голова у Михайлы начала раскалываться. Хуже всего — мелькнуло, — если тот офицерик с русыми кудрями, что у него из головы нейдет, — самого господина Лупандина тиран наизлейший.
Поручик, запутавшись, принялся уже было с досады плеваться. Но тут, вглядевшись, он, слава богу, заметил, что впереди опять стали громоздиться скалы, а чуть в сторону, ближе к морю, вырос какой-то столб.
Шел Михайла уже долго и теперь сообразил, что это, наверно, тот самый каменный гриб и есть, про который старик пискун Пугачеву сказывал.
Приблизившись вплотную, Михайла понял: ветры обдули одинокую скалу. На верху шапка осталась, ствол же утончился. Михайла долго стоял, смотрел. Верхушка у ствола сильно наклонилась, того и гляди, свалится. Чем и держалась — неизвестно.
Вокруг — мрачно. Каменное ложе, каменные обломки. Пустота. Сюда, наверно, и не захаживает никто.
В лунном свете все казалось диким, будто в кошмаре.
Михайла принялся мерить шаги, сбивался, считал сызнова. Полночную сторону света нашел быстро — звезды над головой стояли. Ямы же и камни попадались на каждом шагу. Наконец нашел, — как будто та, с камнем. И щебнем засыпана. Выгреб, однако, на локоть глубины и уперся в скалу. Не та яма. Видно, в сторону взял. Промаялся так Михайла, наверно, с час.
На пятый счет только попалась ему мелким камнем забитая впадина рядом с валуном. Михайла опустился на колени. Щебень лежал плотно — пальцы не брали. Несколько слоев ковырял ножом. Дальше пошло легче, попадались голыши покрупнее, один раз звякнул черепок. Михайла торопился, дышал часто, пот застилал глаза… Несподручно было, мешал нависший валун… Наконец — на вытянутой руке — нащупал внизу горшок, заткнутый тряпкой; потянул его, закусив губу, наверх.
Но — как раз в тот же миг — явственно раздался позади шорох. Поручик круто обернулся — над ним черной фигурой, луну собой заслоня, вздымая над головой громадный камень, подавшись вперед, стоял человек.
VIII
Михайла успел-таки прянуть в сторону. Горшок с золотом ухнул обратно в яму. Камень сухо треснулся о валун, высекая искры, отскочил и попал человеку под ноги. Злодей этот, видя, что удар его прошел мимо, кинулся было, секунды не теряя, на Михайлу, да споткнулся о камень и свалился наземь. Ящерицей быстроногой вильнул прочь Михайла, вскочил, обернулся, ища глазами супостата — и увидел вдруг, что все вокруг уже изменилось. Будто платком темным кто на небе взмахнул — туча надвинулась на месяц, плотно закрыла его.
Михайла попятился, держа нож наготове. Пустить его в ход не успел. От валуна метнулась тень, страшный удар в живот опрокинул поручика на землю. Головой толкнул, аспид! Поручик вскочил, согнулся от боли, прыгнул в сторону. Мимо просвистел камень. Михайла стиснул зубы, присел, стараясь не потерять из виду мелькавшую тень. В темноте, однако, сделать это было не просто. Показалось — пятно сатанинское пляшет повсюду — и там, и тут. Камни то и дело проносились над головой, щелкали позади. Один звезданул-таки поручика в ухо. Михайла взвыл. Ему стало страшно. Вор в темноте видел, кажется, лучше, чем он.
Совершалось это все в полном молчании. Будто дьяволы немые метались вокруг. Михайла даже рассмотреть не мог, — кто на него напал? Может, их несколько?
Поручик бросился к каменному грибу, прижался к столбу, — хоть тыл свой в безопасность привести. Вор, однако, вконец, кажется, остервенел.
Камни, правда, перестали свистеть. Но не успел Михайла даже сообразить, какие еще тут могут быть новые подвохи, как враг его, сжавшись в тугой комок, прянул ему под ноги. Тела людские с такой силой ударились о столб, что он задрожал, а наверху раздался тихий скрежет, на который, однако, никто не обратил внимания.
Михайла упал и сразу же почувствовал, как длинные, костистые пальцы страшной хваткой сжали ему горло. Он рванулся что было силы, но костлявое кольцо не разжалось. Перехватило дыхание. С коротким, сдавленным воплем он рванулся еще раз, полоснул ножом наотмашь наугад — и вдруг почувствовал, что железные пальцы ослабли…
Михайла вскочил и опять с размаха ударился плечом о столб. И тут — в мгновение ока — уловил в каменной громаде, как дуновение, как вкрадчивый нежный шорох, — еле внятную дрожь, словно в сердцевине ее что-то повернулось.
Не понимая еще, что случилось, поручик метнулся прочь — и сразу же, вслед за тем, покрывая крик лютой боли, раздался грохот падающей скалы — рухнула вниз шляпа с каменного гриба.
Упав наземь, Михайла лежал и, затаив дыхание, слушал. Не доносилось ни звука. Вдалеке, под ветром, все громче и громче шумело море, да в груди гулко стучало сердце.
Потом — еле слышно — задрожал в темноте щемящий стон и смолк. Потом снова, и снова. То усиливаясь, то замирая, невыносимо тянулось одинокое стенание тонкой, режущей нитью сквозь мрак. Всю ночь. Под утро лишь замолкло.
Выжатой тряпкой валялся Михайла, и в душе его не было ни злобы, ни ненависти, — вялость одна.
Стало светать.
Покачиваясь, поручик встал, подошел к глыбе, отшатнулся. Выдаваясь плечом, подвернутой, прижатой к шероховатому камню головой, лежал мертвый Федосей — спорщик, искатель краев теплых, умеренных… «Раины, да ручьи, да поля широкие. Воздух благостный…» — задрожал в ушах воспоминанием истовый говорок.
Рядом у камня — кровь лужей темнела. Тонкой струйкой натекла. Застыла.
Михайла перекрестился, отошел.
Через силу побрел к проклятой яме. Лег на живот, потянул горшок, поставил его между ног, отвернул тряпку. Тускло блеснуло золото — монеты старые российские, всяких размеров и чеканки, а более всего — заморских стран, неведомые, с затейливыми знаками. Михайла тупо смотрел на них. Потом всхлипнул неожиданно, расстелил плат, принялся укладывать кружочки, заворачивая ряд за рядом. Привязал под исподним на живот, туго подпоясался.
Опустевший горшок кинул обратно в яму. Наклонился, заглянул: сколько их еще там, да кто хоронил? Степана Тимофеевича товарищи? Или кто еще? Ну и пусть. Пусть лежит. Может, еще когда придется, в другой раз.
Завалил яму, засыпал, затолкал камнями, щебнем, как было, встал и не оглядываясь зашагал прочь. Уже отойдя, не выдержал, обернулся: обрубком торчал каменный палец, отбрасывая длинную тень.
IX
Солнце опять начало жечь. А ветер все дул, все дул не переставая. По морю бежали барашки.
Еле брел Михайла. В животе сосало, губы запеклись, а на сердце тоска навалилась мертвая.
Дрожали в горячем ветре скалы, море, берег. Ни души. Каждый шаг — мука. Печь огненная. Одному худо, с людьми теперь еще хуже будет. Почему так? Потому — пока наг ты и нищ, человек.
Но лишь учуют в тебе эти монеты, — пропал. Тогда не человек ты — стервятина на пути к золоту. И убьют, и зарежут, и в море кинут.
Михайла облизал губы, передохнул. Все таковы. И тут же — прыгнуло, задрожало сердце: Канбарбек! Бородка седая, реденькая, сухое лицо. Черт молчаливый. Тот бы и глазом не повел. Лишь прищурился бы да сплюнул, — в кулак бороду захватил, сказал бы коротко:
— Э, Михайла, дурак ты! Зачем тебе? Иди к нам жить…
Иди. Легко сказать. А куда? Ведь две ночи уже, считай, как увел Канбарбек аул свой… Никуда не прибиться. Ни пути, ни исхода. Старик рыбак? Николка? Им, может, тоже золото ни к чему. Один — старый, другой — малый, как теленок глупый… Может, и не польстились бы… Да что с того? Да и что со златом тем в степи сей делать? Да как жить? Да ведь поймают, уведут, в железы закуют, и — не злата ради, а — государынины слуги, за душою твоею охотнички. За то-де, скажут, что воровал ты с Емельяном Ивановичем, гулял по Волге.
А и чего гулял-то? Спроси — не ответить. Сначала — неволею, а потом будто и охотою. Тогда смутно, сейчас — еще смутнее. Не видать ничего. Раскололась душа.
Шаг за шагом. Долог путь под сумасшедшим солнцем. Куда дольше, чем ночью. И вдруг — расступилась стена отвесная. Овражек со скал к морю вниз спускается. Даже и не овражек — промоина добрая. А по ней — струйка бежит, сочатся капли прозрачные.
Подошел Михайла, со стоном опустился на колени, скинул малахай, подставил ладони. Пил долго. Мыл руки, лицо. Вот так и Емельян Иванович, ночью светлою, лунною, осеннею лицо, руки свои омывал в роднике над Волгою. Где они теперь, руки те крепкие?.. Нет ничего.
Вода лилась, журчала. Михайла отдыхал, снова принимался пить. Отяжелел. Наконец поднялся, повел взором вокруг. В глаза бросился грот — сердечком. Усмехнулся криво: как раз — для нимф пугливых, нежных. В Версали, поди, и то такого нет.
Вздохнул, затиснулся в тень, в грот, ломая причудливые края, глянул — сухо! — лег и заснул в тот же миг, будто в пропасть полетел.
Когда проснулся, в глаза ударил красный зрак солнца. Оно стояло уже низко над морем. Море уже успокоилось, и алая дорога тянулась гладкая и ровная до самого окоема.
Михайла заспешил. Есть хотелось ужасно. Пошел ходко. Скоро и мыс Карган показался. Но тут поручик стал вдруг как вкопанный и замер. Поодаль от берега судно с полосатым, красным и белым парусом покачивалось. На самом же мысу — толпа грудилась, и крик от нее шел изрядный.
Оробел поручик. Кто? Лошкаревская шмака? Так мужик болтал — через недели две только купца ждать. А если Лошкарев поране срока явился — так к чему? Может, и впрямь — с солдатами? А — за кем? За такими, как он, Михайла?
Пока не стемнело, отлеживался поручик за бугром. Мелькнуло даже: а не растаять ли ему, как татю в ночи? Не отбежать ли подальше в степь, да не схорониться ли там? Пусть сгинет корабль, — тогда уж и выйти без опаски.
Кусал он губы себе, а внутри все дрожало от страха, а пуще всего — от надежды. И чувствовал — никуда не уйдет. Тянул к себе парус сей проклятый, казался обетом, что из марева возник вдруг нежданно-негаданно.
Полночь уж, поди, наступила, когда прокрался Михайла на мыс. Толпы не было. Поодаль кибитки стояли. Человеки же разные все еще бродили, толкались, сидели у костров. В халатах, бородатые, в высоких бараньих шапках, другие же в коротких штанах, в куртках, с чалмами. Говорили непонятно, громко; хохотали, кричали.
Михайла, однако, все увертывался да оглядывался, покуда не добрался до войлочного шалаша. Там тоже горел костер, а возле кроме чернобородого сидели двое, — лицами темны, на головах платки красные, на затылках узлом стянуты.
Ели из котла уху, а к ухе было еще и горячительное. У одного гостя стоял меж колен бочонок, и он из него деревянным ковшом хмельное черпал и соседей по костру обносил.
Пили с охотой. Чернобородый мужик с темнолицыми даже и разговор через пень-колоду вел, потому, что те, видно, по-российски кое-что мерекали. Разговор, впрочем, был, вполпьяна. Захохотал чернобородый, Михайлу увидев.
— Ты где был? — заорал он. — Я думал, сбежал. Садись, пей. Не перечь. Аль не видишь? Я сейчас мужик со хмелем, одно ухо оленье, а другое тюленье, значит, — гуляй!..
Михайла сел.
— Народ хороший, — одобрительно кивнул мужик на гостей. — С персицким купцом Задег-ханом из Астрахани домой плывут. Сам он с Мазандерана шелком торгует, да муслином, да бархатом рытым, а еще и заедками сладкими, и кореньями пряными, и вином заморским…
Мужик зажмурился — хоть чужую казну посчитать, коли своей нет. Гладил бороду, улыбался. Темнолицые, в красных платках, кивали:
— Так, так…
— А на мыс Карган Задег-хан муку из Астрахани привез, а у трухменцев за ту муку шерстью да деньгами возьмет же, и будет у него к казне еще прибавление, — не говорил, пел чернобородый.
— А к команде ему не нужно прибавление? — будто вскользь бросил Михайла.
— Чего? — не понял сразу мужик, свел, наморщил брови, заглянул поручику в лицо. — Ах, вот ты про что, — спохватился, заспешил. — А чего ж нет, а и впрямь!
Гости улыбались, переводили глаза с мужика на Михайлу, молчали, ждали… Тот, что над бочонком сидел, зачерпнул в нем ковшом, подал Михайле:
— Пей…
— Пей, пей, — зашептал мужик, подышал жарко над ухом, — это Хасан, у купца лоцманом, ему поклонись…
Михайла принял ковш, поднес ко рту, пригубил — терпко, горячо; пахнет странно, незнакомо, а хорошо. Он опустил глаза и, утонув взглядом в темной густой влаге, не отрываясь выпил все до дна.
— Хорош, — сказал коротко Хасан, беря ковш обратно. — Хорош, — повторил еще раз и крепко похлопал Михайлу по плечу.
— Ты его возьми, возьми с собой, — быстро заговорил мужик, — он-то смышлен, а работать — лют…
Хасан кивал головой, слушал. Михайла молчал. Глаза его были широко раскрыты… Голова начинала медленно кружиться. Дрожали, плыли мимо огни костров в черной ночи, звезды, блики на волнах морских, красная от костра рожа мужика, темные с медным отблеском лики персов.
«В последний раз вижу брег сей, — хмелея, думал Михайла. — А предстоит разлука. И до каких же пределов простираться ей? Скажи! Не ведаю, не знаю…»
А мужик, обхватив его рукой, роняя пьяные слезы и еле ворочая языком, объяснял:
— Я бы за тобой тож… Ей-ей! Только бы ты мне кваску испить дал… Ведь душа горит. Горит она… Горит!..
X
Проснулся Михайла уже утром, далеко в море. Волны шумели. Он лежал у самого борта. Подняв голову, глядел на след пенный, что убегал назад. Снасти, палуба, настынув за ночь, холодили тело. Пробирала дрожь. Колбаса с монетами сбилась на брюхо в сторону, мешала. Поправить было лень.
Да. Монеты золотые увезешь с собой в тряпке. А отечество?
Пусто, ясно было кругом. Плескалась зеленая вода. Свежий ветер срывал брызги с волн, кидал в лицо. На востоке желтой полосой тянулся берег, нырял, исчезал за зеленой стеной, снова взлетал на гребни.
На юте шумела, горланила команда. Мимо, шлепая босыми ногами, два раза прошел Хасан, ничего не сказал.
Нутром, сердцем чувствовал Михайла: уходило, плыло назад то громадное, чего не выразить, не охватить было словами.
Там осталась усадьба с ветхим домом, с прудом, с ивами; служба полковая, капитан Хотимов, повешенный Пугачевым; и сам Пугачев, казненный на Москве; Канбарбек, Айгулькины глаза темные; старик рыбак с Николкой, телком, глупым малым; Федосей, убитый глыбой; мужик чернобородый на мысу, — убийца-мученик, страдалец под войлочным шалашом.
Все там остались.
А в лесах на Волге теперь — весна. Сквозь лист бурый, вялый, дождями, снегами прибитый, зеленая трава давно уж, поди, стрелами прет, — на солнце, на воздух, на простор…
Пришел Хасан, сел рядом, положил ниток моток, два челнока, мрежу начатую.
— Сеть вязать надо, — сказал.
Стали вязать. Петля за петлей. Ячейка за ячейкой. Хасан вяжет, Михайлу тому же учит, показывает. Споро вязка идет, и сразу видно: понятлив поручик, и смекалист, и ко всякому делу охоч. То и хорошо.
Прошел мимо сам Задег-хан — сонный, пухлый, в халате. Из каютной горницы своей к нужнику проковылял, потом — обратно. Идет, бороду рыжую, хной крашенную, гладит, четки перебирает, веки опустил, по сторонам не глядит.
Хасан посидел, ушел. А у поручика все дальше, все дальше мрежа идет. Узел, узел — ячейка. Узел, узел, узел — еще ячейка. И сеть так и жизнь тоже человеческая — петля за петлей, ячейка за ячейкой — растет, вяжется.
Оказался вот в прошлые дни на твоем, дворянского сына, пути тот, кого ныне вором Емелькой кличут. И повлек за собой, и задрожала душа твоя, и раскрылась, и ужасам многим, и обидам, и делам неслыханным свидетельницею стала. И уразумела. И все — через Емельяна Ивановича руки, кровью людской обагренные. Лют, что ли, был? А как же! Но лютости одной мало. Да и крови тоже. Потому как не всегда, видно, чужая кровь во грех и не всегда-то своя во спасение.
…Ночью, наевшись, сидели все опять на юте. Михайла привалился тут же. Хасан приволок бочонок, раздавал жбаном вино. Матросы пили, орали, смеялись. Михайла молчал.
Потом кто-то — невидимый в темноте — запел вдруг, завел тонким, надрывающим душу голосом что-то печальное, бесконечное. Остальные мало-помалу затихли, и воцарилась тишина; вплетался же в нее только шорох волн.
А голос все пел — рыдал под месяцем, под звездами, над темным морем, — жаловался на судьбу, падал и взлетал опять, и не было конца этой непонятной, ранящей жалобе.
Прижав руки к груди, обратив лицо к ветру, глядел Михайла неотрывно назад, во тьму, и, ничего не видя, помимо мрака кромешного, чувствовал, что по щекам его медленно текут слезы: обратно пути уже не было.


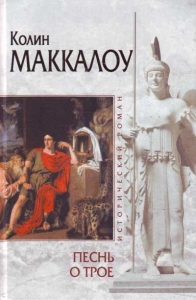

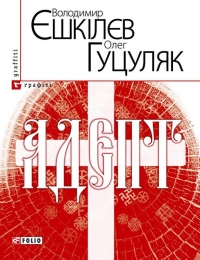


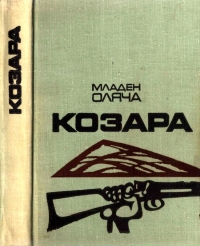

Комментарии к книге «Беглец», Юрий Павлович Плашевский
Всего 0 комментариев