Воевода Шеин
БСЭ. М., 1978 г., т. 29.
ШЕИН Михаил Борисович (год рождения неизвестен — умер 28.4.1634), полководец и государственный деятель России. В 1602–03 — участвовал в подавлении выступлений крестьян и холопов; в 1602–07 — Крестьянского восстания под предводительством И. И. Болотникова. Окольничий с 1605, боярин с конца 1606 — начала 1607. С конца 1607 — воевода Смоленска. Во время интервенции польско-литовских феодалов в Россию возглавил Смоленскую оборону 1609–11. При взятии поляками Смоленска 3 июня 1611 раненый Шеин попал в плен и был увезён с семьёй в Польшу. Вернулся в 1619, стал одним из ближайших к патриарху Филарету лиц. В 1620–21 и 1625–28 возглавлял один из сыскных приказов, в 1628–32 — Пушкарский приказ. В 20-х — начале 30-х гг. участвовал в многочисленных дипломатических переговорах (в т. ч. секретных). В апреле 1632 назначен командующим армией в русско-польской войне 1632–34. После вынужденной капитуляции русских войск 15 февраля 1634 был необоснованно обвинён в многочисленных преступлениях и ошибках (в т. ч. в сознательной измене в пользу Владислава IV) и казнён по приговору Боярской думы с конфискацией имущества и ссылкой членов семьи.
Глава первая ЦАРСКАЯ СЛУЖБА
оевода Михаил Шеин по своему происхождению принадлежал к древнему московскому боярскому роду. В XIII веке выехал из Пруссии в Новгород некий вельможа Прушанич, занялся торговым делом, мастерскую иконописную открыл. Но Прушанин, как его назвали по-новгородски, не задержался надолго в Новгороде, перебрался в молодую Москву. У потомка Прушанина в седьмом колене родился сын — богатырь Василий Михайлович Морозов, по прозвищу Шея. Сказывали, что он через ремень на шее поднимал годовалого бычка. И было у Шеи два сына. Старший из них, боярин Димитрий Васильевич, и стал родоначальником Шеиных. Знатен был Димитрий Васильевич сыновьями. Все три сына заслужили боярские звания. В ранние годы царствования Ивана IV братья Василий, Иван и Юрий Шеины были в большой чести у царя. Среди сыновей боярина Василия старшим был Борис. Судьбе было угодно уберечь род бояр Шеиных от опалы Ивана Грозного. Никто из них не служил в опричнине, но все исправно несли службу и не где-нибудь, а на южных рубежах Руси, защищая их от набегов казанских и крымских татарских орд.
Беспокойной была жизнь у Бориса Васильевича Шеина. В 1574 году Разрядный приказ отправил его на «береговую службу» воеводой и наместником города Почепа. Этот город жил постоянно по законам военной поры и служил форпостом Брянска, когда Крымская орда отправлялась в набеги на Русь. Там, в Почепе, родился у Бориса Васильевича и его супруги Елизаветы, боярской дочери из Костромской земли, сын Михаил. Мальчик так и не запомнил отца, потому как вскоре после его рождения боярыня Елизавета с дочерью, которая была на три года старше брата, уехала на постоянное жительство в Москву, в родовые палаты бояр Шеиных на Рождественке.
Сам Борис Васильевич вскоре встал воеводой в Туле, но и года не прослужил, как в 1578 году отправился в «немецкий» поход. В его большой отряд входили служилые дети боярские и донские казаки. Он же сделался воеводой при пушечном наряде. И велено было Борису Шеину Иваном Грозным занять Полоцк. Как писали летописцы той поры: «Если первое не удастся, то занять Сокол и отсюда тревожить польские войска и затруднять им сообщение с Литвою в ожидании главной русской армии».
Воеводе Шеину не удалось взять Полоцк приступом. Но крепость Сокол он сумел занять с малыми потерями и пустил молву о том, что сам царь идёт с большой ратью следом за ним. Однако этот слух не испугал польского короля Стефана Батория. Умелый полководец, он отрезал Шеина от Полоцка. Больше того, введя своё войско в Полоцк, Баторий перекрыл Шеину все пути отступления из Сокола. Шли дни, недели, а царское войско всё не подходило к Полоцку. Тогда воевода Шеин встал во главе своих ратников и казаков и повёл их на прорыв, чтобы выйти из осады. Но попытка Шеина оказалась напрасной: казаки изменили Шеину и царю Ивану Грозному и с поля боя ушли на Дон. Борис Васильевич был вынужден вновь уйти за стены Сокола.
Стефан Баторий той порой, отдохнув в Полоцке, направил своё войско на крепость Сокол. Окружив её плотным кольцом, он повёл своё войско на приступ. Силы наступающих во много раз превосходили число засевших в крепости. К тому же стены крепости были ветхие, и поляки легко их пробили. Русские воины сражались отчаянно, но все полегли. Погиб и воевода Борис Шеин. Рассвирепевшие поляки притащили его труп на площадь и на глазах у Стефана Батория обезобразили и растерзали.
Предание мало что сохранило о ратных подвигах и гибели воеводы Бориса Шеина. Лишь дьяки Разрядного приказа помнили о его стоянии в крепости Сокол. Они-то и донесли до сына воеводы Михаила Шеина эти сведения, когда пятнадцатилетний боярский сын был взят на царскую службу. Тогда юный Шеин и дал себе слово посвятить свою жизнь, как отец, ратному делу.
А чуть позже Михаил узнал, что кому-то было нужно умалить заслуги отца перед отечеством. Он ушёл под Полоцк не только воеводой при наряде пушек, но и главным воеводой над ратниками и казаками. Был Шеин в ту пору в чине сокольничего[1], и когда Стефан Баторий осадил крепость Сокол, а донские казаки — не одна тысяча — предали русских ратников, то воевода оборонял крепость до последнего дыхания. «Да не падёт на нас срам, и, пока держим в руках оружие, не сдадимся врагу», — обходя по крепостной стене немногочисленных защитников, говорил им воевода Борис Шеин. Защитники крепости отразили не один, а множество приступов, и под стенами крепости лежали сотни вражеских трупов. Но россияне были сломлены превосходящей силой, и крепость Сокол была взята.
В стольном граде воеводу Бориса Шеина чтили многие. Даже сам патриарх Иов, благословляя на амвоне Успенского собора Михаила на служение в Кремле, сказал:
— Сын мой, вступая в государев дворец на службу, береги честь своего родителя радением своим за русскую землю. Он заслужил вечную память россиян.
— Спасибо, святейший, я буду помнить твой наказ, — ответил Михаил Шеин и, опустившись на одно колено, поцеловал край ризы патриарха.
Иов осенил Михаила крестом и велел подняться. А когда тот встал, патриарх осмотрел его со всех сторон, словно приценялся, и произнёс напутствие:
— Помни, сын мой, одно: при твоей крепкой стати и при твоём иконописном лике легко стать соблазнителем дворцовых девиц и молодых жён. Не преступи же Божью заповедь, не прелюбодействуй.
— Не преступлю. На том целую крест.
И Михаил поцеловал большой золотой крест на груди патриарха. Ему пришлось склониться к Иову, перегнувшись в поясе.
«Как человек родословный, Михаил Борисыч Шеин был рано записан в дворцовую службу», — отмечено в хрониках. И служение ему досталось лёгкое, к тому же соблазнительное. Его поставили помощником главного виночерпия, или чашника, дьяка Ивана Костюрина. Сам виночерпий, ещё молодой — и тридцати лет не было, страдал от винолюбия, обожал хмельное, но умело скрывал это, пил только на ночь. Своему помощнику он сказал:
— Зреть не смей зелье бесово и в рот капельки не бери.
Жизнь, однако, заставила молодца иной раз прикладываться к хмельному, но дьяку Шеин твёрдо ответил:
— Постараюсь, батюшка-дьяк, не дружить с бесами. Слышал я, что хмельное немочь приносит.
Вскоре нагрянула беда. Безмятежная, привольная служба Михаила, как и вся жизнь в царском дворце, в Москве и по всей державе, всколыхнулась, завихрилась, привела в великое беспокойство. То, что произошло майским днём 1591 года в малом уездном городке Угличе на Волге, суровым эхом будет отзываться в русской жизни не одно десятилетие.
Было семнадцатое мая, уже смеркалось, когда в Кремль впустили утомлённого всадника на коне, готовом вот-вот упасть. Гонец проехал к царским палатам, рынды[2] отвели его во дворец, и он оказался перед лицом правителя — боярина Бориса Годунова.
— Из Углича я. Там великая беда, — устало сказал гонец.
— Грамота есть? — спросил Годунов.
— При мне. — Гонец достал из-под кафтана с груди свиток. — В ней весть о гибели царевича Димитрия.
Борис Годунов побледнел, отвёл руку от грамоты, повернулся к своему дяде, который служил во дворце дворецким, и велел ему: — Григорий, отнеси святейшему.
Григорий Годунов, благородный боярин, с кротким лицом, взял грамоту, но уходить медлил.
— Ну что стоишь?! Господи… — повысил голос Борис.
— Славный племянник, я лучше позову патриарха Иова, и вы вместе пойдёте к царю. Там должно прочитать грамоту.
— Делай как хочешь, — безвольно согласился Борис Годунов.
Дворецкий Григорий покинул покои с племянниками. В Брусяной зале он увидел среди служилых, что обычно собирались к вечерней трапезе, Михаила Шеина и позвал его:
— Миша, ты мне нужен, идём со мной.
— Что случилось, батюшка Григорий? На тебе лица нет.
— Сам толком не ведаю. Поспешим к патриарху.
Из царского дворца в палаты патриарха можно было пройти крытыми сенями, и Годунов с Шеиным уже через минуту-другую стояли перед дверями палат патриарха. Но впервые, может быть, за всю службу дворецкий Григорий дрогнул перед тем как открыть дверь. Михаил понял состояние старого боярина и взялся за ручку двери.
Иова они застали за чтением Ветхого Завета.
— Благослови, владыко… — обратился дворецкий к патриарху.
Иов осенил Григория крестом.
— Дурные вести? — спросил зоркий старец.
— Беда, святейший. Вот грамота из Углича. Просит тебя Борис-правитель прочитать её и царю донести.
— Прости нам, Господи, грехи наши, — вздохнул Иов.
Он взял грамоту, но не вскрыл её: держал в руке, осматривал со всех сторон.
Михаилу показалось, что патриарх знал содержание грамоты.
— Идёмте к царю-батюшке, — сказал Иов, держа грамоту далеко от себя.
Шеин подошёл к патриарху, взял его под руку и повёл в царские палаты. В пути к ним присоединился Борис Годунов, и они вчетвером предстали перед царём Фёдором Иоанновичем, который забавлялся с белоснежной борзой Снежиной. Царь спросил:
— Что у тебя, святейший? Если в храм зовёшь, то я приду.
— Беда к нам пришла, сын мой, — ответил Иов, развернул грамоту и принялся читать.
Написано в ней было о том, что девятилетний царевич Димитрий, играя в ножички, вдруг впал в судорожный припадок падучей болезни, своей рукой невольно ударил себя в горло и упал замертво. Было добавлено в грамоте, что всё это случилось от небрежения князей Нагих, мамок и нянек, которым надлежало смотреть за царевичем. Но в грамоте была приписка князей Нагих, и они открещивались от своей вины и злодеяние в смерти царевича Димитрия перекладывали на дьяка Михаила Битяговского и его сына Данилу, ещё на племянника дьяка Битяговского Никиту Качалова, якобы насильственно отнявших жизнь у царевича Димитрия.
Михаил Шеин стоял рядом с патриархом Иовом, читавшим грамоту, и видел, как плакал старец, руки его тряслись, а голос срывался. Видел Шеин и бледное лицо царя Фёдора, покрытое холодным потом, его блуждающие глаза, полные слёз. Лишь только Иов дочитал грамоту, как царь Фёдор опустился на колени и стал молиться:
— Господи, воздай нам за прегрешения великие наши…
В это время в царский покой вошла царица Ирина. Она была в расцвете лет и красоты. Увидев смятение в покое, слёзы на глазах патриарха, сама побледнела, тронула за руку своего брата Бориса Годунова, потом патриарха и спросила:
— Что случилось, сердешные?
Иов взял её за руку и повёл к царю, опустился рядом с ним на колени и увлёк Ирину. Борису Годунову и Михаилу Шеину ничего не оставалось, как присоединиться к царю и патриарху. Иов чистым голосом начал молиться за упокой души усопшего. После молитвы по жертве злодеяния все встали, и Годунов спросил царя Фёдора:
— Государь-батюшка, можно ли мне, рабу твоему, провести строгое следствие и наказать смертью виновных?
— Божья воля на то ниспослана. Судите без милости, но справедливо и по правде. Идите все. А мы тут с матушкой Ириной помолимся и поплачем о братике.
Майские дни девяносто первого года запомнились Михаилу на многие годы. Он не попал в состав комиссии по расследованию убийства царевича Димитрия, которую возглавил князь Василий Иванович Шуйский, но был среди тех, кто сопровождал и обслуживал её в Угличе. Вторым главой комиссии был ещё довольно молодой дьяк Поместного приказа Елизар Вылузгин. Он сразу приметил Михаила Шеина и приблизил его к себе. Потом, в пути к Угличу, он свёл Михаила с митрополитом Геласием, которого включили в комиссию по настоянию патриарха Иова. Вылузгин и Геласий, два воителя за правду, преданные царю и православной вере, дали наставление Михаилу Шеину. Речь завёл бойкий на слово Елизар Вылузгин. Он был лобаст, с умными карими с рыжинкой глазами, с опрятной бородкой, тоже с рыжинкой.
— Ты, Михайло Шеин, лишь начинаешь дворцовую службу, тебя червоточина свар и сплетен ещё не подточила. Так ты вместе с нами послужи царю-батюшке и святейшему патриарху добыть в Угличе правду. Смотри на всё, слушай, смекай что к чему. Ты головаст и книжен. А потом поделишься с нами тем, что добудешь.
— Постараюсь, батюшка-дьяк, и посильное добуду. Вот только с чего начать, не ведаю.
— А ты потолкайся на торгу, в полотняный ряд загляни, да где скотом торгуют. Новинок короба наберёшь. А одежонку дворцовую сними, попроще какую вздень, — добавил Елизар.
Комиссия въехала, как показалось москвитянам, в вымерший город.
На улицах пустынно, даже собак не видно. Лишь близ главной площади Михаил увидел пристава, склонившегося в поклоне. Шеину доведётся и впрямь быть очевидцем вымершего города. Почти всех угличан вывезут в сибирские земли. Останутся только те, кому вырвут языки, — их будет около двухсот.
Пока же Углич жил и дышал в ожидании наказания. Михаил видел, как то тут, то там, из-за заборов и плетней выглядывали испуганные лица горожан. «И где тут искать мне правду? — подумал он. — Да и не моя это справа[3]. Сами Вылузгин и Геласий не промах».
Сделав такое заключение, Михаил почувствовал, что ему стало легче дышать и исполнять положенное служебное дело.
Но вольно или невольно, постоянно общаясь с членами комиссии, Михаил узнал почти всё о том, как развивались события в Угличе, и даже пытался по-своему осмыслить запутанный, на его взгляд, ход самого злодеяния. На допросах братьев князей Нагих первый же, старший из них, Михайло, в своих показаниях заблудился в трёх соснах. Он утверждал, что царевич Димитрий не играл четырнадцатого мая в ножички, а был зарезан Данилой Битяговским и Никитой Качаловым на чёрном крыльце княжеских палат и что первым увидел совершенное злодеяние звонарь по кличке Огурец, который был в это время на колокольне. Он и ударил в колокол храма Святого Преображения.
Смекалистый Михаил, услышав про эту «сказку», отправился всё проверить. Он покружил вокруг палат князей Нагих и понял, что из-за них, где стояло чёрное крыльцо, храм никак не увидишь. Но Михаил сходил, однако, к собору, поднялся на колокольню. Осмотрев округу, он изрёк про себя: «Так и есть, ложь пустили про пономаря. Не мог Огурец увидеть, как убивали царевича. Потому загодя был кем-то предупреждён, чтобы ударить в колокол. А вот кем — это загадка». И у Михаила появилась жажда учинить свой изыск злодеянию. Тут же он подумал, что ему не следует ослушаться дьяка Вылузгина и митрополита Геласия: ведь он помогал защищать невинных угличан. Потянув за одну ниточку, Михаил ухватился за другую. Если дьяк Михайло Битяговский был призван защищать интересы князей Нагих и бывшей царицы Марии Нагой, то зачем ему было убивать свидетеля злодеяния — пономаря Огурца? Выходило, что пономарь знал нечто большее, чем то, что ему приписывали и чего Михайло Битяговский и князья Нагие боялись.
Узнал Михаил и то, что Огурец был страстным любителем рыбной ловли и на Волге близ Углича у него имелись потаённые места, где он пропадал всё свободное от звонов время. И подумал Михаил, что ему надо побывать на Волге в тех местах, где ловил рыбу на мерёжу или на удочку пономарь Огурец. А как стал Михаил собираться в путь, так что-то подтолкнуло его взять баклагу с хлебной водкой и положить её в суму. И съестного к баклаге он приложил. Не поленился Михаил сходить в сарай неподалёку от собора, где хранились дрова. Там он нашёл рыболовные снасти, которые, похоже, принадлежали Огурцу. С тем и отправился Михаил на рыбную ловлю на четвёртый день пребывания в Угличе. Болея сам страстью рыболова, он надеялся встретить на реке себе подобного. Знал он, что рыболовы преданы своей страсти и, хоть гори всё кругом, их не отвратишь от рыбных ловов. И Михаил не ошибся. В версте выше Углича, в тальнике на берегу тихой заводи он встретил пожилого служку из храма Преображения, который в зимнее время топил печи в храме, теперь же ловил рыбу себе на прокорм и священнику Павлу в «пошлину». Был служка щуплый, в поношенной ризе, с козлиной бородкой и вишнёвыми с хитринкой глазами. Увидев Михаила, он встал с сосновой чурки, на которой сидел, поклонился и тонким голосом сказал:
— Милости прошу к нашему рыбному лову. Место от Бога. Лещ и судак по всей заводи гуляют, да даются не всем.
— Спасибо, отец, что пригласил. Мне важнее рыбы дружелюбный рыболов: душу отвести будет с кем.
— Оно так, добрый человек.
— Тебя как звать-то?
— Лампадом меня батюшка нарёк. И знатно: велением Божиим я просвещающий.
— А меня Михаилом кличут.
Слово за слово Михаил и Лампад разговорились. Служка сбегал в кусты, принёс ещё одну сосновую чурку, поставил рядом со своей, пригласил Михаила:
— Садись, мил-человек. В кои-то веки душу отведу вдоволь. — Лампад был словоохотлив и признался: — Иной раз с рыбками веду разговор, так они безответные. — И поведал скороговоркой, что они с Огурцом волжские побратимы: — А как же, мы с ним на одной льдине за Углич ненароком плавали, и все щуки нам были знакомы. Да вот потерял я своего собрата. Горюшко превеликое ко мне прикатило…
Как только завязался разговор на короткой ноге, Михаил баклагу из сумы достал, кусок говядины пластами нарезал. Лампад, увидев баклагу, глазами засверкал.
— Мил-человек, Господь тебя послал. А я-то болью душевной маюсь.
Из кармана ризы Лампад вытащил маленькую глиняную махотку.
— Плесни, мил-человек, плесни!
Михаил налил ему полную махотку хлебной водки.
— Погаси свою боль, отец, — сказал он и подал служке кусок хлеба с говядиной.
Лампад до капельки выпил хмельное, съел хлеб с мясом и вдруг сделался грустным, запричитал:
— О Боже, Боже, ежели бы нечистая сила не дёрнула Огурца за язык, сидели бы мы ноне рядом у огонька, пили бы бражку да хлебали бы юшку[4]. Не иначе как лукавый надоумил его колокол за язык дёрнуть.
— Что же он такое сказал, отец?
— А то и сказал, что погубило его. Вот ты праведный человек, по глазам вижу. И мой Огурец был таким.
Лампад посмотрел с жаждой на баклагу. Михаил подал ему хмельное, тот налил немного в махотку, выпил и продолжил: видел он и узнал то, о чём до смертного часа надо было ему молчать. А он, душа непорочная, выплеснул всё, словно воду из таза. А ведь правда была в том тазу, правда!
— Ты бы, отец, пояснее сказал, — попросил Михаил.
— И верно, сын мой. Скажу тебе как на духу о том, что должен был хранить на замке Огурец. Да мне не страшна смертушка, я своё прошёл. — Помолчал, повздыхал Лампад и изрёк: — Был мой славный Огурец очевидец, как князья Нагие подменили своего сынка и племянника царевича Димитрия.
— Неужели подобное могло случиться? А смысл-то в чём?
— Случилось. А смысл один: уберечь царевича от убийства думали Нагие. Догадались князья, что дьяк Михайло Битяговский, его сын да племянник присланы из стольного града, дабы выполнить чью-то волю… А иного и не ведаю.
Лампад замолчал, глотнул хмельного прямо из баклаги, пожевал хлеба и пристально и долго смотрел в глаза Михаилу, словно спрашивал: «А не обменяешь ли ты меня, московит, на тридцать алтын[5]? Больше-то тебе не дадут». Но вот Лампад мягко улыбнулся, поверив в душевную чистоту Михаила, и продолжил:
— Как прижился дьяк Битяговский у Нагих да приоткрыл своё нутро, так князья и пустились в поиски. И нашли за Волгой у стрельца Ивана-вдовца пасынка вельми озорного и похожего ликом на царевича. Да, сказывают, и купили мальца, привезли ночной порой в терема, спрятали до поры. А Димитрия-то увезли в неведомые земли, может, в Соловецкий монастырь. Вот и весь сказ, что мы с Огурцом знали.
Михаил провёл с Лампадом весь день. Судаков и лещей наловили по полной суме. Прощаясь с Лампадом, Михаил предупредил:
— Ты больше, отец, никому эту сказку не рассказывай, не то не сносить тебе головы, как другу твоему.
— Знаю, сердешный, — ответил Лампад и, тяжело вздохнув, добавил: — Трудно одному-то такую ношу нести. Тебе и доверил. Душа-то у тебя кремень. Ты ведь Шеин, а они все такие.
Удивился Михаил, но не спросил, откуда Лампаду ведомо, что он из рода Шеиных. Оставив Лампаду баклагу, которую тот лишь ополовинил, и всё, что было к ней, Михаил покинул берег Волги и медленно пошагал в Углич. Наступила тихая вечерняя пора, в природе было благостно, всё тянулось навстречу жизни, и Михаилу не хотелось покидать этот покой на берегу великой реки. У него не было желания возвращаться в город и быть свидетелем поисков виновных. Эти виновные были налицо: стоило только поставить все события в стройный ряд, и злочинцы окажутся на первом месте. Но, как понял Михаил, некому было вести дознание к выяснению правды. Да и не нужна она была кому-то. Как человек здравый и рассудительный, несмотря на молодость, Михаил Шеин на пятый день пребывания в Угличе уразумел, что добыть правду при расследовании стремился лишь один человек. Это был патриарх Иов. К тому его призывал сан первосвятителя. Он и помощников себе нашёл из числа твёрдых блюстителей правды. Но ни председателю комиссии князю Василию Шуйскому, ни правителю Борису Годунову правда о случившемся в Угличе не была необходима. Как показалось Михаилу, ему даже удалось сделать вывод, почему этим двум государственным вельможам она не нужна. Да потому, что князь Василий Шуйский считал, что в злодеянии, совершенном в Угличе, повинен прежде всего Борис Годунов. Но Шуйский боялся Годунова и потому, ещё не закончив следствия, решил дело в пользу любимца царя Фёдора — Бориса Годунова: царевич Димитрий умер ненасильственной смертью.
«А что заставляло Бориса Годунова сторониться правды?» — спрашивал себя Михаил. Он не надеялся дать ясный ответ на этот вопрос. Но по Москве давно ходили слухи, что царевич Димитрий унаследовал от своего отца, Ивана Грозного, дикий, необузданный и жестокий нрав. Михаил помнил, как по Москве гуляла якобы небылица о том, что восьмилетнему Димитрию челядинцы лепили на Волге из снега фигуры всех московских вельмож. А как заканчивали лепить, царевич брал в руки сабельку и рубил снежным чучелам руки, ноги, головы, приговаривая: «Так будет со всеми московскими боярами, а первому я отрублю голову Бориске Годунову». Выходило, что были у правителя Бориса Годунова причины опасаться за свою жизнь, ежели после немощного Фёдора поднимется на престол последыш Ивана Грозного. Многие боялись, чтобы не повторилась на Руси трагедия опричнины, унёсшая десятки тысяч невинных россиян.
Вращаясь в среде дворцовых вельмож, Михаил Шеин слышал не раз подобные суждения по поводу царевича Димитрия, унаследовавшего от отца всё худшее. Сказано же в хрониках XIX века, что «в исходе XVI века от погрома Ивана Грозного уцелело весьма немного известных древних боярских родов… к этому времени сохранился какой-нибудь десяток княжеских фамилий и несколько нетитулованных, как, например, Шереметевы, Морозовы, Шеины».
И сделал для себя вывод молодой боярин Михаил Шеин, что хотя время Ивана Грозного миновало, но корень его живёт и тянется к жизни. Как он себя проявит, этого надо опасаться каждому россиянину.
Вскоре Михаил Шеин покинул Углич. Его отозвали в Москву. И само угличское дело было завершено в Москве. Боярская дума порешила, а царь Фёдор повелел завершить дело и казнить виновных. Были приговорены к наказанию и все князья Нагие. Привезённые в Москву, они допрашивались на Житном дворе, их пытали на дыбе, жгли раскалённым железом, рвали тела клещами. Повелением царя Фёдора все придворные должны были посещать место пыток, слушать, в чём признаются виновные. Однако, как ни пытались палачи изощряться в пытках, никто из князей Нагих и их слуг не признал смерть царевича Димитрия ненасильственной.
Наконец пытки завершились. Была пострижена в монахини вдовствующая царица Мария, и её увезли в Высинскую пустынь за Бело-озеро. Братья Нагие были отправлены по тюрьмам в северные города Руси. Нашлись в Москве отважные люди, которые говорили, что расправа в Угличе была похожа на ту, что двадцать один год назад учинил Иван Грозный в Новгороде. Сто восемьдесят угличан бросили на плахи, и им отрубили головы. Более чем двумстам горожанам вырвали языки и отрезали уши. С соборной колокольни был снят большой колокол, в который звонил пономарь Огурец, на площади колокол выпороли кнутами и вместе с угличанами отправили в сибирский город Пелым. Память молодого боярина Михаила Шеина накрепко застолбила эти события в Угличе, и пройдут годы, а они все будут эхом отзываться в его душе.
Однако время шло и угличские страсти стали многими забываться. И то сказать, в благостные дни народ не любит вспоминать лихое время, бередить старые раны, травить душу. Царствование Фёдора Иоанновича после событий в Угличе ничем больше не омрачалось, и во многом благодаря правителю Борису Годунову. Так понимали все придворные и молодой Шеин вместе с ними, да и россияне ни в чём не могли упрекнуть Годунова. Он преуспел даже в военных делах, и посланные им воеводы с ратью сумели вовремя остановить и повернуть вспять шведов, которые подбирались к Новгороду и Пскову.
Глава вторая КУЛАЧНЫЙ БОЙ
Прошло семь лет мирной московской жизни до той самой поры, когда Михаил Шеин из долговязого шестнадцатилетнего отрока превратился в красного молодца, мимо которого никто не мог пройти, не залюбовавшись юношей. И хотя сам он был склонен оставаться незаметным, не из робости, а от скромности, но это ему мало удавалось. Так уж повелось, что царь Фёдор подбирал себе на службу подобных молодцев и они, по царскому мнению, украшали его двор. За семь лет дворцовой службы Михаил Шеин многому научился. Он не только подавал вина, будучи чашником, но и успел грамоту познать, читать и писать бегло, немецкую и польскую речь выучил. Удались ему тот и другой говор потому, что память была крепкая и чистая. Однако больше всего Михаил преуспел за минувшие годы в ратной справе. Считал он, что быть ему чашником до поры до времени: сменит он подносы на боевой щит, а ключи от погребов на булатный меч или острую саблю. Бегал он при любом удобном случае на военный двор Ходынского поля, где ратные люди каждый день учились рукопашному бою и стрельбе, да и кулачной борьбе тоже. Старый сотник, ещё сильный и кряжистый воин Кузьма Лопатин, сказал ему так:
— Меч и сабля, или копьё, хороши против врага. А вот тебе придётся хаживать на кулачные бои, так неумелому-то и отроки «свекольников» наставят.
— Буду учиться и кулачному бою: справа, поди, невелика.
«Справа» оказалась непростой, и далась она не сразу. Кузьма Лопатин не раз валил Михаила на землю кулаком в грудь. Во многих кулачных боях побывал Михаил в зимние праздники на Москва-реке, пока не почувствовал в себе уверенность при встречах с самыми именитыми бойцами стольного града.
Москва куражилась. Пришла зима, а с нею Святки, и москвитяне разгулялись, будоражили город с утра до полуночи, с плясом и с песнями ходили по улицам и площадям. Всюду толпились ряженые, наряжались кто во что горазд, кто медведем, кто козлом. Прихлынув на Красную площадь огромной толпой, величали царя, любезного им Фёдора Иоанновича, прозванного в народе Блаженным. И звенело над площадью: «Той авсень[6]! Той авсень! Мы искали, мы искали государев двор. Мы нашли его середи Москвы. Середи Москвы вереи пестры, подворотенки позолочены».
А все московские колокола в эту пору — от кремлёвских соборов и церквей до храмов Белого города и Земляного, до слобод Дорогомиловской и Ямской — поддавали жару горожанам беспрерывными звонами: то в одном конце Москвы, то в другом звонари кудесничали. Вот на церкви Иоанна Предтечи, что в Белом городе, архангельские звонари закуролесили, да тут же среди толпы появился некий сказитель, назвал себя Сергеем Писаховым и пустился в рассуждения:
— Сказывают, что колокол «Лебедь» проспал: дело свадебное, и он все дни пред нынешним раскачивался. А как пришёл в себя, громовым голосом рявкнул: «Почём треска? Почём треска?» Малые колокола ночь не спали — тоже гуляли, цену трески не вызнали и наобум затараторили: «Две копейки с половиной! Две копейки с половиной!»
Ряженые москвитяне хохотом зашлись. А сказитель Сергей продолжал:
— Хорошо ещё, другие колокола остроглазы были, приносы-подарки давно высмотрели, стали выпевать: «Слушайте! Слушайте! К нам! К нам! С пивом к нам! С брагой к нам! С водкой к нам! С чаркой к нам!»
И вторят Писахову ряженые:
— С пивом к нам! С брагой к нам! С водкой к нам!
Ни Писахов, ни ряженые не озираются по сторонам, патриарших приставов не боятся, потому как не богохульствуют, весельем озабоченные. И то сказать, архиереи смотрят на святочные чудачества сквозь пальцы. Знают они и то, что в московских домах нынче идут гадания и ворожей и чародеев вспоминают, домовым и лешим честь отдают. А в «страшные» вечера, что наступают с первого января, сам царь Фёдор поднимается на колокольню Ивана Великого и высматривает, как бы где-нибудь не возник «красный петух». Звонари тогда готовы по мановению его руки ударить в набат. Потому и называют вечера «страшными» в эту пору, что ряженые из узды вырываются, удаль показывают, а дюже захмелев, и «красного петуха» пускают. Зато днём, поднявшись на колокольню, царь Фёдор со звонарями выпевает на малых колоколах: «Коляда, коляда вокруг сударева двора. Сударев-то двор посреди Москвы, ворота пестры».
Под вечер сотни ряженых парней и девиц шли на Москва-реку. Детвору уже в это время уводили с горок по домам, а на речной глади начинались взрослые потехи. «Шли» — легко сказать. Это было зрелище всем на удивление. Кто крутил колесо, кто двигался на руках, кто выделывал такие коленца, будто молнии сверкали. На головах — бараньи, козлиные, свиные личины. Пусть знают москвитяне: ряженые идут.
И в этой толпе ряженых немало парней и девиц из богатых и именитых семей. Есть в ней боярские и дворянские сыновья и дочери, князья и княжны — Святки всех втягивали в свой круговорот.
В крещенский сочельник собрались на заснеженном льду Москва-реки не меньше пяти сотен ряженых. Половина пришла из Белого города, другая — из Земляного, или из Замоскворечья, как звали ту часть Москвы горожане. И всем собравшимся здесь предстояло увидеть знатные потехи, без которых не обходились ни одни Святки.
После общего веселья, песен, плясок, выкрутасов вдруг наступало затишье. Толпа делилась на две части.
Заречные уходили со стремнины к правому берегу, белгородцы — к левому. Кто-то уже таскал дрова, зажигали костры. Шум и гам начинали утихать, лишь отдельные выкрики будоражили тишину. Две толпы ждали выхода на лёд борцов, а потом и кулачных бойцов. Сколько наберётся таких смельчаков, никто не ведал. Но первыми на лёд прибежали подростки. Покружили стайками друг подле друга да и сошлись. Правило одно: кто кого повалит на снег, тот и победитель. Борются подростки забавно, неумело, налетают как молодые петушки, и рассыпаются. Да сходятся наконец, силёнку выкладывают, и валятся скопом на лёд и с торжествующими криками разбегаются. Первой потехе пришёл конец. Замоскворецкий одолел последнего упрямца из Белого города и с радостным криком помчался к своим.
На лёд выходят настоящие борцы. Все дюжие парни и молодые мужики, кряжистые, как дубы. Но и жилистые среди них встречаются, особенно из тех, кто плотничает. Там потаскаешь на верхотурье год-другой брёвнышки в обхват, ой какую силушку нагуляешь. Скинули бойцы свои тулупчики, кафтаны и поддёвки, сошлись, примеряются друг к другу. А зрители уже с той и с другой стороны выкрикивают. «Илья, схвати своего за комель!» — кричит белгородец. «Прохор, Прохор! Да подыми же ты его, как кули вскидываешь!» — орёт заречный. Потеха в разгаре. У взрослых борцов свои правила: пока не положишь противника на обе лопатки на лёд, победы не будет. А положить нелегко. Есть ловкачи, которые на голову встанут, лишь бы лопатки льда не коснулись. Бойкие зрители бегают вдоль борющихся, высматривают, кому первому кричать о победе, кого считать побеждённым.
И забыли москвитяне, что впереди их ждёт самая интересная потеха — кулачный бой. Святочные кулачные бои, самая что ни на есть важная потеха. Она привлекает тем, что на неё выходят не «лапотные» мужики да парни, а отпрыски разных вельмож, сыновья бояр, дворян, воевод, купцов и даже князей. Когда на кулачный бой выходили простолюдины, то им говорили: «Ты со свиным рылом в калашный ряд не лезь».
Самым нетерпеливым бойцом, а потому первым появился на московском льду молодой красавец князь Димитрий Черкасский. Тонкий в талии, широкий в плечах, в богатом атласном на бобровом меху кафтане, он долго прохаживался по льду, зная, что им любуется «вся Москва». Лицо у него обрамлено чёрной бородкой, брови тоже чёрные, глаза тёмно-карие, жгучие, нос с горбинкой. Димитрий Мамстрюкович Черкасский — потомок обрусевших кавказских князей — тоже служил в царском дворце. Он приехал на красивом чёрном скакуне, спешился, отдал коня стременному и теперь ждал себе противника. На князе были мягкие сапоги, но мороз его не донимал. Он всматривался в толпу тех, кто пришёл из Белого города, искал знакомое лицо. Он знал, что соперник придёт не ряженый. Не найдя его, Мамстрюкович подосадовал, начал злиться.
А его соперник, молодой боярин Михаил Шеин, только что покинул царский дворец и спешил на лёд Москва-реки. Однако в пути его задержала неожиданная встреча. Он увидел молодого дворянина Артемия Измайлова, с которым был дружен уже многие годы. Рядом с ним стояла ряженая под белочку девица. В руках она держала санки с высокой спинкой.
— Здравствуй, свет Миша! — воскликнул Измайлов.
— Будь здоров, Артемий! И твоей подружке низкий поклон.
— Ан нет, это не подружка. И тебе придётся погадать, кем приходится мне эта белочка.
— Куда ни шло! Я с сего часу вольная птица, и время есть погадать. А ну айда на реку!
— Спешишь-то куда?
— Так ждёт меня на Москва-реке соперник.
— Опять Мамстрюк?
— Он.
— Надоел он тебе.
— То правда. Да ноне я его отважу лезть на меня.
— И в прошлые Святки ты о том говорил.
— Знать, урок не пошёл ему впрок. Да сегодня всё будет по-другому. — Михаил поправил за поясом толстые рукавицы из овчины. — Ну так проводите меня? И «белочка» твоя полюбуется потехой.
— Мы за тобой, как нитка за иголкой, — ответил Артемий.
— Ну коль так, то помчали. А тебя, «белочка», я прокачу на санках.
И не успела незнакомка ойкнуть, как Михаил, словно пушинку, поднял её на руки и посадил в санки.
— Держись, голубушка.
В друге дни он не позволил бы себе допустить такую вольность, но в святочные дни, когда дозволено всё, что не оскорбляет личность, Михаил дал себе свободу прокатить незнакомку по вечерней Москве. И самому проехаться на запятках до Москва-реки. Там, надеялся он, незнакомка, задохнувшись от восторга и трепета, скинет свою маску, чтобы вдохнуть свежего воздуха и выдохнуть страх, навеянный полётом над длинным склоном берега.
В короткие мгновения бега к Москва-реке Михаил подумал о том, что ему удастся разгадать сюрприз, преподнесённый ему другом Артемием. Может быть, за личиной белочки скрывается девица, которая затронет его сердце. Мечтал Михаил встретить девушку, которая пришлась бы ему по душе. Что ж, в Святки каких только чудес не бывает. Может быть, и незнакомка, что сидела в санках, затаив дыхание, гадала в эти святочные вечера о своём суженом. Ведь редкая девушка не бросала в блюдце с водой две иголки и потом с трепетом не всматривалась в воду в ожидании, когда концы иголок сойдутся. Ведь это же счастье — выйти замуж за суженого. Вспомнил Михаил, как в костромской вотчине видел он дворовых девиц, когда они гадали, смеялся от души. Ставили они на дворе корыто с водой и шли к нему спиной, какая из девиц упадёт в корыто — та и выйдет замуж.
Но вот и берег Москва-реки. Внизу горят костры. Борцы продолжают единоборство.
— Держись, голубушка! — крикнул Михаил и оттолкнулся ногой от берега. Санки понеслись стрелой вниз. — Поберегись! Поберегись! — предупреждал Михаил и влетел в распахнутые ряжеными «ворота».
Он затормозил, санки развернулись, и незнакомка медленно упала на утоптанный снег. Маска спала с её лица. Михаил помог ей встать. Она с придыханием, с охами засмеялась. Её рука в белой рукавичке легко ударила Михаила в грудь.
— Угораздило тебя остановиться!
— Белая лебедь, прости, — вырвалось у Михаила.
— Как ты меня напугал! Душа улетела. Говорил же Артемий, что ты такой… А я не верила.
— Белая лебедь, — повторил Михаил.
Он смотрел на открывшееся перед ним лицо не отрывая глаз, и было похоже, что после первых слов онемел. В отблесках костров он увидел нечто такое, чему сразу и не поверишь. Из белых локонов глядели на него большие синие глаза. Улыбка открыла два ряда белоснежных зубов, а на щеках, которые окрашивал лёгкий румянец, в бликах костра играли ямочки. Роста она была среднего, чуть повыше плеча Михаила, и под заячьей шубкой угадывалась стройная стать.
— Кто ты? — наконец нашёлся о чём спросить Михаил.
— Я-то? Маша, — улыбаясь, ответила она.
— Ну надо же какой я недотёпа! — всплеснув руками, засмеялся Михаил. — Я хотел спросить: чья ты, откуда приехала и кем тебе приходится Артемий?
— Мы костромские, Измайловы. Я двоюродная сестра Артемию по батюшке. Ну а про тебя я многое знаю. Вот и всё.
Маша заметила, что к ним кто-то подходит, и склонила голову.
В этот миг к Михаилу Шеину подошёл князь Димитрий Черкасский.
— Я жду тебя на поединок, а ты обманываешь. Вот уж не ожидал, — с вызовом в голосе сказал князь, и обратился к Маше: — Не правда ли, некрасиво так поступать, милая девица?
Маша закрыла лицо маской и не ответила Димитрию.
— Я же здесь, князь, и готов биться, — спокойно произнёс Михаил.
— Браво! Расступись, честной народ! Наше время пришло! — звонко крикнул князь Черкасский.
Поединки борцов уже закончились. Их сменили кулачные бои. Москвитяне поддерживали бойцов, но все ждали главного зрелища — поединка боярина Михаила Шеина и князя Черкасского. Знали многие горожане, что единоборство князя и боярина не просто потеха. Скрывалась за кулисами этих поединков глубокая вражда двух родов. Когда она началась, никто не ведал, но вытекала из одной причины. Не могли поделить два рода место близ государей. Каждый считал свой род именитее. Шеины хотя и были боярами, но всегда сидели за царским столом ближе к государю и обходили Черкасских в почестях. Брали Шеины умом и деловитостью, нравом твёрдым и спокойным, трезвостью. Вот уже какой год Михаил был при царе чашником, но рта хмельным не ополоснул. Не каждому молодому да и маститому вельможе доверял государь держать в своих руках ключи от винных погребов. Михаил Шеин такой чести удостоился. Князь Димитрий Черкасский стоял при царе всего лишь рындой. Как тут не болеть ему чёрной завистью! Михаил не раз пытался подружиться с ним, но все попытки не увенчались успехом. Князь стремился к одному: добиться превосходства над удачливым боярином хотя бы с помощью кулаков.
Но тут коса нашла на камень. В последние годы многажды они сходились в кулачных боях. Чаще всего это случалось во время Святок. Но бывало это и на Троицкой седмице и даже в ночь на Ивана Купалу. Каждый раз они выходили из боя обессиленными, но не побеждёнными. И никто из них не ведал, чем завершится их последний поединок. Но оба знали твёрдо: биться они будут столько, насколько хватит у них сил.
Позже Михаил скажет, что в этот святочный вечер сил у него было больше. Их прибавила ему встреча с Машей — белой лебедью, как в душе назвал её Михаил. Одного он опасался: что Маша осудит его за приверженность к кулачным боям. Да ведь поймёт позже, что будущему воеводе всякий бой, и даже кулачный, — хороший урок. Так считал Михаил. Тут ведь проявляются не только силы, но и быстрота мысли, ловкость движений, умение разгадать ход противника. Всё, как в настоящем бою, как на Куликовом поле, где сражались его, Михаила, предки.
Михаил посмотрел на берег и увидел бегущего к нему Артемия.
— За вами не поспеть, вы как птицы летели! — выдохнул он.
— Да было, а теперь увези Машу подальше, а то, видишь, какая мне встреча приспела.
Народу на склонах берегов стало больше. Пришли взрослые горожане. Всем хотелось увидеть сражение двух известных кулачных бойцов.
Проводив Артемия и Машу, Михаил повернулся к Димитрию.
— Князь, я готов к встрече, — сказал он.
— Она для тебя будет последней, — сквозь зубы произнёс Димитрий.
— Поживём — увидим, — ответил Михаил и побежал к свободному пространству на льду Москва-реки, где бойцам предстояло биться.
Князь шёл к месту схватки вразвалку. Он на ходу надевал такие же, как у Михаила, овчинные рукавицы. Без них народ не допускал бойцов к кулачному бою. Таков был неписаный закон. Были и другие законы: не бить в лицо, в голову. Судили строго, нарушителя толпа изгоняла с места состязания. Бывалые бойцы знали эти законы и не нарушали их. Однако у Димитрия Черкасского были такие попытки, и не прогоняли его с позором только потому, что Михаил умел уходить от кулаков, летевших в лицо, в голову. Он просто не мог позволить, чтобы ему уродовали лицо или лишали разума, молотя по голове. Грудь, плечи — вот цель, которую надо поразить. Цель эта невелика, но искусному бойцу доступна.
Михаил и Димитрий встали в позу, изготовились. Князь набычился — вот-вот прыгнет на противника. Михаил сделал левую прямую стойку. Он хорошо владел ударами как левой, так и правой руки. Грудь у него открыта: бей, если достанешь. Настроение у него хорошее, нет злости на соперника. Сошёлся он с ним на потеху москвитянам. Они уже галдят: «Давай! Давай! Ударьте молотами!» Первым нанёс удар Димитрий, но встретил на пути кулак в рукавице. И второй и третий удары не прошли мимо защиты.
Димитрий наливался яростью. Тому не быть, чтобы его длинные руки не достали грудь боярского сынка, и на Михаила посыпался град ударов. И миновал-таки князь защиту, хватил по левому и по правому плечу. Сдержал эти удары Михаил, будто и не было их. Ему весело, он улыбается. Эта весёлая улыбка, которой не мешала мягкая, пшеничного цвета бородка, окончательно вывела князя из равновесия. Вытянув длинные руки как тараны, он начал ломиться напропалую и потерял зоркость. Первый же молниеносный удар Михаила, нанесённый левой рукой, потряс Димитрия. У него перехватило дыхание, и будто услышал он предупреждение Михаила: «Не лезь на рожон!» Князь исправил дыхание, опомнился. Но злость не давала ему вести бой расчётливо. Он всё-таки ломился вперёд, хотя не забывал и о защите. А за спиной его подхлёстывали дружки: «Мамстрюк, наддай! Наддай Шее!»
Сторонники Михаила были молчаливы. Они любовались тем, как он ведёт бой, и лишь его стремительный удар, который заметили все, был встречен возгласами восхищения. А время шло, и кому-то этот бой стал казаться скучным: «И что за драка, один бьёт-молотит, а другой всё увиливает. Эка невидаль, раз ударил!» Михаил первым почувствовал, что москвитяне теряют интерес к схватке, и отвага в душе дала себя знать. «Да не посрамлю же я Белый город. А там и друзей надо порадовать, и Машу!» — мелькнуло у него. И кончился час обороны. Уходя от ударов Димитрия, подныривая под его длинные руки, Михаил сошёлся с ним впритык, обрушил град мощных ударов в грудь и в плечи противника. Он сбил князю дыхание и, не давая ему ускользнуть от последнего удара, с придыхом: «И-эх!» — словно кувалдой нанёс его туда, где бушевало раскалённое сердце Черкасского.
Не в силах перевести дыхание, Димитрий медленно упал на колени и перегнулся до самого льда.
Белгородцы на левом берегу взревели от восторга. С криками, с гиками они побежали на лёд и лавиной двинулись на замоскворецких. Но по правилам святочных боев побоища не допускались. И нашлись разумные горожане, которые остановили толпу белгородцев, вразумляя: «Битых не бьют!» К князю Димитрию подбежали его дружки, слуги, подняли со льда и повели под руки к берегу. А Михаил неторопливо побрёл по склону навстречу Артемию и Маше, которые ждали его. Он не испытывал радости победы. Ему было грустно от мысли, что в лице князя Димитрия Черкасского он нажил себе врага на всю оставшуюся жизнь. Артемий понял состояние друга и попытался отвлечь его от грустных мыслей.
— Всё было правильно, Миша. Мы надеялись, что этот бой так и завершится. Правда, Маша?
— Я натерпелась страху, — призналась девушка. — Теперь меня и калачом не заманишь на это зрелище.
Но в глазах Маши светилось удивление, и она любовалась молодым боярином, который так неожиданно вторгся в её девичьи мечты. Ещё вчера Маша гадала, встретит ли она добра молодца, а тут вот он перед нею, и в его глазах она видит интерес к ней.
Молодость взяла своё. Михаил стряхнул печальные размышления, как стряхивают первый снег с плеч, и бодро позвал Машу и Артемия в гости.
— Поспешим-ка, мои славные, на Рождественку. Матушка с сестрицей меня ждут, и вы будете гостями желанными.
Поднявшись на берег, друзья усадили Машу в санки и покатили её к речке Неглинке, ещё не ведая, что один из них везёт дар Божий, послание Судьбы.
Глава третья ДАР БОЖИЙ
Приближалась Масленица. Москве грозило новое весельное веселье. Она приходила не по календарным числам и могла нагрянуть в феврале, а то и в середине марта. Пасха командовала Масленицей и определила ей быть на восьмой неделе до пасхальных дней. Такой интерес к приближающейся Масленице был у Михаила по одной причине: его ждала встреча с Машей. Страдал он оттого, что видел её редко. В Святки она так и не побывала на Рождественке, не повидалась с матушкой Михаила. Зазорным сочла она подобный поступок, испугалась встречи со строгой боярыней Елизаветой, матерью Михаила. Одного не понял Михаил: откуда Маша взяла, что его матушка строгая. Мать догадалась, что у сына появилась на примете некая красная девица, и как-то даже спросила:
— А почему бы тебе не показать её нам? Скажи, в какой храм она ходит, там и встретимся.
Михаил отмолчался. Он подумал, что придёт время, Маша осмелится предстать перед его близкими. Потому он и ждал с нетерпением Масленицу, которая позволяет совершать многие вольности, какие в будние дни могут показаться зазорными. Пока же Михаил был занят службой, своими заботами и не признавался себе, что причиной его замкнутости явилась сестрица Артемия Маша. На самом деле это было так. Едва завидев Артемия, он спрашивал его, как поживает Маша, здорова ли, можно ли её повидать.
— Мог бы ты её увидеть, — отвечал Артемий, — но моя матушка на твоём пути встанет. Она уже выговаривала мне: «И кто это моей племяннице покой смутил?»
— Да кто ей мог смутить, ежели она из светлицы не выходила? — удивился Михаил.
— В Святки же ты видел её, — с намёком сказал Артемий. — И она тебя…
У Михаила от этого намёка в груди стало жарко. Выходило, что не только он потерял покой, но и Маша. Отчего бы это?
Встретились Михаил и Артемий за неделю до Масленицы, и, вспомнив об этом весёлом празднике, Михаил загорелся:
— Слушай, Артёмка, а что ежели тебе на Масленой неделе привести Машу в царский дворец? Кто тебе, стременному первого боярина князя Мстиславского, поперёк дороги встанет?
— Вот и будет она белой вороной среди придворных, — возразил Артемий.
— Да нет же, нет! Я ведь о чём? Да о том, чтобы Машу увидела царица Ирина. А как увидит, ей-ей на службу возьмёт.
— Полно, Миша, не тешь себя напрасно. Да чтобы попасть к царице в услужение, княжны годами часа ждут.
— Ты уж приведи, а там посмотрим, — убеждал друга Михаил. — Я и приглашение у дворецкого выхлопочу. Знаешь же, что дядюшка Григорий добрый человек.
Артемий и сам знал, что на Масленицу и другие весёлые праздники легче было попасть во дворец, чем в будни. И он внял совету Михаила.
— Ладно уж, добывай приглашение. Только зачем тебе всё это? — с лукавством посмотрев на друга, спросил Артемий.
— Сам не знаю, — прикинувшись простачком, ответил Михаил.
Артемий засмеялся. Он всё понял, ушёл с песней:
Через реченьку мосточек, Там Мишутка переходит, Он Марусеньку переводит. — Ты иди, Маруся, не шатайся, За меня, молодца, хватайся!Вот и Масленица наступила. Михаил целыми днями во дворце колесом крутился. Загонял его старший чашник Иван Матвеич. Всё подавай да подавай вина на столы. А во дворце веселье гудит. Гости все знатные: бояре, князья, думные дьяки — все с жёнами, с чадами. В большой Столовой палате тесно. Сам царь с царицей Ириной украшают застолье. На царицу Ирину, на её прекрасное лицо лишь слепые не засматриваются.
Хор за спинами царя и царицы песню поёт:
Пришла Масленица годовая, Гостья наша дорогая. Она пешей к нам не ходит, Все на конях приезжает, У ней кони вороные, Слуги — молодцы удалые.Песни на Масленой неделе звучат всюду с утра до вечера. Так и в царском дворце. Но Михаил слушает вполуха. Его волнует другое: почему не пришли к званому застолью Измайловы? Ведь обещал же Артемий уговорить матушку прийти вместе с Машей. День уже на исходе, к окнам подступили синие февральские сумерки, а Измайловых всё нет.
И вдруг, когда Михаил уже смирился с тем, что не увидит сестрицу Артемия, в дверях трапезной появилась сперва боярыня Авдотья Щербачёва, известная всей Москве сваха и мало кому ведомая коварная ворожея. Те, кто хорошо знал боярыню, звали её просто колдуньей, Щербачихой. За нею вошла мать Артемия, вдова Анна. Она держала за руку Машу. Артемия с ними не было. Щербачиха подозвала дворецкого Григория Годунова и сказала:
— Любезный кум, проводи-ка нас к царю и царице. Надо же нам поклониться им.
Михаил стоял недалеко от входа в трапезную, но так, что Щербачиха не видела его. Он не понимал, какую роль принялась играть боярыня-сваха при матери Артемия и при её племяннице. Но несколько мгновений спустя Михаил всё понял: Щербачиха была в роли свахи и делала это дерзко. Едва Григорий Годунов повёл Щербачиху и Измайловых к царскому месту, как следом за ними в трапезную вошёл князь Димитрий Черкасский. Он догнал Измайловых и пошёл позади них. Группа подошла к царю и царице. Все низко поклонились государям.
Потом Авдотья важно выпрямилась и повела речь:
— Ты, царь-батюшка, помнишь, что я была твоей свашенькой и нашла тебе невестушку, лучшую в державе. Теперь угоди и ты мне, свашеньке. Привела я к тебе красного молодца, князя Димитрия Черкасского, твоего слугу. Время князю семеюшку обрести и приглянулась ему боярская дочь, красна девица Мария Измайлова, которая без батюшки возросла, державы защитника верного. Дай же ей, батюшка, в защитники слугу своего исправного. Любит он её, в храмах глаз не спускает, от разных проныр оберегает. Сколько их зарится на девицу красы неописанной! Она после твоей матушки, у царицы Ирины, лучшая во всей державе. Лестно мне было стоять свахой на твоей свадьбе, а теперь вот хочу быть вместе с тобою на свадьбе князя Черкасского. Благослови же его, царь-батюшка.
Царь Фёдор вспомнил, что и в помине не было свахи Щербачихи во время сватовства к Ирине Годуновой, но по мягкости своего нрава не собрался с духом дать «своей свахе» отповедь. Он склонился к царице Ирине и стал ей что-то шептать. Та сначала кивала согласно головой, но, присмотревшись к побледневшей, как полотно, девице, названной невестой, поняла, что здесь что-то нечисто, и сама торопливо принялась шептать нечто царю.
Щербачиха была не промах, почувствовала, что её затея может лопнуть, как мыльный пузырь, и взмолилась:
— Царь-батюшка и ты, царица-матушка, вижу я, заметили вы, что невестушка бледна. Так ведь от страху! Боится она, что не благословите её на супружество с князем Черкасским. Но и она любит его. Вот и тётушка подтвердит…
Молодой боярин Михаил Шеин, слушая Щербачиху, остолбенел. Разум его замутился. Он никак не мог понять, почему Щербачиха выступает свахой от князя Димитрия Черкасского? Почему поёт, что князь видел Марию многажды? Где? Когда? Он и видел-то её всего один раз. Шеин не знал, что делать, как остановить это жестокое сватовство. Помнил он, что Маша сказала в тот вечер после кулачного боя с Черкасским: «Как ты мог с ним драться, ведь он похож на волка!» Но этот «волк» тогда видел Машу, и «белочка» ему понравилась — вот и решил её засватать. Но как он заставил Машу идти к царю? Может быть, запугал? Да запугал же! Вон как гордо смотрит вокруг. И царь ему улыбается. Уж не готов ли он благословить Черкасского на брак с Машей? Благословит — и всё пропало. Не пойдёшь же царю поперёк, чтобы он изменил свою волю. Нет, так не бывает. И теперь Михаилу оставалось одно: подбежать к трону царя и заявить о себе, о том, что Маша ему люба, что он люб ей — пусть спросит её, и просить благословения.
У Михаила были лишь мгновения до невозвратного царского слова, и он успел-таки.
— Царь-батюшка, выслушай раба своего! — крикнул Михаил чуть ли не с другого конца трапезной и при полном молчании сидящих за столами, подбежал к царю и царице.
— Как смеешь, чашник! — попытался остановить Михаила дворецкий Григорий Годунов.
Но Михаил пробежал мимо него со словами:
— Царь-батюшка, тебя обманывают! И девица бледна оттого, что её запугали. Она не хочет быть женою князя Черкасского! Спроси её, батюшка, кто ей люб!
Михаил упал на колени перед царём и царицей со склонённой головой.
Царь с царицей опять принялись переговариваться между собой. Потом царица спросила Машу:
— Славная девица, тебя привели во дворец или ты сама пришла?
Маша опустила голову. Ей нечего было сказать: она пришла сама, но не по доброй воле. Как была проявлена чужая воля, она не успела о том поведать.
В трапезной возник шум. В неё вбежали несколько царских рынд. Трое из них держали за руки и за шею Артемия Измайлова. Михаил вскочил на ноги, побежал навстречу другу. Лицо его было в кровоподтёках. Рынды подвели Артемия к царю, и старший из них сказал:
— Батюшка, это стремянный князя Фёдора Мстиславского.
— Помню его. Артемием зовут. В чём его вина?
— Он рвался во дворец с саблей, кричал, что смерть примет на плахе, но умолял пустить к тебе на поклон.
— Отпустите его, — приказал царь Фёдор. Рынды освободили Артемия. — Подойди ко мне, сын мой. — Артемий подошёл. — Ты служилый Поместного приказа?
— Да, царь-батюшка.
— Кто тебя избил?
— Дворовые люди князя Черкасского. Их было семеро.
— Худо. Никто не имеет права бить государева человека. Но чем ты заслужил побои?
— Я пытался защитить честь сестры, что стоит перед тобою, царь-батюшка. Это Маша Измайлова, дочь боярина.
— Кто угрожал её чести?
— Князь Димитрий Черкасский.
— Странно. Князь Черкасский был всегда порядочным. Димитрий, скажи слово в свою защиту.
Вскинув ещё выше гордую красивую голову, князь Черкасский громко сказал:
— Марию Измайлову я видел много раз ещё в Суздале, когда бывал там у дяди. Она ходила в храм с родителями, и я приходил следом, смотрел на её юное прекрасное лицо. В Москве я увидел её на Святки. Вот и отважился прийти к тебе, государь, просить её руки. А то, что я привёл её сюда, так это по обычаю предков: что мне нравится, то моё. Но я к тому же люблю эту девушку. И она меня тоже полюбит. Мы будем верными супругами. А в том, что мои людишки побили Артемия, винюсь. Казни или помилуй, государь.
— Вижу, что смел ты, князь, и дерзок. Твой род пророс корнями на русской земле, и жить тебе по русским законам. У нас не умыкают невест. А ты попытался — вот первая твоя вина. У нас никому не дано воли бить государевых служилых людей. А твои людишки нанесли побои государеву слуге — вот твоя вторая вина. Выплывает и третья: в обман государя пустился. По праведному суду тебе в земляной тюрьме сидеть. Ан избавлю от этого, но другое наказание найду.
— Да отправь его, государь, в Черкесию, пусть там по своим законам живёт! — возвысившись над столом, мощным голосом заявил князь Фёдор Романов, будущий патриарх всея Руси и великий государь.
— Подожди, боярин Романов, я ещё не всё сказал. Я знаю, чем вызвано твоё злочинство, князь Димитрий. На Святках тебя побил боярин Михаил Шеин — вот ты и отважился умыкнуть у него невесту. Не так ли я говорю, Михайло Шеин?
— Так, государь-батюшка! — ответил Михаил.
— А ты что скажешь, голубушка? — обратился царь к Маше.
— Спасибо, царь-батюшка, за ласку! — воскликнула Маша. — Но насилия над нами не было. Князь сказал, что матушку Анну и меня повезут во дворец показать царю и царице. Нам же Господь велел ехать.
— Вот и славно, что приехали. Мы с царицей, матушкой Ириной, и благословим тебя и моего служилого Михайлу на супружество. По осени и свадьбу сыграете. Да нас не забудьте позвать.
— Спасибо, царь-батюшка, за милость великую.
Михаил с Машей низко поклонились царю и царице. И царь кивнул им головой да строго сказал князю Черкасскому:
— А ты, Димитрий, поезжай-ка в Вологду, к наместнику князю Ивану Хилкову. Ему помощник нужен. Послужи Руси, послужи брат. — Царь обратился к дворецкому: — Ты бы, любезный Григорий, взял у дьяков Поместного приказа подорожную.
Все, кто был рядом и услышал произнесённое государем Фёдором, поняли, что на князя Черкасского легла царская опала. Но кое-кто подумал: «Легко отделался, Мамстрюкович!» Дальше всё произошло по мановению государевой руки. К Черкасскому подошёл с двумя стражами глава Разбойного приказа Семён Годунов, второй дядя Бориса Годунова, и, взяв Димитрия под руку, увёл его из трапезной.
В эти короткие мгновения царица Ирина подозвала к себе мамку боярыню Ксению Шуйскую и что-то тихо сказала ей. Та, выслушав, торопливо ушла в дверь, ведущую в царские покои. Потом Ирина позвала Машу и спросила:
— Красна девица, ты хочешь послужить мне?
— Да, матушка-царица, — с поклоном ответила Маша.
— Вот и славно. Так будет хорошо спать мне, когда ты своими рученьками постель взобьёшь и приготовишь. Сейчас придёт боярыня Ксения Шуйская, у неё под началом и послужишь.
Вскоре вернулась Ксения Шуйская с палисандровым ларцом в руках. Царица Ирина взяла ларец, открыла и достала из него два перстня.
— Мой государь, — сказала она Фёдору, — сейчас самое время обручить жениха и невесту. Да будем им назваными батюшкой и матушкой.
— Честь тебе и хвала, славная Иринушка. А я-то, право же, и не догадался бы.
Фёдор и Ирина вышли из-за стола и под крики гостей и придворных: «Слава царю! Слава царице!» — обручили ещё не пришедшую в себя Машу и посуровевшего лицом Михаила. После этого их усадили за стол и были подняты кубки за здравие обручённых жениха и невесты. Михаил наконец-то сбросил суровость и, улыбаясь, благодарил царя и царицу, гостей.
Масленица покатилась своим чередом. Вновь где-то, теперь за шёлковым занавесом, зазвучал хор:
А мы Масленицу встречали, Сыром гору набивали, Маслом гору поливали, На широк двор зазывали Да блинами заедали…И так до глубокой ночи. Михаил с Машей — трезвое украшение застолья — сидели и млели от счастья. Маша вспомнила о том, как она гадала в Святки, и шёпотом всё поведала Михаилу:
— Выходила я за ворота и спросила у первого весёлого прохожего: «Как тебя, боярин, зовут?» Он и сказал: «Михаил Батькович». — И Маша тихо рассмеялась.
Масленый пир был в самом разгаре, когда царь и царица покинули застолье. Царь был трезв. Он выпил самую малую толику царской медовухи, когда поздравлял Машу и Михаила с обручением и назначал день свадьбы.
— Ты, сын мой, приурочь свои празднества к Воздвижению Животворящего Креста Господня. Четырнадцатого сентября мы и поведём вас в храм.
Но судьбе было неугодно, чтобы царь Фёдор и царица Ирина были в храме назваными отцом и матерью Михаила и Маши и побывали у них на свадьбе. И свадьбы в назначенное время не было. Царь Фёдор приболел, пришла немощь. Чтобы изгнать её, царь отправился на моление в Троице-Сергиеву лавру. Садясь в колымагу возле Красного крыльца, он заметил, что Михаил Шеин среди тех, кто уезжал с ним. Поманил его пальцем. Когда Михаил подбежал, сказал ему:
— Ты, молодой боярин, моим словом оставайся при дворце. Невесту береги и со свадьбой подожди. Как приеду, так и поведу вас под венец.
Князь Фёдор Мстиславский стоял в это время рядом, слушал, что говорил царь, и всё сказанное брал на заметку. Любезен молодой боярин царю, и волю государя придётся ему, князю, выполнять, не тревожить Шеина отлучками. Сказал-таки своё:
— Что с молодого взять, забудет наказ. Да я ему напомню, государь-батюшка.
— Тебе верю, ты напомнишь, — ответил царь и скрылся в колымаге, запряжённой шестёркой серых в яблоках коней.
Царь Фёдор пробыл в Троице-Сергиевой лавре больше двух недель, но от хвори не избавился. Из лавры он покатил в Александрову слободу. Там, сказали государю, с времён отца его, Ивана Грозного, остались живы ворожеи, которые, по поверью, могли осиновую колоду оживить. Но и ворожеи ничем царю не помогли. Вернулся он в Москву месяца через полтора. Встречали его москвитяне многолюдно, но без торжества, головы низко склонив, страдая сердцами и душами оттого, что государь-батюшка, похоже, осиротить их надумал.
Угасал царь Фёдор медленно. Держава затаилась в ожидании исхода. Во дворце ходили на цыпочках, разговаривали шёпотом. Михаил Шеин приходил во дворец чуть свет. Никого ни о чём не спрашивал, к разговорам не прислушивался, но, хотел он того или нет, во дворце гуляло зловещее поветрие, и оно опаляло его. Оно предвещало страдания многим из тех, кто окружал царя. В Грановитой палате с утра и до вечера было множество вельмож. Одни приходили, другие уходили. Говора не было слышно, лишь шёпот шелестел над головами, словно обильно падали осенние листья.
Михаил заметил, что вельможи и священнослужители сбивались в группы родовыми кланами. Три брата, Василий, Димитрий и Иван Шуйские, не покидали дворец и Грановитую палату целыми днями. Они будто ждали миг, чтобы ухватить для себя нечто важное. Что ж, Шуйские у всех великих князей и у царей были в чести. Их всегда в числе первых ставили. И поговаривали в эти дни, что, ежели царь Фёдор преставится, то Шуйские потянутся к престолу и попытаются захватить его. Не зря Василий Шуйский повторял множество раз в застолье, что в их руки должна перейти державная корона. А причина одна: Шуйские — Рюриковичи и идут, как они заверяют, от самого великого князя Александра Невского. Вот и кружили в кремлёвских палатах князья Шуйские, чтобы корону царскую подхватить, когда будет падать с головы Фёдора Иоанновича.
Но и князья Мстиславские не хотели упустить своего. Глава этого рода князь Фёдор Мстиславский числился первым боярином на Руси той поры. Правда, это первенство пытались у него отобрать Фёдор Романов с братьями. И то сказать, он и три его брата были племянниками царицы Анастасии, первой жены Ивана Грозного. У россиян эта царица была в великой чести, и выходило, что отблеск этой чести падал на весь большой род князей Романовых.
Кружил в царских палатах в эти дни среди вельмож ещё один претендент на царский престол — дворянин Богдан Бельский. Возомнил он, что и у него есть право на русский трон. Было же время, когда он чуть не в обнимку ходил с самим государем всея Руси Иваном Грозным. Однако честь у Богдана Бельского была невысока. При царе Фёдоре его мало кто терпел за заносчивость и дерзость. Были во дворце такие вельможи, которые поговаривали, что Бельский повинен в смерти Ивана Грозного: зелья ему поднёс, от которого у государя кровь пошла из носа, ушей и даже из глаз.
Михаил Шеин не мог быть очевидцем смерти Ивана Васильевича, но, день за днём встречаясь с Богданом Бельским, всё глубже познавал его вздорный нрав и пришёл к мысли, что Богдан мог отравить царя Ивана Грозного.
Все эти вельможи, начиная от князя Василия Шуйского и кончая окольничим[7] Богданом Бельским, теперь ждут не дождутся, когда царь Фёдор скончается и откроет дорогу к престолу. Михаил Шеин пытался представить себе, какие меры предпримет Богдан Бельский, чтобы захватить трон Руси. Считал Михаил, что у Богдана хватит дерзости ворваться со своими холопами во дворец и засесть в нём, как в крепости. Конечно же, Михаил не знал всей правды о жизни Богдана Бельского, не ведал, на что тот способен.
И был ещё один вельможа в царском дворце, который мог претендовать на русский трон. А если верить дворцовым слухам, то выходило, что правитель державы Борис Годунов томим жаждой достать корону. Говорили же, что после угличских событий он искал по всей московской земле ведунов и ясновидцев, добивался у них узнать, быть или не быть ему царём. Слышал Шеин, что некие ведуны, оба рыжие, Катерина и Сильвестр, нагадали ему, что царём он будет ровно семь лет. И говорили, что на радостях он закричал, что ему бы хоть семь дней пробыть под короной.
Какими путями, неведомо, но два мнения ещё задолго до кончины царя Фёдора сошлись в одном: после Фёдора быть царём Борису Годунову. Этому мало кто верил. Но если бы кто-то в эту пору проник в душевный мир патриарха всея Руси Иова, то поверил бы, что пущенная в пользу Бориса Годунова молва имеет под собой прочную почву, которую вспахал в своей душе этот патриарх.
Да, Борис Годунов больше, чем кто-либо другой, мог рассчитывать на то, что россияне позовут его всем миром встать на осиротевший престол. Всем россиянам было ведомо, а более всего московским вельможам, что, не будь рядом с царём Фёдором Бориса Годунова, Русь никогда бы не обрела благоденствия и мира на долгие четырнадцать лет царствования Фёдора. Борис правил державой умело и мудро. Царская казна никогда не пустовала, но прирастала капиталом год за годом. Москва обновлялась. Белый город — это было детище Бориса Годунова. Он дал ему жизнь, он пёкся о том, чтобы в нём поднимались палаты, дома, храмы, достойные возвышаться в стольном граде. А главное — народ во время правления Бориса Годунова не голодал, не бедствовал и меньше, чем в иные годы подвергался жестоким набегам крымской орды и опустошительным вторжениям польско-литовских войск.
Подспудные страсти продолжали бушевать в кремлёвских палатах, а царь Фёдор той порой медленно и невозвратно угасал. С амвонов и с папертей кремлёвских храмов ещё возвещали архиереи, что царь Фёдор Иоаннович здравствует, но в самих соборах и церквях уже всё тише хоры пели акафисты[8], всё чаще повторяли молитвы об усопших. Ведуны предсказали час кончины царя Фёдора в богоявленскую ночь. Их предсказания сбылись.
В полдень шестого января 1598 года пришла на Соборную площадь Кремля неизвестная старица, благообразная и чистая, и запела, раз за разом повторяя:
За Кремлем стоят коники, все запряжённые, Чёрным сукном позастеленные. Ждут коники домовину, Повезут её во храмину. Ноне всё ж в полночь и сбудется.Приставы попытались схватить её и увести, чтобы народ не возмущала. Она же скрылась от приставов в Благовещенском соборе, там и пропала, будто её и не было.
С наступлением богоявленской ночи царь всея Руси Фёдор и преставился. Были долгие проводные плачевные звоны по всей Москве и за её пределами на сотни вёрст. И пролили россияне море слёз. Никто из старожилов не помнил, да и не было подобного со времён Владимира Мономаха, чтобы россияне так печалились после смерти своего благочестивого царя. Он служил народам Руси, отмаливая грехи своего жестокосердного батюшки Ивана Грозного. Набожные и почтительные к справедливому и милосердному престолу русские люди создали из царя Фёдора иконописный образ святого подвижника: взойду на костёр ради Христа, ради ближнего своего. С тем и жили при царе Фёдоре россияне.
Михаил и Маша в день кончины царя Фёдора не покидали Кремля. Маша уже служила во дворце, была при царице Ирине постельничей. Царица полюбила её, и ей нравилось проводить с Машей свободное время. И теперь, в горе, Маша и Михаил пытались как-то облегчить мучения Ирины, но им это не удавалось. Царица Ирина страдала от потери супруга больше, чем народ от потери любимого царя.
Но и горе москвитян было безмерным. В день похорон Михаил Шеин, по просьбе патриарха Иова, сопровождал митрополита Гермогена, прибывшего из Казани, и увидел на Красной площади людское море. Стоял крепкий мороз, но никого из москвитян это не испугало. Похоже, все они покинули дома, вышли на улицы, на площади. Всем хотелось пробиться в Благовещенский собор, проститься с покойным.
Глава четвёртая БОРЬБА ЗА ТРОН
В Кремле после кончины царя Фёдора, уже на четвёртый день, страсти закипели, как в котле варево. Михаил Шеин, пребывая в палатах дворца с утра и до вечера, видел, что никто из царских вельмож не был склонен признать законной государыней супругу царя Ирину. И хотя царь в присутствии патриарха передал ей в руки державную власть, она для всех осталась бездетной вдовствующей царицей, но не государыней. В первые девять дней Борис Годунов не отходил от сестры ни на шаг. Маша часто слышала, что брат что-то страстно шептал сестре. Ирина отвечала ему сквозь слёзы. Но Маше так и осталось неведомо, о чём шла речь между братом и сестрой. Видела девушка одно: печаль небывалую на лице царицы. У Маши сердце сжималось от жалости при виде её неизбывного горя.
Однако и деятельная жизнь била в Кремле в эти дни ключом. По воле Бориса Годунова и главы Посольского приказа Василия Щелкалова были закрыты границы Руси с западными странами. Из Москвы не выпускали никого из посольских и торговых людей. Патриарх Иов разослал по всей державе гонцов. По его воле созывались из всех епархий митрополиты, архиепископы, архимандриты и епископы, потому что Иов понял раньше других, что на Руси наступит чреватое последствиями междуцарствие.
Оно наступило совершенно неожиданно и непредсказуемо. На десятый день, в ночь на шестнадцатое января, к чёрному крыльцу подкатил крытый возок, запряжённый вороной кобылкой. Из дворца вышла закутанная в чёрный плащ царица Ирина. Она села в возок, кучер погнал лошадь к Предтеченским воротам. Тому были свидетелями стражи у ворот, но кто покинул Кремль, они не ведали.
Одной из первых узнала об исчезновении царицы Ирины Маша Измайлова. Она пришла убирать постель, как всегда, а царицы и след простыл. И в молельне её не было. Девушка растерялась, но смекнула, что надо кого-то уведомить, и побежала к своему жениху. Он ночевал в палатах и встал уже, шёл на молитву в Благовещенский собор. Маша догнала его возле дверей:
— Беда у нас, сокол мой! — с ходу сказала Маша. — Царица-матушка пропала.
— Как это пропала? — удивился Михаил.
— Нет её в покоях. Да и шубы горностаевой — тоже. Коль тепло оделась, то далеко укатила, — ответила сообразительная Маша.
Михаил не растерялся. Он подумал о патриархе Иове, решил в первую голову уведомить его.
— К патриарху я побегу. А ты поспеши к боярину Борису Годунову, — сказал Михаил и убежал.
Патриарх молился, когда Михаил примчался в его покои. Услужитель отец Николай, увидев взволнованного Шеина, сразу повёл его в молельню. Едва вошли в неё, как патриарх прервал молитву. Михаил всё выложил Иову на одном дыхании:
— Святейший, в ночь царица Ирина скрылась из дворца, и никто не ведает, куда уехала.
Патриарх побледнел, на лбу выступил холодный пот. Сердце сжалось от боли. «Зачем ты, матушка, так безрассудно поступила?! — воскликнул он в душе. — Боярская дума, аки лавина, сметёт трон и будет править державой своим именем».
— Сын мой, позови ко мне немедленно правителя Бориса, — сказал Иов. — И не мешкай нигде, никому ни слова, что царицы нет во дворце. Беги!
Пока Михаил летел к Годунову, патриарх попытался размышлять и счёл, что нужно и дальше управлять державой именем царицы Ирины. Это его долг, как первосвятителя.
Вскоре Михаил вернулся ни с чем.
— Борис Фёдорович отказался прийти к тебе, святейший.
— Почему?
— Он не объяснил. Но я так понял, что Борис Фёдорович болен. Вид у него плачевный вовсе.
— Помоги добраться к нему, сын мой, — попросил патриарх.
Михаил отвёл Иова в палаты Бориса Годунова и передал его на попечение супруги Бориса, Марии. Он ушёл — и напрасно. Там оставалась Маша, с которой он через миг встретился бы.
Позже от неё он узнал, что как только Иов увидел Годунова, то сказал ему, не пытаясь скрыть это ни от кого, чтобы Борис дал согласие стать царём Руси, и поведала Маша, что Борис Фёдорович разбушевался и заявил, что он пострижётся в монахи, ежели Иов будет настаивать на том, чтобы он встал на царство. И Михаил поверил в то, что Борис Годунов говорил правду. Вера Михаила питалась тем, что он запомнил из событий в Угличе.
К полудню того же дня к Борису Фёдоровичу приходил его дядя, окольничий Семён Никитич. О чём они вели речь, неизвестно, но из палат Годуновых по всему царскому дворцу и Кремлю разошлись слухи о том, что царица Ирина в ночь уехала в Новодевичий монастырь и спустя три часа после утренней молитвы была пострижена в монахини, приняв имя Александры.
Патриарх Иов не поверил тому и отправил своего услужителя диакона Николая в Новодевичий монастырь установить истину.
К тому времени решил свою судьбу Борис Годунов. Он ждал лишь ночи, чтобы выполнить задуманное. Правитель истязал себя мыслями о том, что не имеет права на русский престол, потому как погряз в грехах и один из несмываемых грехов — это якобы убийство по его воле царевича Димитрия. И теперь уже для самого Бориса Фёдоровича не имело значения то, что тогда он пытался не допустить на престол державы змеёныша или, хуже того, злодея, каким был Иван Грозный. Как считал Борис Годунов тогда, всё это творилось во благо Руси. Ныне эти досужие умозаключения потеряли смысл. Борис Фёдорович понял полноту своего греха и счёл, что замолить этот грех можно, только отдав себя служению Богу. И он, по примеру сестры, отважился уйти в какой-либо монастырь, там принять постриг и посвятить свою жизнь замаливанию грехов.
Придя к подобному решению, Годунов с нетерпением ждал ночи. В помощники, чтобы исполнить задуманное, он позвал Михаила Шеина, сдержанного, умеющего молчать молодого боярина.
— Ты, стольник, забудь, что я тебе накажу, но в полночь будь с чёрной лошадью, сам в чёрном, с крытым возком. И никому ни слова, да прежде всего Иову и моему дяде Семёну.
— Никто не услышит от меня ни единого слова, — заверил Михаил.
Всё так и было. В полночь крытый возок и вороная кобылка стояли у чёрного крыльца палат и за возницу в чёрном плаще сидел Михаил. Ждал он недолго. Борис Фёдорович вышел один. Он был тоже в чёрном плаще с капюшоном, в руках — кожаная сума. Он молча забрался в возок и опустил полог. Шеин тронул коня. Годунов велел ему ехать к Троицким воротам, а как миновали их, сказал:
— Ты, Михаил, теперь свободен. Иди к матушке на Рождественку, а я покачу своим путём.
— Твоя воля, Борис Фёдорович, а мне жалко с тобой расставаться. Никто так не порадеет за Русь.
— Не знаю, не знаю.
Годунов отобрал у Шеина вожжи, и тот спрыгнул с облучка.
Михаил посмотрел вслед возку и увидел, что Борис Фёдорович уезжал к Москва-реке на мост. Куда он поедет дальше, Михаилу оставалось только гадать. Он прошёл мимо храма Василия Блаженного и, свернув на Варварку, направился по пустынной, полуночной Москве домой.
Для Руси это были судьбоносные ночные часы. Доберись Борис Годунов до Донского монастыря и прими там на рассвете постриг, держава была бы повергнута в смуту. И всё-таки смута придёт, но значительно позже, и в причинах её возникновения окажется в немалой степени виновен Борис Годунов. А пока наступило междуцарствие, и длилось оно в течение девяти месяцев.
Шагая домой, Михаил думал о происходящем как зрелый муж, хотя и непричастный к государственным делам, но во многом поднаторевший за годы придворной службы. Он определённо знал, что спокойная жизнь миновала. Уже завтра будет всем ведомо, что исчез правитель Руси и теперь вовсе некому управлять державой. И не дай Бог, если прослышат польские и литовские гетманы, что Русь осиротела, — тут же хлынут в её пределы разбойные ватаги, вновь подступят к Смоленску.
Конечно же, сдерживать порывы рвущихся к трону, может и патриарх всея Руси. Он властен, умён, в нём живёт сила Божьего слова, но хватит ли у него телесных сил? Он немощен. Сказались годы тяжёлой жизни при Иване Грозном. Надо уповать на Бога, чтобы у патриарха и церковного синклита[9] хватило здравого ума выбрать достойного государя, разумеется, если этому не помешает Боярская дума.
Михаил Шеин понимал, что не ему, царскому стольнику, судить, кого поставить у кормила власти. И всё-таки он вновь перебирал тех, кто хотел бы надеть корону державы. Князь Фёдор Мстиславский медлителен и неповоротлив. Возраст даёт себя знать. Случается, что и в думе дремлет. Усмехнулся Михаил и подумал, что и держава при нём дремать будет, а то и в сон окунётся. Вот князь Фёдор Романов и потянул бы тяжёлый воз. Властен, умён, но в любострастии был уличён. Потому патриарх Иов вряд ли выдвинет его занять царское место. А там и выборные из земель его не примут.
С Василием Шуйским всё было сложнее. Молодому стольнику Шеину не по силам оказалось раскрыть нрав и душу этого хитрого, всегда себе на уме князя, умеющего служить государям лучшим образом. Он и при Иване. Грозном ни разу не споткнулся, не дал взять себя за выю[10] и бросить на плаху.
Чьё же имя из перечисленных вельмож вознесёт патриарх с амвона Архангельского собора или с Лобного места на Красной площади? В любом случае патриарху могут поверить россияне и отдадут трон тому, кого он назовёт.
Не знал, однако, молодой стольник провидческой глубины патриарха Иова и потому со своими предпосылками зашёл в тупик.
Наутро, прибежав чуть свет в Кремль и встретившись с Машей на молитве, он спросил:
— Машенька, какая новинка в Кремле за ночь проявилась? Я-то ныне у матушки спал.
— Страсти господни случились, Мишенька. Только что ключница Годуновых Глафира поведала мне об исчезновении правителя Бориса Фёдоровича.
— И что же, все уже о том знают?
— Знают. Будто бы человек патриарха, лазутчик Лука Паули вызнал, куда отъехал батюшка Борис Фёдорович. Будто ночью провожал его до места. И сам патриарх уже поехал в Новодевичий монастырь, где и укрылся Борис Фёдорович.
«Вот уж, право, не спишь, да выспишь. Теперь решит Борис Фёдорович, что моими происками Иов пожаловал к нему», — подумал смятенный Михаил.
— Что же делать-то? — спросил он Машу.
— Ждать. Всё образуется.
Она смотрела на своего жениха с нежностью и сетовала, что их венчание и свадьба откладываются до неведомо какой поры.
Знали Михаил и Маша, что без царского благословения им не быть супругами, ибо так было сказано царём Фёдором. И никто из вельмож этого не забыл. Но пока молодые были счастливы оттого, что почти каждый день встречались в дворцовых палатах, в храмах Кремля, на его площадях. И они согревали себя обоюдной лаской. Но нынче жениху и невесте было не до нежностей.
К полудню в Москве начались волнения. Многие тысячи москвитян вышли на улицы, на площади, придвинулись к Кремлю и требовали показать им Бориса Годунова. Горожане ещё толком не знали и не понимали, почему вдруг исчез любезный им правитель державы. Но вскоре они забушевали, когда на Красной площади дьяк Судного приказа, по прозвищу Еремей Грач, подлил масла в огонь. Он взобрался на торговое строение и крикнул москвитянам:
— Чего галдите, разбойные?! Правитель Борис бросил государственное кормило и предал Русь! Боярской думе присягайте на верность. Бояре всегда вас любили!
Однако в толпе нашлись люди, которые знали Грача как выкормыша думного дьяка, одного из неугодных москвитянам братьев Щелкаловых. И послышались крики: «Долой Грача! Долой!» В Еремея Грача полетели камни. Он свалился со строения и исчез в торговых рядах.
Москвитяне продолжали бушевать. И тогда на Красную площадь Богдан Бельский привёл отряд стрельцов. Он не придумал ничего лучшего, как попытаться разогнать почитателей Бориса Годунова. Но стрельцов было мало, к тому же они не усердничали, и им не удалось разогнать горожан, которые окружили Богдана Бельского и кричали: «Подай нам правителя Бориса Фёдоровича!»
Бельский не стерпел, сам начал кричать: «Рожна вам подам!» — и с досадой увёл стрельцов в Кремль.
В предвечерний час вернулся из Новодевичьего монастыря патриарх Иов. Он был печален. Иногда в его голубых глазах светилось нечто подобное гневу. Он миновал свои палаты и велел остановить тапкану[11] близ Благовещенского собора. В храме было много прихожан, ещё больше архиереев, съехавшихся по зову патриарха со всей Руси. Шла вечерняя служба. Иов прошёл в алтарь и велел священникам начать молебен во здравие Бориса Годунова. Верующим он с амвона сказал:
— Молитесь, православные, чтобы у сына Божьего Бориса Фёдоровича проснулась милость к россиянам. Да не позволим ему заблудиться в пустынях или болотах!
Узнав, что патриарх возвратился из Новодевичьего монастыря, из кремлёвских палат пришли в храм многие бояре и князья. Были вместе со всеми Михаил, Маша и Артемий. По ходу молебна они поняли, что патриарх не сумел добиться согласия Бориса Годунова встать на престол. Поняли это и умудрённые жизнью вельможи. Многие порадовались этому и сразу же поспешили в кремлёвский дворец.
Каждый думал о том, что пора что-то предпринимать.
Наступил беспокойный вечер. Ни Мстиславские, ни Романовы, ни Шуйские и не думали покидать дворец. Вечерняя трапеза затянулась на этот раз за полночь. Стольники и чашники сбились с ног. Сколько было съедено кушаний, сколько было выпито вина и медовухи — в хорошие пиры меньше добра уходило.
Вскоре бояре начали кичиться своими родословными, и всё громче, всё чаще слышались голоса Шуйских, особенно Димитрия, Мстиславских, Романовых. Страсти накалялись. Все кричали о своих заслугах перед державой. И вовсе неожиданно огневой князь Димитрий Романов бросился с воплями и кулаками на такого же неугомонного и задиристого князя Димитрия Шуйского. Завязалась потасовка. С той и с другой стороны подбежали старшие и младшие братья, пытаясь разнять дерущихся. Вмешались стольники, чашники. Михаил ухватил со спины Димитрия Шуйского и оттащил его от Димитрия Романова, которого уже сдерживал старший брат Фёдор. Все разошлись по своим местам. Только Димитрий Шуйский задержался близ Михаила Шеина и процедил сквозь зубы:
— Ты хоть и крепкий малый, но я тебя достану. Запомни это.
— Запомню, князь. Готов к встрече, — ответил с улыбкой Михаил.
Далеко за полночь все утихомирились и стали расходиться по кремлёвским палатам, разъезжаться по домам за пределы Кремля.
На другой день всё повторилось. Лишь раньше вчерашнего горожане заполонили Красную площадь, лишь раньше съехались в Кремль вельможи. Горожане упорно вызывали патриарха и добились своего. Он появился в окружении большого клира. Священнослужители прошли до Лобного места, помогли патриарху подняться на него.
Едва Иов благословил горожан, как они единым духом потребовали, чтобы он вёл их к Новодевичьему монастырю. Крепкий рыжий детина, что стоял близ самого Лобного места, крикнул:
— Ты, отче святейший, не мешкай, а веди нас к обители девичьей! Завтра будет поздно: наш батюшка постриг примет.
Патриарх узнал в рыжем детине известного всей Москве ведуна Сильвестра, увидел рядом с ним рыжую жёнку Катерину-ясновидицу и содрогнулся, поняв сказанное Сильвестром как предупреждение.
— Веди нас! Веди! — гудело над площадью.
Иов поднял руку, и гул как ветром сдуло.
— Слышу ваш глас, православные! Идите за мной! — вознёс патриарх и, попросив архиереев свести его с Лобного места, повёл тысячи горожан к Новодевичьему монастырю.
Однако многотысячная толпа пришла к обители напрасно. Сколько ни призывал патриарх и весь церковный клир, весь московский народ Бориса Годунова на трон, сколько ни просил прервать сиротство Руси, Годунов непоколебимо отказывался. Он даже не вышел к вопиющим горожанам, и по его воле никого не пустили в обитель.
Патриарх был в отчаянии. Ему ничего не оставалось, как благословить на русский трон кого-то из троих князей: Мстиславского, Романова или Шуйского. И только одно удерживало его от последнего шага: Годунов не принял пострига, как грозился. Не знал Иов, что ему надо было молиться за сестру Бориса. Это она остановила брата перед последним шагом. Он внял мольбе сестры. Она многажды ему говорила:
— Никто другой, братец любезный, не нужен Руси, потому возьми сей тяжкий крест и народ тебя отблагодарит.
А Москва сгорала от жажды видеть царя. Горожане изо дня в день не покидали Красную площадь и требовали от патриарха, чтобы он вновь вёл их к монастырю. «Или мы разнесём его по кирпичику!» — грозились они.
В эти дни Михаил Шеин был свидетелем того, как патриарх Иов, собрав весь церковный клир в царской трапезной, проявил небывалую решительность, произнёс слова, в которых всё-таки сквозило и отчаяние:
— Братья во Христе, сыны мои, сегодня мы все пойдём к Новодевичьей обители. Мы скажем достойному трона россиянину так: если он откажется надеть корону державы, то я призову вас всех снять святительские одежды и уйти в монастырь. Знаю, Русь может быть оставлена в полном сиротстве, но, даст Бог, это образумит упрямца.
Стольник Михаил Шеин от этих слов содрогнулся, ибо в них он почувствовал предел отчаяния первосвятителя. Он, однако, заметил, что и архиереи мыслили с патриархом едино. Никто ему не возразил. И после литургии, отказавшись от утренней трапезы, они отправились по заснеженным улицам февральской Москвы к Новодевичьему монастырю. За ними шли многие сотни горожан, и среди них были два друга, Михаил и Артемий, которые, как и все, волновались за судьбу Руси.
Трудно сказать, какие силы победили сопротивление Бориса Годунова, но когда святители и москвитяне прихлынули к воротам монастыря, те вскоре открылись. Навстречу Иову и архиереям вышли, взявшись за руки, вдовствующая царица и правитель. Ирина и Борис были бледны, но шли твёрдо. Приблизившись к патриарху и клиру, царица Ирина помолвила:
— Мой брат готов послужить державе. Но он подождёт того дня, когда соберётся Земский собор. Как собор скажет, так и будет.
— Целуешь ли ты крест на том, сын мой? — спросил Иов ломким от волнения голосом и дрожащей рукой протянул Борису крест.
Годунов поцеловал золотое распятие Иисуса Христа и, не сказав ни слова, повернулся и ушёл в монастырь. Поведение Бориса удивило Иова: оно было непонятно ему. Патриарх пожал плечами и подумал, что надо собирать Земский собор.
Государственный Земский собор удалось собрать только во второй половине февраля. В Москву съехались пятьсот избранных. Здесь можно было увидеть все слои населения Руси. Это были выборные чины боярского и дворянского звания, воеводы, духовенство, купцы, простые горожане и крестьяне.
Был Чистый четверг, и в десять часов утра в Грановитой палате Кремля патриарх Иов провозгласил начало заседания Земского собора. Последний подобный собор состоялся в Кремле тридцать два года назад, во времена Ивана Грозного. В прежние годы соборы открывали государи. На этот раз долг пал на первосвятителя. Иов вышел на возвышение во всём сиянии святительского одеяния. Многие архиереи знали, что патриарх ведёт свою речь «с кончика языка» — по памяти — и говорит при этом звонким и чистым голосом, долетающим до всех уголков Грановитой палаты.
— Россияне, почтенные выборные всей земли, соборяне, вам уже известно, что царица Ирина отказалась царствовать и ушла в обитель, — начал патриарх Иов. — Но будет вам известно, что на Руси есть муж, достойный быть государем. Это боярин, правитель Борис Фёдорович Годунов. И мы сказали Борису Фёдоровичу, что держава не должна сиротствовать, тоскуя без царя. Потому Русь ждёт вашего мудрого слова, соборяне, Вы, бояре, князья, дворяне, люди приказные, вы, архимандриты, святители, купцы и всех чинов люди державы, объявите нам мысль свою и дайте совет, кому быть у нас государем. Мы же, архиереи московские, свидетели кончины царя Фёдора Иоанновича, думаем, что нам мимо правителя Бориса Годунова не должно искать иного государя.
— Помните, мужи державные, что царь Фёдор перед кончиной одарил Бориса державной гривной! — возвысив и без того мощный голос, произнёс следом за патриархом митрополит Геласий. — Он вручил ему судьбу Руси.
После многих речений в пользу и против Бориса Годунова под сводами Грановитой палаты обозначился один чёткий и ясный ответ: «Пусть здравствует в нашей державе государем Борис Фёдорович Годунов!»
Взбунтовались из выборных только двое: московский митрополит Дионисий и его побратим по прошлой жизни в опричнине псково-печёрский архимандрит Антоний. Казалось бы, государство могло вздохнуть свободно: нет больше сиротства. Но Борис Годунов в который раз показал свой непредсказуемый нрав. Он приехал в Кремль поздней ночью после окончания работы Земского собора, вошёл в царский дворец, походил по нему, в тронном зале долго стоял возле царского трона и даже присел на него, но встал и пересел в простое кресло.
Михаил Шеин принёс ему кубок вина. Борис Фёдорович пригубил немного, спросил у Михаила:
— Ты всё ещё стольник?
— Да, государь.
— А я вижу, что ты вырос из этой одёжки. Да послужи пока, как служишь. И я в Новодевичьем пока погостюю. — Сделав глоток вина, Годунов поставил кубок на поднос и произнёс: — Ты завтра уведомь патриарха, что я был здесь. Да пусть меня проведает.
С тем и ушёл правитель через чёрный ход, где его ждал возок и три вооружённых монаха.
Утром, как и просил Годунов, Михаил пришёл в патриаршие палаты и рассказал Иову, что ночью во дворец приезжал Борис Годунов.
— И он там остался? — осведомился Иов.
— Нет, святейший. Но просил тебя сегодня к нему приехать.
— Господи, вразуми… Сердце вещает, что неспроста приезжал. Жди опять препон. — И патриарх попросил Михаила: — Скажи Николаю, сын мой, чтобы тапкану сей миг заложил. И ты со мной поедешь.
В пути Иов расспрашивал Михаила о том, как вёл себя во дворце Борис Годунов. Михаил ответил просто:
— Всё было достойно государя, святейший. Он посидел на троне, пригубил вина, осмотрел всё кругом и ушёл.
— Ох, не к добру это! — тяжело выдохнул Иов.
И впрямь вздыхал патриарх не напрасно. Когда Борис встретился с Иовом и сообщил о своём решении, того чуть «удар» не хватил.
— Повтори, что ты сказал? — через силу вымолвил Иов.
— Не суди меня строго, святейший, я сяду на трон лишь после того, как усмирю крымского хана Казы-Гирея. Да можно ли в такое время думать о венчании и пирах, когда на нас идёт коварный враг! — воскликнул в сердцах Борис Годунов.
— Ведомо мне, сын мой, что магометанин Казы-Гирей достоин наказания, — обрёл дар речи Иов. — Моему лазутчику Луке Паули известно, что Казы-Гирей собрал против нас несметную орду и с нею идёт семь тысяч султанских нукеров. Да будет, однако, мною сказано, а тобою выслушано: сей случай есть ещё одна причина твоего неотложного венчания на царство.
— Не принуждай меня, отче, к необдуманному действу. Только после усмирения орды, даст Бог, наступит моё венчание. Об одном прошу, святейший: не болей, береги себя. Нам с тобой во благо Руси ещё многое нужно сделать.
Иов улыбнулся, глаза его оживились, печаль ушла.
— Дай-то Бог, чтобы всё так и было, — произнёс он и расстался с Борисом Годуновым.
Михаил и услужитель Николай посадили патриарха в тапкану, и кони резво понесли её в Кремль.
Глава пятая ВЕНЧАНИЕ В ПОКРОВЕ
Кому-то пришло в голову на Земском соборе, что особую грамоту об избрании на царство Бориса Годунова должны подписать все дворцовые служилые люди, и каждому царскому слуге было отведено своё место в грамоте. Михаил Шеин подписывался на листе, где было сорок пять стольников. Отметил Михаил, что его имя вписали на двадцатом месте. Тогда он даже улыбнулся: дескать, славно быть среди сорока пяти на двадцатом месте, к тому же если после тебя в той грамоте выведено семнадцать княжеских фамилий.
Михаил не выделялся между стольниками честолюбием, гордыней. Наоборот, он всегда был более чем скромен, исполнителен и чистоплотен. Выходило, что было за что возвысить его среди прочих.
Когда эту новость узнал Артемий, он похлопал Михаила по плечу и сказал дружески, но и с шуткой:
— Ты, Миша, пойми, кто вокруг тебя такой видный, как Никита Добрынин? Никого. Вот и поставлен ты в середину на удивление. Это очень важно! — И Артемий поднял вверх палец.
Шутка Артемия пришлась Михаилу по душе, но он, однако, попытался стукнуть друга в плечо, от чего тот увернулся.
Михаил недолго ломал голову над загадкой, которая таилась в грамоте. Она была простой. В Дворцовом приказе с первых дней появления на царской службе Михаил Шеин за свои личные достоинства был на особом счету. Потому-то его и пускали в рост. Но в эту пору, после избрания Бориса Годунова на царство, Михаил был озабочен иными душевными терзаниями. Как было славно раньше думать, что у него на свадьбе посажёными отцом и матерью будут царь и царица! Кто подскажет, как теперь быть? Одно Михаил знал твёрдо: без Маши он уже не мыслит своей жизни. И хотя он был счастлив тем, что они каждый день встречались во дворце, этого ему было мало. Он хотел, чтобы Маша стала его семеюшкой. Прошёл уже почти год, как они были обручены, но день свадьбы оставался пока призрачным, потому как жили они в какое-то неопределённое время. Вроде бы народ выбрал царя, а его на троне нет и когда он появится в кремлёвском дворце, никому не ведомо. Гадал Михаил, что, может быть, в этом году Казы-Гирей вовсе откажется от похода на Русь. Как тогда решит свою судьбу Борис Годунов? По слухам, Казы-Гирей как будто уже выступил из Крыма. Но ведь это лишь слухи. И выходило, что из-за какого-то Казы-Гирея он, Михаил, не может прийти к царю и попросить его благословения на свадьбу.
Однако здравый смысл подсказал Михаилу, как ему поступить. Смелости Шеину не занимать, и он всё исполнит своей волей. Михаил прикинул: на дворе начало марта. Казы-Гирей может подойти к южным рубежам Руси не раньше мая — значит, у Михаила в запасе более сорока дней, чтобы обвенчаться с Машей и справить свадьбу. Вот только где? Ведь без родителей невесты свадьбе не бывать. А они живут в Суздале. Пока им дашь знать, пока приедут, сколько времени окажется потерянным. И подумал Михаил, что лучше всего ему ехать с Машей к её родителям. Разве что надо с Артемием посоветоваться, что он скажет. Решив так, Михаил отправился на подворье князей Мстиславских — оно было в пределах кремлёвских стен. Артемий, как всегда, когда князь был в думе или в Дворцовом приказе, находился на конюшне. Там и встретились друзья.
— Вот пришёл к тебе за советом. О свадьбе думаю. Время её свершить. Да где венчаться, ежели родители Маши в Суздале?
— Так в Суздаль и надо катить, — весело заявил Артемий и зачастил: — Ты вот что сделай. Мне стало ведомо, что на место покойного дворецкого Григория Васильевича встанет его младший брат Степан Васильевич Годунов. Так ты иди к нему с поклоном, сочти его за дворецкого. И он по нынешней безлюдной поре в царских палатах тебя отпустит.
— А ведь верно говоришь. Степан Васильевич душевный боярин, отпустит. Вот только Маша…
— О Маше не переживай. Я поклонюсь княгине Ксении Шуйской, и она не поперечит. Маше ведь тоже некому постель стлать.
— А матушка твоя поедет?
— Как не поехать к своим сродникам! О, в Суздале мы такую свадьбу закатим, на весь город. Давно там не был. Славен Суздаль! Люблю его! — горячо изрекал Артемий.
И покатились сани под горку. Друзья вместе отправились к Маше. Нашли её в кладовой, где она с ключницей перебирала постельное бельё, перекладывала его полынью и чабрецом.
— Мария, встречай гостей, неси медовуху на стол, — балагуря, влетел в кладовую Артемий.
Увидев жениха, Маша зарделась, пошла навстречу.
— Здравствуй, свет Миша.
— Здравствуй, лебёдушка. А у меня к тебе самое важное и главное на всю жизнь дело.
— Говори, сокол.
— Эк замахнулся! — засмеялся Артемий. — Да про свадьбу он говорит. А я ему совет дал: в Суздале свадьбу будем справлять. Потому к боярыне Ксении нам надо сбегать, отпроситься тебе.
Маша была рада сказанному Артемием и Михаилом. Кончалось время лишь любования друг другом, близилась пора «таинственной» супружеской жизни. И Маша поторопила брата!
— Сейчас и идём к матушке Ксении, она в своём покое.
Ксения Шуйская помнила, как царь Фёдор и царица Ирина обручили Машу и Михаила, потому супротивничать не стала. Подойдя ко всем троим, застывшим у порога, сказала:
— Я девицу Марию отпускаю к венцу и велю ей любить и жаловать супруга так же, как мы его любим.
— Спасибо, матушка-боярыня, исполню твой завет, — с поклоном ответила будущая боярыня Мария Михайловна.
— В Суздале-то в храме Пресвятые Богородицы помолитесь за меня, — с улыбкой добавила княгиня Шуйская.
Повеселевшие от первой удачи Михаил, Маша и Артемий отправились искать Степана Васильевича. Найти его было трудно. Неугомонный, во всё вникающий, он целыми днями обходил дворцовое хозяйство, всюду присматривал за порядком. Он сохранил всё, что сложилось при старшем брате, и теперь лишь пытался добавить своё в домовый царский обиход. Нашла троица Степана Васильевича в винных погребах. Он пересчитывал с дьяком винные запасы, бочки с медовухой, с пивом и брагой, зная, что с появлением во дворце Бориса Фёдоровича вино и прочее потекут в столовую палату рекой.
— Что ж ты, Шеин, пришёл с ратью? — спросил звонким голосом сухопарый, быстрый на ногу Годунов.
— Так нужда привела нас к тебе, батюшка-боярин, — начал Михаил. — Помнишь, как меня и Машу государь и государыня обручили и свадьбу наметили на Масленицу? Год уже с тех пор миновал, а мы с Машей всё ещё жених и невеста.
— И что же, в храм, что ли, вас отвести?
— Отпусти меня, батюшка-боярин, на три недели. В Суздале нам надо венчаться, там родители Марии Михайловны. Вот и вся моя просьба, Степан Васильевич.
— Я-то отпустил бы: негусто ныне в трапезной, подавать обеды некому — да вот что государь скажет. Ты у него на особом счету.
— Как же теперь быть?
— Так и быть, что собирайся с Марией Михайловной в дорогу и поедем вместе в монастырь к государю-батюшке. Там он и молвит своё слово. Да быстро собирайтесь, не медлите!
— Мигом мы, одна нога здесь, другая там, — ответил Михаил и, взяв Машу за руку, увёл её. Следом скрылся и Артемий.
Борис Фёдорович в этот день встречался с зодчими. Задумал он поставить в Новодевичьем монастыре храм в благодарность сестре, уступившей ему трон. Зодчие пришлись ему по душе, и храм, какой они изобразили на бумаге, понравился Годунову. Пребывая в хорошем расположении духа, он принял Михаила и Машу приветливо, а выслушав, долго присматривался к жениху и невесте и сказал:
— Я не провидец, но вижу в вас сильную супружескую чету, потому даю вам волю на четыре недели. В них и ваш медовый месяц войдёт. Славен Суздаль, и я бы хотел там побывать.
— Спасибо, государь-батюшка, — разом отблагодарили Годунова Маша и Михаил.
— Помни, однако, Шеин, пойдёшь со мною в поход на Казы-Гирея.
— Готов служить в меру своих сил, государь.
— Тогда благословляю, поезжайте в славный Суздаль. — И дяде Степану Годунов слово сказал: — Проводи их на свадьбу так, чтобы достаток на столе видели суздальцы.
А пока дворецкий обговаривал с государем дворцовые дела, Михаил и Маша зашли в храм, где шла служба. Там они увидели царицу Ирину — инокиню Александру — в монашеском одеянии. И она их увидела, подошла, обрадовалась встрече, Машу обняла как родную, спросила:
— Что привело вас в обитель?
— Мы ведь ещё не венчаны, матушка-царица. Приехали за благословением государя, и он дал его, — ответил Михаил.
— Слава Богу, что вам открыли путь к венцу. Да кто ведал, что судьба так изменит нашу жизнь, — говорила инокиня Александра тихо, и в глазах её светилась глубокая печаль. — Вы уж простите нас, что не исполнили своё обещание.
— Бог простит, а мы помолимся за твоё здоровье, матушка-царица, — произнёс Михаил.
Во вратах храма он увидел Степана Васильевича. Тот поклонился своей племяннице.
— Прости, матушка, мне надо поспешить в Кремль, и я зову своих спутников.
Михаил и Маша тоже поклонились инокине Александре и покинули храм.
А через день Москву покинули три пары резвых буланых лошадок, запряжённые в три крытых возка на санном ходу. В первом ехали Михаил и Артемий, во втором — матери Михаила и Артемия Елизавета и Анна и с ними Маша. В третьем возке везли подарок царя к свадебному столу.
Ещё не развиднелось, когда возки подкатили к Яузским воротам. Стражи остановили их, спросили, куда едут, и предупредили, чтобы на ночь останавливались только на постоялых дворах.
— Тати по ночам шастают, — сказал пожилой добродушный страж, — да говорят, что это шалят супротивники нового царя Бориса Фёдоровича.
Михаил согласился со стражем. Возки спустились на санный путь, проложенный по реке Яузе, и легко покатились всё на восток, на восток, к Павлову Посаду, к селу Покрову и далее ко граду Владимиру. Михаил смотрел в оконце и был озадачен тем, что поведал страж о татях.
Противников у Бориса Годунова оказалось много. Один Богдан Бельский со своими холопами сколько выпадов совершил против Годуновых. Поверили, что в торговых рядах Китай-города Бельский учинил погромы в лавках английских и датских купцов. При этом его холопы кричали: «Это вам за то, что Бориса Годунова царём не признаете!»
Рассуждая по этому поводу, Михаил сказал Артемию:
— А страж-то ведь прав. У Бориса Фёдоровича много супротивников. Тот же Богдан Бельский взялся поссорить его с английским и датским королями. Скоро Англия и Дания грозные грамоты пришлют.
Событий в минувшую зиму было на памяти друзей столько, что им хватило бы воспоминаний на весь путь до Суздаля. Но их благополучная езда была прервана. К полудню второго дня они миновали Московскую землю и добрались до Владимирской, въехали в большое торговое село Покров. Достигнув постоялого двора, путники удивились многолюдью и множеству конных упряжек в санях.
— Ничего подобного никогда не видел, — промолвил Артемий. — Разве что в базарные дни.
Заметили Артемий и Михаил и другое. Сани были полны разной домашней утвари, кое-каких одёжек, постелей, словно все собравшиеся на постоялом дворе бежали от какого-то бедствия. Вышли из возка боярыни Анна и Елизавета, за ними — Маша. Все они изумлённо смотрели на скопище саней, на молчавших горожан, из которых мать Артемия Анна многих узнала. Она же и высказала Елизавете и Маше своё предположение:
— Погорельцы это, мои любезные суздальцы.
И вдруг Маша вскрикнула:
— Там тётя Павла! Я узнала её, это наша соседка!
Маша побежала к ней, тронула за полушубок:
— Тётя Павла, это я, Маша Измайлова. Ты помнишь меня?
Женщина лет пятидесяти посмотрела на Машу печальными серыми глазами. Лицо её исказила горестная гримаса, она заплакала в голос, запричитала:
— Ой, ясочка моя сладкая, ой, дитятко, лихо-то какое обрушилось на нас! Не знаю, как тебе и сказать, моя ненаглядная, как поведать…
Павла ещё причитала, ещё искала какие-то важные слова, может быть, утешения, но Маша сердцем поняла, что там, в Суздале, случилось нечто непоправимое, какое-то великое несчастье. Тётка Павла жила в соседнем от Измайловых доме. Их большие дворы, расположенные на Покровской стороне, близ Покровского женского монастыря, огородами и садами сбегали к речке Каменке, и там на прибрежном лугу Маша часто играла с двумя дочерями Павлы. Та в этот миг собралась с духом и с плачем выговаривала самое страшное, от чего задыхалась:
— Ясочка моя, погорели мы все на Покровской стороне, и твои родители допрежь. Пепел там, где стояли палаты, остался…
Смысл сказанного Павлой не сразу дошёл до Маши. Да, случилось несчастье и погорела Покровская сторона. Но где её родители? Почему их нет среди погорельцев? К Маше подошли боярыни Анна и Елизавета, позади встали Михаил и Артемий. Маша ещё искала между погорельцами матушку и батюшку, но высветились слова Павлы, глухо произнесённые сквозь рыдания: «Вечная им память!»
Маша всё поняла: родители её погибли. Голова у неё закружилась, и она сомлела. Михаил успел подхватить падающую Машу и теперь, присев, держал её на коленях. Он поднял её и понёс к возку. Артемий поспешил следом.
А Павла уже рассказывала Анне и Елизавете о том, что произошло в Суздале на Покровской стороне:
— На третьей неделе Великого поста в день мученика Савина мы легли спать, как завечерело. А в полночь проснулись от треска, огня и дыма. Глянули — горят палаты Измайловых. Выбежали из дома. Боже мой, кругом всё полыхает! На нашем доме уже крыша горит. Соседи напротив Измайловых и за ними тоже полыхают. Взялись добро спасать, да разве спасёшь? Похватали, что можно, постель да одежонку. И скотина погорела. Благо вот лошадёнку спасли…
— А что же Измайловы? — спросила Павлу бледная Анна.
— В полдень, когда вся сторона выгорела, собрался народ к их палатам. И ничего уцелевшего не увидели. А как разгребли то место, где быть опочивальне, только косточки беленькие и нашли. — Тётка Павла умолкла, опять заплакала.
Приехавших заметил хозяин постоялого двора Филимон. Он подошёл к Михаилу и, увидев сомлевшую Машу, сказал:
— Несите её за мной. У меня есть свободный покой. И все ваши пусть идут…
Филимон вскоре повёл Шеиных и Измайловых на постоялый двор. Михаил нёс на руках Машу. В просторном покое, кроме стола и нескольких спальных топчанов, ничего не было. Михаил уложил Машу на топчан близ окна, присел на край, спросил хозяина:
— Может, в селе лекарь есть? Позвать бы!
Хозяин, грузный мужик, огладил окладистую бороду. Потоптался.
— Не знаю, как и сказать. Лекаря-то нет. А вот позавчера на базарные дни муж с жёнкой то ли из Москвы, то ли из Мурома приехали.
Представились торговыми людьми, узорочье разное по сёлам носят. Однако скажу тебе, боярин, что сила в них тайная есть, к себе так и влекут. Поди, чародеи. Как пить дать, помогут.
— Позови их, я за хлопоты заплачу, — попросил Михаил.
Филимон ушёл. В покое воцарилось молчание. Ни у кого не было слов, чтобы выразить постигшее Измайловых горе. Боярыня Анна плакала. Она лишилась последнего брата мужа, дяди Артемия и отца Маши, боярина Михаила.
Вскоре хозяин вернулся и привёл рыжего мужика лет тридцати и такую же рыжую, яркой красоты жёнку. Это были известные многим в Москве ведуны Сильвестр и Катерина. Но пока ещё мало кому было ведомо, что они напророчили Борису Годунову царствовать семь лет… Сильвестр и Катерина были деловиты и решительны. Они велели Артемию открыть дверь. Когда Артемий открыл дверь, Сильвестр подошёл к нему, встал по другую сторону двери и взял его за руку. Катерина присела близ Маши и, погладив её по голове, полюбовалась на её бледное, но красивое лицо. Удерживая руку на голове, склонилась к ней и беззвучно сказала на ухо:
— Ласточка-касаточка, слава тебе! Не вей гнезда в высоком терему, не жить тебе здесь, не лётывать. Да кому я спела, тому добра. Кому приснится, тому сбудется.
Катерина встала, взмахнула дважды руками, словно отгоняя от Маши вёрткую птицу.
В покое было так тихо, что даже полёт мухи услышали бы те, кто находился в нём. Но они явственно различили шуршание крыльев птицы, и она чёрной тенью с белым пятнышком на груди промелькнула к двери и скрылась за нею. И вновь воцарилась тишина. Маша открыла глаза и, увидев рыжую Катерину, с удивлением спросила:
— Кто ты?
— Я твоя судьбоносица, — ответила Катерина и взяла Машу за руку.
— Что со мной? Почему я лежу?
— Что было, то пройдёт и быльём зарастёт. Тебе, касаточка, всегда отныне будет светить солнце. Да сбережёт тебя от бед всяких твой ясный сокол. — И Катерина подозвала Михаила: — Подойди к нам, суженый.
Михаил подошёл к Маше и, опустившись на колени возле ложа, взял её за руку. И она поднялась, села.
— Головушка моя разламывается. Но я всё вспомнила. Сказано было мне, что я потеряла матушку и батюшку.
— У тебя всё будет хорошо, ясочка. Господь вознёс твоих близких в небесные кущи. Поплачь о них, проводи их в последний путь, и я сниму твою боль и в сердце твёрдость вдохну. Слушай же меня внимательно.
Катерина вновь села рядом с Машей, положила руку ей на голову, гладила, словно сбрасывая с неё нечто. Взгляд у Маши стал ясным, осознанным, и она спросила:
— О чём мне тебя слушать, чародейница?
— Ехать тебе надо в Суздаль, ясочка, отслужить в храме Покровского монастыря панихиду по безвременно почившим рабу Божьему Михаилу и рабе Божьей Анастасии. И взять горсть земли с пепелища сыну твоему в память о предках. А как выполнишь завещанное, приди во град Владимир, там и помолись в храмах с супругом о блаженстве усопших.
Маша подняла на Катерину большие печальные глаза и молвила:
— Есть у меня жених пока. Мы ведь ехали в Суздаль венчаться.
— Нельзя тебе в Суздале венчаться. Судьбе то неугодно. Ты, Мария Михайловна, появишься в Суздале супругой Михаила Борисовича Шеина. А по-другому и не должно быть, потому как прочие пути тебе заказаны.
— Почему? — спросила Маша, недоумевая.
— Потому, что на твоём пути стоят Щербачиха и князь Черкасский. Да помнишь ли ты прошлую Масленую неделю и всё, что произошло в Столовой палате царского дворца?
— Помню.
— Тем всё и сказано, — Катерина положила руку на плечо Михаила, улыбаясь, произнесла: — Мы обвенчаем вас в чудотворном храме, который называется Покровским.
Дальше всё было так, как повелела Катерина. Но тем она не завершила своё дело. Поднялась с ложа, сказала:
— Все вы слышали, о чём мы с касаточкой поговорили? Так вот сейчас я пойду на подворье и скажу суздальцам о вашей милости быть им свидетелями, дружками и почётными гостями на венчании и на свадьбе Михаила и Марии. Хотите или нет, но вы должны всё исполнить во благо чтимым вами жениху и невесте.
С тем Катерина и ушла. Но её место занял Сильвестр. Они с Катериной были одним ведовским деревом, и плоды их трудов были неразделимы, каждое дело принималось и исполнялось как общее.
— Моё слово к тебе, боярин Михаил. Идёшь ли ты к хозяину Филимону столы на завтра заказывать?
Михаил встал с колен, подошёл к Сильвестру. Оба они статью стоили друг друга. Волей судьбы они много раз окажутся рядом, когда над ними будет нависать угроза смерти. И могучий ведун не поскупится своей жизнью, примет удар судьбы на себя, прикроет воеводу грудью.
А пока два мужа по-деловому обсудили возможности исполнить венчание в Покрове и отметить это свадьбой вместе с земляками Марии, потерявшими кров и имущество. Они отправились к хозяину постоялого двора Филимону просить его приготовиться к свадебному дню.
Дело у Катерины и Сильвестра спорилось. Ведунья уговорила суздальцев почтить вниманием венчание и свадьбу своей осиротевшей землячки. А Сильвестр нашёл душевный отклик у Филимона, который за умеренную плату согласился накрыть свадебный стол, а узнав, что к столу есть царское угощение, вовсе обрадовался.
— Такой свадьбы в Покрове отроду не было и не будет, поди! — воскликнул он.
Оставалось выполнить самое важное — договориться со священнослужителями о часе венчания. Сильвестр и Катерина взяли эту ношу на свои плечи. Священник храма Покрова отец Нестор, выслушав Сильвестра, сказал:
— Завтра жду жениха и невесту. Приходите к обедне. Да венчальными кольцами не забудьте обогатиться.
— Есть они у нас, святой отец, — отозвался Сильвестр, глянув с улыбкой на Катерину.
После того как было улажено дело в храме и с погорельцами, которые уже собирались уезжать в Москву к сродникам, Катерина вернулась в покой укрепить дух осиротевшей Марии, сочтя это нужным: Маша всё ещё была на пределе отчаяния. Ей показалось, что надо немедленно ехать в Суздаль и там вызнать правду о гибели родителей. Катерина поняла её состояние и отважилась прогнать скорбь из души несчастной, вселить в неё жажду борьбы со злом, которое навалилось на её семью.
Катерина видела это зло. Оно родилось в те дни, когда в Суздале появился один из князей Черкасских. Никто не знал причины его приезда. Катерина знала. Он писал сочинение о жизни великого князя Василия III, о его мужской немощи и о том, что в пору его супружества с княгиней Еленой Глинской от него, немощного князя, вдруг родился сын, будущий Иван Грозный.
У суздальцев сохранилось предание о том, как к первой жене Василия, великой княгине Соломонии, насильственно заточенной в Покровский монастырь, приезжал некий инок Ипат, в молодости черкесский князь Ибрагим. Вот о нём-то и пытались собрать крупицы известий князья Черкасские. А пребывая в Суздале, молодой князь Димитрий Черкасский увидел на молении в Покровском храме отроковицу Машу с родителями и после нескольких посещений храма влюбился в неё. Тогда в нём и загорелось желание овладеть Машей, и её приезд в Москву он счёл за благо для себя. Когда сорвалась его попытка в Кремле получить благословение царя на венчание и брак с Марией и Димитрий Черкасский был сослан в Вологду, он придумал нечто новое, как заполучить голубоглазую красавицу. Чуть ли не каждый месяц он писал грамотки в Суздаль к родителям Марии и просил руки их дочери. Однако по неведомым князю причинам эти грамотки не доходили до Измайловых, но на все грамотки он получал ответы с отказами дать в жёны боярышню Измайлову.
После каждого такого ответа князь Димитрий впадал в ярость, гнев его нарастал и выплеснулся на ни в чём не повинных родителей Маши и многих суздальцев. Может быть, Измайловы и не устояли бы перед подобным натиском князя Димитрия Черкасского, если бы грамотки доходили до них. Кто отвечал на грамотки, знала, по предположению Катерины, только третья таинственная личность, к тому же нечистая, обиженная ненароком князем ведунья Щербачиха. Ей лучше не переходить дорогу, считала Катерина. Они с Сильвестром побаивались её коварства и потому не вмешивались в её каверзы.
И всё-таки они отважились оградить чистую душу Марии от происков Щербачихи, и не случайным было их появление в Покрове. Перебрав всё, что накопилось в головушке, Катерина присела возле Маши и сказала всем, кто был в покое:
— Побыла я среди суздальцев. Страдают они вместе с нами о нашей ясочке, о безвременной потере ею родителей. И все они довольны тем, что Мария обвенчается в Покрове и обретёт себе защитника, ясного сокола. А теперь, дорогие мои, давайте невесту к венцу Готовить, потому как день на исходе, а завтра в храм идти. Дел у нас много.
Глядя на Катерину, которая ни минуты не знала покоя и все «за други своя», повзрослевшая Маша, ещё страдая сердцем и душой по погибшим родителям, поняла, что на её плечи легла ноша, которую надо нести с терпением и не пребывая в скорби. Она встала с ложа, подошла к тётушке Анне, поцеловала её, потом шагнула к Елизавете и тоже поцеловала её.
— Матушки родимые, провидица Катерина вдохнула в меня силы, и я готова идти к венцу. Кланяюсь вам в пояс, а больше мне и поклониться некому…
И никакого удержу не стало, ни молодым, ни старым в селе Покрове, когда они узнали, что завтра у них в храме будет венчание молодых, а сегодня уже все должны величать невесту и жениха.
Сельчане высыпали на улицу, прихлынули к постоялому двору — и разрушилась печальная тишина в округе. Смыли её с погорельцев покровские девки и парни. Да и почему бы не быть венчанию и свадьбе, родившимся в безвременной печали, весёлыми и красными? И устроили покровские девки, как и положено, шумные проводы жениха и невесты. Всех заманили на круг да бойко, с приплясами, запели:
Дорогая наша гостюшка, Наша милая Манюшенька, Погости, гостья, малёхонько, На дворе у нас тихохонько… Вдруг подули ветры буйные, Растворилися окошечки, На двор въехали разлучники, Что разлучники — добры кони, Добры кони, добрый молодец, Свет Михайлушко Борисович!А вот и невеста с женихом показались. Как глянули они на толпу девиц и парней, на многих сельчан, так и возрадовались неожиданно. И воскликнула в душе Маша словами Катерины: «Потеснись, печаль горькая, потеснитесь на сегодня, родимые! Каким будет сей день, такой будет вся жизнь. Не судите меня, родимые!»
Затянулись проводы невесты и жениха до глубокой темноты.
А на другой день Катерина и Сильвестр, посажёные мать с отцом, встали с боков жениха и невесты и повели их в храм, который стоял в ста саженях от постоялого двора на площади. И река людская потекла следом. И песни над нею льются. Но некогда их петь. Вот и храм. Небольшой, деревянный. Не все покровцы и суздальцы вместились в него. Священник Нестор, дьячки, певчие приготовились к обряду. Но никто не спешит, всё чинно, размеренно делают. Венчание — память на всю жизнь. Так думал священник Нестор и старался, чтобы своё венчание жених и невеста запомнили до исхода дней. И певчие для того боголепно поют, и сам Нестор им подпевает. Обряд исполняет с достоинством великим, словно на царство венчает. Вот уже и венцы над головой жениха и невесты подняты, и вокруг аналоя трижды прошествовали.
Душа у Марии наполнилась жаждой жизни, сердце её трепещет при каждом взгляде на супруга. Да, уже супруга, ведь их уже повенчали. И чару вина они распили пополам. И уста их сомкнулись, словно навечно прикипев жаром. И хор поёт «Величальную». Маша смотрит на мир другими глазами и повелением зелёных глаз Катерины возносит свой взор вверх и видит среди ангелов, украшающих свод храма, своих детей, своих внуков и правнуков. «Ради них и жить мне», — рождаются в её сердце вещие слова. Она просила Всевышнего помочь ей, и печаль и горести отступили. Маша подняла голову, расправила плечи, дыхание стало ровным — жажда жизни восторжествовала.
Торговое село Покров на Владимирской земле — зажиточное. Стоит оно на перекрёстке многих дорог. Из него есть пути во Владимир и в Муром, в Нижний Новгород и на Киржач — на все четыре стороны света дороги убегают. Потому в Покрове живёт хлебосольный народ, и когда приходит повод хлеб-соль выставлять, не скупятся покровцы. Такой повод появился: когда венчание и погорельцы вернулись на постоялый двор, тут их уже ждали накрытые столы не только со всякой неприхотливой и обильной снедью, с первачом, с брагой и пивом, но и с царским угощением — копченьями и соленьями, княжьей медовухой. Всего нашлось, чем попотчевать гостей. А Катерина и Сильвестр откупили у самого богатого мужика Покрова Федота Старостина пару молодых коней и новый, тёплый, на санном ходу возок, да и подарили его Марии и Михаилу.
— Надобно вам по свадебному чину в Суздаль ехать, — изрёк Сильвестр.
И вот уже загудело, заголосило, ходуном пошло под мартовским солнцем свадебное пирование. А голосистые покровские девицы, зная своё дело, завели величальную песню:
Покатилося солнышко по залесью, по залесью! Да повели-то Марьюшку по застолью да по застолью! Да положила наша Марьюшка на стол золоты ключи. — Да я тебе, родима матушка, не помощница, Да я тебе, родимый батюшка, не ключница, не ключница, Да свекрови-матушке — наряженница.С тем и прогудела Покровская свадьба до полуночи. Отвели молодожёнов в лучший покой постоялого двора. И была у них первая медовая ночь узнавания друг друга. Печалям в эту ночь не было места — их Мария и Михаил оттеснили на будущее.
На другой день Шеины и Измайловы уезжали в Суздаль. С ними прощались погорельцы и многие Покровские. Пришли они на постоялый двор, чтобы проводить свадьбу. Там их ждали первач и брага, всё прочее, что на Руси положено к застолью.
Глава шестая В СУЗДАЛЕ
С незапамятных времён суздальский заулок Скучилиха, что пролёг за Смоленской церковью к Ополью, считался нечистым местом. И будто там, в древних развалинах Теремищи, где прежде возвышались палаты великих князей Суздальских, обитали в подземельях чёрные духи и служил у этих чёрных духов Мартын-бобыль. Он появился в Суздале лет сорок назад и был тогда человеком другого имени, стоял во главе сотни опричников. Когда суздальцев звали служить в опричнине, он вершил суд над теми, кто отказывался вступать в рать кромешников[12].
В ту пору всех супротивников Ивана Грозного выселили в дикие места, а их дома и имущество поделили между опричниками. Вот тогда-то и достался богатый дом боярина Лужнова в Скучилихином заулке царскому сотнику. Сразу он в нём не поселился, оставил своих холопов. А когда опричнина приказала долго жить, он приехал на подворье боярина Лужкова и назвался Мартыном Изюмовым. Он вёл торговлю хлебом, богател, но вскоре овдовел, пристрастился к хмельному, связался с вольными жёнами и мало-помалу опустился. Жён разогнал и коротал свой век бобылём. Но однажды приехала к нему от боярыни Щербачёвой вдовая жёнка и взялась вести хозяйство. Да была она не простого склада, занималась ведовством, и звали её Козлевиха.
Сказывали, что по приезде в Суздаль Козлевиха, помимо Мартына, сошлась с нечистыми силами, что обитали под развалинами бывших великокняжеских палат — Теремищами. Так они и жили на отшибе, ни с кем из суздальцев не заводя знакомства. И то сказать, горожане боялись этой пары, ничем не досаждали им, потому как знали, что Козлевиха одним словом или взглядом могла нанести урон или порчу кому угодно.
В последний год, перед тем как преставился царь Фёдор, к Мартыну и Козлевихе стали наезжать тайные гости. Приезжали в крытых возках или ночью верхами, скрывались в доме Мартына и неизвестно когда исчезали. Этими тайными гостями Мартына были холопы князя Черкасского, который как раз был в опале и отбывал ссылку в Вологде. Вывела на Мартына князя Черкасского ведунья Щербачиха, и они вместе добивались через Мартына и Козлевиху согласия Измайловых на брак их дочери с князем. Однако боярин и боярыня Измайловы помнили, что князья Черкасские воеводствовали у кромешников в опричнине, и потому не хотели отдавать свою дочь за человека, родители которого купались в крови убиенных в Новгороде, были причастны к изгнанию суздальцев в гиблые места, к смерти восьми лучших горожан под топором палача.
Тогда-то Мартын и Козлевиха, получая грамотки от холопов Черкасского, сами делали отписки. Произошло это по той причине, что Щербачиха разгадала поведение Измайловых. И как-то раз Козлевиха получила от боярыни Щербачёвой повеление пустить на Измайловых красного петуха. Как приняла Козлевиха этот наказ, никому не ведомо, но однажды, проснувшись среди ночи, она убедила себя в том, что ей было повеление своей госпожи сжечь палаты Измайловых и так, чтобы им не было спасения.
Прошла Козлевиха по крепкому мартовскому насту на Покровскую сторону, неся в глиняной корчажке под шалью пламенеющие уголья, и ни одна собака на неё не залаяла. А три дома — Измайловых и их соседей — вскоре запылали. Разбушевавшись, огонь перекинулся на другие дома Покровской стороны, и к утру она выгорела. Измайловы задохнулись от дыма и сгорели вместе с домом.
На четвёртый день после пожара в полуденную пору в Суздаль через Ярославские ворота въехал отряд всадников. Впереди отряда скакал князь Димитрий Черкасский. Всадники проехали по Спасской улице, миновали соборную церковь, остановились у ворот кремля. Князь спешился и пошёл к палатам царского наместника. У входа стоял страж. Он остановил князя, спросил, к кому тот следует, и сказал:
— Если ты, князь-боярин, идёшь к батюшке Афанасию, то его нет в палатах.
— Где же он?
— А на Покровскую сторону ушёл, где погорелое.
— Далеко это?
— Близко. Как увидишь на Спасской красные ворота Покровского монастыря, за ними и Покровка.
Князь покинул кремль и, сев на коня, двинулся впереди отряда к Покровской стороне. Он миновал торговые ряды и Спасскую улицу и увидел монастырь с красными воротами. Вскоре за монастырём и открылось князю пожарище. Похоже, сгорело домов двадцать, что тесно стояли друг к другу. На пепелище кое-где бродили люди, а в одном месте стояли трое. К ним и направился князь Черкасский. Подъехав, спросил:
— Где найти посадника Афанасия Лыкова?
Отозвался среднего роста, широкий в плечах молодой мужчина со светлыми волосами:
— В чём нужда, боярин? Я и есть наместник князь Лыков.
Димитрий спешился, подошёл к Афанасию, протянул руку.
— Князь Димитрий Черкасский, — представился он. — Возвращаюсь из Вологды в Москву. В Ярославле случайно услышал о том, что в Суздале случился большой пожар и сгорел дом боярина Измайлова. Он мне близок, вот я и приехал.
Афанасий Лыков слушал Черкасского, опустив голову. Так и ответил:
— Мы вот на пожарище, где стоял дом боярина Михаила Измайлова. Упокоился он тут с боярыней Анастасией.
И Лыков осенил себя крестом. Снял бобровую шапку и князь Димитрий, перекрестился, спросил:
— Как могло такое несчастье случиться?
— Злой умысел всему поруха. Был поджог палат, и боярин с боярыней задохнулись от дыма. Так и сгорели. Пытаемся дознаться, чьих рук дело. Дознаемся — накажем по всей строгости.
Князь Лыков уже не смотрел в землю. Его серые с прищуром глаза изучали лицо князя Черкасского. Показалось Афанасию, что князь чем-то похож на Мартына-бобыля: Такой же нос с горбинкой, такие же тёмно-карие чуть навыкате глаза и бородка хоть и чёрная, но с рыжинкой. «И что это мне померещилось, — осудил себя Афанасий. — Тот россиянин, а этот черкес».
Афанасий ошибался, но самую малость. В Дмитрии немного осталось южной крови. Почти сто лет назад его прадед князь Черкасский был взят под Мценском в плен, спустя несколько лет его крестили в православие, он женился на русской дворянке. И вот уже третье поколение черкесов смешивалось с русской кровью. Но они не хотели расставаться с преданиями об отчей земле, и Мамстрюк Черкасский назвал своего сына Мамстрюком. Это и был отец Димитрия Черкасского. А его матерью была сероглазая боярышня Варвара. Однако по неведомым законам природы в князе Дмитрии проявился нрав его прадеда. Он был горяч, неукротим и унаследовал от прадеда родовое чувство кровной мести. За самую малую нанесённую ему обиду он должен был отомстить. Почему эта черта проявилась в человеке, который был красив, статен и силён? И скорее всего из чувства мести он пытался заполучить в жёны Марию Измайлову — чтобы отплатить своему обидчику боярину Михаилу Шеину, побившему его принародно на Москва-реке.
— Я помогу тебе, князь Афанасий, найти злодея. Я и приехал в Суздаль с тем, чтобы помочь Измайловым. Откуда мне было знать, что их постигла такая участь, если бы не случай! И будет уместно мне спросить тебя, князь Афанасий: послал ли ты гонца в Москву, чтобы уведомить дочь Измайловых?
— В стольный град к сродникам уехала часть погорельцев. Они и донесут весть о несчастье до Разбойного приказа. Надо думать, что дочь и сродники Измайловых приедут.
— Я буду ждать.
— Как тебе угодно, — ответил Афанасий. — А пока помоги мне со стряпчими в поджоге разобраться.
— Я готов и кровно этим затронут. — Черкасский повернулся к стряпчим: — Вы чего-нибудь добились?
Стряпчие поклонились князю, и один из них, изрядно поседевший, посмотрев на Лыкова, сказал:
— Есть у нас подозрения на Мартына-бобыля. Он, правда, похож на тебя, княже, но это случайность… Вот и князь Лыков говорит…
Упоминание о Мартыне-бобыле и его сходстве с ним, Черкасским, насторожили князя, и он посмотрел на Лыкова свысока. Афанасию это не понравилось. Он в свои годы уже добился кое-чего и был главой славного Суздаля, который некогда был стольным градом Суздальского княжества. Славен город Суздаль был и ныне. Его купцы возили товары Суздальской земли в Москву и Владимир, в Нижний Новгород, Ярославль и Вологду. «Зачем же смотреть на меня свысока опальному князю. А то, что на Мартына похож, так это явь», — мелькнуло у Лыкова. И что-то побудило его спросить, какие связи у князя Черкасского с боярами Измайловыми:
— А что, князь Димитрий, у тебя в Суздале есть знакомые, через кого ты знаешь Измайловых?
Будь то на исповеди, князь Черкасский, может быть, признался, что знает жителя Суздаля Изюмова, бывшего опричника. Но это была не исповедь, а всего лишь неприятный вопрос, и князь был вынужден сказать то, что хотел поведать Лыкову в другой обстановке, скорее всего, как он надеялся, за трапезой и с кубком суздальской медовухи в руках. Но Лыков с нетерпением ждал.
— С боярином Михаилом Измайловым я не был знаком, а вот его дочь Марию Михайловну я хорошо знаю. И не только. Я люблю её, и, когда она приедет пострадать над прахом родителей, я буду рядом с нею.
— А потом?
— Потом я вновь посватаюсь к ней.
— Что значит «вновь», славный князь? Выходит, ты уже сватался к Маше Измайловой?
Шагая вдоль пепелища где покоился прах родителей Марии, князь Димитрий счёл возможным сказать и о том, что было ложью:
— Моё сватовство было жестоко прервано. Завистник, молодой боярин Михаил Шеин, с дружком Артёмкой Измайловым, затеяли пред лицом государя Фёдора свару, бросились на меня с кулаками, когда я просил благословения на супружество с Марией. Но меня защитили мои холопы. Они побили злочинцев. А меня за то, что мои люди побили государевых служилых, обожгли опалой и сослали в Вологду. Как государь Фёдор преставился, так мне от царя Бориса Фёдоровича милость пришла. Я вольная птица и хочу дождаться здесь Марию Михайловну и разделить с нею её горе. Так на моём месте поступил бы каждый честный россиянин.
Димитрий говорил страстно, с душевной болью, и князь Лыков проникся к нему сочувствием.
— Даст Бог, дочь Михаила Григорьевича приедет, и у тебя, князь, всё будет хорошо. — Лыков подошёл к уцелевшей бане и к домику, где жили слуги. — Видишь, ветер нёс огонь в другую сторону, сохранились. И конюшню огонь пощадил. Там две лошади стояли. Теперь слуги на них в извоз пошли.
— Ты бы, князь Афанасий, помог мне Марию убедить, — повернул Димитрий разговор в прежнее русло.
— В чём же её надо убеждать? — спросил Лыков.
— Так ведь теперь без родителей она попадёт под волю татя Шеина. Сломит он её, заставит выйти за него замуж. Ловок он, хитёр.
— Не знаю, как и исполнить твою просьбу. Давай подождём приезда Марии Михайловны.
Князь Димитрий пожал плечами. Да, Мария Измайлова была ему желанна, но только и всего. И добивался он её лишь для того, чтобы растоптать чистое чувство соперника. К тому же он хотел увидеть Михаила в Суздале и на этом подворье, на пепелище, перед Марией, повергнуть его на колени, отомстить за позор на Москва-реке. Другого князь пока не жаждал с такой страстью.
Прошло два дня с часа появления князя Димитрия Черкасского в Суздале. Чтобы не томиться в ожидании, он занялся делом. Князь отважился восстановить сгоревшие палаты Измайловых. В государевом лесу близ Суздаля, он выкупил у городской управы делянку строевого леса, и теперь его холопы валили могучие сосны на сруб дома. Князь и сам проводил время в лесу, искал дубы, чтобы свалить их на подставы под сруб дома. Это увлечение ему понравилось. Он всё больше входил во вкус дела. Деньги на выкуп делянки он взял в долг в Покровском женском монастыре, самом богатом в Суздале благодаря щедрым вкладам за таких узниц, какой была супруга Василия III великая княгиня Соломония.
Был мартовский полдень с лёгким морозцем. На солнце подтаивал снег в сугробах. Князь только что вернулся на пепелище из леса, откуда следом за ним три пары лошадей притянули на подсанках[13] дубовые в обхват бревна. Князь был доволен. Он представлял себе, что, когда эти стволы будут распилены на подставы и их торцами вкопают в землю, возведут на них сруб дома, этим подставам не будет износа. Димитрий распоряжался холопами, показывая, куда подтянуть подсанки, где разгрузить стволы деревьев.
В это время на Покровской улице появились четыре крытых возка. Они подъехали к самому пепелищу и остановились. Из первого возка вышли Михаил и Мария, из второго — боярыни Анна и Елизавета. С облучка третьего возка соскочил Артемий, а из возка вышли на свет Божий Катерина и Сильвестр.
Михаил первым заметил князя Черкасского и посуровел лицом. Увидела его и Мария — она побледнела. Михаил, однако, взял её под руку и повёл на пепелище. Он шёл так, как будто близ них не было ни души. Они прошли мимо Димитрия, ступили на пепелище, в ту часть его, где — Маша хорошо это помнила — была родительская опочивальня. Не сговариваясь, они опустились в золу на колени, Михаил начал молитву об усопших, Маша вторила ему:
— «Помяни, Господи, души усопших рабов твоих, родителей наших, прости им все согрешения вольныя и невольныя, даруя им Царствие и Причастие вечных Твоих благих и Твоея бесконечный и блаженныя жизни наслаждеие…»
Михаил и Мария поклонились земным поклоном самому пепелищу.
За ними следом пришли на пепелище Анна, Елизавета, Артемий и Катерина с Сильвестром. Они тоже опустились на колени и прочитали молитву.
А неподалёку от всех преклонённых, стиснув зубы, чтобы не закричать от ярости, словно окаменевший, стоял князь Димитрий. Неземной голос подсказал ему, что склонившихся на пепелище Марию и Михаила можно судить только неправедным судом за то, что они рядом, ибо праведный суд Всевышнего нарёк их мужем и женой по божественным законам. Всё это понял князь Черкасский и готов был убежать с подворья Измайловых. Но некая дьявольская сила, гордыня мстительной крови, ещё текущей в его жилах, стальной цепью приковала его к месту, где он стоял, стучала ему в спину и твердила: «Борись! Борись! Ещё не всё потеряно! Браки заключаются на небесах, а на земле разрушаются. У тебя, любящего Марию, есть право на неё».
И князь Черкасский внял этому голосу тьмы. Он ухватился за его совет: бороться за то, что ему принадлежит по праву сильного до конца, до победы или до потери живота. Это не страшно, считал князь. У него есть преимущество перед боярином Михаилом. Он не боялся смерти. Он считал, что человека всю его жизнь отделяет от смерти лишь страх, равный одному мгновению. Он изгнал это мгновение. Ему теперь было всё равно что прыгнуть с высокой скалы в глубокий омут на каменные пики. И князь встал на край скалы, чтобы сделать роковой прыжок.
Когда Михаил Шеин поднялся с колен и повернулся лицом к Черкасскому, тот поманил боярина пальцем. Князь был уверен, что этот его жест возымеет силу, и Шеин подойдёт к нему. А там… Только Богу ведомо, что будет за прыжком. Димитрий в этот миг потрогал саблю и кинжал, которые висели у него на поясе. «Я отдам ему, что пожелает», — подумал он.
Михаил подошёл к Димитрию. Он был спокоен.
— Что тебе надо? Зачем ты сюда приехал? — спросил Шеин.
— Ты знаешь зачем. Я ещё царю Фёдору молвил: «Что моё, то возьму».
— Не гневи Бога, Димитрий. И уезжай отсюда. Так будет лучше для тебя. Моей супруге не быть твоей.
— Ты сказал всё. Я лишь начинаю говорить. Знаю, что ты не трус. Идём же в чистое поле и поступим по-божески: твоё останется тебе, моё — мне, — гнул свою линию Димитрий. — Видишь, на поясе у меня кинжал и сабля. Выбирай, что тебе по душе.
Михаил протянул руку к кинжалу, и Димитрий вынул его из ножен, бросил Михаилу рукоятью вперёд. Тот поймал кинжал. Сам Димитрий положил руку на эфес сабли и пошёл за конюшню. На пепелище все стояли словно заколдованные. Но настал миг, когда Маша ринулась следом за уходящими. Однако она не сделала и десяти шагов, как её перехватил Сильвестр. К ним подбежала Катерина. Она обняла Машу за плечи и повела обратно.
— Успокойся, ясочка, всё будет хорошо, — сказала Катерина.
Сильвестр же догнал за конюшней Михаила и Димитрия и пошёл за ними. Вот они остановились и молча изготовились к поединку. Но Сильвестр в два прыжка оказался между ними и сурово произнёс:
— Ты, князь, кощунствуешь пред ликом смерти родителей Марии. Ты собираешься убить её мужа, данного ей православием и Всевышним! Убери саблю, возьми кинжал и уезжай из Суздаля!
— Кто ты такой, чтобы требовать свершения мною позорного шага? Прочь с дороги или я убью тебя прежде!
— Сильвестр, уходи же! — крикнул Михаил.
— Нет здесь чести! — сказал Сильвестр.
Он обернулся к Михаилу, в мгновение ока выхватил из его руки кинжал, вскинул его над головой и повернулся к Димитрию:
— Бей! — закричал он.
Князь Черкасский потом не мог вспомнить, как всё случилось. Он взмахнул саблей и ударил по клинку кинжала. В руках Сильвестра осталась только рукоять, клинок же отлетел в сторону.
— Колдун! — крикнул Димитрий и поднял саблю, чтобы сразить Сильвестра.
Но взгляд чародея опередил взмах руки Димитрия. Его поразило словно молнией, и сабля, выпав из рук, воткнулась в снег.
Сильвестр шагнул к сабле, взял её за эфес, опершись на неё, тихо, так, чтобы не слышал Михаил, сказал:
— Я не колдун, а чародей Сильвестр. Ты должен меня знать. Вещаю тебе, что всю свою жизнь будешь мучиться жаждой мщения и никогда не утолишь её. Но ты совершишь предательство перед Русью, которое сочтёшь за мщение. Да будешь за то проклят!
Димитрий бросился было на Сильвестра, но ноги ослушались его, руки тоже висели как плети, Сильвестр повернулся к Михаилу.
— Идём, брат, нам здесь больше нечего делать.
Они возвратились к пепелищу, женщины и Артемий стояли кучкой и смотрели на Сильвестра и Михаила как на спасённых от бедствия. Сильвестр по пути отдал одному из холопов князя Димитрия его саблю, бросил мимоходом: «Отдашь барину». Подойдя к группе, он сказал:
— Мы едем сейчас к наместнику Лыкову. Просите его, Измайловы, чтобы прекратил своей властью кощунство князя Черкасского. Маша и Михаил поднимут дом без него. А мы с Катенькой поведаем воеводе Афанасию, кто совершил поджог.
Ни у кого не нашлось слов, чтобы возразить Сильвестру. Все направились к возкам, уселись в них и уехали к палатам наместника Лыкова. Когда возки скрылись за стенами Покровского монастыря, два холопа Димитрия побежали за конюшню. Князь продолжал стоять на месте не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. Холопы посуетились вокруг, поохали, посадили его на крестовину рук и понесли. В тот же день князь Димитрий Черкасский покинул Суздаль. Его увезли в Москву.
Глава седьмая ПОХОД НА КАЗЫ-ГИРЕЯ
Михаил Шеин и его близкие провели в Суздале ещё несколько дней. Кров им дал князь Афанасий Лыков. Они отслужили молебны и справили тризну по погибшим в пламени. Позвали на обряд многих суздальцев.
В эти же дни за Михаилом и Марией пришла послушница из Покровского женского монастыря и пригласила их на встречу с игуменьей обители матушкой Параскевой. В миру это была княгиня Полина Пронская. После казни Иваном Грозным своего мужа, князя Игната Пронского, она ушла в обитель и приняла постриг. Параскеве было не больше пятидесяти лет, но всё в ней сохранилось от молодости — красота и стать. Её большие карие глаза излучали тепло. И встретила она Михаила и Марию в келье как дорогих родных. Она трижды поцеловала Машу и запечатлела поцелуй на лбу склонившегося к ней Михаила.
— Скорблю вкупе с вами, дети мои, и слов утешения у меня нет. Да поможет вам молитва и Всевышний, — сказала Параскева. — А позвала я вас вместе потому, что венчаны. Родители твои, дочь моя, за месяц до своей гибели, будто им что-то вещало великую напасть, принесли в монастырь два ларца с серебром и златом. Один ларец был передан ими вкладом в обитель, другой же они попросили сохранить для тебя как приданое.
Параскева подошла к окованному железом сундуку, достала из кармана чёрной мантии ключ, открыла сундук и подняла из него большой и тяжёлый ларец красного дерева. Мария увидела его и вспомнила, что он стоял в опочивальне у батюшки и матушки. Ларец был обвязан голубой шёлковой лентой, на которой висел маленький ключик.
— Это твоё, дочь моя, родительское благословение, — произнесла Параскева.
Мария от смущения пожимала плечами. Приданое от родителей всегда принималось детьми с благодарностью, и Мария поблагодарила игуменью:
— Спасибо, матушка Параскева, что донесла до меня дар родителей. — И Мария низко поклонилась.
— Посмотрите, что там. Так нужно, — предупредила Параскева.
Мария посмотрела на Михаила, и он догадался, что она хочет, чтобы он открыл ларец. «Всё так и должно быть», — подумал Михаил и, освободив ларец от ленты, не снимая с неё ключика, открыл ларец. Тот был полон драгоценностей, золота, серебра.
Мария подошла к ларцу, перебрала жемчужные и золотые браслеты, ожерелья, подвески, кресты на золотых цепочках, сдвинула всё к одному краю, взяла пригоршню серебра и золота и высыпала на стол.
— Матушка Параскева, не осуди нас, прими наш вклад в обитель.
— Пусть обернётся тебе семейным благом сей дар, дочь моя. Мы будем молиться за вас, — ответила игуменья.
Мария отошла от ларца, и Михаил закрыл его. Параскева подала Михаилу холщовую суму, и он поставил в неё ларец.
Позже, уже в покоях Лыковых, Михаил и Мария узнали, что князь Черкасский взял в долг в Покровском женском монастыре триста рублей серебром на покупку и вывозку леса.
— Не знаю, как вы поступите, что будете делать с подворьем, — заметил князь Лыков, — но купленный лес надо вывезти да и с монастырём кому-то рассчитаться.
— Спасибо, князь, что просветил. Мы обязательно вернём деньги монастырю. Были же мы сегодня там. И почему матушка Параскева не сказала? — удивился Михаил. — И лес мы обязательно вывезем, и дом выстроим, даст Бог, поживём в нём. А если не мы, так дети наши будут наезжать. Вот что посоветуй нам, Афанасий Григорьевич: кого нанять в подряд дом возвести? Хотелось бы всё повторить. А подрядчик внакладе не останется.
— Понял, свет Михаил. Есть у нас в городе славный зодчий. Он же подряды берёт. Вот как вернётесь от матушки Параскевы, так и встретитесь с ним.
Завершив все дела в Суздале, собрав на пожарище пепел родителей и предав его земле на городском кладбище, Маша и Михаил сочли, что им пора возвращаться в Москву на службу. Но Сильвестр, узнав, что Шеины собираются уезжать, попросил их остаться ещё на сутки.
— Не закончил я того, что обещал князю Лыкову. Так мы уж послезавтра утречком и уедем, — сказал он.
— Дело непростое, понимаю, и мы ждём, — ответил Михаил.
Прошёл день, в течение которого Сильвестр где-то пропадал.
Наступила последняя ночь пребывания гостей в доме Лыкова. Около полуночи, когда все крепко спали, из своей опочивальни вышел Сильвестр, осторожно, чтобы не заскрипели ступени, спустился из мезонина в сени и прошёл в поварню. Там он на шестке разгрёб пепел лучинкой, добрался до оранжевых угольков, вздул их, и они запламенели, лучинка загорелась. Он присыпал угольки пеплом, подошёл к столу, зажёг на нём свечу и сел против неё спиной к окну. Просидел он совсем недолго, когда появился князь Афанасий и спросил:
— Зачем ты звал меня? Слышу сквозь сон: «Лыков, Лыков, приди в поварню!»
— Звал, князь-батюшка. Пора пришла сказать тебе, что обещал. Ты ищешь тех, кто совершил поджог?
— Ищу.
— И как поступишь с ними, когда найдёшь?
— Судить будем. А потом — как Бог пошлёт…
— Вот я и позвал тебя, чтобы избавить от маеты поисков.
— Господи, помоги мне, Божий человек! — воскликнул Лыков.
— Смотри же за моей спиной в окно. Терпения наберись, — и Сильвестр поставил свечу на край стола.
Лыков напрягся, прищурился, нижнюю губу прикусил. Ждал. Но прошла минута, другая, а за окном была только темнота. И лишь князь чуть расслабился, как там появилось нечто.
— Вижу Козлевиху-колдунью! — Лыков подался вперёд. — О, как жжёт глаза! — И он прикрыл их рукой.
— Успокойся, сейчас всё пройдёт, — произнёс Сильвестр. — И слушай внимательно. Запомни. Корчага, в которой Козлевиха уголья носила, разбилась близ амбара Пуховых. Козлевиха, собирая черепки, левую руку у запястья сильно обожгла и на фартуке, близ кармана, дыру прожгла. Да все черепки и фартук спрятала у себя в клети, в кадке, и засыпала мякиной. Вот и улики. А больше мне и сказать нечего, княже. — И Сильвестр поднялся.
— Спасибо, Божий человек. А Козлевиху я сей же час под стражу возьму, — вставая, проговорил Афанасий.
— Не спеши. Завтра днём всё сделай. Стряпчих возьми, понятых.
— Тоже верно, — согласился Афанасий.
Ранним и тёплым мартовским утром, когда санный путь начал разваливаться, Михаил вышел на дорогу, смотрел на неё и соображал, что делать. Он понимал, что с прежней прытью по такой дороге кони уже не пойдут и сани, может, придётся менять на колёсные возки. Потому Михаил убедил себя не спешить в Москву, добираться, как удастся, считая, что на службе его ещё не ждут.
И всё-таки Шеин ошибался. Его ждала во дворце служба, и она была ему уготована совершенно другая, не такая, какой он занимался прежде. Возвращение Михаила Шеина в Москву совпало с горячей подготовкой державы к встрече во всеоружии с крымской ордой Казы-Гирея. Ещё в конце февраля, и в начале марта во все ближние и дальние земли Руси умчались гонцы Разрядного приказа с повелением государя Бориса Годунова собирать сотни, тысячи, полки ратников и до первого апреля привести их в Москву, в Коломну и в Серпухов.
Едва Михаил Шеин появился по возвращении из Суздаля в Кремле, ещё не зная, чем заняться, как его позвали в Разрядный приказ к думному дьяку Елизару Вылузгину. При царе Фёдоре он служил в Поместном Приказе. Борис Годунов счёл нужным доверить ему более важную службу. Всегда строгий лицом, на этот раз дьяк Елизар улыбался.
— Здравствуй, венчанный. Хорошую девицу в семеюшки взял.
— Спасибо, батюшка-дьяк, доволен я своей супругой, — ответил Михаил.
— Живите ладком да мирком, детишек заводите. Тебе вот повышение по службе пришло. Будешь при царе Борисе Фёдоровиче над рындами стоять. Честь тебе оказана большая. Да не возносись. Батюшка твой верно служил державе. И ты на том стой.
— Не уроню отцовской чести и достоинства, батюшка-дьяк, — поклонился Шеин.
— И вот что, Михайло. Привели на службу во дворец отрока одиннадцати лет, тёзку твоего княжича Скопина-Шуйского. Он ладен, силён и росл не по годам. Грамоту ведает. Да ведь отрок, чего с него взять. Так ты с ним подружись и возьми его под своё крыло. Учи добро творить…
Михаил задумался. Странным ему показалось то, что отрока определили в рынды к самому государю. Не бывало подобного. И озарило Михаила болезненно: похоже, государь Борис Фёдорович старый долг за Углич платит Шуйским. Ведь Михаил Скопин-Шуйский, возрастающий без отца, племянник Василию Шуйскому и его братьям. Но думать было некогда. Дьяк Вылузгин смотрел на него умными, проницательными глазами и, видимо, понимал состояние Михаила: Углич и ему был памятен. Потому Шеин сказал лишь об одном:
— Мой тёзка поднимется хорошим воином. И в том я ему помогу.
— Так я и думал, — уронил Вылузгин и встал.
Михаил Шеин понял, что ему пора уходить из Разрядного приказа. Он откланялся и скрылся за дверью.
Царские рынды — телохранители, оруженосцы — составляли особый отряд дворцовых служителей. Они охраняли царские покои в дневное и в ночное время, сопровождали царя в поездках. И жили, как воины, отлучаясь домой только с позволения дворецкого. Но одно дело быть простым рындой и совсем другое — стоять во главе отряда. Забот прибавляется тьма и никакого покоя. Жили рынды в казармах, как с времён великого князя Ивана III назывались по-итальянски общие жития воинов и работных людей. Время, свободное от дневного несения службы, рынды проводили на площади против Потешных палат. Тут шли жаркие, но бескровные схватки на мечах, на саблях и даже на копьях. Здесь рынды оттачивали своё мастерство, учились ловко владеть любым оружием.
Шеин, едва появившись среди рынд, сразу заметил, что из тех, кто служил рындами при царе Фёдоре, никого не осталось. Он подумал, что так и должно быть, и больше не морочил себе этим голову. Он запомнил наказ дьяка Елизара Вылузгина и теперь искал повод привлечь к себе поближе княжича Скопина-Шуйского. Среди прочих рынд выделить его было легко — отрок есть отрок, хотя и долговяз, и сила в нём не по возрасту. Лицо улыбчивое, приятное, глаза серые, выразительные и серьёзные. Будто и не был он подростком, а из детства сразу шагнул во взрослые мужи. «Раз так, то и учить тебя буду взрослому ремеслу», — решил Шеин.
Как только пришло время учиться искусству сабельного боя, Михаил подошёл к отроку Скопину и сказал:
— Давай-ка, княжич, поборемся с тобой на сабельках. То-то знатную потеху устроим, — улыбнулся он.
— Я готов, боярин. Да ты эвон какой дядя. Мне бы с ровесниками. Есть они среди рынд?
— Нету. Ты у нас один такой ранний. Да ровесники от тебя не уйдут. А в бою-то нас со всякими ждёт встреча.
Михаилу Шеину понравилось заниматься с княжичем Скопиным сабельным искусством. Рука у него оказалась на удивление крепкой, и был он вёртким, словно молодой бычок. Уже сейчас не всякому воину удастся выбить саблю из его рук. Скоро и за меч можно будет взяться. Несколько дней Шеин и Скопин-Шуйский занимались с увлечением, и молодой воин многому научился за эти дни. Как-то Шеин спросил его:
— Миша, ты почему так рано пришёл на дворцовую службу?
— Матушке так захотелось. А батюшки-то у меня нет. В Ливонии пал, с рыцарями сражаясь.
— Ну а сам-то ты хочешь быть воином?
— Воеводой буду, как батюшка.
— Это славно. Учиться лишь надо военной справе. — И подумал Шеин, что судьба этого подростка похожа на его судьбу. — Ты будешь славным воеводой. Ну давай побьёмся ещё.
Сказанное Михаилом Шеиным сбылось. Через несколько лет он убедился в этом сам, воюя против врагов в одном строю с тёзкой. Имя и заслуги Скопина-Шуйского в ратном деле стали ведомы всем россиянам. А в день гибели в неполные двадцать три года они сказали, что князь Михаил Скопин-Шуйский был не только достойным воеводой, ему было впору стоять на престоле державы, вместо мягкотелого и скудного умом Михаила Романова. Россияне не ошибались.
Пришёл час, и всякие потешные схватки и бои царских рынд были прекращены. Государь Борис Годунов выступал из Москвы с многотысячным войском навстречу хану Казы-Гирею. И со всей Руси шли полки и дружины на Оку и Коломну, за них, на правобережье Оки.
Ещё пребывая в Новодевичьем монастыре, Борис Годунов распределил воеводство над войском между пятью сильнейшими воеводами. Главная рать была отдана под начало князя Фёдора Мстиславского. Справа от главной рати был поставлен полк князя Василия Шуйского. Левый полк был поручен князю Ивану Голицыну. Передовой полк выпросил себе жадный до лавров князь Димитрий Шуйский. Сторожевой полк принял князь Димитрий Трубецкой. Послал Борис Годунов на всякий случай запасных воевод: князей Глинского, Черкасского-старшего, Шестунова, бояр Сумбуловых и братьев Годуновых. Сына своего, отрока царевича Фёдора, государь назначил почётным воеводой без войска.
Было при войске и много священнослужителей. Провожая из Москвы войско и Бориса Годунова, патриарх Иов прослезился. Михаил Шеин заметил это и подумал, что у патриарха есть основание прослезиться, но не от горя, а от радости: исполнилось его желание видеть Бориса Годунова во главе державы. К тому же и войско государь возглавил — в кои-то веки такое было… Сказали хронисты и о Михаиле Шеине: «Шеин находился в этом походе против крымского царя Казы-Гирея в числе самых приближённых к царю лиц…»
Однако у патриарха в эту пору были основания не только радоваться, но и опасаться резких перемен в жизни державы. Он помнил, что Борис Годунов уходил воевать с Казы-Гиреем невенчанным государем. И едва он отошёл от Москвы на день пути, как по стольному граду поползли слухи, что поскольку тверской великий князь Симеон Бекбулатович ослеп и уже не претендует на престол всея Руси, то вместо него настало время царствовать на Руси «законному престолонаследнику» князю Симеону Шигалеевичу.
Эти слухи, как поветрие, догнали Бориса Фёдоровича уже в пути. Он мужественно отверг их и продолжал движение навстречу орде Казы-Гирея. Михаил Шеин был всё время вблизи государя и весь ход событий и подготовки к боевым действиям узнавал в числе первых. Он знал, что навстречу Казы-Гирею вышло почти пятисоттысячное войско россиян. Подобную рать Русь никогда не поднимала со времён Куликовской битвы. Знал Шеин и то, что по всей линии обороны воздвигаются гуляй-города[14], ставятся засеки и туры[15] для защиты пушек.
Когда всё было готово, Борис Фёдорович послал в стан Казы-Гирея гонцов с наказом передать ему, чтобы он направил в русский стан своих послов для переговоров о мире. И велено было сказать Казы-Гирею, что государь всея Руси не желает губить своих ратников, он может пойти на уступки, если таковые будут выполнимы.
Хан Казы-Гирей принял предложение Бориса Годунова и послал в стан россиян самых важных мурз с требованием, которое русский государь не мог выполнить. Хан жаждал битвы. Его воинам, особенно турецким янычарам[16], хотелось поскорее ворваться в русские города и селения и вволю награбить добра, увести в полон тысячи россиян и россиянок, увезти тысячи малолетних детей.
Но никому — ни хану, ни его воинам, ни турецким янычарам — не удалось на этот раз утолить свою алчность. Борис Годунов обвёл Казы-Гирея вокруг пальца. Целый день ехали его послы по увалам, холмам и полям через великий стан русского войска. Страх обуял мурз, когда они увидели несметную русскую силу, вооружённую ружьями, пушками, укрытыми турами и гуляй-городами, каждый из которых был похож на крепость. И когда, наконец, их привезли в сельцо Кузьминское, они забыли, что наказывал им передать русскому царю хан Казы-Гирей.
— Каковы ваши условия, послы, будем ли воевать? — спросил самого важного мурзу Борис Фёдорович.
— Отпусти нас в орду, русский царь, — отозвался важный мурза.
— Зачем вам торопиться? — сказал с усмешкой Годунов. — Завтра вас повезут в другую сторону, и там посмотрите, воевод моих увидите. Авось подскажете кунаку[17] Казы-Гирею, как биться с русской ратью.
Среди послов нашёлся-таки отважный воин, самый молодой и сильный князь. Он приходился родственником хану Казы-Гирею и гордо заявил:
— Мы будем биться с тобой, русский царь, если не уйдёшь за Москву. Она будет нашей столицей.
— Ты удалой, но и дерзкий воин, — заметил Борис Годунов. — Как тебя зовут?
— Князь Асташи. Мой род — это тысяча воинов, и они все со мной.
— Слушай, князь Асташи. Сейчас я позову сюда такого же молодого, как ты, воина. Если ты победишь его в сабельном единоборстве, я отпущу тебя и всех, кто с тобой, в орду. Нет — тогда не взыщи. Не люблю дерзких посланников, которые к тому же хвастаются.
— Ха! Ты меня не испугал, русский царь. Мой хан возьмёт за меня сто тысяч русов в плен. А биться я буду с любым твоим воином, если он князь или боярин.
— Ты и бараньей головы не стоишь, не только ста тысяч воинов, — с презрением посмотрел на крымчака Борис Годунов и повернулся к своему окружению.
Он увидел князей Андрея Глинского и Юрия Черкасского, старшего брата Димитрия Черкасского. Они опустили глаза. Государь понял, что они трусят, и взглянул на Михаила Шеина. Тот улыбался, и эта улыбка побудила Годунова послать Шеина на единоборство. «Он верит в свои силы», — мелькнуло у государя, он позвал к себе Шеина. Тот подошёл. Годунов спросил:
— Ты можешь остудить этого негодяя, которому нужна Москва?
— Я постараюсь, государь, — ответил Шеин.
Борис Годунов принимал послов близ большой крестьянской избы.
За изгородью зеленел луг. Было тепло.
— Вот там и сойдётесь, — показал на луг Годунов. — Но помни, что послов не убивают — их ставят на колени.
— Так и будет, государь, только сабля станет моей, — ответил Шеин и, подойдя к князю Асташи, позвал: — Кунак, айда на луговину!
Князь Асташи пошёл следом. По пути он обнажил саблю и протёр её подолом епанчи[18]. Когда вышли на луг, князь сбросил епанчу на траву. Пришли на луговину Годунов, все его приближённые, послы Казы-Гирея.
Михаил повернулся к Асташи. Он улыбался, но его тёмно-синие глаза были зорки, отдавали холодом. Он всего лишь завораживал противника улыбкой, но был готов к его самым дерзким и отчаянным выпадам и пошёл, пошёл, на батыра[19], чтобы первому нанести удар пока только по сабле. Но Михаил почувствовал ответный мощный и резкий удар. Такой не каждая рука выдержит. И вот уже их сабли зазвенели непрерывно. «Нет, прямыми ударами саблю из руки этого батыра не вышибешь, — подумал Михаил. — Он приземист, крепок, но малоподвижен, его коротким ногам не хватает прыгучести. А вот я попробую», — решил Шеин и прыгнул да в лете перехватил саблю в левую руку и нанёс мощный удар под самое основание обуха сабли противника. Этого хватило. Сабля вылетела из руки Асташи к самым ногам Шеина. Он наступил на неё и спрятал свою саблю в ножны. Он посмотрел на Асташи и увидел, что тот обескуражен. А Шеин уже шёл на князя с кулаками, приготовившись к рукопашному бою.
Асташи понял, на какой бой его вызывают, но это ему было не по душе. Вот если бы борьба, кто кого бросит на землю. Однако право выбора борьбы оставалось за Шеиным. Асташи понял и это и выставил вперёд увесистые кулаки. Шеин шёл навстречу Асташи уверенно. Он знал, что ордынцу неведомы русские приёмы кулачного боя, но шёл не для того, чтобы дать батыру возможность размахивать перед ним кулаками, а чтобы сразиться впритык, нанести ему град ударов в грудь и повергнуть. «Я поставлю тебя, тать, на колени», — мелькнуло у Шеина, и он, сойдясь с батыром вплотную, обрушил на его грудь пудовые удары левой и правой рукой. Асташи сразу почувствовал, что задыхается, он хватал воздух, как рыба на берегу реки. А удары всё сыпались. Сам Асташи лишь кое-как бил по рукам Шеина. И вот уже князь не смог вдохнуть в грудь воздуха, ноги у него сделались ватными. Резкая боль пронзила его левую грудь, и он рухнул на колени.
Шеин вернулся к сабле Асташи, поднял её и направился к Борису Годунову. Приближаясь, он увидел за спиной государя князя Юрия Черкасского. Его лицо было искажено злобой. «Я тебе не прощу позора ни брата Димитрия, ни татарского мурзы!» — подумал Черкасский и ушёл в избу.
К Асташи той порой подбежали два молодых посла, подняли его и повели под навес, где на привязи стояли их кони.
Дальше всё было на удивление просто. Переночевав в стане русских, послы Казы-Гирея встали чуть свет и, не дожидаясь, когда проснётся Борис Годунов, попросили князя Фёдора Мстиславского:
— Отправь нас, большой боярин, в орду. Нам нечего сказать вашему царю.
Князь Фёдор Мстиславский всё-таки зашёл в шатёр Бориса Годунова и передал просьбу послов Казы-Гирея.
— Да пусть идут на все четыре стороны. Проводите их, — ответил государь.
Послов накормили, напоили и повели в орду другим путём. И вновь они дивились силе русской рати, множеству пушек, пищалей, ружей, которыми были вооружены стрелецкие полки. Наконец, уже вблизи орды русские воины отпустили послов и, когда те скрылись за увалом, где стояла орда, ускакали в свой стан.
Ранним утром другого дня орда, в которой было больше ста тысяч воинов, покинула приокские пределы и ушла, как докладывали потом лазутчики, на запад, в сторону Польши.
А русская рать ещё три дня не уходила с берегов Оки. По воле государя ратникам было выставлено более пятисот бочек вина, пива, браги. Всех ждало обильное угощение. Так Борис Фёдорович отметил свою победу над ордой Казы-Гирея, не потеряв в этой «беспримерной битве» ни одного воина.
На четвёртый день после пированья русской рати Борис Годунов был намерен возвращаться в Москву. Но поздним вечером в его шатёр пришли дядя государя Семён Никитич Годунов, глава государева сыска, и князь Димитрий Черкасский.
— Государь-батюшка, вот князь Димитрий к тебе с челобитной на боярина Михаила Шеина.
— О чём это? В такие дни мне бы не хотелось разбираться в какой-то сваре. Ты уж, дядюшка, порадей за меня сам.
— И рад бы, да князь с государевым делом.
— Ну выкладывай, да покороче, — разрешил Борис Годунов.
Он сидел в походном кресле, и вид у него был усталый. Сказались всё-таки волнения, которые выпали на его долю в этом походе. Конечно, он не рассчитывал на то, что Казы-Гирей уйдёт без боя с поля брани. Но ему так не хотелось проливать кровь россиян. И вот Всевышний внял его молитвам. Это ли не добрый знак Господа Бога?! И Годунов верил, что всё у него теперь будет складываться удачно, что он наденет царскую корону, сядет на русский трон. У него есть сын, которому он в должный час передаст державу. «Господи Милосердный, спасибо, что печёшься обо мне. Но зачем это нелёгкая принесла князя Черкасского с челобитной на лучшего слугу? Как бы всё повернулось, если бы он не поставил на колени дерзкого ордынского батыра?» — подумал Борис Годунов и принялся без особого внимания слушать то, что говорил ему князь Черкасский.
А тот рассказывал государю о том, что Михаил Шеин связался с нечистой силой, с колдуном, который иссушил князю руки и ноги, когда они с Шеиным вступили в единоборство.
— Бойся, государь милостивый, этого человека, он может принести тебе много зла, — лил грязь на Шеина князь Черкасский.
— Выходит, ты видел этого колдуна? — спросил государь.
— Видел, батюшка, рукой мог достать. Копна волос у него на голове огненная, а глаза русалочьи, зелёные. Я хотел его убить, а он мою отменную саблю как хворостинку сломал…
У Бориса Годунова по спине побежали мурашки. Вспомнил он ведунов Катерину и Сильвестра, с которыми встретился в забытой уже деревушке под Звенигородом. Вспомнил, как ясновидцы предсказали ему царскую судьбу. И появилось у него недостойное для государя желание ударить подлеца Черкасского по холёному лицу и выгнать из шатра, пиная ногами. Но ничего этого государь позволить себе не мог и как можно спокойнее сказал:
— Ты, князь, иди отдыхай. А мы тут с Семёном Никитичем подумаем, как избавиться от нечистой силы.
Димитрий Черкасский ушёл. Дядя и племянник посидели молча, потом Семён Никитич возмущённо произнёс:
— Такой благостный день омрачил, негодник!
— Ты про кого?
— Так про Шеина. Я знаю давно, что Черкасский и Шеин враждуют. С той поры, как однажды на Святки Мишка уложил Димитрия на лёд. А теперь ещё этот колдун встал при Шеине… Совсем изведут князя.
Борис Фёдорович хорошо знал своего дядю. Уж если за кого ухватится, не упустит живьём. Вот и любезный государю Сильвестр может оказаться в железных руках дядюшки. Может ли он, государь милостью Сильвестра и Катерины, защитить их от сыскных дел мастера Семёна Никитича? Чревато это, ой чревато, счёл Борис Фёдорович. Всё против него может обернуться.
И так уж говорят борзые летописцы, что он пробивается к трону хитростью и иными происками. Однако что бы там ни говорили летописцы, а он больше не желает жить неправдой. Да пусть ускользнёт от него царский трон, если он и впредь будет жить не по правде.
И сказал племянник дяде весомо и твёрдо, как отдают повеления государи:
— Ты вот что, глава моего сыска, дядюшка. Чародея того рыжего не ищи, а встретишь где, пальцем не тронь! Он человек от Бога. И Шеина не беспокой. А чтобы князь Черкасский не мешал нам жить, я подумаю сам. Наверное, пришло время дать ему почётную службу.
— Всё понял, государь. Пора и нам на покой.
Семён Никитич встал и покинул шатёр государя. Неподалёку на колоде сидел князь Димитрий Черкасский и ждал появления дяди царя. О чём он его хотел спросить, осталось неведомо.
Глава восьмая ВОЕВОДА В ПРОНСКЕ
Спустя два года после пребывания Марии и Михаила Шеиных в Суздале на Рождественке появилась гостья любезная, о которой у Шеиных не раз возникали беседы. Она пришла пасмурным июньским днём. А как вошла в покои, будто солнышко выглянуло. Боярыни Елизавета и Мария встретили её душевно.
— Наконец-то вспомнила о нас, голубушка, — завела речь Елизавета и показала на Марию, которая ждала дитя: до родов ей оставалось не больше двух месяцев.
Катерина подошла к Марии, обняла её, погладила живот.
— Доченьку тебе Бог пошлёт, ясочка. Такая сильная подрастать будет в утешение родителям…
Елизавета той порой захлопотала, чтобы стол накрыть, и послала слугу за Михаилом, который был на конюшне. Он прибежал довольно быстро, радостный, лицо сияет. Поклонился Катерине, обнял, к щеке прикоснулся, вместе с Марией привёл к лавке, обитой голубым бархатом, усадил, сам присел.
— Расскажи-ка, солнышко, как вы там с Сильвестром живёте-можете?
— Слава Богу, всё у нас ладком. Торговля идёт ноне хорошо, не бедствуем. Доченька растёт, ну вылитый батюшка. А к вам я приехала по неотложному делу. Послушайте меня со вниманием.
— К сказанному тобой мы всегда прислушиваемся, — ответил Михаил.
— Вот и спасибо. А скажу я о том, что в Вербное воскресенье посетил меня ангел Господень. Прилетел в полночь, и мы с ним побеседовали. И сказал он мне много чего такого, что от слов тех волосы на голове зашевелились. И вам это надо знать, чтобы укрепить дух, а не впасть в печаль глубокую. Помните, слушая меня, что у вас всё будет хорошо.
— Наберёмся мужества, солнышко, не бойся за нас, — молвил Шеин.
— Вот и славно. А сказал мне ангел Господень, что нынешним августом ждёт нас светопреставление. Грядёт кара Господня на русскую землю. В яркий августовский полдень наползут на град Москву и округу на сто вёрст тучи небывалые чёрные, закроют солнце, прихлынет холод и пойдёт снег до той поры, пока не укроет все поля и леса, сёла и деревни. Реки и озера закуёт льдом.
— И что же, всё погибнет? — зябко передёрнула плечами Мария. — Да за чьи же это прегрешения?
— Господь отметит грешников. Да пострадают тысячи невинных.
— Но что делать, Катерина? — спросил Михаил.
— Ты воин, и тебе одно остаётся: как в поле стоишь против врага, так и здесь встань, близких заслоняя грудью.
— Против врагов проще. Тут всё не так.
— Верно. Но у тебя в Суздале есть дом, вот и отвези не мешкая туда матушку и Машу. Ещё Измайловых возьми. А другого совета у меня нет. — Катерина помолчала, потом добавила: — Харчами запаситесь года на два. — И принялась оглаживать Марию. — У тебя всё будет славно…
Михаил и впрямь не стал медлить, поступил, как советовала Катерина. Отпросившись на службе, он увёз свою мать, Марию и мать Артемия Анну в Суздаль. Они поселились в новом доме и начали жизнь с того, что сделали хорошие запасы муки, круп и всего прочего из съестного, завели скотину. Проведя несколько дней в Суздале, Михаил с болью в сердце расстался с близкими, особенно с Марией. Два года жизни прошли у них в любви и радости, как один день, и вот, когда Маше осталось совсем немного до родов, он был вынужден покинуть Суздаль.
Ещё перед отъездом во Владимирскую землю думный дьяк Елизар Вылузгин, встретив Михаила в кремлёвском дворе, сказал ему:
— Слышал я, что ты в отъезд собрался, так долго не пропадай. Новая служба тебя ждёт.
— А где, батюшка Елизар?
— На порубежье. А большего пока и не знаю.
Вернувшись в Москву, Михаил Шеин был удостоен чести встретиться с царём. Борис Фёдорович ещё пребывал в эту пору в хорошем расположении духа. Миновали два года царствования, и он жил в умиротворённой державе. Благодушный царь разговаривал с Михаилом тепло, по-отечески.
— Я уже говорил, что тебе, Михаил, пора в рост идти. Потому поедешь в Пронск и встанешь полковым воеводой.
— Справлюсь ли, царь-батюшка? Полк — это не сотня ратников…
— Верю, что справишься. Да будешь ты там под началом большого воеводы, князя Тимофея Романовича Трубецкого. Он в Рязани стоит.
— Сочту за честь служить под его крылом, — Михаил с облегчением вздохнул.
— Как за каменной стеной за ним будешь. — Помолчав, Годунов спросил: — Слышал ли ты что-нибудь о житье Катерины и Сильвестра?
Михаил не счёл нужным скрывать что-либо о своих друзьях.
— Лавку они держат на Пречистенке. Узорочьем торгуют. И Господа Бога молят о милости к россиянам.
— Ох уж эти ведуны, всегда что-то вещают, — рассердился царь Борис Годунов. — Да будем надеяться, что Господь защитит нас от напастей. Ты-то им поверил?
— Да, государь.
— Ну, вольному воля.
Провожая Михаила Шеина, Борис Фёдорович смотрел на него с чувством доброй зависти. Бог не дал государю ни силы, ни молодецкой стати, потому он всегда завидовал таким россиянам, каким был Михаил Шеин. Ещё при царе Фёдоре он вместе с ним старался принимать на службу таких приметных отроков, какими были Шеин, Скопин-Шуйский. И с царём Фёдором у Годунова не было расхождения в этом вопросе. Оба они любили видеть во дворце красивых и сильных служилых вельмож. Оттого и расставался царь Борис со своим служилым человеком с грустью: всё-таки благо Руси было для него превыше всего.
Из дворца Михаил отправился в Разрядный приказ. Там из рук Елизара Вылузгина он получил путевую грамоту.
— Не посрами чести отца, — сказал Михаилу в напутствие дьяк.
— Не будет сраму за мной, — ответил пожалованный в воеводы Шеин.
Из Кремля Михаил отправился на Ходынское поле, где ему должны были передать пополнение в Пронск — две сотни стрельцов со шведскими ружьями. Получив в своё распоряжение конных воинов, Михаил подумал, что ему нужно подобрать себе стременного. Нельзя воеводе быть без него, считал Шеин, но торопиться не стал. Стременной — это особый человек при воеводе, и важно, чтобы они душевно сошлись.
Москву Шеин покидал с грустью в душе. Его не пугало то, что ждёт впереди. Он грустил оттого, что расстался с Машей и не знал, когда теперь доведётся увидеть её. А ещё ему хотелось прижать к груди дитя-первенца. Кто это будет, дочь или сын, — неважно, его сердце готово принять и девочку и мальчика. Оставалась в груди и боль от разлуки с другом Артемием, который теперь был ещё и родственником. Когда Михаил вернулся из Суздаля, Артемия уже не было вблизи князя Фёдора Мстиславского, а куда его послали из Москвы, Шеин так и не узнал. Одно потешило его самолюбие: князь Димитрий Черкасский тоже был отправлен на береговую службу куда-то под Брянск.
Стояли погожие августовские дни с тёмными ночами, когда при ясном небе случаются звездопады. Отряд шёл всё время вдоль Москва-реки по наезженной дороге. Река катила свои воды к Коломне, чтобы там влиться в полноводную Оку. В округе было спокойно, на дороге нелюдно, и всё располагало Михаила к размышлениям. Он уже прилаживался к воеводским делам и заботам. Знал, что Пронск — порубежный с «диким полем» городок-крепость. За ним лежало пока беззаконное царство, где гуляла крымская орда. А ведь пора было возвращать к жизни исконные просторы русской земли между Волгой, Доном и Днепром. Волга-то была, почитай, в руках русской державы до самой Астрахани. Ан нет, и на берега Волги вторгалась крымская орда. Испытав два года назад позорное бегство от рати Бориса Годунова, крымская орда и её хан искали повод отомстить русскому царю за нанесённую обиду. Вот и приходилось Руси пока держать на обороне своих южных рубежей почти стотысячное войско.
К вечеру первого дня пути к Коломне на небольшом привале Шеину приглянулся молодой стрелец, но он пока не позвал его к себе. Теперь Михаил ехал и думал, что такое стременной. Это ведь не только воин, поддерживающий стремя, когда воевода садится на коня, совсем нет. Это человек, которого в сече ближе не бывает. Он всегда рядом с воеводой, всегда должен успеть протянуть руку помощи в трудную минуту. Лишь стременному можно доверить свои тайные воеводские замыслы, а иначе кто донесёт их до тысяцких, до сотских во время сечи. Кому, как не стременному, надо позаботиться о том, чтобы воевода не был голоден, чтобы в миг жажды мог утолить её. Улыбнулся Михаил своим «хотениям», подумал последнее перед тем, как позвать к себе приглянувшегося стрельца: «При хорошем стременном и воевода хорош», — и усмехнулся своей мысли. Однако в последний миг у него мелькнуло, что до ночлега не будет тревожить стрельца, и придержал коня, обернулся, надумав присмотреться к нему в строю. Каково же было удивление Михаила, когда он увидел, что этот стрелец ехал в двух саженях позади него! Улыбнувшись белозубо, тот громко сказал:
— Какая благодать-то кругом, батюшка-воевода!
— Эй, стрелец, ты встань рядом со мной, поговорить надо.
— Это я вмиг, — отозвался стрелец, послал лёгкую буланую кобылку вперёд, и вот он уже рядом. — Слушаю, батюшка-воевода.
— Давай-ка побеседуем с тобой по душам. Запомни: меня зовут Михайло Борисыч Шеин. А тебя как?
— Меня-то? Так я Аниска Иваныч Воробушкин. Такая знатная фамилия. Да у нас, у ярославских, всё знатное. Вот и Волга от нас течёт, — широко улыбаясь, говорил Анисим.
— Ты в деревне вырос?
— Ага. Только наша деревня Воробьёво под самым Ярославлем. Лапоть из неё можно забросить на торг.
— Я вижу, ты хороший балагур.
— Так у нас в роду все Воробушкины такие. Балагурить мы можем с утра до вечера и с вечера до утра. Байки мы горазды складывать.
— А работать когда же?
— Так тоже с утра до вечера. Батюшка у нас крутой: как начнёт гонять всех нас, семерых братьев да шесть сестёр, — дым коромыслом. Я-то средненький рос, весь почёт мне от братьев и сестёр.
— Ты что умеешь делать?
— А всё могу. Но перво-наперво драться. Любого с ног сшибу.
— И это правда?
— Так уметь надо. Ну хитрю немного. Да ведь дерёмся-то мы только зимой, на Святки. А так всё работа. Я-то с двенадцати лет служкой в Никольском монастыре был. Там всему научили, даже хвосты коровам крутить.
— А дельному научился чему-нибудь?
— И этому научили. Кафтан могу сшить, коня подковать, дом построить и даже домовину выстругаю, — весело рассказывал Анисим и всё улыбался. На румяных щеках ямочки выступали, серые глаза озорно стреляли. — За девками ухаживать умею. Правда, в монастыре этому не учили.
— Знатный ты парень, выходит, а вот саблю знаешь зачем тебе на пояс повесили?
Посерьёзнел Анисим, ну точно так же, как сам Михаил, суровостью наливался. И в этом он весь проявился.
— Не для параду, батюшка воевода.
В таком духе разговор между Шеиным и его будущим стременным длился не одну версту. Слушая Анисима, Михаил сам часто улыбался, но чувствовал, что ярославский парень играет под простачка. Рассердить бы его, да что-то мешало. Скорее всего, глаза. Он смотрел на Шеина с какой-то небывалой преданностью. «Так не может быть. Мы и встретились всего ныне утром. Чтобы преданным друг другу, надо не один пуд соли вместе съесть, — размышлял Михаил и тут же пытался разозлиться: — Ведь поди нарочно смотрит преданно, а в речах вздор. И ничему поверить нельзя. Зачем это учили его коровам хвосты крутить?» — вспомнил Шеин.
Однако Анисим и впрямь был балагуром только для видимости, лишь для тех, кто сам был легковесен и не мог уловить внутреннюю суть человека. Михаил же умел посмотреть на человека со всех сторон. Во время первого же ночного привала, когда Михаил уже определил Анисима себе в стременные, он заметил, с какой любовью тот ухаживал за конями. Казалось, он забыл о себе и пёкся только о них. Ведя на водопой, он снял с них седла, уздечки, оставив лишь недоуздки: надо же дать коням отдохнуть от железных удил. Напоив коней, он задал им овса — всё старательно. Справившись с конями, Анисим принялся выполнять свой долг перед воеводой. Всё делал серьёзно, забыв о своём балагурстве. В этот день узнавания своего стременного Михаил остался им доволен.
Но Шеин не мог предугадать, что судьбе будет угодно связать его и Анисима на долгие годы. И вовсе не мог Шеин знать то, чему он научится у Анисима, что явится даром Божиим, который, можно сказать, спасёт ему жизнь.
А пока отряд спешил к месту назначения и на третий день пути добрался до Рязани. Город был похож на боевой лагерь. Всюду только ратники, строевые кони, военные повозки, а горожан и вовсе не видно. Главный воевода, князь Тимофей Трубецкой, расположился в каменных палатах бывших рязанских удельных князей. Как только ему доложили о Шеине, он принял его. Уже преклонных лет, но бодрый, с твёрдым голосом, Трубецкой встретил Шеина лёгкой усмешкой.
— Ну вот ещё один «бывалый» воевода нашёлся. Едва поставил к делу одного, как другому надо искать место за печкой.
Сказанное князем задело Шеина, и он не сумел сдержаться, ответил так, чтобы защитить свою честь:
— Прости, князь Тимофей Романович, мне не надо ничего искать. Царь Борис Фёдорович послал меня стоять в Пронске, а что это за место, мне неведомо.
— Жаль мне вас, молодых, бросать в пекло. А Пронск ныне — ты это запомни, Шеин, — настоящим пеклом будет. Туда-то я и отправил вторым воеводой Артемия Измайлова на место убитого воеводы. А вот ты, из молодых да ранний, встанешь в Пронске первым воеводой.
У Михаила от волнения забилось сердце. «Что это, подарок судьбы — встретить близкого человека в самом пекле?» Но Михаил сдержал свои чувства, ответил спокойно:
— Постараюсь, батюшка-князь, притерпеться к пеклу. Лишь бы только ратники да справа военная были.
— Полк там стоит, да поредел. Сколько воинов привёл?
— Две сотни, батюшка-князь.
— Ой, мало! Просил же две тысячи. Но и Измайлов привёл всего сотню конных. Мало! — посетовал князь. — Хорошо, дам тебе вдобавок к твоим ещё четыре сотни пеших ратников. Но без ружей, с луками и стрелами. Уж не взыщи. И будет у тебя под рукой три тысячи четыреста ратников. — Князь вдохновился и сказал: — Это же почти полк! Да ты умом бери ордынца! — И Трубецкой, значительно подняв палец, добавил: — Помню, в молодости я близ Мценска был, когда его от ордынцев защитил с двумя тысячами Даниил Адашев.
Судьбе было угодно, чтобы Михаил Шеин через год встал воеводой Мценска.
За вечерней трапезой князь Трубецкой дал воеводе Шеину совет:
— Ты, боярин, завтра выйди сразу после утренней трапезы. Пеших воинов не покидай, иди вместе с ними. В полдень, как пройдёте половину пути, остановись в лесу на берегу речки Истья под деревней Тырново. А как смеркаться станет, так скорым шагом иди дальше. В пути дозоры выставь. И будешь под Пронском во второй половине ночи. Тогда не заметят тебя ордынские лазутчики. По ночам они не шастают, и вы на засаду не нарвётесь. И вот ещё что: дам я тебе десяток бывалых воинов. За десятского у них Касьян. Во всём доверяй ему.
— Спасибо, батюшка-князь, — поблагодарил воеводу Михаил.
— Чего там. А слухи-то бродят, будто уже передовые отряды ордынцев близко, и сам Казы-Гирей от Польши к нам идёт.
Утром Михаил принял четыре сотни ратников, собрал сотских — тех, что привёл из Москвы, и из пополнения, познакомился, узнал имена. Потом пояснил, как будет протекать их поход под Пронск, и предупредил:
— Помните сами и скажите ратникам, чтобы ночью шли как тени, без разговоров, без шуму.
Поговорив с сотскими, Михаил отправил в Пронск гонца из тех бывалых воинов, что особо дал князь Трубецкой.
От Рязани до Пронска шестьдесят вёрст почти безлесного пространства. Лишь вокруг деревни Тырново раскинулся могучий сосновый бор. Не доходя до деревни, Михаил повёл сотни в лес. Дал ратникам хороший отдых, сотским наказал:
— Выходим, как будет смеркаться.
Вот и миновал дневной отдых. Воины успели сварить кулеш, полежать на тёплой хвое под могучими соснами. Михаил позвал десятского Касьяна и велел ему со своими воинами выступить дозором, предупредив:
— Ты раздели своих на три группы. Пойдёте справа и слева от дороги и по самой…
— Так и сделаю, — согласился Касьян.
Предупреждение оказалось не напрасным. Едва дозоры Касьяна миновали Тырновский лес и поднялись на взгорье, а затем спустились с него за речкой Истья, правый дозор, который вёл Касьян, увидел всадника, заметного на фоне угасающей зари. Касьян сказал своим два слова: «Догоним, други!» — и пустил коня рысью.
Всадник, похоже, услышал конский топот по сухой земле, встрепенулся и ударил коня плетью. Но конь был слишком усталый и побежал медленно, хотя всадник всё время стегал его. Касьян пустил своего поджарого жеребца намётом и стал обходить вражеского лазутчика, чтобы отрезать ему путь на запад. Всадник снял лук, достал из колчана стрелу, но положить её на тетиву не успел: Касьян был рядом. Первым ударом меча он выбил лук из рук всадника, вторым — плашмя — оглушил его, и тот упал на шею коня. К Касьяну подскакали два его воина. Они умело связали пленника по рукам и ногам, уложили его на круп коня и отправились к дороге. Двух воинов Касьян оставил с пленником на дороге ждать сотни, сам с другими воинами ушёл дальше в дозор.
Вскоре пленника передали в руки воеводы Шеина, но, что с ним делать, Михаил не знал. К нему подъехал рязанский сотский Никанор, чернобородый, с острыми глазами.
— Ты, батюшка-воевода, не мешкай. Надо за язык потянуть ордынца — он и откроется.
Михаил честно признался:
— Я в этом деле ещё не сведущий. Найди того, кто знает татарский язык, спросите, как нужно.
— Так и сделаем, воевода, — ответил Никанор. Он был скор на дело, крикнул двоих из своей сотни: — Матвей, Захар, бегом ко мне!
Те вмиг оказались рядом.
— Вот мы, — ответили оба.
— Сделайте всё, как умеете. Вон связанный тать на коне. Подвесьте его за ноги к сёдлам, а я за язык потяну.
Шеин ехал рядом с Никанором и видел, как, не прерывая движения, всё умело было сделано Матвеем и Захаром. Они, не снимая пленника с коня, привязали к его ногам верёвки, закрепили их концы на своих сёдлах и растянули ордынца между конями. Он застонал от боли. Никанор подошёл к нему, взял за волосы, поднял голову и повёл речь по-татарски. Потом он всё пересказал Шеину. А спрашивал Никанор пленника о том, откуда он пришёл, где спряталась засада, сколько в ней воинов. Ордынец оказался слаб духом и всё поведал. Главное же было в том, что в роще, близ деревни Альютово русских воинов ждала засада. Там на дороге была глубокая впадина, и в ней со склонов, заросших деревьями, татары задумали расстрелять русских воинов стрелами в упор. Их появления ждали сегодня днём. Ещё пленный сказал, что во главе полутысячи воинов стоит яростный, сильный князёк Казы-Гирея Шалиман.
Шеин после рассказа Никанора поблагодарил судьбу за то, что она хранит его воинов, и спросил сотского:
— Никанор, ты бывалый воин, что бы ты сделал сейчас?
— Ордынцы упорны и будут ждать нас ещё сутки-двое. Нам же повезло, мы знаем их замысел. Нужно до рассвета подобраться к роще от деревни Альютово и ударить им в спину, свалить в лог и там добить. Стрельцов поставь впереди. Конные сотни пусти по-обочь.
— Спасибо, Никанор. Я внял твоему совету. Будь рядом, мы идём к Альютову.
Потребовалось около двух часов, чтобы добраться до маленькой деревеньки Альютово. Она была пустынна. Похоже, жители её убежали в большой лес, который начинался вёрстах в трёх за деревней Болотово. Но вот и альютовская роща. Стрельцы зарядили ружья, строй развернулся. Справа и слева от них ехали две конные сотни. Прошли с версту — ни человека, ни зверя. Уже близился рассвет, тьма отступала в ельники, а перед цепью воинов — ни души. Начинался спуск к впадине. И тут стрельцы почувствовали запах дыма от костров. Их жгли днём, но лес впитал дым, и теперь лёгкий ветерок сдувал его с деревьев. Воины насторожились, взяли ружья на изготовку, движение замедлилось. Но вот и конный стан. Кони привязаны к деревьям. Их миновали благополучно. В ста шагах воины Шеина наткнулись на спящих на земле ордынцев. Но спали не все. Среди них нашлись и стерегущие сон воины. Раздались истошные крики. Сон улетел, ордынцы вскочили на ноги, схватились за сабли, за луки. Но прогремел первый ружейный залп, и десятки татарских воинов упали. В стане врага началась паника. А стрельба не утихала. Татары бросились к дороге, но конные сотни успели обойти их и перекрыли её. Началась резня. Спасения ордынцам не было. Без коней, в лесу они стали беспомощными. Лишь небольшая группа воинов, может быть, с полсотни, сумела оказать сопротивление. «Аллах с нами! Аллах с нами!» — громко донеслось из отряда. Но два залпа стрельцов заставили ордынцев прекратись сопротивление. Они сочли за лучшее сдаться в плен. Только кучка воинов, сбившаяся вокруг князька Шалимана, продолжала отчаянно сопротивляться. Ордынцы очутились на открытой полянке, они стреляли из луков, но залп стрельцов уложил почти всех. Лишь трое остались в живых.
Вскоре резня в лесу закончилась. Пленных согнали на дорогу. Их было больше ста. И никто из русских в пылу схватки не заметил, как один из молодых ордынцев спрятался в густой кроне клёна. По недосмотру русских воинов остался за их спиной и конь, привязанный в ельнике. Едва ратники Шеина ушли из леса и увели пленных, как ордынец спустился с дерева, нашёл коня, вскочил в седло, выехал из рощи на её западную часть и помчался в орду. Она в это время обходила Тулу и была вблизи Богородицка.
В ту пору переход из Рязани в Пронск для отряда Шеина завершился успешно. В лесу за Альютовом не было потеряно ни одного воина убитым, лишь семнадцать ратников получили ранения. Дозорные, что шли впереди, достигли Пронска в тот час, когда в крепости все были на ногах. К воинам Шеина вышел Артемий Измайлов. Услышав от гонцов весть о том, что к Пронску подходит отряд передового полка, Артемий обрадовался. Были распахнуты ворота крепости. На мосту через реку Проню воины опустили один из пролётов настила, который был поднят, — путь в крепость стал свободен.
— Славно. Теперь нам будет полегче, — сказал Артемий гонцу.
Каково же было удивление Измайлова, когда в полдень он увидел отряд ратников и едущего на коне Михаила Шеина впереди. Артемий подбежал к нему и, когда Михаил спешился, обнял его.
— Сон мне приснился вчера ночью. Видел я тебя, Михаиле. Сон-то в руку, — громко произнёс Артемий.
— А я думал о тебе, сват. Гадал, куда это тебя судьба забросила.
В этот миг к ним подошёл сотский Никанор. Он обратился к Шейну:
— Воевода, куда полон загонять?
— И много пленных? — спросил Артемий.
— Да сотни полторы, — ответил Никанор.
— Ой, мороки с ними добудем! — воскликнул Артемий.
— И я так думаю. Ещё в пути счёл, что надо бы ордынцев в Рязань отправить, — признался Шеин. — Большой воевода знает, как с ними поступить.
— Думайте, воеводы. А я пока их в коровий загон помещу, — сказал сотский. — И стражу из стрельцов поставлю.
— Верно поступишь, Никанор, — согласился Шеин. — А как осмотрюсь, так и решу, что с ними делать.
— И ещё: ордынский лазутчик просит защиты. Говорит: «Если отдадите меня своим — убьют», — пояснил Никанор.
— Это верно, враз порешат, — подтвердил Артемий.
— Оставь его, Никанор, пока возле себя.
— Исполню, — ответил сотский и ушёл.
— Ну, сват, показывай хозяйство, — произнёс Шеин. — Нам с тобой тут до упора стоять.
— Разруха тут полная, а не хозяйство, — отозвался Артемий. — Сколько раз эта крепость в руках ордынцев побывала! Не знаю, с чего начать укреплять её. Вот уже неделя, как я здесь, а ничего не сделал. Разве что дыры залатал в стенах!
Артемий повёл Михаила осматривать крепость.
Увидев в прежние поездки по державе крепости Серпухова, Коломны, Рязани, Михаил помрачнел. Он понял, что такая крепость не в состоянии выдержать никакой приступ. Тараны, которыми пользуются ордынцы, изрешетят стены из тонкого леса, разметают ворота в щепы. Он спросил Артемия:
— Как же здесь обороняться от ордынцев? Это всё равно что сидеть в курятнике.
— Слышал я, что старее крепкие стены крымчаки сожгли ещё при Иване Грозном, а новые поставили лишь на всякий случай. Дескать, казанские татары теперь на Руси не ходят с разбоем, а крымские не любят в эти края захаживать.
— Но ведь пришли. И к чему-то примеряются. Где пять сотен, там и десять тысяч прихлынут, — заметил Михаил.
Шеин и Измайлов поднялись на стены. Настил был плохой, ходил под ногами ходуном. Но воеводы не обратили на него внимания, принялись рассматривать округу. С южной и западной сторон за крепостью поднимались избы, вырастал посад. Рва вокруг крепости не было, и Михаил сказал:
— Надо ров копать.
— Я тоже о том думал. Если навалиться всем полком, ещё и ордынцев вывести, за два дня осилим.
— Завтра и начнём.
Когда они пришли на северную и восточную стороны крепости, то порадовались её естественной защите. Крепость почти вплотную к стенам огибала река Проня, и где-то на оконечности восточной стороны она поворачивала строго на восток, бежала к сельцу Княжая. Михаил и Артемий долго стояли молча, заворожённые красотой протекающей мимо реки. В сельце Княжая они увидели, как мастеровые ставили купол небольшого деревянного храма.
— Красиво и всё умиротворённо.
И тут Михаил вспомнил о встрече с Катериной. Приближался тот день, на который приходилось нашествие кары Божьей. Он рассказал об этом Артемию.
— Своих и твою матушку я увёз в Суздаль.
— Удивился я, вернувшись из Александровой слободы, что матушки нет дома. Потом соседи сообщили, что с тобой уехала… Дай Бог, чтобы вещание Катерины не сбылось, — заметил Артемий.
Но предсказание блаженной Катерины осуществилось. На четвёртый день пребывания Шеина в крепости с севера на Пронск с утра начали надвигаться чёрные тучи. К полудню они накрыли крепость и пошёл проливной дождь. Потом повалил град, крупные кристаллы льда, и всё это сменилось густым снегом, за которым в десяти шагах всё закрывалось белой стеной. В Пронске никто не прятался в дома, все вышли во дворы, укрывались под навесами, кто где мог, и с душевным трепетом смотрели на небо, моля Бога, чтобы прекратил снегопад.
И Господь смилостивился над жителями Пронска и округи, окрестных сел и деревень. К вечеру какие-то могучие силы природы повернули снеговые тучи на север, ветры погнали их на Рязань, на Тулу, на Серпухов и Москву. Позже Михаил Шеин узнал, что снегопад в Москве длился сутки, после чего надвинулся мороз, сковав реки и озера. Пронск миновала эта беда. Уже на другой день светило горячее августовской поры солнце. Снег растаял, как будто его и не было. А ещё через день в округе началась уборка хлебов. Подгоняли слухи о приближении крымской орды.
Ратники Пронска тоже занялись уборкой урожая. Вот уже многие годы, почти со времён взятия Казани, чему минуло полвека, на благодатной степной ниве за Пронском сеяли зерновые: рожь, овёс, ячмень и даже особый вид пшеницы — полбу. А в самый разгар уборочной в двух вёрстах от Пронска, на западном берегу речки Кердь, впадающей в Проню, появился небольшой отряд ордынских воинов. Один из них держал на древке белое полотно: шли с миром.
Дозор из крепости остановил ордынцев за речкой Кердь. Кое-как им дали понять, что нужно дождаться воеводы из Пронска. Вскоре к берегу Керди прискакали Артемий и Никанор. Сотский сразу повёл переговоры с ордынцами.
— Что вам нужно? Зачем приехали в наши пределы? — кричал Никанор через речку.
— Отдайте нам воинов, взятых в плен, — отвечал старший из ордынцев, — и мы уйдём в степи.
Шеин и Измайлов так и предполагали, когда гонец сообщил им, что прибыли ордынцы. Посылая Артемия на переговоры, Михаил сказал ему:
— Передашь им, что без воли большого воеводы мы не можем отдать пленных. Скажи, чтобы ждали нашего решения. Ещё скажи, чтобы привели на обмен двести русских пленных.
И потому Артемий, посылая Никанора к берегу речки, наказал ему:
— Ты, Никанор, молви ордынцам, что отдадим пленных при условии передачи нам за каждого двух русичей. Малых, старых — не имеет значения.
Никанор прокричал слово в слово. А в ответ ему крикнули:
— Никаких русских! Если отдадите наших, уйдём в Крым и не будем зорить вашу землю. Ваших пленных у нас нет. Не отдадите, сровняем крепость с землёй!
— А чем поручитесь, что уйдёте в Крым?
— Словом. Оно у нашего хана крепче стали.
— Хорошо. Если уйдёте домой, может, и отдадим пленных. Но ждите три дня воли большого воеводы. Тут, на берегу Керди, и сидите!
Никанор вернулся к Артемию.
— Всё ли сказано мною, воевода?
— Всё как следует сказано. Леший прислал их на нашу голову, — в сердцах произнёс Артемий.
Чуть позже Михаил и Артемий вели по поводу татарских пленных трудный разговор. Оба они считали, что пленники им в тягость, что от них надо избавиться и чем раньше, тем лучше. Но и гнать их, не зная воли князя Трубецкого, они опасались и решили послать в Рязань гонца. Так и сделали. Теперь ждали его возвращения. Он появился только на исходе четвёртого дня и привёз много неутешительных вестей. Небывалое бедствие и впрямь навалилось на все земли севернее Москвы и на сам стольный град. До Вологды и дальше выпал немалый снег, ударили морозы и сковали реки и озера. От мороза и снега погибли все овощи, хлеба, случился большой падеж молодняка животных. Руси угрожал голод.
И было велено воеводой князем Трубецким разобраться с пленными по своему разумению. Гонец передал Шеину так:
— Ежели они тебе не нужны и хан не будет зорить наш край, верни их Казы-Гирею. Да поступай не опрометчиво. Князька Шалимана не отдавай, оставь в залог. А как уйдёт орда из наших пределов, тогда и отпустишь.
Позже всё так и было исполнено, как повелел князь Тимофей Трубецкой. Пленным дали несколько лошадей с повозками для раненых, съестных припасов из того, что ордынцы оставили в перемётных сумах на месте схватки, и в сопровождении полусотни воинов повели в степные просторы за село Скопин. Там и отпустили на свободу.
Князя Шалимана со слугой освободили спустя десять дней. Им дали коней, снабдили съестным.
Казы-Гирей держал своё слово лишь один год. Через год отряды крымчаков вновь начали рыскать по южным землям Руси. А следом катилась орда.
В Пронске полку Шеина этот минувший год дался нелегко. Весь год воины сторожевого полка укрепляли крепостные стены и копали с двух сторон ров, чтобы наполнить его водой из рек Проня и Кердь.
Глава девятая ЯДРА АНИСИМА
Воеводство в Пронске в минувшем голодном для Руси году оставило в жизни Михаила и Артемия яркий след. Оба они располагались на постое в большом доме городского дворянина Никиты Селезнёва. Когда-то он был воеводой в Пронске, но в сече с казанскими ордынцами потерял ногу и теперь коротал свой век в кругу семьи. Она у него была большая: четыре дочери, три сына. Четверо из них уже обзавелись семьями. Дочь и два сына-погодка ещё пребывали в родительском гнезде.
У Артемия хватило времени, чтобы заметить стройную, непоседливую, кареглазую, с длинной каштановой косой Настеньку. Ей было уже шестнадцать лет, когда Артемий и Настенька поняли, что только тем и озабочены, как бы глянуть друг на друга лишний раз. Заметили это и Никита с Аграфеной, матерью младшенькой, и тоже начали приглядываться к постояльцу. А вскоре всем в доме Селезнёвых стало ясно, что Артемий и Настенька во сне и наяву грезят друг о друге и не скроешь этого в городской тесноте. И пришёл час, когда Артемий призвал себе в сваты Михаила.
— Ты уж прости меня, побратим, невтерпёж мне без Настеньки. Иди к её родителям, проси руки их доченьки для меня.
— Ишь ты какой шустрый! А мне с того что прибудет?
— Так посажёным отцом позову, а в посажёные матери какую-нибудь молодуху. То-то тебе услада! — засмеялся в ответ Артемий.
С шутками и со смехом решили два побратима сердечное дело. Нашлась по соседству с Селезнёвыми и вдовица, которая не испугалась встать рядом с воеводою посажёной матерью. Она и свахой согласилась быть от имени Артемия. Звали её Палашей, была она бойкая и как-то в воскресный день после обедни позвала Михаила сватать Артемия.
— Мы с тобой, сваток, убаюкаем Аграфену с Никитой, они в полудрёме-то и скажут свою волю, — шутила румянолицая вдовица.
Всё так и получилось, как задумала Палаша. Вошла она с Михаилом в трапезную Селезнёвых и с порога повела речь:
— Хозяева знатные, люди богатые, товар у вас красный есть, мы люди хожалые, покажите нам товар ваш, купец наш раскошелится, серебра-злата не пожалеет, весь товар откупит.
— Говорлива ты, сваха, да надо меру знать и купца своего показать, — развела руками Аграфена.
— А вот сват, мой дружок, знает купца лучше меня, всё и выложит на стол поперёд вас, — мудрено частила вдовица Палаша.
Михаил смутился от приговоров, сказал просто:
— Вы уж простите, батюшка Никита, матушка Аграфена. Не ходил со сватовством, речи красные не вёл. Скажу от души: отдайте в семеюшки побратиму моему и брату моей жены Артемию вашу доченьку Настеньку.
— Да что уж там о красном красное говорить! Само себя оно покажет! А нам с матушкой Аграфеной милым зятем будет Артемий, — разошёлся Никита да повелел: — Эй, матушка Аграфена, неси первач на стол, разливай по чарам, сватов угощай, меня попотчуй, сама пригуби. Свадебный день приговорим!
— Он сам напрашивается. Покров Пресвятой Богородицы на дворы идёт, — заявила сваха. — Потому праздник Покрова и называется покровителем свадеб. Вам, хозяева, остаётся только браги да пива наварить. Куда моё не пропадало, — пообещала сваха.
Ближе к осени у прончан забот прибавилось. Все спешили заготовить побольше съестных припасов. Мужики в болота по реке Проне отправились — кабанов отлавливать, за лосями побегать. Женщины из леса не уходили, ягоду всякую собирали, грибы, сушили впрок. Ещё лесные орехи и жёлуди заготавливали кулями. Орех и хлебушек может заменить, а жёлуди — скотинке в благость.
Глядя на горожан, и Михаил с Артемием отряжали в лес по полторы-две сотни ратников на сбор лесных орехов, которые попросту называли лещиной. И когда на Руси наступил второй голодный год, лесные орехи стали спасительными для воинов Пронской крепости.
Сам Михаил Шеин в дни благодатной осени был занят со своим стременным и несколькими пушкарями необычным делом. Шустрый Анисим как-то в свободный час после утренней трапезы сидел на огромной куче мелких, в кулак, камней, что лежали на луговине за храмом, и, перекидывая их с руки на руку, бросал в старый пень. Попадал, однако, редко. Сетовал на себя: «Вот недотёпа». А потом стал брать сразу по нескольку мелких камней, с силой бросать в пень и каждый раз одним-двумя камнями попадал в него. Это ему понравилось. Он задумался. Увидел в воображении пушку, наряд возле неё. Вот пушкари заряд в ствол отправляют, ядро следом вкатывают. Фитиль на порох — бабах! — и летит ядро во вражеский стан, но если на пути ядра только один враг попадётся, одного и убьёт. А может и не убить: промахнулись пушкари — и вся недолга. А когда много врагов бежит на приступ, ядер даже не хватит. Ой, лихое дело! Добегут до стены и полезут вверх. Тут уж чья возьмёт. Поди, и камешки для того приготовлены, чтобы, когда подбегает враг, в голову ему садануть. А от пушкарей помощи нет.
И подумал Анисим, что хорошо бы пушки заряжать камнями с куриное яйцо, сразу двумя-тремя десятками. И увидел Анисим, как пушкари положили в рядно три десятка таких ядер, завязали их и — в ствол пушки. Враги уже близко. Но бабахнула пушка в упор, и тридцать ядер прошлись как косой по вражескому стану. Господи, сколько же их враз поляжет!
Анисим вошёл в раж, бросал и бросал камни в пень горстями, приговаривал: «Вот вам, басурманы! Вот! Вот!»
За этим занятием и застал своего стременного воевода Шеин.
— Анисим, ты никак рехнулся! — крикнул Михаил.
— Да нет, батюшка-воевода. Спорю я сам с собой, спрашиваю: можно ли одним ядром поразить сразу десять-двадцать врагов, бегущих на приступ?
— Вряд ли.
— Вот и я так думаю. А ежели в пушку… — Анисим стянул с головы шапку, положил в неё десятка два камней, схватил и стал впихивать шапку с камнями в жерло воображаемой пушки. Ежели в пушку вместо одного ядра, вот такой куль засунуть и по бегущим, по бегущим!..
— Подожди, Воробушкин, не чирикай так быстро. Вижу я, что ты не рехнулся и придумал нечто дельное. Да ведь мы с тобой не наряд у пушки. И её надо спросить, примет ли она такой заряд!
— Но, батюшка-воевода, ведь пушкари-то под твоей рукой!
— Верно.
— И пушки?
— Тоже.
— Так идём же к ним, батюшка.
Анисим подхватил шапку и направился к западным воротам, где между туров стояли пушки. По пути он тараторил:
— Видел я, что у нас ядер мало, а крымчаки обязательно весной прихлынут. Да что там говорить: голь на выдумку горазда. Вот и весь сказ.
Пушкари хотя и молодые, но все обстоятельные, важные. Они знают себе цену, потому как стоят нарядом при особом оружии. Ядро, оно стену пробивает, дома рушит! Кому такое дано? Потому всякую новинку пушкари встречают подозрительно, чаще всего отвергают. Так было и на этот раз. Однако Михаил уже знал эту породу воинов и кое-что предусмотрел. Когда воевода и стременной приблизились к пушке, к ним тотчас же подошли трое пушкарей.
— Чем послужить? — спросил старший наряда.
— Надо выкатить пушку за крепостную стену в овраг и там выстрелить три раза в склон. Вот и всё. Вместо ядра зарядите вот такие камни. Говорят мудрые люди, что после них ядра из пушек дальше летят. Но ты, Варлам, знаешь, как далеко летят твои ядра.
— Дальше, чем на четыреста сажен, их не уносит.
— Это хорошо. Ну посмотри, как прочистим. Так что велю вам выкатить пушку в овраг близ речки Кердь. Возьмите три заряда пороху. Сходите за храм, наберите там камней ещё на два заряда. Ты, Анисим, веди счёт камням. — Михаил задумался. — И вот ещё что. На склоне оврага выложите холстины сажен на десять в длину и на две в высоту.
Анисим слушал Михаила, кивал головой, во всём соглашаясь, но у самого горели глаза, он хотел что-то сказать. И вымолвил:
— Чтобы тесно нам в овраге не было, сажен сто простора надо.
— Думайте, Анисим и Варлам, о заряде, а не о просторе.
Постепенно волнение у Анисима улеглось. Он вместе с пушкарями выкатил из крепости пушку, сбегал с молодым пушкарём и набрал камней в корзину. Ещё куда-то слетал и принёс куски старых холстин. Вскоре Анисим прибежал к Михаилу и сказал:
— Батюшка-воевода, у нас всё готово.
Михаил согласно кивнул головой: дескать, всё понял — и тронул за плечо сотского Никанора, с которым вёл разговор.
— Идём, Никанор, может, диво увидим.
— Анисим, что ли, придумал?
— Он, сын Воробушкин, — улыбнулся Шеин.
Сам в этот миг подумал: «Ой, как опростоволосимся, сраму не оберём!»
Пушка была поставлена в тридцати саженях от склона оврага, на котором закрепили колышками холсты. Анисим сбегал от пушки до холстов и обратно, сказал старшему пушкарю Варламу:
— Батька, давай откатим пушку ещё сажен на десять.
— Нужды в том не вижу, — ответил как отрубил Варлам.
«Ладно, тридцать сажен тоже хорошо, лишь бы долетели ядрышки», — подумал Анисим и принялся укладывать круглые камни на холстину. Считал до двадцати пяти. Потом увязал в холстину, шар получился как ядро, только с гребнем. «Так гребень-то впереди будет, он не помеха», — отметил Анисим и примерил «ядро» в ствол пушки. Туговато входило, но Анисим поворошил камни и «ядро» шло плотно. Он обрадовался, вытащил «ядро» и крикнул:
— Варлам, давай заряд на место! — Анисим был возбуждён и знал отчего. Коль не выйдет из его затеи ничего, то позора не оберётся да и в опалу от воеводы попадёт. Ой как боялся он опалы и пострига монашеского! Да ведь не жил без риска. Голова у него будоражная была.
И вот уже всё сделано. Пушкари нацелили пушку на холстину. Анисим чуть ли не перед стволом суетится, готов был бежать следом за «ядром». А куда оно полетит, одному Богу ведомо. Сам-то Анисим лишь в голове воображал, что «ядро» полетит в цель.
— Давай, Варлам, пали! — крикнул Анисим.
Твёрдая рука Варлама поднесла фитиль к лунке, где чернели крупинки пороха. Раздался выстрел, и дым клубом взметнулся вверх. Все замерли, словно остолбенели, смотрели с напряжением туда, где на склоне холма висели закреплённые холсты. Их не было, они лежали у подножия склона. Анисим первым бросился к ним, хватал их, разворачивал, рассматривал. И вдруг начал прыгать от радости, принялся считать дыры на холстах. Когда подошли Михаил, Варлам и Никанор, Анисим закричал:
— Семнадцать! Семнадцать дыр!
Михаил не поверил, пересчитал.
— Да, семнадцать, — подтвердил он, едва сдерживаясь, чтобы не закричать, как Анисим.
Михаил понял, что значит такая стрельба при обороне крепости. Каждый выстрел пушки найдёт себе десятки целей в рядах врага. Теперь оставалось узнать убойную силу выстрела, на какую глубину в склон оврага ушли камни. Михаил сломал ивовую ветку, подошёл к склону и стал искать пробоины. Он вскоре обнаружил пробоину, и прут ушёл в неё чуть ли не на аршин. Рядом с Шеиным принялись искать пробоины Анисим и Варлам. Стременной каждый раз кричал благим голосом: «Нашёл! Нашёл!»
— Велика сила у этих ядрышек! — важно сказал Варлам. — Теперь можно и пушку подальше отставить.
Он уже догадался, что ему морочили голову, когда говорили, как чистить ствол пушки. Старый пушкарь подумал, что отныне ближний ордынец ему не страшен: как косой косить будет. И велел Варлам пушкарям откатить орудие от склона оврага ещё на пятнадцать сажен.
Той порой Анисим уложил в холстину уже тридцать камней, но меньшего размера. Выстрелили. На этот раз оказалось девятнадцать попаданий, а «ядрышки» ушли в землю почти так же.
— Ну, батюшка-воевода, хвала тебе и твоему Анисиму. Да мы теперь… — важно оглаживая бороду, продолжал восхищаться Варлам.
Был выстрел и в третий раз — для укрепления веры в новинку. На холстах и живого места не осталось. Уходя от пушкарей, Михаил сказал Варламу и Анисиму воеводским тоном:
— Волю вам даю донести новинку до всех пушкарей, показать им, какие камни собирать, как заряжать пушки. — Дал Шеин задание и сотскому: — А ты, Никанор, пошли своих ратников камни искать и тоже покажи им, какие. И кучу за храмом переберите.
Незаметно приблизился Покров Пресвятой Богородицы, праздник, на который было назначено венчание Артемия и Анастасии. Горожане знали об этом событии в семье Селезнёвых, и с утра сотни их собрались на площади близ храма Николая Чудотворца. Кто-то догадался принести соломы и устлать путь до паперти храма. Два старших брата Селезнёвы несли свою сестрицу к храму высоко на руках. Пожилые горожане осуждали молодёжь: эк невидаль выдумали. А молодым потеха: красавицу невесту всем видно.
Жених шёл в окружении воинов, рядом с ним выступали «бояре» жениха Михаил и Никанор. А перед ними кружились, пели «боярки» — девицы-подружки невесты. Вот и врата храма, братья поставили невесту на паперть, жених поднялся к ней и, взяв за руку, повёл в храм к венцу.
В этот час прискакал из Рязани гонец. Открыли ему ворота, он спросил, где найти воеводу Шеина, как узнал, помчал к храму. Гонца россияне всегда угадывали и даже могли сказать по виду, с какими вестями он примчал. Как глянули пронские жёны на гонца, так и поняли, что привёз он недобрые вести. Он же кричал:
— Дорогу, дорогу! Где воевода Шеин?
Крик гонца достиг ушей Михаила. Он понял, что гонец неспроста к нему рвётся: важные вести привёз. И Михаил сказал Артемию:
— Иди, брат, в храм. Пусть ваш обряд идёт своим чередом. Я же скоро приду.
— Понял тебя, побратим. Всё так и будет, как присудили.
Артемий скрылся с Анастасией за вратами храма. А Михаил подошёл к гонцу.
— Что случилось, служилый? — спросил он.
— Грамота тебе, воевода, срочная.
Гонец достал с груди из-под кафтана свиток. Михаил взял его, проверил печать, сорвал её и развернул грамоту. Прочитал и стиснул зубы, потому как захотелось ему выругаться с досады. Грамота была краткой и жёсткой. В ней говорилось, чтобы он, воевода сторожевого полка Михаил Шеин, по воле царя Бориса Годунова взял в Пронске две сотни конных, с которыми пришёл из Москвы, и следовал в день получения грамоты в Мценск воеводой передового полка, не добиваясь опалы. Указывалось в грамоте, что вторым воеводой идёт стольник и воевода Борис Михайлович Вельяминов. Находился Вельяминов в эту пору в городке Михайлове.
Осмотревшись, Михаил увидел неподалёку Анисима, кликнул его.
— Сбегай в полк, позови сотских Никанора и Глеба к дому воеводы Селезнёва. Да не мешкай и им не давай.
— Исполню мигом, воевода, — ответил Анисим и убежал.
А Михаил Шеин задумался: что могло случиться под Мценском, если его так спешно перебрасывают? Но гонец ещё был рядом, и он, похоже, выложил не всё. Михаил спросил его:
— Что ещё у тебя, служилый?
— Фролом меня зовут. А сказать я тебе, батюшка-воевода должен вот что. Как провожал меня дьяк Вылузгин, велел передать тебе добрые вести. Твои в Суздале здравствуют. Голод их не поразил. И семеюшка твоя разрешилась, принесла дочь.
— Что ж ты, Фрол, до сих пор молчал! — воскликнул Михаил. — Доченьку-то как назвали? Крестили?
— Всё путём, воевода. А назвали её Катей — так твоя жена захотела. У Измайловых тоже всё по-божески. А большего я не знаю.
— Ну спасибо тебе, славный Фрол. То-то радость принёс! Елизару поклон от меня. А пока ты отдохни у нас, сейчас трапеза великая свадебная будет. Мне же в путь пора собираться. По какой причине, не ведаешь?
— Не ведаю, воевода. Да дьяку Вылузгину ты любезен.
— Выходит, и впрямь по царской воле меня отсылают с насиженного места.
Первое, что пришло Михаилу в голову, была мысль о чьих-то происках. Едва он приготовил крепость к обороне, как его гонят неведомо куда. Но появилось и другое. Михаил знал, что Мценск совсем близко от Польши. «Вот и разгадка: поди, поляки с разбоем лезут. Им и мир не помеха, лишь бы разорить соседа», — решил он.
Шеин и до дома Селезнёвых не успел дойти, как его догнали сотские Никанор и Глеб. Когда сошлись они, Шеин сказал:
— Идём в поход, други. Вам до полудня завершить сборы, накормить людей и в путь. Да не забудьте харчи взять. Идти нам не меньше семи дней.
Увидев Анисима, Михаил велел ему:
— И ты собирай всё в путь. А я до храма схожу.
Но, когда Шеин подходил к храму, венчанные Артемий и Анастасия выходили из него. Михаил подошёл к ним.
— Поздравляю вас, мои славные. — И добавил: — А мне и погулять некогда на вашей свадьбе. Артемий, принимай от меня полк, а я во Мценск ухожу.
Так всё и было. К полудню мимо дома Селезнёвых прошли две сотни ратников. Возле крыльца стояли две бочки браги, и дворянин Селезнёв со своими сыновьями угощали воинов хмельным, желая им удачи. Когда все воины прошли, из дома вынесли поднос с кубками и поднесли сотским Никанору, Глебу и самому воеводе Михаилу. Он взял кубок, поднял его и сказал Артемию и Анастасии:
— Пью за ваше здравие. Дай Бог вам счастья.
Михаил выпил медовуху, обнял Артемия, прикоснулся губами к щеке Анастасии, поклонился всем Селезнёвым. И вот уже он взметнулся в седло. С Артемием и Анастасией ему довелось увидеться только через несколько лет.
Поспешный отъезд из Пронска воеводы Шеина не остался незамеченным для всех ратников полка, с которым он простоял на рубеже «дикого поля» больше года. Воины полка пришли проводить Шеина и тех, кто уходил с ним. И две конные сотни прощались более чем с тремя тысячами воинов, которые выстроились вдоль обочины дороги до самого моста через речку Кердь.
Глава десятая ВСТРЕЧА С ШАЛИМАНОМ
Дьяку Елизару Вылузгину, второму главе Разрядного приказа, Михаил Шеин и впрямь был любезен, и перебрасывали воеводу в Мценск не по воле или прихоти дьяка. Была в эту пору в Разрядном приказе хорошая служба лазутчиков. Они-то и приносили в приказ вести, которые заставляли его служилых людей перемещать полки и сотни с одного участка обороны южных рубежей Руси на другой. В Разрядном приказе служил тогда известный лазутчик Лука Паули. Правда, он служил, ещё и патриарху Иову. Но его хватало на обе службы.
Когда и под видом кого побывал Паули в Пронске, никто того не ведал. Может быть, он являлся в Пронск под видом посыльного от князя Тимофея Трубецкого, и было позже доложено дьяку Вылузгину о том, что Пронская крепость благодаря усилиям Михаила Шеина приготовлена к обороне лучше, чем многие другие крепости на юге Руси.
— Взять тот же Мценск, — докладывал Паули Вылузгину, — по нерадению князя Черкасского — лакомый кусочек для любого князька, имеющего под рукой две тысячи ордынцев.
— Значит, ты считаешь, что Мценску что-то угрожает? — спросил дьяк Елизар Вылузгин.
— Как пить дать, летом его разорят ордынцы, — ответил Лука Паули.
Он был потомком итальянского зодчего, который служил среди итальянских мастеров на Руси во времена великого князя Ивана III. Лука Паули не стал зодчим, он любил странствия, приключения и нашёл себе занятие по душе — слыл лучшим лазутчиком. В эту пору ему было уже за сорок лет, но чуть смуглый, с чёрными волосами, жгучими и умными глазами, сухощавый, подвижный, он выглядел лет на десять моложе.
Выслушав Паули, Вылузгин не сделал при нём никаких выводов. У него была встреча с царём Борисом Фёдоровичем. Правда, царь был мрачен и недомогал. Вся Московская земля и многие северные земли были поражены небывалым голодом, который длился уже второй год. Два лета подряд земля не дала урожая ни зерновых, ни овощей. Голод уносил многие тысячи россиян. Царь Борис роздал всю свою казну на покупку хлеба для москвитян и всех, кто в это тяжёлое время добирался до стольного града в поисках спасения от голода.
Царь встретил Вылузгина сухо.
— Ну, что у тебя? — спросил он.
Дьяк изложил суть своего появления коротко и ясно:
— Во Мценске бедствие. Князь Димитрий Черкасский за год ничего не сделал, чтобы укрепить город.
— И что делать теперь? Орда уже подходит к нашим рубежам. Найди разумного воеводу. Как там, в Пронске, Шеин?
— Он славно исполнил свой долг. Крепость способна стоять против сильного врага.
— Выходит, Шеин и Мценск может поднять?
— Да, государь.
— Воля моя в согласии с тобой. Шли гонца моим именем, — ответил царь Борис и подумал, что, знать, судьбе угодно постоянно сталкивать между собой боярина Шеина и князя Черкасского.
Так решилась судьба Михаила Шеина, и он с двумя сотнями ратников, преодолевая многие версты, шёл из Пронска во Мценск через Рязанскую, Тульскую и Орловскую земли. Тяжким был этот переход. Мучили проливные дожди, приходилось идти по бездорожью от селения к селению, все на запад, на запад. На пятый день пути к дорожным трудностям прибавились другие: кончились запасы пищи. Взяли из Пронска недостаточно, надеясь покупать съестное в торговых сёлах. Но торговля хлебом, мясом, овощами всюду была скупой, а цены недоступными: сказывался голод в Москве и её окрестностях. Пришлось утолять голод орехами, которых из Пронска прихватили вдоволь. Воины, а вместе с ними и воевода Шеин могли только гадать, как их встретит Мценск.
Однако город не думал их встречать. У горожан было полно своих забот. А две тысячи ратников, составлявших гарнизон крепости, собирались отправиться по домам, потому как им обещали смену. Но обещание исходило от князя Черкасского. Это он взбаламутил жизнь ратников, сказав им, что скоро отведёт их в Москву на Ходынское поле.
Появление Михаила Шеина и двухсот воинов и было встречено ратниками Мценска как сигнал уезжать: было же, когда по осени воинов отправляли с «береговой службы» по домам. Не успел Шеин спешиться и дать команду своим ратникам, как воины князя Черкасского заполонили площадь перед палатами воеводы, загудели обеспокоенно: «Домой пора! Веди нас, князь, в Москву!»
— Я воевода Шеин! — сказал ближним ратникам Михаил и спросил: — А где ваш князь, имя его?
Из толпы вышел крепкий рослый воин лет тридцати.
— Меня Кузьмой зовут, а князя нашего — Димитрий Черкасский. Но его в крепости нет, он в Каменке, там днюет и ночует.
— Почему?
— Не моё это дело, но скажу, — ответил Кузьма, — жёнка у него там… А большего я не знаю.
— Где ваши тысяцкие, сотские? — спросил Шеин. В душе у него уже бушевал гнев на князя Черкасского: как смел оставить ратников ради какой-то жёнки? — Ну что ты молчишь, Кузьма?
— Тысяцких у нас нет, а сотские… Так ты их позови, воевода, и спроси.
— Есть тут сотские? — крикнул Михаил. — Выходите все на свет Божий.
И вскоре двадцать сотских собрались близ Шеина. Он вначале руку поднял, сказал громко:
— Слушайте, ратники! Нет нам воли царской идти в Москву. Там смертный голод второй год гуляет. И некому идти на смену вам. Потому стоять нам здесь, рубежи защищая.
— Кто же там наши семьи кормит?
— Царь печётся, как может. Сами перебиваются посильно. А вы сейчас там не кормильцы, обуза только. Чем вы тут занимаетесь?
— Штаны протираем, воевода, — ответил за всех воин Кузьма.
— А вот это плохо. Если вчера ордынцы не нагрянули, то не сегодня-завтра обязательно прихлынут. А хороша ли ваша крепость, выстоит ли против врага?
Сотские дружно молчали. Вид у них был удручённый. И вновь Михаил подумал о князе Черкасском: «Ишь ты, подобрал каких, словно бессловесная скотина стоят». Он пришёл к мысли, что настал миг все дела в Мценске брать в свои руки, и сказал:
— Ну вот что, други. Вы служите не князю Черкасскому, а Руси, и потому отныне будем жить по-иному. Главная наша забота в том, чтобы ордынцы не застали нас врасплох. Будем укреплять крепость. Думаю, что в городе есть старожилы, которые помнят, каким был Мценск при воеводе Адашеве.
Михаил не ошибся. Среди горожан были ещё престарелые сподвижники воеводы Адашева, и многие из них, увидев, что в крепость прибыли новые ратники, вышли из домов, потянулись на площадь. Нашлись и такие, которые сочли нужным подойти к воеводе Шеину, молвить ему своё слово. Самым решительным оказался бывший лазутчик Адашева, старец Фадей. Подойдя к Шеину, он громко произнёс:
— Ты, воевода, послушай нас, старых жильцов. Мы эту крепость сорок лет назад от ногаев и крымчаков обороняли. И стоял с нами воеводой Данила Адашев, светлая память ему. Ежели бы не он, было бы здесь голое место. Вот ты и возьми его в пример, не как Мамстрюк, который о гульбе только думал. А мы тебе поможем, всё покажем, как сделать.
— Согрел ты меня словом, отец, — ответил Шеин. — Ещё что скажешь? Слышу, тебя Фадеем зовут и ты лазутчиком был.
— То быльём поросло. Я о другом. Крепость обновлять нужно. Ты на Адашева похож, вот и возьмись за дело рьяно.
— Спасибо, Фадей. Так и будет.
Осмотр стен крепости и всего хозяйства полка привёл Михаила в уныние. Он не знал, за что взяться. Леностью страдали прежние воеводы, и князь Черкасский жил по их примеру.
Вскоре жизнь в Мценске потекла по новому руслу. У Михаила Шеина появился второй воевода — Борис Вельяминов, стольник из Михайлова. Он прибыл на пять дней позже Шеина и объяснил это тем, что гонец из Рязани заблудился.
— Ну, забудем об этом, — сказал Шеин. — Всё обошлось, а теперь давай к делу примеряться.
Присмотревшись к Вельяминову, Шеин понял, что в нём нет военной жилки, но есть мирская обстоятельность, и потому решил поручить ему все хозяйственные дела в полку. Михаил так и сказал:
— В полку всё безобразно запущено. Впереди зима, а дров нет, постой у ратников плохой. Всё надо довести до ума. Дел невпроворот. Ты уж возьмись, Михайлыч, за эту нелёгкую справу.
Похожий на сельского старосту Вельяминов принял сказанное Шеиным с пониманием и без каких-либо обид взялся вести хозяйство полка. И в этот второй для Руси голодный год на его плечи легла нелёгкая ноша. Но расторопности у него хватило. Уже через день он отправил три десятка пароконных повозок закупать в сёлах под Орлом пшеницу и другое зерно. Южнее Мценска, где начинались чернозёмы, было много хлебопашцев, у которых скапливались излишки зерна, и они охотно продавали его.
Много неотложных дел оказалось и у Михаила Шеина. Осмотрев крепость, он понял, что после Даниила Адашева, почти сорок лет, её стены не ремонтировали, не обновляли, и она была непригодна для обороны. «Козырьки» времён Адашева, которые так мешали врагам, когда они шли на приступ, сохранились лишь с северной стороны. Шеин понял их значение и решил восстановить. Были разобраны на топливо все деревянные туры, за которыми прятались пушкари: их тоже надо было делать заново. Во многих местах нужно было восстанавливать стены или ставить за ними срубы и заполнять их землёй. Плохим оказалось и боевое обеспечение. На двадцать четыре пушки оставалось семьдесят два ядра — по три на пушку. Таким «припасом» можно было только разъярить врага. Правда, был большой запас пороховых зарядов. Их привезли ещё летом. Это порадовало Шеина. Поразмыслив, он счёл за лучшее заготовить мелкие речные камни. Эту заботу он поручил своему стременному Анисиму, отдав в его распоряжение всех пушкарей.
— Но помни, что пушкари народ строптивый, ты им всё толком объясни. Им стрелять ядрами Анисима, — заметил ненароком Михаил.
Анисим смекнул, что заготовить камни — дело непростое: вдруг их в округе нет, вдруг снег выпадет, укроет берега у речек, а потом и речки льдом закуёт. «Спешить, ой как спешить надо», — подумал он и отправился на постой к пушкарям. Рассказал им всё без утайки. Пушкарям их «поводырь» пришёлся по нраву. Но в душе они решили, что давно не занимались скоморошьими делами — вот и приспело время. И пошли они следом за «поводырём» «ловить» камешки по речкам Снежеть и Зуша. Однако собирали они камни старательно, и дело у них спорилось. Они уже прикидывали, на сколько зарядов набрали ядрышек, и пришли к выводу, что с таким запасом можно попугать ордынцев.
Как-то пушкари и Анисим сидели у костра близ речки Зуша, отогревали руки, застывшие в ледяной воде при сборе камней, и Анисим рассказывал пушкарям притчу о том, как трёхлетнюю Марию, будущую Богородицу, отдавали в храм на служение Богу. На дороге, петляющей берегом Зуши, появился странник верхом на пегой лошадёнке. За седлом у него висели с одной стороны лубяной короб, с другой — большая сума. Он подъехал к костру, остановился.
— Честной народ, здравствуйте. Если бы кто спросил меня, как проводила время, будучи отроковицей, Пресвятая Дева Мария, я ответил бы: то известно самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю её.
— Разве ты слышал, о чём мы вели речь? — подбежав к путнику, спросил стременной.
— Твои словеса, Анисим, гуляют по воле. Как не услышать их от небесных птиц? — улыбнулся в рыжую бороду путник. Его зелёные глаза смеялись.
Анисим стоял, открыв от удивления рот, но ответил достойно:
— В Святцы заглядывал, кто я есть такой! Но и я про тебя кое-что ведаю. Коробейник ты, лаптями да онучами торгуешь.
Сильвестр, торговец от Бога драгоценным узорочьем, не стал разубеждать Анисима. Они и без того поняли друг друга: два сапога — пара.
— Верно, брат Анисим, лаптями и онучами торгую. А еду я к воеводе Шеину, который три дня назад в Мценск прибыл.
— Всё так, огнищанин[20]. Ну, иди к костру, погрей руки.
— В другой раз, пономарь, — ответил Сильвестр и поехал дальше.
Спустя совсем немного времени Михаил Шеин обнимал Сильвестра, который нашёл его в воеводском доме.
— Как я рад видеть тебя, красное солнышко, отец мой посажёный! Не из Москвы ли?
— Нет, батюшка-воевода. Из стольного града нам уйти пришлось. Государь Борис счёл, что мы во всём виноваты: дескать, колдовством да ведовством накликали беды и голод на Русь.
— Слышал я, что и себя он казнит за грехи перед Богом и державой за убиение отрока Димитрия.
— Спросил бы нас, мы бы ему сказали, что Димитрий жив и скоро попытается дать о себе знать народу. Он уже не отрок, а муж.
— С тобой не спорю, святой человек. Но что же Димитрий не молвил о себе ни слова до сих пор?
— Трудно ему, он в хищные руки попал. Вот и весь сказ, боярин.
Михаил распорядился, чтобы подали на стол медовуху и закуски. Спросил Сильвестра:
— Ведомо ли тебе о моих?
— Всё ведомо. Ведь мы с Катей поселились во Владимире, вовсе близко от Суздаля. Всё у тебя путём. И ты знаешь это. Одного не знаешь: что Катюшка твоя — яблоко наливное синеглазое.
— Спасибо за добрую весть. Как я хочу увидеть родимых! В Мценск-то что тебя привело?
— А вот это другой разговор.
— Садись же к столу. Пригубим за встречу, и поведаешь.
Они выпили медовухи, закусили говядиной, капустой квашеной. Потом Сильвестр повёл речь:
— Довелось мне в августе побывать в Крыму с купцами греческими. Мы на судах приплыли в Гезлев на торжище и услышали о том, что крымчаки собираются ранней весной идти большой ратью на Русь и на Польшу.
— Так сразу на нас и на Польшу?
— Так, Борисыч, так. Одним крылом Польшу накроют, другим — наши земли. А ещё я заглянул однажды с греком в их чайхану и услышал разговор о том, что некий князь Шалиман грозится отсечь голову самому батыру Шее. Не о тебе ли это, Борисыч?
— Встречался я с Шалиманом, пленил его. Потом отпустил под честное слово не приходить больше на Русь… Не умеют они держать своих слов.
— Испокон веку это ведомо. Видится мне, что тот князёк Шалиман придёт под Мценск. Чутьё, рождённое жаждой мести, приведёт его сюда. Да зрю по тебе, что ты перед ним выстоишь, — улыбнулся Сильвестр.
— Постараюсь, если не помешают.
Сильвестр провёл в Мценске три дня, один из них — день Введения во храм Пресвятой Богородицы — торговал на местном базаре узорочьем. Покидая Мценск, он попросил Шеина:
— Ты, Борисыч, укрепляй крепость. Обошёл я её, посмотрел. Много слабых мест. Ставь там срубы, как начал. И ядра Анисима готовь впрок. Славное дело вы придумали.
— Буду исполнять твоё пожелание. А ты в Суздале побывай, передай моим, что жив и здоров.
— Побываю, друг. Мне идти всё прямо, прямо — на Тулу, на Рязань, на Владимир, а там и Суздаль рядом.
На том и расстались два побратима, чтобы в нужный час встретиться вновь.
Наступила зима. Озимые хлеба ни дождями не вымочило, ни морозом не сожгло. Их вовремя укрыло снегом. Радовались хлебопашцы: быть урожаю. Но не сильно ликовали: навалятся крымчаки — всё потопчут, потравят конями. Зимние холода не принесли в Мценск покоя, тишины. Ратники трудились день за днём. Воеводы как могли поддерживали дух воинов. Когда валили лес на ремонт крепостных стен, на новые туры, Михаил сам часто выезжал на рубку, брал топор и охотно подыскивал деревья, обрубал сучья.
Крепость постепенно обновлялась. Были восстановлены на стенах «козырьки Адашева» — так называли теперь карнизы, устроенные сорок с лишним лет назад.
В конце марта неведомо какими путями дошла до Мценска весть о том, что крымская орда выкатилась за Перекоп и вступила в приднепровские степи. Что ж, там весна уже торжествовала и появился подножный корм. Так и пойдёт орда на север, вслед за наступающей весной. И прикидывали мценские воеводы, что крымчаки подойдут под Орел и под Мценск примерно в середине апреля, если они нацелились на юго-западные земли Руси.
Из Тулы в эту пору обычно приходили обозы с пороховыми зарядами, развозили их по большим и малым крепостям. Не подвели туляки и на этот раз. Обоз прибыл в первых числах апреля. Михаил сам принял всё по счету. В тот же день он велел Анисиму собрать всех пушкарей, выкатить за город две пушки, найти овраг и там показать всем пушкарям, как заряжать новые «ядра», как они поражают «врага». И, хотя мценские пушкари были умелыми мастерами стрельбы, на этот раз Шеин поставил над ними Анисима. По его слову заряжались пушки, развешивались холсты.
Пушки установили в пятидесяти саженях от холстов. Орудия были мощнее тех, какими Михаил и Анисим стреляли в Пронске. Холсты разделили так, чтобы у каждой пушки была своя цель. Выстрелили сперва из правой пушки, и холст был изрешечен и смят. Но со второй пушкой случился казус. Пушкарь Никифор навёл её чуть выше цели, и низ холста и обе его стороны не были поражены ни одним ядрышком.
— Что же это ты, Никифор? — упрекнул пушкаря Анисим.
— Так ведь «горохом» стрелял, думал лету ему прибавить, — а выстрелил по воробьям, — рассердился скорее на себя Никифор. — Дайте мне ещё ядро! Я покажу тому холсту!
— Дай ему, Анисим, второй заряд, — велел Михаил.
Ловко зарядив пушку, Никифор сам навёл её, сам подставил фитиль. Бабахнула пушка, и на холсте в семь с половиной сажен длиной не осталось живого места.
Пушкари дивились стрельбе новыми «ядрами» и радовались: с такими «снарядами» ни конный, ни пеший враг не страшен, особенно если две-три пушки будут стоять рядом.
Наконец пришла весна и на мценские луга и поля. Чуть продуло ветерком землю, и пахари вывели лошадей на пашню. У ратников были в обиходе государевы земли. С них они и кормились. Сеяли яровые: рожь, горох с викой, овёс, ячмень. И спешили, на ночь не возвращались с полей, там и ночевали табором, при оружии. Воевода Борис Вельяминов в эти дни не отходил от пахарей. С наступлением весны Михаил Шеин выслал на юг и на юго-запад конные дозоры, чтобы ордынцы не застали защитников крепости врасплох. Правда, и западная сторона могла принести угрозу Мценску. Знал Шеин, что поляки коварны: договорятся с ордынцами да враз и нападут на Русь. Ухо приходилось держать востро.
Дозоры уходили под самый Орел, а на запад — до Брянска. И первыми в Мценск вернулись гонцы от западного дозора. В день Великой пятницы, что пришёлся на одиннадцатое апреля, стотысячная орда достигла Брянска, но перед ним разделилась на две части: одна, большая часть пошла на Польшу, другая, всего около десяти тысяч, свернула на Карачев, двинулась мимо Орла на Мценск. Оставалось только гадать, какой из этих городов ордынцы будут брать приступом или осаждать. Когда дозоры Шеина донесли ему о движении врага, он велел воеводе Вельяминову прекратить все полевые работы за крепостью. Начались последние приготовления к встрече врага.
Враг появился неожиданно. С утра в Мценске жизнь шла заведённой чередой. Было четырнадцатое апреля, понедельник Светлой седмицы, в храме чуть свет началась служба и длилась целый день. Кому нужно было, сходили на торг. Завечерело, и тут в крепость примчались дозорные.
— Орда! Идёт орда! — кричали они.
Эти крики сразу всполошили весь город. Воины, похватав оружие, бежали на площадь. Их подгоняли сотские:
— Всем на стены! Ружья заряжай!
— Пушки к бою! — надрывались старшие нарядов.
Гонец, что прискакал первым, нашёл Шеина, доложил:
— Батюшка-воевода, ордынцы идут от Польши.
Михаил поспешил к западным воротам. Не успел он подняться на помост, как оттуда кто-то закричал:
— Ордынцы близко у стен! Они поджигают их!
Ничего подобного Михаил не знал, не слышал, чтобы ордынцы нападали так отважно. Он распорядился уничтожать их из ружей. Но стрельцы не могли поднять головы из-за зубцов стен, потому как над ними роем летели стрелы. Шеин понял, что, если стены загорятся, беда будет неминуемой. Он побежал к воротам, чтобы собрать там воинов и сделать вылазку. Однако он совершенно забыл, что в случае обороны всё было продумано заранее. И первыми дали бой ордынцам пушкари. Разом ударили по врагам со стены двадцать пушек, что стояли на западной стороне. После первого залпа в стане врага, откуда летели тысячи стрел, и многие с огненными хвостами, началась паника. Сразу были убиты сотни коней и всадников. Крымчаки не могли понять, какая сила валит их на землю, ломает руки, ноги, пробивает грудь. Пушкари продолжали наводить ужас. Наряды двух пушек, которые стояли в угловой башне, успели сделать несколько выстрелов вдоль стен. Многие конные ордынцы с факелами были убиты. Других добили стрельцы, над которыми уже не летели рои стрел.
Стемнело. Ордынцы как нахлынули неожиданно к стенам, так и отхлынули от них. Шеин поднялся на стену и велел двум пушкам выстрелить вслед отступающим ордынцам. Через миг до крепости долетели дикие вопли: ядрышки нашли-таки свою цель.
В это время кто-то из воинов на стене закричал:
— Горит! Горит стена! Воду давайте!
С десяток воинов кинулись к ближнему колодцу, и пошли, пошли по руками бадьи с водой на стену. Вскоре опасность миновала, огонь был потушен.
В стане защитников крепости появились первые раненые. Один из ратников был убит: стрела попала в шею.
Наступила ночь, но никто из воинов не покинул стены, не ушёл от пушек. Шеин и Вельяминов собрали тысяцких и сотских и наказали им быть начеку.
— Помните, что на рассвете ордынцы вновь прихлынут к стенам и, может быть, придумают какую-нибудь новую лисью уловку. И припасите воды. Раз они пытались поджечь стены, то не отступятся, — заметил Шеин.
К Михаилу подошёл сотский Никанор.
— Воевода, выпусти меня и моих шестерых охотников посмотреть, как дичь расположилась на ночь.
— Это очень важно? — спросил Михаил Никанора.
— Да, воевода. Нам нужно языка привести.
— Но ведь опасно!
— Опасно. Оно и в крепости бывает опасно…
Никанор нравился Михаилу своим спокойствием, обстоятельностью и бесстрашием. Воевода понял, что без таких отважных воинов войску нельзя быть. Их надо искать, должно давать им волю действовать на свой страх и риск, как они разумеют. И, выслушав все доводы Никанора о том, что ему нужно идти на поиск, Михаил отпустил его.
— Только береги, Никанор, своих воинов. И сам на рожон не лезь.
— Это уж как получится, — ответил сотский. — Так я пошёл.
Никанор и его шестеро «охотников» давно уже знали вокруг крепости каждый овражек, лощинку, кусты и всё, где можно было укрыться от врага. Знали они и о том, что обойти стан противника вблизи невозможно. Лишь на южной стороне от Мценска, за рекой Снежеть примыкал к крепости лес. На его опушку и пробрался Никанор с воинами, когда покинул крепость через южные ворота. Сюда ордынцы почему-то не осмелились идти. Этим и воспользовался Никанор. От опушки леса до вражеского стана было рукой подать. Тут и затаились «охотники». Неподалёку от них паслись кони. Где-то в глубине табуна горел маленький костерок. Виднелись тени воинов. Пролежав до полуночи в зарослях кустов, Никанор взял двух ратников — Петра и Прохора, и они, где согнувшись до земли, где ползком, на четвереньках, а то и по-пластунски, принялись обследовать конский табун. Вдруг они увидели, как серый жеребец гоняется за кобылой. Она отбилась от табуна, помчалась на пустой луг. Жеребец не отставал от неё. А вскоре появился всадник. Он был один и скакал на луг затем, чтобы вернуть в табун кобылицу и жеребца.
— За мной! — тихо приказал товарищам Никанор.
Они короткими перебежками, падая и вновь вставая, побежали наперерез всаднику. Вот он догнал жеребца и кобылу, завернул их в табун. Они покорно шли впереди него, и как только миновали Никанора, он вскочил и в два прыжка оказался рядом с всадником. Тот и опомниться не успел, как очутился на земле. Подбежавший Пётр всунул в рот ордынцу кляп. Подскочил и Прохор. Они подхватили «языка» за руки и за ноги и побежали к лесу.
В лесу лазутчики срезали охотничьими ножами берёзовую жердь, привязали к ней пленника и вчетвером, по двое с каждого конца, понесли его через лес к южным воротам. Рассвет только занимался, когда Никанор привёл свою «дружину» в крепость. Ордынца «распеленали» и повели к Шеину.
По пути Никанор заговорил с пленником по-татарски. Сотский убеждал его сказать про орду всю правду, тогда он будет избавлен от пыток, ему сохранят жизнь и отправят в Москву.
«Язык» в ответ не проронил ни слова. Ему было лет тридцать пять, он был сухощавый, низкорослый, с редкой бородёнкой. Он лишь сверкал на «урусов» чёрными злыми глазами. Его привели под навес воеводского дома. Когда рассвело, Никанор велел на глазах у пленника готовить орудия пыток.
Был разведён костёр, в него положили калиться железный прут. Нашёлся обруч, которым сжимают голову. Рядом с костром поместили железные клещи и, наконец, плеть с крючьями. Все эти приготовления Никанор сопровождал пояснениями на татарском языке. С каждой минутой пленник бледнел всё больше. Куда делась коричневая окраска его лица! Оно было похоже на кусок грубого отбелённого холста. Страх пытки победил в «языке» преданность князю Шалиману, ко всему тому, что связывало его с ордой, с сородичами. Он заверил Никанора, что расскажет обо всём, о чём знает. Но вопросов у Никанора к нему было очень мало. Он спросил пленника о том, сколько воинов в орде, кто привёл её к Мценску, есть ли у ордынцев пушки, ружья.
Пришёл Михаил Шеин. Никанор слово в слово передал ему то, что сказал ему Риза — так звали ордынца. Переведённое Никанором не пришлось Шеину по душе. К Мценску приведена тьма воинов — десять тысяч, и над ними стоит князь Шалиман-Гирей — так именовал Риза Шалимана. «Растёт батыр, — подумал Михаил. — Но почему он так забывчив? Взяв в плен, мы же не отправили его в рабство, отпустили». Шеину было над чем поразмышлять, однако времени у него на это не оказалось.
Едва поднялось солнце, как на виду у крепости появился небольшой отряд ордынцев. Они приближались, и один из воинов держал белое полотнище. Рядом с этим воином ехал князь Шалиман. Когда Шеин поднялся на стену, Шалиман закричал ему:
— Слушай, русский воевода, что тебе скажет крымский князь! Я пришёл побить тебя за то, что ты в прошлом году оскорбил меня. Но я милосерден. Открой ворота крепости, сдавайся в плен. Я сохраню тебе и твоим воинам жизнь! Даю тебе на размышления сутки.
— Князь Шалиман, ты наглый шакал. Ты забыл, что я даровал тебе жизнь и свободу. Теперь говорю: убирайся немедленно с русской земли или я убью тебя. Достаточно того, чтобы ты понял нашу силу со вчерашнего урона. Сколько потерял ты воинов?
— Ты услышишь моё слово завтра!
Шалиман развернул коня и поскакал прочь. Воины помчались за ним.
У Шеина чесались руки, послать вслед ордынскому князьку «ядро Анисима», но он сдержался. «Ладно, ты испытаешь это завтра в полной мере», — подумал Михаил.
День прошёл без потрясений, но в неустанных заботах о том, чтобы не попасть впросак завтра, когда ордынцы полезут на стены. Вечером Шеин решил, что надо послать в Калугу гонцов, уведомить большого воеводу о появлении орды и отправить туда пленного крымчака. Никанор отрядил в гонцы Петра и Прохора.
— Они смогут довести ордынца до воеводы, — сказал Никанор и с сожалением добавил: — Жаль, что пешком им придётся идти.
— Зачем пешком? — И Шеин спросил Вельяминова: — Михайлыч, можно в Большой Каменке достать пару лошадей с повозкой?
— Конечно, можно. Там же наши дозорные стоят. У них позволительно взять две или три верховые лошади, — ответил Вельяминов.
Гонцов выпустили во второй половине ночи через северные ворота. Их не открывали. Внизу под ними был проделан лаз, заваленный травой. Михаил и Никанор долго стояли на стене — слушали ночные звуки. Наконец дождались: где-то, уже далеко дважды ухнул «филин».
— Слава Богу, миновали ордынцев, — сказал Никанор и добавил: — Нам бы соснуть надо малость. День будет жарким.
Так уж случилось, что сотский Никанор был ближе к Михаилу Шеину, чем два тысяцких. С Москвы они прикипели друг к другу сердцами. Смекалистый умом Никанор стал для Михаила хорошей опорой во всех его делах. Он часто советовался с сотским о важном, и никогда ещё не было, чтобы Никанор дал ложный совет. Вот и сейчас сказанное Никанором, мало что значащее в повседневной жизни, было очень важным. Михаил провёл на ногах две ночи и день от зари до зари. Казалось, он упадёт от усталости. А близко рассвет, близко жестокий бой, и надо набраться сил, чтобы выстоять.
— И впрямь день будет жарким. Идём ко мне, прикорнём рядом, сподручнее будет.
Шеин с Никанором ушли в дом воеводы.
В стане ордынцев к вечеру минувшего дня случился малый переполох. Было обнаружено, что пропал коновод Риза. На опушке леса ордынцы нашли свежие следы урусов, срезанную ножом молодую берёзку и поняли, что Ризу похитили. Кто украл, гадать не приходилось. Князь Шалиман пришёл в ярость. Но виновных в исчезновении коновода не было, он сам попался на аркан, и потому, побушевав, Шалиман собрал мурз и сказал им с бранью:
— Ленивые курдюки, до рассвета вам быть завтра под стенами крепости. И сами поведёте нукеров[21] на приступ. Да помните, чтобы к полудню воевода Шеин и коновод Риза были у моих ног.
И в стане ордынцев всё пришло в движение. Воля князя для них была превыше всего. Чтобы исполнить её, воины не думали о своей жизни, не берегли её. И сотни их пошли в лес, в темноте рубили тонкие ели и сосны, вязали из них лестницы, тащили к крепости. И действительно, ещё не заалел восток, а не меньше сотни лестниц было уже под стенами Мценска. Их приволокли лежа. Каждую лестницу брали с двух сторон десятки воинов и на животах, извиваясь ужами, ползли вперёд, тянули тяжесть.
Также с западной стороны подползли к крепости тысячи воинов, которым с рассветом предстояло идти на приступ. Сила собиралась немалая: на каждого россиянина по пять-шесть крымчаков.
Вся эта подготовка орды к приступу не осталась незамеченной в русском стане. Чуткие дозорные на стенах услышали многие шумы. До них долетели и удары секир, и треск падающих деревьев, и злые крики мурз, подгоняющих воинов. К воеводе Шеину прибежал воевода Вельяминов и, хотя он знал, что Шеин только что забылся сном, разбудил его.
— Борисович, проснись, дорогой, орда прихлынула под стены.
Михаил поднялся тотчас. Сна как не бывало.
— Знал же ведь, знал, что так будет, — произнёс он. Спал Михаил по-походному, одеваться не было нужды. Встал, надел под кафтан кольчугу, препоясался мечом — готов в сечу. Метнулся в соседний покой, разбудил Никанора, Анисима.
— Пришёл наш час, други, всем на стены.
В пути Михаил распорядился перетянуть половину пушек с северной стороны на западную.
— Ошеломить надо ордынцев первыми же залпами, — пояснил он своё решение.
Воины исполняли своё дело слаженно и чётко. К двадцати пушкам прибавилось ещё десять. Их втащили на стену и поставили под козырьком у бойниц. С такой позиции враг был как на ладони. У каждой пушки по пятнадцать зарядов пороха и столько же «ядер» ближнего боя, увязанных в холстинках. Заняли свои позиции двести стрельцов с ружьями. Лучники, кроме стрел, приготовили жерди — сбивать с козырьков врага, если ему удастся добраться до верха. Не пугало защитников, что их в пять раз меньше, чем врагов.
В какой-то миг, когда уже заалело на востоке, в том и другом стане наступила тишина, и в этой тишине празднично, весело запели в зарослях ивняка на речке Снежеть соловьи. И все вспомнили, что в природе сейчас самый разгар весны. Многим воинам стало грустно. Никому из них не хотелось умирать в тот час, когда вокруг торжествовала весенняя жажда жизни.
Но миг умиротворённой тишины был коротким. С криком: «Аллах с нами! Аллах с нами!» — вздыбилось степное пространство перед западной стеной крепости, поднялись тысячи ордынцев и бросились бежать к ней, успевая на ходу пускать стрелы. И вот уже сотни воинов подхватили штурмовые лестницы. Неистовые ордынцы вот-вот прихлынут к стенам.
Однако яростный натиск ордынцев был недолгим. Враз ударили тридцать пушек, прозвучали выстрелы двухсот ружей. Казалось, тысячи врагов были повержены на землю. Но те, кто оставался в живых, продолжали бежать. Их не остановили ни второй, ни третий залпы. Их не страшили пули, летящие стрелы. И, хотя в рядах ордынцев был виден ощутимый урон, многие сотни их добежали до стен крепости, вскинули лестницы и пошли на приступ. Вот уже последние перекладины лестниц — выхватывай саблю, лезь на стену. И тут их ждала новая неожиданность. Едва первые ордынцы появились над козырьком, как длинные жерди с рогатинами единым махом оттолкнули от него лестницы, и они вместе с ордынцами начали падать и падать в ров, словно подрубленные. Ни одна лестница не выстояла, воины летели вниз, ломая ноги и руки, разбивая головы, хороня под своими телами тех, кто упал раньше.
А пушкари и стрельцы продолжали расстреливать в упор тех, кто ещё пытался добежать до крепостных стен.
Князь Шалиман, наблюдая с коня за ходом битвы, стонал от ярости и злобы. Он кричал: «Шакалы! Вперёд! Вперёд!» — но его крики тонули в звуках выстрелов пушек и ружей, в стонах раненых, уползающих с поля боя. После второй попытки подняться на стены, такой же безуспешной, как и первая, потеряв больше половины воинов, крымская орда в панике пустилась в бегство. Князь Шалиман с полусотней нукеров помчался навстречу отступающим. Он и его подручные били убегающих воинов плетьми, но остановить их не удавалось.
Солнце лишь только поднялось над крепостью, а битва уже была проиграна. И вновь наступил миг тишины, и в зарослях у Снежети снова, правда, вначале как-то робко, запели соловьи. И в этой тишине, под соловьиное пение прозвучали приятные слуху Михаила Шеина слова сотского Никанора:
— А знаешь, батюшка-воевода, второго приступа не будет. Шалиман до Крыма не опомнится. Уж поверь мне. И Никанор засмеялся от удовольствия.
Глава одиннадцатая И ПРИШЛА СМУТА
В жаркие дни благодатного лета 1604 года Михаил Шеин сдавал свои дела воеводе Борису Вельяминову и собирался в Москву, куда его отзывали по воле Разрядного приказа. По весне Никанор оказался прав. Потеряв половину орды в первом приступе, князь Шалиман больше не полез на рожон. Он в тот же день ушёл на запад, к Брянску, где, как он предполагал, находилась большая орда. Михаил Шеин был доволен таким поворотом дела и вновь занялся с полком мирным обустройством жизни. Но в июне из Разрядного приказа примчался гонец и привёз грамоту с повелением явиться в стольный град.
Михаил не лукавил ни перед товарищами, ни перед собой в том, что был рад этому повелению. Тянуло его с неодолимой силой увидеть родных, близких, а прежде всего желанную Марию и доченьку Катю. Михаил верил, что они вернулись в Москву после двух голодных лет и он найдёт их на Рождественке. Но, маня к себе одним, Москва отталкивала его другим. Дошли и до Мценска слухи о том, что якобы царевич Димитрий жив и уже заявляет о своих домоганиях царского престола. Слухи эти обрастали былями и небылицами, легендами. А Шеин сделал вывод из того, что услышал от разных людей: наступает время междоусобицы и смуты. Конечно же, Борис Фёдорович не уступит так просто престол вдруг объявившемуся царевичу. Опять-таки он не оставит в покое всех тех, кто вёл следствие в Угличе, и строго спросит, почему это убиенный царевич Димитрий вдруг воскрес. И все, кто вёл следствие, могут попасть в опалу от царя Бориса Годунова, которая завершится неведомо чем.
Но горькие размышления не избавили Михаила от выполнения воинского долга. Воевода обязан служить там, где считает необходимым власть, стоящая над ним. И, попрощавшись с ратниками и со всеми, кто был близок ему в полку, он стал собираться в путь. Никанору он дал наказ найти его, как только тот будет в Москве.
— А дом мой на Рождественке, за речкой Неглинкой. Шеиных там все знают.
— Спасибо, Борисыч, за ласку. Буду в Москве, найду. Привезу привет от побратимов, — пообещал Никанор.
Сопровождали Михаила вот уже третий год неразлучный с ним стременной Анисим и десять ратников во главе с бывалым Петром. Рядом с десятским оказался и его друг Прохор.
До Москвы Михаил Шеин и его спутники добирались без особых помех. Ехали мимо полей, на которых поднимался добрый урожай, через деревни, оживающие после голодных лет. И было у Михаила на душе отрадно оттого, что Русь в какой раз выстояла на грани гибели, но никто из путников не знал, что отступивший от россиян голод не последнее их бедствие, и то, что накатывалось на них, грозило более жестокими потрясениями.
А пока Михаил Шеин въезжал через Калужскую заставу в Москву мирную, суетливую и деловитую. И надо же быть такому: на самой заставе, у ворот воеводу встречал брат князя Василия Шуйского Димитрий. С удалым, бравым князем Димитрием Михаил был знаком давно и даже учился у него на Москва-реке кулачному бою. Димитрий был старше Михаила на несколько лет и потому держался всегда с неким превосходством. Да ведь и князь роду древнего — от самих князей Невских. Шеин всё это помнил и относился к Димитрию с почтительностью. Но какие-то лазутчики донесли до Шуйских вести о том, что в Мценске, сражаясь против крымской орды, Шеин проявил чудеса героизма, и отношение Димитрия Шуйского к нему изменилось. Он встретил Михаила более чем дружелюбно, прямо-таки по-родственному, и сказал, как брату:
— А я тебя какой час жду. — Он обнял Михаила и похлопал его по спине. — Здравствуй, герой Мценска. Велено мне моим старшим братцем Василием Ивановичем просить тебя пожаловать в наши палаты хотя бы на чару медовухи. А причина тому — государево дело.
Михаил выслушал Димитрия со вниманием, но не проявил никакой охоты тотчас ехать на подворье Шуйских в Китай-город. Он всем своим существом рвался на Рождественку, к родным, к Марии и Кате. Но два слова — «государево дело» — для воеводы, с честью исполняющего свой долг, оказались превыше всего, и он согласился:
— Веди, князь Димитрий, на своё подворье. Да по пути расскажи о кулачных боях. Гудят ли они на Москва-реке?
— Какие там кулачные бои, воевода славный! В домашних драках мы увязли, как дворовые петухи. Видел бы ты, как Богдану Бельскому на Болотной площади бороду велением царя-батюшки вырывал шотландец Габриэль, то-то бы диву дался. Да видеть это надо, чтобы удивиться. Борода-то у него пышная, смоляная, царская. Как расчесали её, так капитан мушкетёров Габриэль стал по одному волоску драть её. Он накручивал их на пальцы в кожаных перчатках и с силой, словно махал саблей, драл и драл бороду. Бельский же истошно кричал и плакал. А ты, брат мой, говоришь о кулачных боях. Забыли москвитяне о них.
— Да в чём же вина Бельского, что так казнили его?
— Так он государем захотел быть, — улыбаясь, ответил Димитрий. — И схватили-то его, говорят, когда он корону примерял.
Рассказывая о мрачных буднях Москвы, князь Димитрий всё время улыбался, словно добивался ответных улыбок от Шеина.
Михаил, однако, удерживал свои чувства. Он думал о том, что ждёт его в палатах Шуйских. Ещё хотелось ему послать Анисима на Рождественку, предупредить домашних, что он в Москве. Но Анисим не знал, где находятся палаты Шеиных, и Михаил оставил эту мысль.
Но вот и Ильинка в Китай-городе, палаты Шуйских каменные, всё подворье за высоким забором. Прямо-таки крепость. Окинув глазами двор, Михаил увидел на крыльце старшего брата, князя Василия Шуйского. Он показался Михаилу усохшим, ниже ростом, борода уже вся поседевшая. Когда же Михаил спешился и, подойдя к князю с лёгким поклоном, сказал: «Здравия тебе, князь-батюшка», — то узрел всю силу старшего Шуйского в его взгляде. Это был настолько острый взгляд, что заставлял остановиться самого смелого человека.
— Здравствуй, боярин Шеин. Прости, что отдаляю твою встречу с близкими.
— Не винись, князь-батюшка, к ночи доберусь и домой, — с улыбкой ответил Михаил.
Василий Шуйский велел брату Димитрию отвести воинов Шеина в людскую.
— Напоить и накормить их вволю.
Он повёл Михаила в палаты.
Просторно и богато жили четверо братьев Шуйских. После пожара 1547 года, когда Китай-город почти весь выгорел, князья Шуйские построили большой каменный дом и жили в нём всегда вместе. Шуйских неизменно считали дружными братьями. Димитрий, Александр, Иван чтили старшего брата Василия как отца, и только благодаря ему дом держался одной семьёй. Василий знал, что в этом их сила.
В трапезной, куда Василий привёл Михаила, сидели младшие братья Александр и Иван, оба, в отличие от старшего брата, статные, добрые молодцы. Василий сказал им два слова: «Идите погуляйте», — они ушли. Шеина он провёл к столу с питьём и закусками, усадил, налил кубки медовухи, сел напротив.
— Ещё раз винюсь, что прервал твой путь к дому. Да мой Митя поведал тебе, что у меня государево дело. Ну давай пригубим за встречу, а после поговорим.
Шеин уже чувствовал, что проголодался, — день-то клонился к вечеру — потому, выпив медовуху, без стеснения принялся закусывать. Князь пригубил хмельного малую толику, поставил кубок, руки положил на стол, глаза нацелил на Михаила и повёл речь:
— Завтра тебе быть в Разрядном приказе у Елизара Вылузгина.
— Да, велено явиться.
— Так вот слушай, Борисыч. Вылузгин сам по себе. Он даст тебе назначение, куда воеводой идти. А прежде тебя позовут к царю-батюшке. Там-то и ждёт тебя государево дело…
Князь замолчал, отщипнул хлеба, пожевал.
— Я слушаю, князь-батюшка. В чём суть государева дела? — напомнил Шеин.
— Суть его важная уже оттого, что мы с тобой сидим с глазу на глаз. В оное время, ещё до гибели царевича Димитрия, Борис Фёдорович искал ведунов-чародеев, которые сказали бы ему, наречено ли судьбой ему царствовать. И ведуны сказали, что да, судьба благоволит ему и он будет царствовать семь лет. Так семь-то лет истекают, и Борис Фёдорович беспокойство проявил. Говорят, что ищет тех ведунов, которые предрекли ему царствовать, и никак не найдёт.
— А я здесь при чём, князь-батюшка?
— То-то и оно, что при том. Ведомо боярину Семёну Никитичу Годунову, что ты с ними встречался в Покрове, в Суздале и в Москве. Сказывают, что лавку они держали на Пречистенке, а ты там бывал.
— Верно, бывал: матушке серёжки в подарок покупал.
— Так вот царь-батюшка тебя и вызывает для того, чтобы ты, удачливый человек, нашёл тех ведунов и к царю на поклон привёл.
— Но я не знаю, где они пребывают.
— Верно. А царь тебе не поверит. Он уверен в другом: где бы ты ни появился, ведуны встретятся тебе.
— Но так не бывает.
— И я думаю, что не бывает, потому и позвал тебя к себе. Как придёшь завтра во дворец к государю, пусти во спасение ложь малую. Во спасение государя, — значительно добавил Шуйский. — А ложь сия видится мне в том, чтобы вселить в государя надежду на долгое и безмятежное царствование.
— Князь-батюшка, но я непривычен лгать.
— Верю. Однако наступи себе на горло, солги. Скажи, что видел в Чистый четверг сон, будто бы Борис Фёдорович на свадьбе твоей дочери был посажёным отцом. Мог прийти к тебе такой сон?
— Мог. Но ведь должен быть резон, а я его не вижу.
— По той причине не видишь, что в Москве много лет не был.
— Почти четыре года.
— Вот-вот. А за эти четыре года государь аспидом стал. Второй же аспид — его дядя Семён. Они вкупе хуже батюшки Ивана Грозного лютуют. Потому будет лучше для Руси, ежели Борис Фёдорович процарствует, сколько Господь Бог отпустил и ведуны приговорили, — разгорячился князь Василий Шуйский и тем самым выплеснул сокровенное.
И понял Михаил всё сказанное Шуйским так, что не следует ему ни ведунов искать, ни ложь в оборот вводить, а постараться всё пустить на самотёк, как реки руслами текут. И если им суждено втечь в болото и сгинуть там, значит, судьбой так предопределено.
Посидели, помолчали двое воевод. Медовухи пригубили, Михаил ломтик копчёной севрюги съел. А затем Шеин всё-таки раскрыл свои мысли, потому как Шуйский ждал от него откровения.
— Я так понял, князь-батюшка, что лучше всего мне завтра ссылаться на волю Божью. Ведь только воля Господня властвует едино над всем, над государями и простыми смертными.
Василий Шуйский, к удивлению Михаила, повеселел.
— Я всегда считал тебя, Михайло Шеин, разумным человеком. И вот о чём прошу напоследок. Завтра, как будешь в Разрядном приказе, ненароком попросись ко мне в войско. Собираю я его на татя Ивашку Болотникова. Ты, поди, слышал, как он разгулялся и тоже в цари рвётся. Дам я тебе полк хоть левой, хоть правой руки.
— Спасибо за честь, князь-батюшка. А мне лестно будет повоевать под твоим началом.
— Вот и поговорили вдоволь. Теперь и к дому поторопись, — вставая, произнёс Шуйский.
— Да уж засиделся я у тебя, князь-батюшка. А душа-то домой рвётся.
Князь и воевода расстались. Шеин поспешил из палат. На крыльце его ждал младший брат Шуйских Иван. Он с улыбкой сказал:
— Подари мне своего стременного. Страсть, как люблю весёлых людей.
Шеин положил на плечо Ивана руку, мягко ответил:
— Невозможно сие, Ваня. Он мой побратим, а это больше, чем брат.
И Шеин заторопился к своему коню, которого держал Анисим. Воины уже были в сёдлах. Вид их говорил, что они и хмельного выпить успели, и закусили изрядно. Как выехали за ворота, Михаил сказал:
— Теперь давайте вскачь до дома. Авось наверстаем упущенное.
У Михаила было хорошее настроение. Понял он, что Шуйский затеял какую-то крупную игру и втягивал в неё его, Шеина. А он никогда не чурался игр, лишь бы они честно велись.
Вот и Рождественка, вот и дом, где родился и вырос Михаил. У ворот он спешился и, прежде чем Анисим успел подбежать к калитке, сам постучал в неё. Знал, что привратник всегда рядом. Ан нет, калитку открыла незнакомая женщина, спросила:
— Тебе кого, барин?
— Я приехал домой, голубушка. Я боярин Михаил Шеин, — сказал он и вступил во двор. — Открывай-ка шире ворота.
— Прости, батюшка-боярин. Я недавно служу у вас. Меня зовут Аграфена, и я в нянях у Катеньки.
— Прощаю, Аграфенушка. Где же моя доченька, где её матушка? — шагая к дому, спрашивал Михаил.
— Доченька в кустиках в ляльки играет, а матушка-боярыня кафтан тебе вышивает.
Михаил, подбегая к дому, увидел в зарослях жасмина «гнёздышко», в котором хозяйничала Катя. Он раздвинул кусты.
— Здравствуй, Катенька, — сказал он негромко.
Девочка посмотрела на него большими синими глазами.
— А ты кто?
— Я твой батюшка.
Увидев Аграфену, Катя бросила игрушки, побежала к ней.
— Нянюшка, я хочу к матушке.
Она уткнулась в подол юбки Аграфены. Та взяла Катю на руки и направилась в дом.
— Идём, батюшка-боярин, а то ведь проку не будет, — молвила она.
— Так откуда ему быть, коль незнакомы, — отозвался Михаил.
В доме было, как всегда летом, прохладнее, чем во дворе. В прихожей знакомые вещи, в трапезной — тоже. Со второго этажа спускалась боярыня Елизавета. Увидев её, Михаил подумал: «Господи, как она постарела!» Он поспешил ей навстречу.
И она увидела сына, остановилась на последней ступени лестницы.
— Наконец-то, сокол залётный, вспомнил о нас.
Михаил обнял мать, склонился к ней, поцеловал.
— А ты нисколько не постарела, матушка.
— Полно, полно. Годы никого не щадят. — Она тут же сказала няне: — Аграфена, позови Машу. А Катю дай мне. — Взяв её на руки, повернулась к сыну. — Внученька, это твой батюшка.
— Иди ко мне, чадушко моё. Я вернулся с войны.
Михаил протянул руки к дочери. Она умоляюще поглядела на бабушку, но всё-таки пошла на руки к отцу. А он, прижав Катю к груди, почувствовал, что у него от волнения разрывается сердце. Он молчал, гладил её густые волосы цвета спелой пшеницы и тихо шептал: «Господи, как ты мне желанна, доченька. Ты же вылитая мама».
И в это время в трапезную вбежала Мария. Сверкая белозубой улыбкой и синими глазами, она подлетела к Михаилу и обняла его вместе с Катей.
— Молитвы мои дошли до Господа Бога. Наконец-то ты вернулся, сокол мой ясный!
И Катя поверила, что она на руках у батюшки, запустила ручонки в его бороду. Ведь это про него ей каждый день повторяла матушка: «Вот батенька приедет!»
Радость в доме Шеиных царила в этот день до позднего вечера. Наконец все отправились на покой. Лишь у Михаила и Марии в эту ночь покоя не было. Однако к этой блаженной ночи прибавились и огорчения от того, что рассказала Мария о пребывании Шеиных в Суздале.
— У нас по осени побывал Сильвестр и привёз от тебя поклон. Мы были так рады тому, что ты жив и здоров. А тут вдруг уже перед самым отъездом в Москву пришёл к нам некий странник, черноликий, глазами плутоватый, и сказал, что ты погиб в схватке с ордынцами. А когда мы приехали в Москву, был человек от князя Черкасского и говорил он мне, что князь Димитрий просит моей руки, даже невзирая на то, что я вдова. Прогнала я того свата, да что толку. Дважды ещё давал о себе знать князь Черкасский. А ведь брата его царь вместе с Романовыми подверг опале…
Слушая рассказ Марии о московских событиях, Шеин испытывал в душе новое смятение. Пришла мысль о том, что Москва сейчас похожа на вулкан, который вот-вот начнёт извергать лаву и камни.
Утром на другой день Михаил не поспешил чуть свет в Разрядный приказ. Ему не хотелось туда идти. Он погулял с Катей, которая уже не дичилась его, побеседовал за трапезой с матушкой, сходил к воинам в людскую, узнал, как они себя чувствуют. Анисиму сказал, чтобы по всем житейским нуждам шёл к матушке Елизавете. Усмехнувшись, добавил:
— Она у нас в доме за воеводу.
Только к полудню Михаил пешком отправился в Кремль на встречу с дьяком Елизаром Вылузгиным. Тот за минувшие три с половиной года усох лишь самую малую толику и по-прежнему был деловит и подвижен. Михаилу он выговорил:
— Поздно пришёл. Ты ведь нужен в первую очередь не мне, а царю-батюшке. Теперь скачи в Коломенское.
— Так я без коня, батюшка-дьяк, — сказал Михаил, пряча ухмылку.
— Иди к дворецкому Степану Васильевичу. Даст из царской конюшни. Да вновь не задумай мешкать, — погрозил дьяк пальцем.
До Коломенского от Кремля семь вёрст. Надо спуститься на мост через Москва-реку за храмом Василия Блаженного, миновать Земляной город по Поварской улице. За рекой будут видны монастыри Симонов и Крутицы. А дальше всё вдоль берега Москва-реки по полевой дороге, которая приведёт прямо в село Коломенское. И не так уж много времени прошло, как Шеин очутился вблизи царского летнего дворца. Стражникам он сказал, что вызван царём, и они пропустили его в дворцовую усадьбу. А у дворца рынды остановили Шеина. Они узнали его и были ему рады, показали:
— Царь-батюшка на реке в беседке. Туда и иди.
До Москва-реки рукой подать. Скорым шагом Михаил дошёл до склона берега и увидел построенную на воде небольшую итальянскую деревянную беседку, которую называли ещё и ротондой. Широкие окна её были распахнуты, и у одного из них сидел Борис Годунов. Все во дворике уже знали, что в последнее время царь искал одиночества, и Михаил подумал, что лучшего места не найдёшь для одинокого общения с неторопливо текущей рекой. Течение завораживало, и грустные думы, казалось, уплывали с водой. Поодаль на берегу, так, чтобы видеть царя, прохаживались трое телохранителей. Михаил стал спускаться к ротонде, и к нему подошёл один из них, который тоже помнил Шеина:
— Боярин, ты зван к царю?
— Скажи государю, что Михаил Шеин приехал.
Молодой, статный воин легко сбежал к ротонде, передал то, что велел Шеин, и так же легко одолел подъём.
— Иди, Михаил Борисыч, царь ждёт тебя, — сказал воин.
Михаил шёл медленно. Он даже себе не хотел признаться, что волнуется. Но это было так. Уняв кое-как волнение, он вошёл в ротонду.
— Многие лета здравия тебе, царь-батюшка всея Руси.
— Спасибо, воевода. Я знаю, что ты всегда желаешь мне добра. Но скажи, как на исповеди: я плохой или хороший царь?
— Государь, я приучен говорить только правду. Русь благоденствовала, когда ты был правителем. Если бы не природное бедствие, принёсшее россиянам двухлетний голод, мы бы сегодня процветали благодаря тебе, государь.
— Ты, пожалуй, прав. Но зачем же тогда на мою погибель придумали Лжедимитрия?
— Государь-батюшка, ты знаешь причину этому лучше, чем я, воин, это живёт лишь слухами.
— С тобой приятно разговаривать, Шеин. Но скажи последнее: когда придёт конец моему царствию? Только не лукавь. Я ведь знаю, что ты думаешь по этому поводу. А знаешь ты то, что нагадали мне ведуны Катерина и Сильвестр: царствовать мне семь лет.
— Об этом я слышал, государь-батюшка. Но ты ведь тоже знаешь, помазанник Божий, что судьба человека не в руках ведунов, а в деснице Всевышнего.
Помолись, государь-батюшка, на ночь и с молитвой на устах живи. Без воли Всевышнего ни один волос не упадёт с твоей головы.
Борис Годунов долго молчал, прищурившись, смотрел на Михаила, потом тихо заговорил:
— Ты мне всегда был любезен, воевода, с той самой поры, как пришёл отроком во дворец. И меня всегда тянет на откровенность с тобой. В мире много людской злобы и зависти. Я познал это и ты тоже, хотя и молод ещё. И вижу я за далью времени твою судьбу. Она напоминает мне мою. Ты убедишься в этом с годами. Как и я, ты будешь жертвой человеческой зависти, несправедливости, оговоров, клеветы и злости. Прости, что я вещаю твою судьбу. Мне это сделать нелегко. Но я теперь не одинок. Прости же, Михаил Шеин, славный воевода.
— Бог простит, государь-батюшка. Я так же мужественно пронесу бремя своей жизни, как и ты, государь. Русь нас не забудет.
— Вот и славно. Иных слов я от тебя и не ожидал. А теперь скажу тебе о том, зачем позвал из Мценска. За него тебе честь и хвала, воевода. Я отпишу тебе в награду село в Костромской чети. От тебя же прошу сейчас иной службы. Грешен я в том, что остаюсь суеверным. Но что поделаешь, себя мне не сломить. Потому найди мне ведунов Катерину и Сильвестра. Попроси их явиться предо мной. Не знаю, что я у них просить буду, но видеть хочу смертно.
— Государь-батюшка, я постараюсь найти их, но на это уйдёт немало времени.
— Полгода даю тебе от царской щедрости.
Борис Годунов скупо улыбнулся, помолчал. В его глазах зажглось что-то насторожившее Шеина. Как будто царь приготовился бросить в реку приманку-живца, чтобы поймать судака.
Михаил весь сжался внутри, готовый ответить как должно. И не ошибся. Годунов спросил:
— А с князем Шуйским ты встречаешься?
«Вот и живец! Хватай его, Шеин!» — воскликнул Михаил в душе. Он догадался, что Шуйские находятся под пристальным оком дяди Бориса, Семёна Никитича, и каждый их шаг, все их встречи с кем-либо главе сыска ведомы, а значит, и государю. И Михаил высоко поднял голову, ответил чистую правду:
— Вчера меня встретил на Калужской заставе князь Димитрий Шуйский. Пригласил побывать у них, выпить чару медовухи за геройство моих воинов во Мценске. Был и о тебе разговор, государь-батюшка, того же нрава, что и мы с тобой вели. Честь и хвала тебе от них. Но, как и ты, болеют за ведовство. Сказал Василий Иванович: «Ты, Михайло, найди государю тех чародеев. Пусть скажут ему новое слово».
— Ты, Шеин, молодец, что не утаил от меня встречу с Шуйскими. И молвленное тобою во всём совпадает с тем, что услышали люди моего дядюшки. Не удивляешься?
— Спасибо за доверие, государь-батюшка.
— Ты угадал. У меня к тебе полное доверие. И вот что, это последнее: завтра скажешь дьяку Елизару, чтобы моей волей приписал тебя к главному воеводе Василию Ивановичу Шуйскому. Скажи, что моя воля быть тебе воеводой левого полка.
— Государь-батюшка, а куда идти с войском? — спросил Шеин.
— Одна у нас сейчас забота: самозванца побить и уничтожить. Всё отныне тебе ведомо. Иди, воевода, а я устал. — И царь отвернулся к воде.
Шеин поклонился ему в спину и покинул ротонду.
Теперь Михаилу оставалось выполнить волю думного дьяка Вылузгина и выговорить у него себе хотя бы недельную побывку дома. «И Катенька за это время привыкнет ко мне. Да упрошу как-нибудь Елизара», — решил Шеин.
Вылузгин оказался на этот раз очень сговорчивым. Старый проныра понял, что у Михаила с царём был любезный разговор. Да всё было ясно по одной фразе Михаила, когда он, едва войдя в покой, произнёс:
— Батюшка-дьяк пиши меня в сход с князем Василием Ивановичем Шуйским. За ним и пойду, куда скажет.
— Вот и слава Богу. И отписка тебе домой на две недели будет. Но посиди это время в Москве, пока полк на Ходынке собирают. — Елизар Вылузгин тяжело вздохнул оттого, что сдерживал себя от откровенности с Михаилом. А так хотелось! И не сдержался. — Смутно в державе ныне, да и за её рубежами тоже. Сказывают, в Киеве для самозванца острожский староста пан Ратомский ополчение набирает. Ещё казаки с Запорожья хотят отойти к самозванцу. Там Корела и Нежакож воду мутят. Вот шлю туда дворянина Хрущева уговаривать к присяге царю-батюшке. — Спохватился, что плетёт лишнее, махнул рукой. — Да ты иди, Борисыч, иди! И храма не минуй, помолись за свою удачу и за меня, грешника…
Михаилу и впрямь захотелось в храм — помолиться, исповедаться и причаститься. Три с лишним года не бывал в кремлёвских соборах и церквах, в которые так любил ходить прежде. А во вратах Благовещенского собора Михаил встретил князя Василия Ивановича Шуйского. Он остановил Михаила, сказал:
— Вижу, боярин, ты всем умиротворён.
— Да, батюшка-князь. Я приписан к тебе в левый полк, и у меня двухнедельная побывка дома.
— Дай-то Бог, чтобы тебе отдохнулось на славу.
— Я бы и отдохнул, да надо волю государя выполнить — во Владимир сгонять.
— Смотри, однако, не задерживайся там долго. Полк тебе принимать скоро.
С тем князь и боярин расстались. Воевода Шеин прошёл к чтимой им иконе Михаила Архангела и преклонил перед нею колени.
Глава двенадцатая СРАЖЕНИЕ С САМОЗВАНЦЕМ
Ровно через две недели на Рождественку прибежал посыльный из Кремля. Борис Годунов собирал воевод на совет. Не забыл он и о Шеине. Михаил собрался мигом и на коне помчался в Кремль. Он приехал, когда в Столовой палате уже сошлись многие именитые князья и бояре. Здесь были Мстиславские, Голицыны, Салтыковы, Шуйские, Шереметев, Телятевский. Вовсе неожиданным было для Шеина увидеть среди опытных воевод молодого — всего семнадцати лет — князя Михаила Скопина-Шуйского. Оба Михаила были рады друг другу и уселись рядом, чтобы послушать, что скажет государь.
Борис Фёдорович умел говорить пространно и красно, и у него была хорошая память. То, о чём ему доносили из Разрядного приказа и что касалось действий Лжедимитрия, он всё дословно помнил и спокойно, без всплесков негодования, обращал свою речь к собравшимся:
— Мы теперь доподлинно знаем, кто есть самозванец. Это беглый чернец Чудова монастыря Гришка Отрепьев. В миру был Юрием. Сын бедного галицкого дворянина Богдана Отрепьева. Отец его, буйный характером, был убит в пьяной драке неким литвином. Стараниями матери Юрий научился читать Священное Писание, и его отвезли в Москву. Смышлёный от роду, Юшка был взят на службу к князю Фёдору Романову. Там Юшка начал воровать, и его прогнали со двора. Но его позвал к себе служить князь Димитрий Черкасский. Вскоре Юшка и у Черкасских проворовался и сбежал в монастырь, постригся. Мы установили, что Гришка служил в Суздале, в Спасо-Евфимьеве монастыре, потом в Галиче, в обители Иоанна Предтечи, и уже оттуда его позвали в кремлёвский Чудов монастырь, где он жил со своим дедом. По воле патриарха он начал переписывать церковные книги, и лучшего книжника в монастыре не было. Патриарх Иов посвятил чернеца в диаконы, и Григорий часто сопровождал Иова во дворец. Он услышал от вельмож имя царевича Димитрия, узнал всё, что с ним произошло, и дерзнул выдать себя за сына Ивана Грозного, якобы Провидением Божьим спасённого от смерти. Жажда объявить себя царевичем Димитрием возрастала, и он бежал из Чудова монастыря. Сказывают, в Киев.
С ним бежали чудовский священник Варлам и инок Михаил.
Долгие странствия по Польше привели Гришку к князю Адаму Вишневецкому. Надменный и легкомысленный князь поверил, когда Гришка назвал себя царевичем Димитрием, истинным сыном Ивана Грозного. Князь донёс новость о появлении царевича до короля Сигизмунда, и тот пожелал увидеть его у себя во дворце Вавель. Вишневецкий привёз Гришку из Брагина в Краков. — Борис Годунов замолчал, отпил из кубка сыты[22] и закончил всё так же спокойно: — Теперь вы, русские воеводы, знаете, каков перед нами враг. И помните главное: за Гришкой стоит вся Польша. С нею нам придётся биться в первую голову. Потому собирайтесь в поход, идите в Северскую землю, где обосновался Гришка. Побейте его и приведите в Москву, будем судить и казнить на Болоте за воровство.
В начале ноября 1604 года царское войско, разделённое на две рати, покинуло Москву. Первой вышла из стольного града рать во главе с князем Фёдором Шереметевым. Следом через два дня отправилась рать князя Василия Шуйского, в которой одним из полков командовал воевода Шеин. Из Брянска рать Василия Шуйского поспешила на выручку осаждённого войском Лжедимитрия Новгорода-Северского, где держал оборону воевода Пётр Басманов. У него под началом было всего пятьсот стрельцов. Подойдя к крепости, Лжедимитрий предложил Басманову сдаться, обещал ему «царские милости». Басманов отказался принять их, и началась осада крепости.
Узнав, что к Новгороду-Северскому подходит царская рать, самозванец выслал навстречу ей большой отряд казаков и полк поляков. На третий день произошла первая схватка царской рати и войска самозванца. Но силы оказались неравными. Конный полк Михаила Шеина сразу же начал теснить поляков к реке Десна. Они не выдержали натиска и побежали. Мост через Десну не устоял против нахлынувших на него поляком и рухнул, сотни их утонули в ледяной воде. Многие погибли в сече, и немало поляков сдались в плен.
Испугавшись своего первого поражения, Лжедимитрий снял осаду Новгорода-Северского и отступил в Комарницкую волость, укрепился в Севском остроге.
Рать Василия Шуйского двинулась к Севску. Впереди шёл полк Михаила Шеина. Чтобы хоть что-то узнать о противнике, Михаил послал Петра, Прохора и их бывалых охотников на поиск во главе с Никанором. Была полночь, когда одиннадцать лазутчиков Шеина вошли в небольшую рощу под Севском и затаились в ней. На рассвете Прохор забрался на высокий старый дуб и вскоре закричал:
— Никанор, там, в Севске, распахнулись ворота, и из них валом повалили воины! Все идут в нашу сторону!
Сотский Никанор, хотя и был тяжеловат, ловко забрался на дерево к Прохору и увидел, что, обтекая Севск, к ним движутся тысячи воинов. И пришла разгадка: Лжедимитрий отважился вступить с ратью Шуйского во встречную сечу. Понял Никанор, что этот отважный шаг может принести самозванцу удачу и, хотя выступило из Севска не больше пятнадцати тысяч, они могут смять в походе полки Шуйского и побить их.
— Давай, Прохор, быстро вниз! Уходить нужно. — Спустившись, словно уж, Никанор крикнул воинам: — По сёдлам, за мной!
Лазутчики помчались по роще, как только было можно, выскочили на её северную опушку и, скрытые от противника, пронеслись навстречу своей рати. Они преодолели версты три, когда увидели идущий впереди полк Шеина. Доскакав до него, Никанор доложил Шеину:
— Воевода, самозванец близко. Он вышел всем войском из Севска и идёт нам навстречу. Мы едва ускакали от его конницы.
Михаил недолго соображал, что ему делать, сказал Никанору:
— Скачи за селение Добрыничи. Там идёт главная рать. Пусть князь Шуйский встретит врага в Добрыничах. Мы же заманим его к селению. Предупреди об этом.
— Исполню, воевода, — ответил Никанор и, позвав с собой Петра, ускакал с ним навстречу Шуйскому.
Михаил знал, что если рать Шуйского встанет за Добрыничами, и вперёд выйдут двенадцать тысяч стрельцов, и будет выставлено сорок пушек, а также если удачно заманить Лжедимитрия к Добрыничам, то ему не останется ничего другого, как только погибнуть, потому что он, Шеин, отрежет ему своим полком путь к отступлению.
Князь Шуйский внял предупреждению Шеина. Он спешно вывел полки стрельцов за Добрыничи, выкатил пушки, велел зарядить их и всем затаиться. Сам он поднялся на чердак дома, встал у слухового окна и хорошо видел всё пространство впереди, в том числе полк Михаила Шеина, у которого в предстоящей сече была особая роль.
Прошло совсем немного времени, когда вдали показалась чёрная лавина. Это катились конники — сотни запорожских казаков Михаила Нежакожа. Вот они ближе, ближе. Полк Шеина, который двигался им навстречу, развернул коней и начал уходить от казаков, приближаясь к селению Добрыничи. И вдруг в двухстах саженях он разделился на два потока, и один из них на рысях стал уходить вправо от селения, другой — влево. Лавина казаков продолжала катиться прямо к Добрыничам. Вот уже до них сто сажен, семьдесят, пятьдесят… И в этот миг залп сорока пушек сотряс воздух и землю, и сорок ядер врезались в людскую и конную массу и прорубили просеки. Следом за пушками ударили двенадцать тысяч ружей, расстреливая наступающих в упор. И снова бьют пушки, снова палят ружья. Те, кто рвался вперёд, уже скакали по горам трупов коней и воинов. Но в третий раз ударили пушки и в четвёртый. Ружья вторили им. Войско Лжедимитрия охватила паника. Оно обратилось в бегство. И тут справа и слева на него навалились конники Михаила Шеина. Началось побоище. Проскакав версты три, устилая путь трупами врагов, Михаил Шеин наконец остановил полк.
Оставшимся в живых воинам Лжедимитрия удалось скрыться в Севской крепости. Так закончилась, по мнению летописцев, эта «решающая битва», потому что тогда кому-то показалось, что Лжедимитрий был убит под Добрыничами. Да иначе и быть не могло, утверждали те, кто наблюдал ход битвы. Сам князь Василий Шуйский был уверен, что Лжедимитрий, который скакал впереди войска, убит.
Так князь Василий Шуйский и сказал Шеину, когда тот уже в сумерки вернулся в Добрыничи после преследования врага.
— Хвала Господу Богу. Он избавил нас от самозванца. Я видел, он был впереди войска. А все первые ряды разбойников полегли.
— Пожалуй, что так, князь-батюшка. Вот только темень помешает нам найти его среди убитых.
— Ничего, до утра он никуда не исчезнет. А тебе, воевода Михайло, мой наказ: возьми десять своих воинов и стременного и мчи с ними в Москву.
— Как это, князь-батюшка? От полка?..
— Ничего. Теперь всё позади. Поставь за себя тысяцкого князя Салтыкова: молод, да проворен, постоит. Ты пойми, какую радость принесёшь государю. Шесть тысяч убитых! Да-да, не меньше! Мне ли не знать! Тысячи раненых, сотни пленных! Тринадцать пушек, пятнадцать знамён. И вот что: знамёна ты возьмёшь с собой! Это знак нашей победы!
Ликование от военной удачи возобладало над всеми чувствами, и князь Василий настоял на том, чтобы Шеин немедленно выехал в Москву.
Михаил, однако, понял безрассудность желания Шуйского и с мрачной миной на лице сказал:
— Ты, князь-батюшка, прости, но сегодня я поеду в Москву один, разве что со стременным. Приторочим знамёна к сёдлам и — в путь. А воины падают от усталости, им нужно отдохнуть. И очень прошу поставить на мой полк племянника твоего Михаила Скопина-Шуйского. Ему пора подниматься на крыло. Он в свои семнадцать лет многих бывалых мужей за пояс заткнёт.
Сказанное Шеиным и его мрачный вид отрезвили Шуйского. Ему, проницательному человеку, нельзя было совершать подобных опрометчивых шагов даже в угоду государю, и он мягко произнёс:
— Прости, воевода, старого. Я погорячился. Конечно же и воинам и тебе надо отдохнуть. Право-таки нынешний день был очень трудным. И то, что ты сказал по поводу моего племянника, тоже верно. Славный воевода поднимается.
— Спасибо, батюшка-воевода. Теперь я пойду к своим воинам, приготовлюсь к завтрашнему. — И Шеин ушёл.
А на другой день, передав полк князю Скопину-Шуйскому и оставив ему в помощники Никанора, Шеин повёз в Москву знамёна и весть о гибели самозванца.
Позже выяснилось, что Василий Шуйский и Михаил Шеин вкупе с ним ошиблись. Григорий Отрепьев остался жив и успел укрыться в Севском остроге. Но это дошло до государя Бориса Годунова значительно позже и больно ударило его в самое сердце.
До Москвы Михаил и его воины добрались без препон. Но царя в этот последний день января 1605 года в Кремле не было, и Михаил, заехав на одну ночь домой, ранним утром поскакал в Троице-Сергиеву лавру, где Борис Фёдорович был на молении.
Проведя ночь вблизи своей незабвенной, синеглазой Марии, Михаил был в приподнятом настроении духа. Дома у него было всё благополучно. Его приезд оказался для всех праздником. Особенно была рада маленькая Катюша. Она же первая сказала ему:
— Батюшка, а у меня скоро будет братик.
— Господи, да ты-то откуда знаешь?!
Пятилетняя девочка с серьёзным видом произнесла:
— Так бабушка мне поведала. А она обманывать не будет.
Ночью Михаил услышал это из уст супруги.
— На пятом месяце я, мой сокол. Когда была у нас Катерина, то сказала, что я сынка понесла. И ты уж не перечь нам, мы с Катей ему и имечко славное нашли, Иванушкой назовём. И сказала Катерина, что внук Иванушки от сына его Семёна будет великим воеводой Руси.
— Вот те на! — воскликнул Михаил. — Сколько у вас тут новостей! А где сейчас Катерина с Сильвестром?
— Так она меня предупредила, чтобы ты не искал ни её, ни Сильвестра. Ведают они, зачем тебе и государю нужны. Сказала Катя притом: «Ничего мы в судьбе государя изменить не можем».
— Это верно сказано, — согласился Михаил. — Только что я отвечу государю, когда он спросит о ведунах?
— То и ответь, что не знаешь, где они, дескать, на войне был. Да пусть положится на волю Всевышнего. Лишь Он и знает, чему быть, того не миновать.
— Истинно ты глаголешь, — усмехнулся Михаил. — Да буду молить Бога, чтобы он спас меня от царской опалы.
— Я верю, что ты найдёшь нужные слова и царь не осерчает на тебя, — прижимаясь к Михаилу, прошептала Маша.
Такой была ночь накануне отъезда Шеина в Троице-Сергиеву лавру, и он не боялся предстать пред государем, ибо знал, что правда за ним, за Катериной и Сильвестром: всё в руках Господа Бога.
Выехав из Москвы чуть свет, Михаил надеялся к концу дня добраться до лавры. Для этого надо было одолеть семьдесят одну версту. Это как раз дневной переход на добрых конях. Так и было, потому как кони у Михаила и Анисима были крепкие и выносливые, чего нельзя было сказать о всадниках: их кони ночью отдыхали, а они… Ну, Михаилу было ясно, что помешало ему выспаться, а вот Анисим почему клевал носом в седле? Выходит, тоже что-то помешало. Парню шёл двадцать первый год. Был он ловок, статен, силёнкой Бог не обидел, и на лицо приятен, особенно, когда улыбался. Улыбка его и «погубила».
Ещё летом Михаил заметил, что Анисим кружил вокруг Глаши-ключницы, молодой и ладной девицы. Поди, она и заворожила его, и ночь без сна провёл. Уже в полдень, когда подъезжали к селению Софрино, Михаил спросил Анисима:
— И чего это ты того и гляди из седла упадёшь?
— Так я мух ловил всю ночь, — засмеялся Анисим.
— Зачем это? И какие мухи зимой? — не видя подвоха, осведомился Михаил.
— Они нам спать не давали.
— Кому это вам? Ты в покое вроде один спишь.
Анисим подъехал к Михаилу поближе и тихим голосом, в котором не было ни задора, ни удали, сказал:
— Ты прости, батюшка-воевода, грех мы приняли с Глашей на душу. Любим мы друг друга, и нам бы только к венцу.
— И в чём же ваш грех?
— Так целовались всю ночь. А больше ни-ни…
— Слава Богу, что нечистая сила тебя не толкнула испортить девицу.
— Да как же я мог испортить её, ежели люблю, — загорячился Анисим. — Это уж край всему…
— Ну вот что, братец мой: как вернёмся из лавры, пойдёшь к матушке Елизавете и падёшь ей в ножки. Как она повелит, так и будет.
— Но Глаша мне сказала, что не будет нам милости от твоей матушки, ежели ты, батюшка-воевода, не замолвишь за нас слово.
— Ишь, чего захотели?! Может, и в посажёные отцы позовёшь?
— Позову, батюшка-воевода, ежели со службы не прогонишь.
«Не погоню, Анисим, не погоню. Ты мне люб», — подумал Михаил, но стременному ничего не сказал.
Кони вошли на постоялый двор в Софрине. Михаил и Анисим зашли в харчевню, перекусили на скорую руку и поспешили к лавре, до которой оставалось меньше тридцати вёрст. Дремота с Михаила и Анисима спала, и они чувствовали себя бодро.
Было сумеречно, когда по звону колоколов путники поняли, что Троице-Сергиева лавра уже близко. Один из колоколов особо выделялся звоном.
— Узнаю! Узнаю «Лебедя»! — крикнул в восторге Анисим.
— Как не узнать! В лавре царь, а без него в этот колокол благовестят лишь в большие праздники. И подарил лавре «Лебедя» Борис Фёдорович.
— Помню. Я тогда мальчишкой был и в лавре обитал, когда в (1594) году привезли этот колокол на санях из брёвен в двенадцать пар коней. А весом он шестьсот двадцать пять пудов.
— Ты всё знаешь, Анисим, но забыл, что Борис Фёдорович внёс в лавру ещё один колокол.
— Так то благовестник «Долгий язык» — Слободской, и звонят в него в простые дни.
Шла вечерня. Под звон колоколов лавры и въехали в неё Михаил и Анисим. Врата уже были закрыты, но слова Михаила: «С государевым делом» — помогли им тотчас оказаться в лавре. Царь Борис Годунов в это время слушал службу в Духовской церкви «под колоколы», построенной во времена великого князя Ивана III. Годунов любил этот храм, и в его приезды в Духовской церкви целыми днями шло богослужение. Оставив коня Анисиму, Михаил вошёл в храм, перекрестился и присмотрелся к амвону. На нём было уготовано царское место, и Борис Фёдорович сидел там. Михаил подошёл поближе и увидел бледное, осунувшееся лицо, заострившийся нос. Государь был печален, и было похоже, что церковная служба вовсе не касалась его.
Михаил не знал, как поступить: беспокоить царя или нет. Но Михаила заметил священник и подошёл к нему.
— Сын мой, чем озабочен? — спросил он.
— С государевым делом я. Да вот… царь слушает.
— Иди за мной, — сказал священник.
Михаил обернулся и махнул рукой Анисиму, который держал в руках стопу сложенных знамён. Тот поспешил следом за Шеиным, и, пройдя через левый придел, они вскоре оказались в ризнице, которая примыкала к алтарю.
— Помолитесь тут, — проговорил священник и ушёл.
Просторная ризница была чисто убрана, на стенах между шкафами висели иконы, пред ними горели лампады, был столб, и возле него стояли лавки, обитые бархатом. Михаил не успел и осмотреться, как перед ним появился Борис Фёдорович.
— С чем ты пожаловал, воевода? — спросил царь.
— Здравствуй, государь-батюшка, многие лета. Прибыл я с государевым делом.
— Выходит, что нашёл Катерину и Сильвестра?
— Речь пойдёт, государь-батюшка, о том, что ещё более важно.
В древних хрониках записано: «В 1605 году, когда царское войско под предводительством князя Василия Ивановича Шуйского разбило при Добрыничах „названого царя Димитрия“, Шеин был послан с известием об этой победе к царю Борису Годунову, бывшему в то время в Троицком монастыре. Известие это так обрадовало встревоженного царя, что он пожаловал Шеина в окольничие».
— Ты привёз мне великую радость, — выслушав Михаила, произнёс царь. — Садимся к столу, пьём вино, и ты рассказываешь всё, как было. Много ли войска побили? Не взяли ли в плен Гришку Отрепьева? Говори всё кряду.
Когда Михаил пересказал ход битвы, Годунов встал и похлопал его по плечу.
— Отныне ты окольничий моей волей. Ты заслуживаешь чин упорством поддержать мой дух.
Годунов трижды хлопнул в ладони. Сей же миг в ризнице появился дьяк Никитин, что писал царёвы указы.
Борис Годунов повелел:
— Запиши в дворцовую книгу, что боярин и воевода Михаил Шеин отныне царский окольничий.
Шеин встал и поклонился.
— Спасибо, государь-батюшка, за милость. Но можно мне оставаться при войске?
— Можно и нужно. Ты прирождённый воевода. Мне ведь ведомо, как ты сражался во Мценске с князем Шалиманом.
— Спасибо, государе, за эту милость.
— И ещё у меня к тебе есть милость, удачливый Шеин. Вчера исполнилось семь лет, как я царствую. Потому и служба великая в Сергиевой лавре, и благовест колоколов на всю Русь. А как-то в ночь с чистого четверга на пятницу мне приснился вещий сон, будто я благословляю на супружество моего сына Фёдора с германской принцессой. Сон-то в руку: германские сваты едут на Русь.
— Как тут не радоваться, государь, Господь тебя милостями награждает. Так, может, мне и не искать Катерину и Сильвестра? Всевышний с тобой, и уповай на Него, государь.
— Не ищи, воевода, не ищи. Как нужны будут, заставлю-таки дядюшку найти их. А ты отправляйся к войску. — Годунов встал. — Там поют канон Богородице, а я так люблю это пение.
Государь покинул ризницу. А Михаил вышел из неё, взял у Анисима стопу знамён, унёс их обратно в ризницу и положил на край стола. Когда вошёл священник, Михаил попросил его:
— Святой отец, позови сюда дьяка Никитина.
— Это можно. Он рядом.
Священник три раза хлопнул в ладони. Тотчас откуда-то появился дьяк Никитин.
— Зачем беспокоите?
— Это я, батюшка-дьяк, попросил тебя. Вот знамёна, взятые в бою у Гришки Отрепьева. Времени не хватило передать их царю, так ты уж порадуй его.
— Исполню, — ответил дьяк и пересчитал знамёна. — Пятнадцать?
— Да.
— Ну и уходи…
Михаил прошёл к правому приделу, помолился, посмотрел на Бориса Фёдоровича и почему-то перекрестился. У него мелькнула мысль: «Больше, государь, нам не свидеться».
Мысль Михаила была провидческой. С нынешнего дня Борису Годунову оставалось царствовать пятьдесят шесть дней сверх семи лет, предсказанных ему ведунами. На пятьдесят седьмой день Борис Фёдорович, полный жажды жизни, заседал в думе, потом устроил торжественное застолье со множеством иностранных гостей и своих вельмож в Золотой палате кремлёвского дворца и говорил речь о том, что будет царствовать ещё многие годы и на Руси не станет бедных и сирых. Он поднял кубок во здравие державы, продолжал говорить и вдруг мгновенно умолк. Кровь полилась у него изо рта, из ушей и глаз. Он упал. Теряя сознание, он успел благословить на царство своего сына Фёдора, патриарх Иов в последнее мгновение соединил их руки.
Было сказано, что Борис Годунов принял яд. Но это не так.
Выдающийся историк Николай Михайлович Карамзин, который не очень жаловал Бориса Годунова, писал о нём с печальной похвалой: «Удар, а не яд прекратил бурные дни Борисовы, к истинной скорби отечества».
Глава тринадцатая «ДИМИТРИЙ»
В пути из Троице-Сергиевой лавры в Москву Михаил Шеин был всё время задумчив и как-то весь ушёл в себя, не замечал окружающего мира. А было морозно, ветрено, январь показывал свой норов. Но ни мороз, ни ветер не донимали Михаила. Он думал о том, что происходило на Руси и о своём месте в событиях, которые накатывались с юга, как весеннее половодье. В Софрине в просторной трапезной постоялого двора было людно и шумно. Все о чем-то говорили, что-то обсуждали. Среди крестьян, приехавших на торг в Софрино, были и паломники. Они горячо рассказывали, что царевич Димитрий жив, что сами видели его в Путивле на Соборной площади и вот теперь идут в Троице-Сергиеву лавру молиться за здравие царевича Димитрия и его скорое пришествие в Москву. Эти слова паломников были встречены гулом одобрения, и Шеин понял, что простой народ жаждет видеть на русском троне царевича Димитрия. Шеин пытался осознать, почему многим россиянам желательно видеть государем сына Ивана Грозного, если он, конечно, живой. Может, россияне считали его добрым царём, особенно крестьяне, холопы.
Михаил помнил, когда год назад — слухи о царевиче Дмитрии уже гуляли по Руси — восстали холопы Московской и южных земель. Возглавил этот бунт холоп из государевой каширской вотчины Хлопко. Царь Борис Годунов был настолько перепуган, что в считаные дни собрал войско и поставил над ним главным воеводой Ивана Басманова, жёсткого нравом. И, когда восставшие уже подходили к Москве, Иван Басманов встретил их и разбил в жестокой сече. Помнил Михаил, что мятеж был подавлен, многих холопов, а вместе с ними и их атамана привезли в Москву и казнили на Болотной площади.
Ничто, однако, не отрезвило крестьян и холопов. Тысячи их примкнули к самозванцу, а он после поражения под Добрыничами и потери половины войска вновь собрал его и готов был двинуться на Москву. Чуть позже Михаил Шеин узнал, что к самозванцу присоединились не только крестьяне и холопы, но и сотни вельмож: бояр, дворян, князей.
С такими мыслями Михаил Шеин подъезжал к Москве, но наконец прервал их. Он вспомнил, что через несколько дней должен вернуться к войску и что это накладывало на него обязанность сделать всё, чтобы близкие не поминали его недобрым словом. Он опять оставлял жену, когда она ждала дитя. Что надо сделать, чтобы Мария приняла его отъезд мужественно? Опять же его долг помочь Анисиму и Глаше обрести семью. Вернувшись на Рождественку, Михаил с этого и начал. Помывшись в бане и приведя себя в порядок после поездки в лавру, он сказал за трапезным столом:
— Случилось так, моя матушка и ты, моя супруга Маша, что наша челядинка ключница Глаша и мой стременной Анисим полюбили друг друга. Анисим просит нашего благословения. Что нам делать?
За столом воцарилось молчание. Ни у кого не было ответа на вопрос Михаила. После долгой паузы умудрённая жизнью боярыня Елизавета с грустью в голосе молвила:
— При вашей с Анисимом походной жизни не останется ли Глаша соломенной вдовой? Как твоя Мария…
— Но как же быть, матушка? Мы воины, и наша участь такая.
— Матушка, а давайте спросим Глашу, — предложила Мария, — ведь ей коротать дни.
Михаил посмотрел на супругу с благодарностью. Она ещё ни разу не упрекнула его за то, что они всё время живут в разлуке. В утешение женщинам он сказал:
— Вот скоро наступит мирная жизнь, и мы будем все вместе. Надо только ордынцев отучить ходить на Русь. И самозванца уничтожить, чтобы не сеял смуту.
— Этого, мой сын, не скоро добьёшься. Твоему батюшке не хватило жизни побить ордынцев и поляков. И тебе уготована та же участь.
— Так, может, с этим нужно смириться и жить так, как велит Бог?
— Ну хорошо, позовите Глашу, — согласилась боярыня Елизавета.
За ключницей послали слугу, и вскоре Глаша появилась. Она была смущена, побледнела от страха, но смотрела на боярыню чистыми, невинными большими серыми глазами. Поклонившись, произнесла:
— Слушаю тебя, матушка-боярыня.
— Ты, девица, скажи, что у вас со стременным Анисимом? Да правду открой, не желай себе худа, — говорила Елизавета строгим голосом.
Но Глаша одолела свой страх, голову в меру подняла, ответила тихо, но твёрдо:
— Люб он мне, матушка-боярыня. А больше и сказать нечего.
— Так-то уж нечего! Ну да ладно, мы с тобой ещё побеседуем. Меня-то ты не думаешь покинуть?
— Нет, матушка-боярыня, я служила и служить буду верно.
— Однако сватается за тебя Анисим… Что молчишь-то? Готова ли ты выйти за него замуж?
— Воля твоя, матушка-боярыня. А ежели благословишь, век буду за тебя Бога молить. — И Глаша опустилась на колени.
— Сынок, где твой стременной? — спросила Елизавета. — Зови его.
— Сейчас прибежит, матушка.
Михаил послал за Анисимом слугу, который стоял у двери. Когда слуга ушёл, Михаил вспомнил, что случилось с ним в лавре.
— Совсем забыл, какую милость проявил ко мне царь в лавре.
— И что же, в святцы тебя вписали? — пошутила Елизавета, вернувшись к своему всегда доброжелательному обличью.
— В указ государев я вписан. И вам, матушка и супружница, надо знать, что отныне мне чин окольничего пожалован царём. А всё за сражение при Добрыничах.
— Ну, сынок, без медовухи тут не обойдёшься!
Той порой прилетел Анисим. Улыбчивый, весёлый, того и гляди пустит воробьиную трель. Он встал рядом с Глашей и, как только на него обратили внимание, затараторил:
— Вот я, матушка-боярыня, явился пред твои очи. И прошу с низким поклоном руки вашей ключницы Глаши. А то ведь жалко мне будет себя, неженатого, как живота лишат.
И он, словно послушный домашний пёс, встал на колени рядом с Глашей. Все засмеялись его выходке. Маленькая Катя смеялась звонче всех:
— Он на зайчика похож, — возвестила девочка.
Елизавета встала, подошла к Глаше и Анисиму, положила им руки на головы.
— Бог с вами. Отведу вас завтра под венец в храм Николы, что в Звонарях.
— Всякой благодати тебе, матушка-боярыня, — произнёс Анисим.
Она же сказала Михаилу и Марии:
— А вам, любезная чета, быть у них посажёными отцом и матерью. Сами себе схлопотали мороки. — Тут Елизавета вовсе в доброту впала, велела Глаше и Анисиму подняться, указала им на стулья близ стола. — Идите за стол, обмоем по-божьему ваш сговор.
Медовый месяц получился у Глаши и Анисима коротким. Они провели его в отведённом им покое и показывались в людской лишь за полуденной трапезой. Здесь же, в людской, в просторном помещении для прислуги, было устроено свадебное застолье, в котором приняли участие вся дворня Шеиных и воины Михаила. Он и Мария были дружками Анисима. Он за минувшие с венчания дни изменился, стал сдержаннее, степеннее. Ему пришлось по душе слово «супруг». Глаша для него стала олицетворением покоя и хранительницей семейных устоев.
Через неделю наступил час расставания. Михаил и Анисим отправлялись под Рыльск, в Комарницкую волость, где царские войска под командованием князя Василия Шуйского отдыхали после изнурительной и неумелой осады Рыльска, в котором засел с войском Лжедимитрий.
Вернулся Михаил Шеин к войску в неудачное время. Чуть раньше его прибыл к Василию Шуйскому гонец. Он привёз грамоту от царя Бориса, в которой осуждались бездарные действия полков Василия Шуйского. Ему было велено объединиться с ратью князя Фёдора Шереметева, осаждавшей Кромы, и немедленно взять крепость.
Князь Василий Шуйский был недоволен волей царя. Выходило, что он должен вести свои сорок тысяч воинов под Кромы и там вместе с такой же ратью идти на приступ крепости, которую защищали всего лишь около тысячи казаков атамана Андрея Корелы. Но, главное, не это вызвало недовольство Шуйского, а то, что он мог оказаться в подчинении у строптивого князя Шереметева. Это унижало родовое княжеское достоинство Василия Шуйского, и князь отказался идти под Кромы. Он позвал на совет князя Ивана Мстиславского, и тот, будучи тайно связан узами дружбы с Фёдором Шереметевым, попросил Шуйского всё-таки выполнить волю царя.
— Наше дело, князь Василий, только помочь в трудный час сотоварищу. Ведь одно дело исполняем. Так ты уж подумай до утра. Говорят же, что утро вечера мудренее.
Раздосадованный Шуйский не смирился и обидел князя Мстиславского.
— Тебе, княже Иван, всё равно, у кого быть под рукой. А мне это — нож в сердце.
— Не время сейчас, князь Василий, родовые счёты сводить. Прости меня, грешного. — И князь Мстиславский ушёл из шатра Шуйского.
Спустя какие-то полчаса после этого острого разговора и появился в Комарницком лагере Михаил Шеин со своими десятью воинами и стременным. Хмурый Шуйский, ещё не остывший от досады и гнева, ополчился на Шеина. Осмотрев его злыми глазами, он спросил:
— Зачем тебя посылали в Москву? Чтобы гонца впереди себя гнал? Оттого и задержался на неделю!
— Помилуй, князь-батюшка, чем я провинился?
— А тем, что вместо благодарности за победу под Добрыничами на меня царская опала легла.
— Того не может быть. Государь несказанно обрадовался нашей победе и даже меня чином окольничего наградил.
— Как смел ты принять этот чин? Недостоин ты его! — закричал, багровея, Шуйский. — Да время придёт, и лишу! Знай же, что меня по твоей воле под руку князю Фёдору Шереметеву ставят. Вот грамота царя, читай! — Шуйский сунул в руки Михаилу лист.
Тот прочитал повеление царя, и у него не нашлось, что сказать. Выходило, что подозрения князя Шуйского имели почву. Однако Михаил нашёл всё-таки, что сказать в свою защиту:
— Князь-батюшка, я под Рыльском не был и ни сном ни духом не знаю о твоих неудачах. О том государю донесли без меня.
— Не нужны мне твои утешения. Огорчил ты меня, боярин. Отправляйся в свой полк и сиди под рукой у моего племянника. Это тебе полезно. — И Шуйский отвернулся от Михаила.
Шеин медленно вышел из шатра. Досада и обида мутили его разум. Он долго стоял близ шатра, пытаясь обрести равновесие, а обретя, подумал, что пришёл конец его службе под началом Шуйского. Однако он не смел позволить себе сделать опрометчивый шаг. Он позвал Анисима и сказал:
— Иди узнай у кого-нибудь, где стоит полк Скопина-Шуйского.
Цепкий взгляд стременного сразу определил, что с воеводой случилось что-то неприятное. Он ответил:
— Я мигом. — И побежал к стоявшему неподалёку шатру.
Михаил осмотрелся. Он увидел стан головного пехотного полка и предположил, что его конный полк должен быть где-то рядом. Шеин подошёл к своим воинам, которые спешились, стояли кучкой и вели разговор. Пётр спросил у него:
— Скажи, воевода, где теперь вражье войско?
— Сказывают, в Кромах.
— Выходит, туда пойдём. А где это?
— Под Орлом. Слышал же, поди, про этот город.
В это время прибежал Анисим.
— Батюшка-воевода, под Густомоем стоит князь Скопин-Шуйский. Это в двух вёрстах на восход.
— А ну по сёдлам, браты! — дал команду Шеин.
Ехали шагом. Михаилу никуда не хотелось спешить. Он понял, что попал между молотом и наковальней. Годунов и Шуйский начали между собой вражду, и, на чью бы сторону он, Шеин, ни встал, ему может достаться в первую очередь. Михаил знал, что Шуйский злопамятен и высоко ценит свою особу: не зря же добивался царской короны после смерти царя Фёдора. А что будет дальше? Что-то подсказало Шеину о непременном исполнении ведовства Катерины и Сильвестра. Да, Годунов царствует сверх семи лет уже больше месяца. А сколько ещё осталось? Может быть, Всевышний испытывает его, ведёт к покаянию за содеянное в Угличе, и не только за смерть царевича Димитрия, но и за невинные жертвы угличан, за разорение города, наконец, за опалу на невинный род Романовых? Теперь уже прямо можно сказать, что Борис Годунов повинен в смерти двух братьев Романовых. Надо думать, что, если Борис Годунов преставится, князь Василий Шуйский непременно ринется добывать корону. И Лжедимитрий не будет ему помехой. Да, может быть, ему не удастся сразу, на волне народного стремления, возвести себя на престол, добыть корону. Но знал Шеин и другое: Лжедимитрий шёл к русскому трону по воле поляков и управлять Русью он станет по указке поляков, чего русский народ не потерпит. Тут-то и выступит всей своей изощрённой мощью ума Василий Шуйский и добьётся своего. Время работает на Шуйского — так завершил свои размышления Михаил, когда приехал в стан конного полка, во главе которого он стоял.
Полк располагался на опушке леса. Всюду горели костры, в их отблесках виднелись шалаши. У одного из костров Михаил нашёл молодого князя Скопина-Шуйского. Близ него сидели на стволах поваленных деревьев тысяцкие и сотские, и у них о чём-то шла беседа. Появление Шеина было неожиданным и кого-то смутило, кого-то обрадовало. Тысяцкий Игнат Морозов выразил общее мнение:
— А мы уж заждались, думали, что вовсе не вернёшься.
Скопин-Шуйский встал, протянул руку.
— Здравствуй, воевода Михайло Борисыч.
— Всем говорю: будьте здоровы, сотоварищи, — ответил Шеин.
Он чувствовал себя скованно. Сказать всем, что он уже не воевода над полком, Михаил не мог, потеснить Скопина-Шуйского своей властью тоже не посмел. Спросил, однако, всех:
— Как тут воюется?
— Штаны прожигаем на кострах — вот как воюем, — за всех ответил Игнат Морозов, высокий, сухощавый воин.
— Считайте, что это лучше, чем на приступы ходить, — засмеялся Шеин и тем разрядил обстановку.
— Мы этот Рыльск надолго запомним, — подал голос тысяцкий Серафим Котов.
— Ничего, он от нас не уйдёт, — заметил Скопин-Шуйский.
И тут Шеин взял его за локоть:
— Идём, тёзка, поговорим. Есть о чём.
Он повёл молодого князя на край опушки леса. Когда отошли от костров, сказал:
— Похоже, я и впрямь напрасно задержался в Москве. Да кто знал, что всё так плохо получится.
И Шеин поведал, что князя Василия Шуйского посетил гонец государя и привёз гневную грамоту.
— Он в пух и прах разнёс нас за то, что не взяли Рыльск. Ну а князь-батюшка сгоряча вознёс всю вину на меня. Так что тебе стоять над полком, а я в стременных у тебя похожу, — засмеялся Шеин.
— Так не должно быть! Я сей же час еду к дядюшке и всё поставлю на свои места, — горячо заявил Скопин-Шуйский.
— А вот этого не надо делать. Завтра рать выступит под Кромы. Пока доберёмся туда, много воды утечёт и всё прояснится. Поверь мне.
— Ты, Михайло Борисыч, не знаешь моего дядюшку. Он теперь тебя в святцы запишет, чтобы запомнить твою мнимую вину.
— Право же, мой приезд в Москву и рассказ государю о битве при Добрыничах вызвал и у него только радость. На том мы и расстались.
— Тут много случилось того, что могло вызвать гнев государя. Твой полк и я вместе с ним не были под Рыльском. Но я-то понял, что там собралась куча олухов небесных. Неумело они приступы вели и потому дырявую крепость не могли одолеть.
— Ладно, княже Михаиле. Царь уже осудил тех олухов, а нам не дано это. И давай так: мы с тобой вкупе пойдём в полку. Думаю, не будем ссориться.
— С чего бы, Михайло Борисыч? Я согласен с тобой.
Поход под Кромы рати Шуйского и её слияние с ратью Фёдора Шереметева закончились полным провалом и позором для восьмидесятитысячного войска. О том в хрониках записали историки: «Около 80 тысяч ратников, имея множество стенобитных орудий, не могли овладеть деревянным городком, в котором, кроме жителей, засело лишь 600 храбрых воинов во главе с атаманом Корелой».
Войско Шуйского и Шереметева ещё стояло под Кромами, когда пришла весть о кончине Бориса Годунова. Она была принята ратниками равнодушно, а многие, особенно воеводы, поминали его недобрыми словами. Незадолго до того, как преставиться, Борис Годунов назначил воеводу Петра Басманова главным воеводой над всеми войсками, которые действовали против Лжедимитрия в районе Путивля. Не ведал Борис Годунов, что под личиной преданности Басманов прятал нелюбовь к нему, граничащую с ненавистью.
Вокруг Басманова давно уже сбилась группа вельмож, которые только и ждали повода, чтобы переметнуться в стан Лжедимитрия. Среди них были большие рязанские дворяне братья Захарий и Прокопий Ляпуновы. Михаил Шеин знал Ляпуновых как ярых противников Бориса Годунова: он наказал их за продажу оружия мятежным запорожским казакам.
В тот день, когда Ляпуновы появились в лагере под Кромами, полк Михаила Шеина стоял в двух вёрстах от крепости. Но, когда братья со своими сторонниками подняли мятеж против Шуйского и Шереметева и к этому мятежу примкнули казаки, сделавшие вылазку из крепости, к Шеину и Скопину-Шуйскому прискакал из лагеря гонец с наказом: князь Шуйский просил их помощи, чтобы разогнать бунтовщиков. Двое воевод повели полк в лагерь. Но мятеж к этому времени уже угас. Нет, мятежники не сдались. Всех, кто примкнул к Ляпуновым, Пётр Басманов увёл в Путивль вместе со своими полками и многими сторонниками из рати Шуйского и Шереметева. А сторонников в ратях Шуйского и Шереметева оказалось почти три четверти. Два дня князья Шуйский и Шереметев простояли под Кромами в надежде, что полки вернутся, но надежда их оказалась тщетной.
Однако князь Василий Шуйский не потерял присутствия духа. Он собрал оставшихся при нём воевод — были позваны Шеин и Скопин-Шуйский — и сказал им значительно и весомо:
— Мы с князем Шереметевым чтим вас всех, кто остался с нами как верные соратники. Помните одно: борьба за державу не решается ни под Кромами, ни под Путивлем. Её решение в стольном граде, и потому мы выступаем в Москву.
Воеводы одобрительно зашумели. Фёдор Шереметев сказал им:
— Не тратьте время попусту и поднимайте полки в поход.
А князь Василий Шуйский подошёл к Шеину и Скопину-Шуйскому. Тронув племянника за рукав, он произнёс:
— Ты, Миша, останься при мне. А ты, боярин Шеин, вставай над полкам и, ежели нет у тебя побуждений идти в стан самозванца, веди полк в Москву.
— Так и поступлю, князь-батюшка.
— И забудь мою вспышку гнева. Я был неправ, — признался Василий Шуйский.
Они посмотрели друг другу в глаза, но то, что каждый из них думал в эти мгновения, не отразилось в глазах, осталось в глубинах их сердец.
На третий день военный лагерь под Кромами перестал существовать. Шереметев, Шуйский, а с ними и Шеин во главе полка спешно возвращались в Москву. Они не собирались признавать Лжедимитрия законным престолонаследником. Грядущие события внесут в их души много разочарований.
Глава четырнадцатая ЛЖЕДИМИТРИЙ НА ПРЕСТОЛЕ
На пути к Москве Михаил Шеин шёл со своим полком, замыкающим поредевшие две рати, где уже всё смешалось и не было полков. Воеводу одолевали горькие думы. Его пугало победное шествие самозванца к Москве. Шеин со своим конным полком едва успевал уходить от передовых отрядов самозванца, в которых было много поляков. Михаил знал это доподлинно, потому что его лазутчики Пётр и Прохор со своими охотниками захватили в ночном набеге «языка» и им оказался польский шляхтич.
В Москве Михаил привёл свой полк на Ходынское поле и явился к дьякам Разрядного приказа, которые здесь всем заправляли. Рассудив здраво, Шеин и дьяки пришли к мысли, что полк распускать по домам нельзя. Но окончательно судьбу полка дьяки не могли решить и отправили Шеина в Разрядный приказ к думному дьяку Елизару Вылузгину, который дал бы им право отпустить ратников на домашнюю побывку.
В Москве уже чувствовалось напряжение жизни. Москвитяне, как заметил Шеин, были не в меру торопливы, сосредоточенны. Как и в голодные годы, запасались съестными припасами.
— Знают, поди, москвитяне, что самозванец близко, — сказал Анисим.
— Как не знать! Поветрие уже давно охватило стольный град.
Воевода и стременной поднимались на Красную площадь со стороны Москва-реки. Они увидели, как площадь наполняется народом во всю ширь Тверской улицы.
— Вот оно и поветрие. Сейчас найдётся кому читать и проповеди про самозванца. Давай-ка побыстрее уберёмся в Кремль.
Михаил въехал под арку Троицких ворот. Но в Кремль их впустили не сразу, решётка была опущена. Один из стражей побежал в Разрядный приказ. Когда он принёс повеление думного дьяка Вылузгина впустить в Кремль воеводу Шеина и его стременного, решётку подняли.
Дьяк встретил Шеина приветливо.
— Славно, что вернулся в Москву. Почитай, почти все воеводы ныне идут на поклон к самозванцу Гришке Отрепьеву.
— Так уж и все, Елизар Матвеевич?! Вон Шуйский и Шереметев в Москву пожаловали.
— Ну им сам Бог велел. А ты, воевода, с чем ко мне пожаловал?
— Так полк я привёл, а что с ним делать, не знаю.
— И впрямь можно головой свихнуться. Да мыслю я так: распустить его надо по домам. Всё меньше попадёт к самозванцу.
— А что царь Фёдор по этому поводу скажет?
— Э-э, добрый молодец, что он может сказать из-за матушкиной спины. Нет у нас отныне государя.
Михаил ничего на это не ответил. Он счёл, что думный дьяк прав: не удержаться Фёдору Годунову на троне под натиском народного поветрия.
Получив позволение распустить полк, чтобы он не очутился в руках мятежников, Шеин вновь отправился на Ходынское поле. Но добраться до него оказалось не так-то просто. Площадь перед Кремлем запрудили восставшие красносельцы, которых привели к Кремлю посланцы Лжедимитрия Гавриил Пушкин и Наум Плещеев. В тот миг, когда Шеин и Анисим выехали из ворот Кремля, Гавриил Пушкин с Лобного места доносил до красносельцев и москвитян «прелестные грамоты» самозванца о благах, которые он собирался даровать как всем простым россиянам, так и боярам, воеводам, дворянам. Когда Пушкин прочитал грамоты, красносельцы потребовали от него сказать, истинный ли Димитрий идёт в Москву.
— Молюсь Господу Богу, не боясь кары, — кричал в ответ Пушкин, — это последний сынок Ивана Грозного идёт к своему трону!
С Варварки на коне и в сопровождении многих холопов пробивался сквозь толпу на Красную площадь Богдан Бельский. Прямо с коня он встал на Лобное место и мощным голосом заявил:
— Я, окольничий Богдан Бельский, клятву даю вам, россияне, что идёт истинный царевич Димитрий, которого я сам спас от злодейской руки в Угличе!
— Слава Бельскому! Слава! — закричал народ.
— Идите за мной, россияне! Да скинем Федьку Годунова, откроем путь к престолу государю нашему батюшке Димитрию!
Бельский, вновь поднявшись на коня, двинулся к воротам Кремля. За ним лавиной двинулся народ. Но навстречу ему из Кремля выбежали стрельцы. Их было около двух сотен. Они попытались разогнать толпу, но их смяли, и они кое-как успели скрыться за воротами Кремля. Однако Богдан Бельский и толпа россиян покатились следом за стрельцами.
Что случилось в этот день в Кремле, Шеин так и не узнал.
Пробираясь через толпы народа на Ходынское поле, Михаил вспомнил события четырнадцатилетней давности, когда он был их свидетелем в Угличе. И слово в слово он вспомнил то, что поведал ему на берегу Волги рыболов Лампад. «Так, может, и впрямь царевич Димитрий остался жив», — мелькнуло у Шеина.
И всё-таки у Михаила нашлось возражение: «Нет, истинный царевич не стал бы искать помощи у поляков, злейших врагов Руси».
Сдав полк и попрощавшись с воинами, Михаил поскакал с Анисимом домой, на Рождественку. Он знал, что там его ждут и переживают за него. Он хотел поскорее увидеть дорогие лица матушки, жёны, дочери и… Нет, остановил он себя, Мария ещё не родила. Когда Михаил уезжал под Кромы, она ходила предпоследний месяц.
Анисим ехал на Рождественку тоже в крайнем возбуждении. Что ж, у него были на то основания. Ведь он и медовый месяц не успел провести с молодой женой. Пошутил, однако:
— А что, батюшка-воевода, узнают нас с тобой семеюшки? — Но, когда Михаил усмехнулся, добавил: — Дай как узнать, ежели мы, аки лешие, обросли бородищами. И зачерствели. Так в баньку хочется!
Михаил упрекнул Анисима:
— Ты что разнылся? Благодари судьбу за то, что к дому привела.
И впрямь показались палаты Шеиных. В воротах Михаила встретил грустный привратник. Он смотрел на Михаила печальными глазами.
— Что случилось в доме, Михей? — спросил Шеин.
— Боярыня-матушка хворает. Слегла в постель и какой день не поднимается.
Михаил соскочил с коня и побежал к дому. Он, похоже, вымер: ни души в прихожей, в трапезной. Но вот в прихожей появилась Глаша. Она увидела, что Михаил снимает кафтан, приблизилась и взяла его.
— Матушка болями мучается, — тихо сказала Глаша.
Михаил шёл к опочивальне матери бесшумно, словно боялся потревожить тишину. И двери открыл медленно, вошёл, постоял у порога, осмотрелся. У постели сидела Мария. Заметив Михаила, она встала, подошла, ткнулась ему в грудь и прошептала:
— Она уснула. Три ночи была без сна. Дышала тяжело и вся в поту. Катерина с Сильвестром вчера приходили, растирали мазями, отваром поили. Только сегодня ушли, как легче матушке стало.
— Не отпускали бы Катерину.
— Она скоро придёт.
— И что за боли у матушки, она не сказала?
— Говорит, что поветрие гуляет по Москве. Многие так болеют и исходят от него.
— Из дому она выходила? Ежели выходила, то и впрямь поветрием обожгло.
— В Кремль ходила вместе с Глашей. Там молились перед святой Троицей. Потом на торг зашли…
— Напасть какая! И что же их на торг повлекло? Там столько пришлых людей…
Мария промолчала и потянула Михаила за руку к постели больной. Чистым льняным полотенцем она коснулась лба Елизаветы.
— Матушке лучше. Нет испарины. Слава Богу.
— Я вижу, ты сама от усталости вот-вот упадёшь. И вид бледный. Иди, приляг, лебёдушка. — Михаил коснулся живота Марии.
— Зачем лежать, любый? Мне сейчас ходить надо больше. Так легче рожать будет.
Мария и Михаил подошли к лавке, что стояла у печи, присели на золотистый бархат, прислонились к изразцам, прижавшись друг к другу.
— Я теперь надолго домой, — сказал Михаил. — Не хочу ни с кем воевать.
— Усидишь ли дома? Матушка, как пришла с торга, рассказала столько страстей. Будто бы царевич Димитрий пришёл уже в Серпухов и назвал себя царём.
Новостей у Марии набрался целый короб. Она перечислила многих бояр, которые покинули Москву ещё при Борисе Годунове и ушли в стан царевича Димитрия. Мария не называла его ни самозванцем, ни Лжедимитрием, и это удивило Михаила: и у неё не было никакой почтительности к Борису Годунову и его памяти. Это показалось Михаилу настолько странным, что он спросил:
— Машенька, а ты когда-нибудь чтила государя Бориса Фёдоровича?
— Как не чтить его было, когда он стоял при царе Фёдоре. Да и первое время, как царствовал. А после болезни он в деспота превратился. Сколько страстей рассказала о нём Катерина, и я ей верю. Да и как не верить…
— И я тоже верю. Но ты почтительна к имени царевича Димитрия.
— Опять же Катя тому причиной. Она мне поведала целую быль о том, как спасли царевича Димитрия и где он до сего дня пребывал. Да сокрушалась Катерина в последний раз, как матушку навещала. Говорит, что в Путивле истинный царевич заболел, а его и подменили самозванцем. Теперь Димитрия привезли в Серпухов и в крепость упрятали, и пока самозванца не коронуют, он будет жив. Так ясновидица утверждает, а ей не верить нельзя. Вот бы и спасти истинного царевича.
Михаил задумался над тем, что услышал от своей «лебёдушки». Ведунам Катерине и Сильвестру он во всём доверял. Дано им было Всевышним видеть грядущее и то, что кроется во мраке прошлого.
Шеины ещё долго сидели молча, когда дверь в опочивальню тихо открылась и в неё вошла Катерина. Она заметила Михаила и Марию, приложила палец к губам: дескать, молчите — и прошла к постели боярыни Елизаветы. Застыв близ неё, Катерина протянула руку, раскрыла ладонь и подержала её над лицом больной. И показалось Михаилу, что с лица его матушки летят к ладони Катерины некие белые мушки и, вспыхнув искорками, гаснут на ней. Вот их всё меньше, меньше отлетает от лица боярыни, и они продолжают гаснуть, коснувшись ладони ведуньи.
Мария в это время приметила другое. Она увидела, как лицо Катерины покрывается потом, который стекает струйками. Наконец Катерина вытерла лицо углом своего платка, подошла к Марии и Михаилу, присела рядом, положила руку на плечо Марии.
— Оставим спящую одну. Да вознесём хвалу Всевышнему за то, что избавил её от болести.
Все трое покинули опочивальню. А появившись в трапезной, прошли к божнице и принялись молиться. Как кончили, в трапезной появился Анисим, сказал Михаилу:
— Батюшка-воевода, там баня готова.
Михаил посмотрел на Марию.
— Иди-иди, любый. А мы с Катей трапезу приготовим.
Прошло несколько дней «сидения» Михаила в своих палатах. За эти дни он ни с кем не встречался, кроме домашних, никуда не выходил и был намерен пребывать в добровольном заточении, пока в Москве всё колыхалось от смуты. Однако, не покидая свой дом, Михаил не хотел быть в неведении о том, что происходило за забором его подворья, и каждое утро, как на службу, посылал Анисима на улицы Москвы собирать слухи, чтобы из них выловить крупицы правды. Но были дни, когда Анисим приносил вороха истинной и жестокой правды.
В середине июня жарким полуднем Анисим вернулся со «службы» ранее обычного и, найдя Михаила на хозяйственном дворе, поведал ему со страхом в голосе:
— Батюшка-воевода, ноне случилось такое, что и придумать невозможно, право же, слов нет.
— Успокойся и начни с самого главного.
— Да с того и начну, что из Серпухова с большим отрядом воинов примчал в Москву князь Василий Голицын. Я был в тот час на Красной площади и видел, как он с ходу вломился в Кремль. А спустя немного времени — я и пирожок с потрохами не успел съесть, — как из тех же ворот выехал открытый возок в окружении воинов и на возке сидел связанный по рукам и ногам патриарх Иов в старой ризе.
— Ошибся ты. Того не может быть!
— Истинно говорю, воевода. Мне ли не знать патриарха. — И Анисим перекрестился. — Я побежал за возком. Ещё стражник на меня плетью замахнулся. Вскоре возок скрылся в Богоявленском монастыре, что в Китай-городе. Я побежал обратно к Кремлю и увидел согбенного старца, который шёл и плакал. Я признал в нём услужителя патриарха диакона Николая, подошёл к нему, спросил: «Что с тобой, святый отче?» Он посмотрел на меня глазами, полными слёз. «Господи, почему ты не поразил меня слепотой? — взмолился он. — Зачем дал увидеть зверское злодеяние?» — «Но что случилось?» — спросил я. Он же ответил: «Я ушёл на подворье Годуновых, как увели батюшку патриарха, а туда следом же вломились стрельцы с князем Василием Голицыным… Господи, покарай их, аспидов! На моих глазах они задушили царицу Марию и её сына Фёдора, царя русского». Тут я отвёл диакона Николая в храм Василия Блаженного и побежал домой.
Через неделю ранним утром к Шеиным пожаловали гости: Катерина, Сильвестр и их восьмилетняя дочь Ксения с огненной вьющейся косой и зелёными глазами, копия матушки, будущая ясновидица от Бога. После кончины Годунова они вновь открыли лавку на Пречистенке и торговали узорочьем. И повод прийти у них был: они знали, что боярыня Елизавета поднялась с постели. Всякий раз, благодаря в молитвах Господа Бога за то, что избавил её от смертного поветрия, Елизавета вспоминала добрыми словами Катерину и Сильвестра. Лёгкие на помин, они и пожаловали. И принесли гостинцев: мёду в сотах, пчелиного молочка — узы — всё для того, чтобы укрепить здоровье боярыни.
За утренней трапезой собралась вся семья Шеиных, гости и Анисим с Глашей, которые стали близки Шеиным, считавшим их за членов своей семьи. Глаша была неразлучна с Катюшей, которой пошёл уже шестой годик. Не было за столом лишь Марии. Она дохаживала последние дни и не выходила из опочивальни. Катерина назвала даже день, когда Мария принесёт дитя:
— На день апостолов Петра и Павла наша роженица и порадует вас сынком и внуком Иванушкой.
После трапезы была беседа о московских новостях. Вдруг в самый разгар разговора Сильвестр быстро встал из-за стола, поспешил к божнице и начал истово молиться. А помолившись, вернулся к столу и, сверкая зелёными глазами, с жаром произнёс:
— Не моё, но, глаголю, пришло из глубины грядущих веков. Слушайте же. — И Сильвестр вскинул руку с указующим перстом:
Кто б ни был он, спасённый ли царевич, Иль некий дух во образе его, Иль смелый плут, бесстыдный самозванец, Но только там Димитрий появился!..И Сильвестр указал на Кремль, башни которого виднелись из палат Шеиных.
— А ведь суть-то глубокая в том, что тебе, Сильвестр, открылось, — отозвался Михаил. — И что же выходит, новый царь уже в кремлёвском дворце появился?
— Ещё нет, но скоро будет там. И я прошу у боярыни Елизаветы милости, отпустить нас, мужей, посмотреть на въезд царя в Кремль.
В этот миг над Москвой заблаговестили колокола. Особенно усердно они звонили в кремлёвских соборах и звонницах.
— Вот и знак приближения царя к Москве. Идёмте же, други, посмотрим. — И Сильвестр хлопнул Анисима по плечу.
— Я сбегаю к Маше, скажу ей, — поднимаясь из-за стола, произнёс Михаил.
Они шли к Красной площади под несмолкаемый звон колоколов. Михаил не помнил, чтобы кого-нибудь когда-либо так встречали. А может быть, священнослужителям нужно так трезвонить. Может, они поверили, что вот-вот въедет в Москву истинный царевич Димитрий. Что ж, в Серпухов к нему съехались сотни вельмож, и все признали его царём, и никто не сбежал, вдруг разуверившись. «Почему?» — задавал себе вопрос Михаил Шеин на пути к Красной площади и не находил ответа. Даже ведун Сильвестр уклонился от праведного слова, когда Михаил спросил его:
— Ты-то веришь, что сейчас увидим царевича Димитрия?
— Подожди, Борисыч. Близок час, когда всё станет ясно как Божий день. Главное — присмотрись, кто его окружает. А теперь давай минуем Китай-город и спустимся к Москва-реке. Там, на мосту, лучше всего увидеть его близких, да и самого рассмотреть.
Оказалось, что к мосту близ спуска от храма Василия Блаженного добраться было не так-то легко. Толпа там возвышалась плотной стеной, и, если бы не Сильвестр, стоять бы Михаилу и Анисиму сажен за двести от моста. Он же сломил ивовую ветку, очистил её от коры, выставил далеко вперёд и пошёл к толпе, ведя следом Михаила и Анисима. Он трогал палочкой горожан, они оборачивались и, увидев перед собой «слепого», уступали дорогу.
«Смотри-ка, к убогому да сирому россияне всегда милость проявляют», — подумал Михаил, идя за Сильвестром.
И вот они уже близ моста и слышат, как за Москва-рекой перекатываются мощные отзвуки приветствия вступившему в Москву Лжедимитрию.
Приближался миг, когда воевода Михаил Шеин должен был воочию убедиться, истинно ли перед ним царевич Димитрий. И не проросла ли в нём с новой силой досада на то, что под Добрыничами ему не удалось сразить самозванца? Какая бы благодать наступила на Руси!
Но нет, самозванец здравствует, и вот он уже въехал на мост. Он верхом на белом коне, на нём бобровая шапка, атласный кафтан, он… Нет… Михаил запутался, он не мог вспомнить, каков же самозванец на лицо. Потом вспомнил: он безобразен. Но это было первое впечатление. Михаил позже согласился, что это был молодой человек роста ниже среднего, некрасивый, рыжеватый, с большой бородавкой с правой стороны носа, ко всему прочему неловкий и с каким-то грустным и задумчивым выражением лица. Таким Шеин увидел его позже в Кремле и в те же дни удивился, что за неказистой внешностью скрывалась незаурядная натура, бойкий, как у дьяков, ум, легко разрешающий в Боярской думе многие трудные для тугодумов-бояр государственные вопросы.
Всё это было потом, а пока Шеин видел нечто нелепое и даже никак не совпадающее с представлением о нормальном россиянине. Вот самозванец совсем рядом. Михаилу показалось, что тот посмотрел на него, заметил, может, запомнил. Но тут внимание Шеина было привлечено другим. За самозванцем ехал большой отряд польских вельмож и шляхтичей. Этот отряд удваивался тем, что за ним следовали оруженосцы. Они были увешаны оружием. Михаил вспомнил, что шляхтич без оруженосца всё равно что петух без хвоста. Шеин грустно улыбнулся от этого сравнения и тут же почувствовал, как в его душе рождается гнев: почему же в свите сына Ивана Грозного нет ни одного русского — боярина, князя, рынды, наконец? Всех оттеснили поляки. Что ж, такое было и при Иване Грозном, когда он женился на черкешенке Марии Темрюковне. Тогда его двор заполонили кавказцы.
Однако русские вельможи были в свите самозванца, они ехали следом за поляками, и их было не меньше сотни. Многих из них Шеин запомнил по той поре, когда они были в свите Бориса Годунова. «Вот они, придворные царя Бориса», — мелькнуло у него. Он отвернулся от них, тронул Сильвестра за локоть, сказал ему:
— Пойдём, любезный, от этого балагана подальше.
Вернувшись на Рождественку, Михаил велел накрепко закрыть ворота и калитку, никого из Кремля не впускать и дал самому себе зарок не показываться там. Он оставил за собой лишь возможность получать через Анисима какие-либо вести о жизни в Кремле, в Москве.
Прошло три дня, и Анисим принёс первую весть, которая заставила Михаила задуматься. В селе Преображенском Лжедимитрию была устроена встреча с инокиней Марфой, бывшей царицей Марией, матерью царевича Димитрия Угличского. И царица признала сына, обошлась с ним ласково. А он, как почтительный сын, три версты шёл с непокрытой головой около кареты царицы-матери.
Позже Михаил Шеин понял, как низко пала Мария Нагая, признав спустя какой-то год мощи царевича Димитрия, привезённые в Москву из Углича. Тому событию Шеин был свидетелем сам.
Но пришёл час, и Михаил избавил себя на несколько дней от каких-либо вестей из Кремля, из дворцовой жизни. В доме поднялась радостная семейная маета. Пришла пора Марии рожать дитя, и тут уж никак нельзя было обойтись без Катерины. Мария так и сказала Михаилу:
— Любый, привези к нам Катеньку-ясновидицу. Без неё я никак не справлюсь с родами. Чувствую, что дитя очень крупное.
Михаил велел запрячь крытый возок и поехал с возницей на Пречистенку. Катерина с дочерью Ксенией были в лавке, стояли за прилавком. Михаил поведал, зачем приехал. Катерина задумалась. Шеин даже испугался: вдруг откажет. Но Катерина размышляла о другом. Покупателей из лавки не выпроводишь — это не принято. Ксюшу одну не оставишь — разные покупатели бывают. Выход один: просить Михаила, чтобы побыл в лавке, пока не вернётся Сильвестр. Она так и сказала:
— Ты, славный, оставайся с Ксюшей, Сильвестр скоро придёт. Она торговать умеет, цены и счёт знает. А я поеду с твоим возницей.
— Спасибо, милосердная. За нас не волнуйся.
— И ты за нас не волнуйся. Всё будет хорошо.
Катерина ушла в дом, там собрала всё, что нужно, чтобы принять роды, и спустя несколько минут возок укатил на Рождественку.
Михаил в этот день славно поторговал с Ксюшей, но Сильвестра так и не дождался и был вынужден заночевать в его доме.
Сильвестр вернулся лишь утром. Впустив ведуна в дом, Михаил потрепал его по плечу:
— И где это ты пропадал? Катя вчера сказала, что скоро вернёшься. Заставил нас с Ксюшей поволноваться.
— Простите. Оказия случилась, когда-нибудь расскажу.
— А Катя вчера уехала принимать роды у Маши. Дай мне коня.
Сильвестр проводил Михаила до конюшни, дал коня, и Михаил помчался на Рождественку.
Мария в эту ночь благополучно разрешилась. Принесла сына. Михаилу оставалось только принимать поздравления. Он же подумал: «Надо же, Маша так и привыкнет рожать без меня».
Жизнь, однако, нарушила семейный покой Шеиных. Вскоре после встречи с «матерью» Лжедимитрий разослал по всей Москве посыльных, которые от его имени приглашали вельмож на обряд венчания на царство. Получил такое приглашение и Михаил Шеин. Он долго не мог решить, идти или не идти ему на обряд венчания в Успенский собор Кремля. Знал, что, как только Лжедимитрий будет венчан, всех вельмож обяжут присягнуть на верность венчанному царю. Отбросив всякий страх перед возможной опалой, Шеин отважился остаться дома в день венчания Лжедимитрия. И после венчания, сказано в хронике, «Шеин не торопился… с присягой и поклонился Гришке только тогда, когда ему поклонились другие».
Как потом узнал Михаил Шеин, Лжедимитрий был раздосадован и сердит на строптивого воеводу. Но вскоре за пиршествами, за приёмами вельмож всех рангов и иноземных послов царь забыл о нём.
Вспомнил же Лжедимитрий о Михаиле Шеине, когда задумал вводить в дворцовый оборот различные преобразования. Они касались всех московских государственных учреждений. Лжедимитрий замахнулся даже на Боярскую думу и пожелал вместо неё устроить Сенат по образу и подобию польского. И все положения о Сенате готовили поляки, лишь список сенаторов подготавливали русские — дьяки Дворцового и Разрядного приказов. Дьяки называли новый государственный орган не Сенатом, а «Советом его царской милости». Такое название понравилось Лжедимитрию, и он велел узаконить его в документах. «Совет его царской милости» разделили на четыре отделения: духовный, бояр, окольничих и дворян. В «Совет окольничих» было назначено шестнадцать человек, и первой была записана фамилия Шеина. Михаил пришёл к мысли о том, что Лжедимитрий стремится прибрать его к рукам. Тут было над чем задуматься, и Михаил вспомнил о думном дьяке Елизаре Вылузгине. Он отправился к нему за помощью. Он знал, что любезен дьяку, и тот всегда помогал ему добрым советом.
Не тратя попусту время, Михаил велел оседлать коней и поехал вместе с Анисимом на Сивцев Вражек, где жил в богатых палатах думный дьяк. Встретились Елизар и Михаил душевно. Дьяк велел подать на стол медовуху, закуски и, когда слуги управились с этим, пригласил Шеина за стол. Когда сели, спросил:
— Какая нужда привела тебя ко мне? Ты ведь, Михайло Борисыч, живёшь сейчас без забот.
— Есть нужда, и большая, батюшка-дьяк, не знаю, что и делать… Вписали меня первым лицом в «Совет окольничих», а я не хочу служить в нём.
— Ведомо мне, кто тебя вписал. Это князь Василий Голицын, первый из лиц при царе. А ему подсказал это твой старый соперник князь Димитрий Черкасский. А делать надо одно: отойти от этого совета подальше.
— Не знаю, как это исполнить.
— Невыполнимых дел нет. Любезен ты мне, Михайло-окольничий. Так вот вспомнил я, что, когда тебя покойный государь-батюшка Борис жаловал этим чином, он распорядился приписать к нему три сельца — так уж положено. Ты тут же к войску уехал, а дворцовая служба забыла тебя уведомить. Теперь же самое время съездить тебе в вотчину, потому как там хозяйский глаз нужен. А сёла твои в Костромской земле, близ большого села Голенищева. И грамота царская тебе написана. Завтра пришли в приказ своего Анисима, вручу ему царскую грамоту, и покидай Москву со всем семейством. А другого пути и нет тебе, ежели с честью послужить Руси думаешь.
— Получится ли, как советуешь, батюшка-дьяк?
— Постараюсь, чтобы получилось. А попутно получишь наказ собирать ратников в Костромской земле. Это уж к воеводе Михаилу Бутурлину грамота будет. С ним и обговоришь её.
— Как мне благодарить тебя, батюшка-дьяк?
— О том не думай. Ты заслужил внимание к себе верной преданностью Руси, но не власть имущим. Построй там дом крепкий и живи, пока не сменятся шаткие цари. Да ты всё понимаешь, и не мне тебя учить. А теперь давай пригубим царской медовухи за благо отечества. Верю: таким, как ты, ещё против поляков каменной стеной стоять придётся. Вот и весь мой сказ.
Они ещё долго просидели за столом, вороша смутные события. И не расстались крепкие духом два россиянина, пока не осушили братину[23] царской медовухи.
На другое утро, когда голова ещё болела от медовухи, Михаил напился крепкого кваса, пришёл в себя и отправил Анисима в Разрядный приказ к дьяку Елизару Вылузгину за грамотами на отъезд. Сам зашёл в трапезную, чтобы обсудить за столом все те перемены, какие приспели Шеиным. Когда все уселись за стол, он сказал:
— Матушка и супруга, вчера дьяк Вылузгин меня порадовал. Случилось то, что, когда мне дали чин окольничего, Борис Фёдорович приложил к нему три сельца в Костромской чети. Теперь вот ехать туда надо, хозяйство налаживать.
— Кому это ехать? — спросила боярыня Елизавета.
— Да всем нам, матушка.
— Большой ты, а неразумен. К чему мы приедем, ежели там ни кола ни двора?
— Так палаты возведём! — бодро заявил Михаил.
— Вот и возводи, тогда и поедем. А сейчас-то куда ехать с малыми детьми да мне, старой?
— Как же быть? Выходит, под самозванцем сидеть?
— Сиди тихо, и никто тебя не тронет. Новый царь, говорят, добрый и тебя вон поднял на высоту.
— С той высоты и в пропасть столкнут, — произнёс Михаил.
Он понял, что разговор с матушкой ни к чему не приведёт, но ошибся.
— А ты поезжай один. Вон с Анисимом и отправляйся, ежели Маша тебя отпустит.
Михаил не ожидал такой милости от матушки. Да и права она была. Безрассудно он хотел потянуть семью в пустыню. Что же им в крестьянских избах жить? Но вещало сердце, что надо убираться из Москвы, и он посмотрел на супругу, надеясь, что она поймёт его. И Маша поняла, сказала:
— Я не против, матушка. Мы тут справимся. А Михаил Борисыч пусть едет. Да не верхом, а с Карпом и в возке. Мужик он смекалистый. — Мария тронула Михаила за руку. — Ты уж прости, но Анисиму тут за дворецкого стоять.
Михаил согласился с доводами матери и жёны. В одном не изменил себе: не отказался от верхового коня, но и Карпа с пароконным возком взял.
Шеин оставил Москву за два дня до первого заседания «Совета его царской милости». На совете в тот первый день, как он собрался, никто не заметил, что окольничий Михаил Шеин не счёл нужным выполнить царскую волю.
Глава пятнадцатая ШУЙСКИЙ И ШЕИН
Покинув Москву в первых числах июля, Михаил Шеин на седьмой день пути добрался до Костромы. Давно он не отдыхал душой и телом так хорошо, как на минувшей неделе, преодолевая версты, а их было около трёхсот. Благоволила ему летняя пора, тёплые ночи, которые он с Карпом проводил под открытым небом. В Кострому въехали в полдень. Был праздник Казанской Божьей Матери. В храмах города, в Ипатьевском монастыре трезвонили колокола.
Михаил нашёл дом воеводы Бутурлина — он стоял на площади неподалёку от собора — и поспешил в его палаты, чтобы застать до богослужения.
Михаил Никитич и впрямь был ещё дома и в храм не спешил. Как привёл слуга Шеина в залу, где была и трапезная, предстал перед ним боярин лет сорока, крепкий в плечах, с благородным лицом и опрятной бородой. Через несколько лет судьбе будет угодно, когда Бутурлин овдовеет, свести его с Катериной-ясновидицей, которую тоже постигнет участь вдовицы, и они обвенчаются в храме, что виднелся за окнами палат боярина.
— Чем могу служить? — спросил воевода Шеина.
— Милости твоей прошу, Михаил Никитич, показать мне три сельца близ села Голенищева, жалованные государем Борисом Фёдоровичем. — Шеин достал дарственную грамоту. Бутурлин взял грамоту, прочитал её, положил на стол.
— Господи, что ж ты сразу не объявился, дорогой мой человек! Ведь мой батюшка с твоим в побратимах ходили. Под Полоцком их свела судьба. До самой кончины помнил он отважного воеводу Бориса Васильевича. Рад с тобой познакомиться, сын славного воеводы. — И Бутурлин шагнул к Шеину. — Дай я тебя обниму, тёзка. — И крепко обнял, они облобызались. — И никаких дел сегодня. Тебе баню приготовят, и ты мой гость. О Москве хоть поведаешь. Мы тут как в лесу, слухами все кормимся.
Говор у Бутурлина был по-волжски окающий и тёплый. «Костромичи наверняка любят своего воеводу», — подумал Шеин. Он был рад, что судьба свела его с душевным россиянином.
Михаил Шеин прогостил у Бутурлина три дня. Потом дьяк воеводы повёз его в Голенищевскую волость, где находились три отписанные ему сельца. Вступив во владение сёлами, он не думал ничего изменять в жизни принадлежащих теперь ему крестьян. Ограничился лишь тем, что вместе со старостами трёх сел — Ладыгино, Берёзовец и Левково — выбрал себе место для усадьбы на высоком берегу реки Ноли и поручил старостам строить дом.
Народ в сёлах жил лесной, все мужики занимались охотой, умели плотничать, столярничать. Как был убран хлеб со скудных полей, староста отправил мужиков в лес заготавливать брёвна и свозить их к месту возведения дома неподалёку от села Берёзовец. Со старостой этого села, довольно молодым мужиком, Михаил как-то незаметно сдружился. Василий Можай был обстоятелен в делах, рачителен как хозяин и обходителен с крестьянами, словоохотлив. Он и возглавил строительство дома. По его указанию валили столетние сосны в обхват толщиной, вывозили их к стройке, обтёсывали, остругивали до янтарного блеска и возводили сруб на дубовые подставы.
В эти же дни другие мастера заготавливали глину, мяли её, резали на доли и обжигали кирпич. В кузницах ковались петли на двери и окна, ручки, скобы, гвозди. Дивился Шеин мастерству костромичей: за что ни возьмутся — всё сделают. Вот только за стеклом и за изразцами пришлось посылать Василия Можая в Кострому.
Постепенно Шеин сам стал вникать во все тонкости возведения дома. Он распределил, где быть поварне, трапезной, опочивальням, какой должна быть светёлка. Радовался Михаил, как на его глазах поднимался дом, в котором через какие-то два месяца он затопит печи и будет смотреть из окна на заречные дали. И он дождался этого дня. В конце сентября дом был построен. Да и немудрено: над ним потрудилась чуть ли не сотня мастеров. Поработали на доме даже кудесники из села Голенищева. Они покрыли гонтом[24] крышу и поставили печи, украшенные изразцами.
Обмыть новый дом Шеин позвал всех, кто его возводил. Не пожалел казны ни на хмельное, ни на угощение. Он послал Карпа с двумя возами в Кострому, и тот всё закупил на торге. Всем, кто трудился на строительстве дома, Шеин выплатил жалованье. Знал он, что мужики и парни не забудут его справедливости.
Обмыв «новоселье», Шеин несколько дней любовался домом, водил по нему Карпа и показывал, где и что будет стоять из мебели, где и чья разместится опочивальня, кто поселится в светёлке. Постепенно он привык к новому дому, но однажды понял, что его мечты пожить в этом доме в обозримом будущем призрачны. Он — воевода, и удел его — военные походы, сечи, битвы. Михаил далее удивился, что вот уже четыре месяца его не беспокоят. Он отдыхал, ходил в лес с Василием Можаем, охотился на зайцев, даже за лосем они гонялись вместе с Василием. Это какое же благо выпало ему! Но чувствовал Михаил, что всё это будет прервано в первые же весенние дни. Как ледоход на реках наступает непременно, так и он потребуется кому-либо для военного похода. Предчувствие не обмануло Михаила Шеина.
В середине марта, ещё по санному пути, из Костромы примчал от воеводы Бутурлина посыльный, и с ним был Анисим. Михаил глазам своим не поверил, когда в поварне появился Воробушкин. В груди у воеводы возник холодок: уж не случилось ли чего-нибудь в семье? Однако, увидев Шеина, Анисим улыбнулся.
— Слава Богу, батюшка-воевода, ты жив, здоров, и это хорошо.
— Спасибо, что улыбнулся. Я сразу понял, что дома всё благополучно. — Михаил подошёл к Анисиму, похлопал его по плечу, усадил на скамью. — Ну рассказывай, что привело в глухомань?
Анисим опять улыбнулся.
— Я не один, батюшка-воевода, а с посыльным от Бутурлина. И мы всю дорогу гнали лошадей с самого утра. Накорми нас вначале, а новостей у меня полный короб.
— Прости, Анисим, ты прав.
— Чего там, твоя выучка, батюшка. — Анисим опять улыбнулся. Ему не терпелось что-то сказать, и он не смолчал. — Ты поздравь меня, батюшка-воевода. Моя Глаша двойню принесла — двух сынов. Одного Тихоном назвали в честь Глашиного отца, другого в честь моего — Никитой.
Михаил взял Анисима за плечи, поднял и трижды поцеловал.
— Богатыри вы с Глашей! Поздравляю! Ну, зови своего попутчика. А я велю Карпу тут стол накрыть.
Оба они покинули поварню. А вскоре в ней появился Карп и принялся доставать ухватом горшки из русской печи. Водрузил на стол четыре глиняных блюда, наложил в них тушёной репы с говядиной, нарезал хлеба. Вошли Михаил, Анисим и посыльный Бутурлина. В руках Михаил держал кувшин с медовухой. Карп поставил на стол глиняные поливные[25] кружки — всё просто, по-деревенски. Забулькала в них медовуха, и Михаил поздравил Анисима:
— Расти, брат мой, крепких духом россиян, а иного и не надо.
Все выпили. Началась трапеза, да скоро с нею и управились. Карп увёл посыльного осматривать дом. Михаил с Анисимом остались за столом.
— Поклон тебе, батюшка-воевода, от твоей матушки и от супружницы, ещё от доченьки. А Иванушка меня за бороду потрепал и велел тебя тоже. — Анисим со смехом тронул бороду Михаила и тут же посерьёзнел: — А приехал я по твою душу, Михайло Борисович.
— И кто же меня добивается в Москве? Ежели Григорий, то возвращайся в Москву, а я в леса уйду.
— Добивается тебя не самозванец, истинно самозванец, — повторил Анисим, — а князь Василий Иванович Шуйский.
— Вон как! С чего бы это?
— Слушай, батюшка. Позвал он меня к себе тайно, сказал, чтобы ни один тать не узнал, куда я должен ехать, и велел поведать тебе такие слова: «Михайло Шеин есть истинно русский воевода. И отец его погиб от рук поляков и литовцев. Так ему ли терпеть их надругание над Русью и отсиживаться в глуши? Знаю, ты всему очевидец, как поляки и литвины издеваются над русским народом, над его святынями. Вот о том и расскажи, и Христом Богом прошу его вернуться тайно в Москву и встать под мою руку. А занёс я её на самозванца». Сказанное князем Шуйским передаю слово в слово. Вот тебе крест! — И Анисим перекрестился.
— Но что творят поляки и литвины в Москве? И не зол ли на них Шуйский из личных побуждений?
— Зол, батюшка-воевода, люто зол. Зимой самозванец раскрыл заговор против себя. После вступления самозванца на престол Шуйский якобы стал распускать о нём дурные слухи и подговаривать вельмож к мятежу. Всё это дошло до Петра Басманова, скорей всего через князя Димитрия Черкасского, который где-то и что-то пронюхал. Басманов о том донёс самозванцу. Шуйского взяли под стражу, и сказывают, был суд из всяких вельмож, что при Лжедмитрии стоят. Они приговорили его к смертной казни. Но в час приговора пришёл на суд сам царь и показал милосердие, помиловал Шуйского, заменил смертный приговор ссылкой. Князя Шуйского увезли после суда в село Тайнинское, но туда вскоре приехал царь и отпустил Шуйского на волю. И всё наказание свелось к тому, что князь из Тайнинского шёл к своим палатам пешком.
— Вот и лютует Шуйский. Пешим-то он и на двор не ходит, — улыбнулся Шеин. — И что ещё привёз?
— Самые страсти впереди, боярин. В Москву уже ближе к весне прикатила царская невеста, какая-то полька. Так с нею пришло две тысячи польских вельмож и шляхтичей. И все в Кремль хлынули. Там и на постое. И как пошли чинить разбои да глумление над нашей верой — ужас! Во хмелю поляки в храм Успения Богородицы на конях въехали и начали из мушкетов стрелять. В икону Божьей Матери выстрелили. Потир[26] золотой украли. А кони-то гадили в храме.
— Вот за эти надругательства они и заслужили кару смертную! — И Шеин припечатал свою угрозу ударом крепкого кулака по столу.
— Ещё в храме Спаса Преображения поляки свой костёл устроили.
— И россияне молчат?! Да как можно!
— Так некому их, батюшка-воевода, поднять на ворога. Вот и собирает князь Шуйский под свою руку истинных россиян, — закончил горькую исповедь Анисим.
Шеин задумался, но его глаза беспокойно метались по поварне, словно искали схватить что-либо и ринуться на невидимого врага. И думы его были недолгими, он встал, сказал твёрдо:
— Завтра чуть свет выезжаем в Москву. Ты иди отдыхай. Карп покажет где. А у меня — дела.
Прежде всего ему надо было найти старосту Василия Можая.
— Вот что, Василий: завтра я уезжаю в Москву, — начал он разговор, найдя старосту, — так ты найди десять-пятнадцать доброхотов, молодых да ловких. Зови их послужить у меня ратниками.
— Найдётся и больше, боярин, — ответил Можай.
— Пока не надо больше. Как уеду, так ты подбирай тут крепких охотников, которые за любым зверем могут ходить, чтобы следопытами были. И чтобы ловкие… Придёт время — я их позову.
Василий бороду потеребил, умные глаза прищурил, сказал весомо:
— Всё понял, воевода. Найду и таких, обучу, чему нужно. А в придачу сына своего дам, Павла. Силён Можай, загляденье парень.
— Ну, брат, растревожил! Так ты и давай его, отправляй завтра со мной.
— Подумать надо.
— Ну, думай до утра. И вот ещё что: Карп здесь на моём хозяйстве останется, так ты ладь с ним.
— Как не ладить, коли надо мной ставишь, — усмехнулся Василий. И хитрый староста поторговался: — Так ты тогда уж, воевода, моего Павла старшим поставь над пятнадцатью.
Михаил засмеялся — раскусил Василия, согласился:
— Будет по-твоему. Только ты мне близ дома баньку поставь, конюшню на шесть лошадей и амбар, чтоб мыши водились!
На другой день ранним утром перед домом Шеина появились тринадцать конных берёзовцев. К ним вышел Анисим, осмотрел их.
— Что это, ни палиц, ни сабель не вижу при вас? Как в сечу пойдёте?
— Так мы с рогатинами, как на медведя! — ответил румянолицый широкоплечий молодец Павел Можай.
— Тогда поладим. Кто из вас не снедал? Давай за мной в поварню.
За Анисимом последовали четыре молодых парня.
Вскоре отряд берёзовцев во главе с Павлом Можаем покинул село следом за Шеиным и Анисимом. Бабы и девки проводили своих сыновей и женихов за околицу и пожелали им удачи в том неведомом, куда они уезжали. Дорога была трудной. Снег уже раскис, превратился в месиво. Кони проваливались, шли с трудом. К Волге подошли за какую-нибудь неделю перед ледоходом. В Костроме Шеин забежал к воеводе Бутурлину попрощаться. Но костромской воевода придержал у себя Шеина на целые сутки.
— Прости, тёзка, знаю я, зачем в Москву идёшь да с ратниками. Вот и я приготовил для тебя сотню. Может, этой сотни как раз и не хватит, когда из Москвы поляков погоните. Во главе сотни я поставил бывалого ратника Нефёда Шило. Положись на него во всём.
— Спасибо, воевода, за радение о Руси. А нам всякая помощь нужна, и бывалые воины прежде всего.
Своих ратников воевода Бутурлин подготовил хорошо. Все они были вооружены, сидели на крепких сытых конях. За сотней следовали пять повозок с кормом для коней и снедью.
В Москву отряд прибыл ночью. Так счёл за лучшее Шеин. Ворота ему открыли именем государя. Но к нему на поклон воевода не поехал, а тихим шагом привёл костромичей на своё подворье. Когда Михаил размещал ратников, вышла его мать. Елизавета сказала просто:
— Вот и славно, что с силой явился. И от поляков можем заслониться.
— Матушка, как вы тут?
— Пока здравствуем, сынок. Как завтра будет, не знаем. Сердит на тебя царь за то, что сбежал из Москвы. От дьяка Вылузгина человек был, тот велел в Кремле не показываться.
— Я так и предполагал. Ладно, будем жить. Бог не выдаст, свинья не съест.
Шеин провёл дома только остаток ночи и день, а поздним вечером, взяв с собой сотского Нефёда Шило и Павла Можая, ушёл с ними к князю Василию Шуйскому на Варварку. Князь Василий встретил Михаила с неподдельной радостью:
— Слава Богу, что приехал, воевода Михайло. Будет на кого мне опереться.
— Говори, князь-батюшка, что нам делать, к чему готовиться? Со мной добрая сотня костромичей.
— Как славно, что привёл их. А делать пока тебе надо одно: затаиться и ждать нашего часа. На пятницу, на Николин день, царь назначил венчание со своей спесивой полячкой Мариной. И мнится мне, что после венчания поляки войдут в раж, недели две упиваться и утешаться будут. Вот тут-то и придёт наш день.
— Затаимся и дождёмся своего часа. Мы народ терпеливый, — поддержал князя воевода.
— Одно скажу, Михайло: дома тебе не следует отсиживаться, достанут холуи самозванца. Ты у меня эти дни поживи. И сотню приведи. Убережём. Царь счёл, что угрозой казни испугал меня до смерти. Ан обмишулился. Гнева во мне накопилось столько, что дыхну — и Кремник[27] вспыхнет. Самозванец ещё узнает, как грозить Шуйскому князю.
Дальше всё шло, как предсказал князь Василий Шуйский. После венчания на Николин день, что по обычаям россиян запрещалось делать, в Кремле начался великий разгульный шабаш. На свадебном пиру почти не было видно русских вельмож. Грановитую палату, где шёл свадебный пир, заполонили польские шляхтичи. Гуляли неделю.
Лжедимитрий в эти дни открыл государеву сокровищницу, и вековой давности золотые кубки и братины в бесчисленном множестве выставлялись на столы и бесследно с них исчезали. Отгуляв неделю, сделав на два дня перерыв, поляки вновь принялись бражничать.
И настало время Василия Шуйского. Вечером шестнадцатого мая, накануне дня апостола Андроника, Шуйский собрал братьев, позвал Шеина и племянника Скопина-Шуйского, боярского сына Петра Валуева, сотского Нефёда Шило, ещё двух воевод, незнакомых Шеину, и сказал:
— Все вы знаете, что делать, но напоминаю. Ты, Иван, в полночь поднимешься на колокольню храма Живоначальные Троицы, что на Рву, и ударишь в большой колокол. Мы в этот час с ратниками выступим на Красную площадь и с неё вломимся в кремлёвские врата. Зовём горожан бить поляков, чтобы защитить царя, которого они пытаются убить. Это наш главный козырь. — Князь Шуйский с лисьей хитростью посмотрел на всех присутствующих. — И горожане пойдут громить поляков. Они им в печёнку влезли. А вы, вот ты, Шеин, со своими ратниками, ты, племянник Миша, братья мои и ты, Пётр Валуев, — все мчитесь в царский дворец и никого там не щадите, а главное — не упустите самозванца.
Никто не задал князю Шуйскому ни одного вопроса. Всё было просто и ясно. Заключая напутствие, Василий сказал:
— А теперь к воинам и за оружие.
Михаил Шеин и Нефёд Шило покинули палаты Шуйского и вышли на хозяйственный двор. Там их ждали, томясь от безделья, сто тринадцать ратников. Шеин велел Нефёду:
— В Кремле следуй за мной. А теперь выводи сотню.
Небо было пасмурным, накрапывал мелкий дождь.
Михаил подумал, что это им на руку. Придвинулась полночь, на храме Живоначальные Троицы мощно и властно зазвонил колокол. На его первые удары отозвались десятки, а затем и сотни колоколов по всей Москве. Под этот колокольный звон тысячи москвитян, похватав всякое бывшее под руками оружие, побежали на Красную площадь. Едва лишь Шеин со своими ратниками и Скопин-Шуйский со стрельцами появились на площади, как на неё с трёх сторон начали вливаться горожане. Они услышали призыв сподвижников Шуйского: «Вперёд на поляков, убивающих царя», ринулись к кремлёвским воротам и следом за стрельцами Скопина-Шуйского и ратниками Шеина, за другими воинами, примкнувшими к Василию Шуйскому, ворвались в Кремль.
В Кремле началось побоище поляков. Но «ударная сила» князя Василия Шуйского стремилась к царскому дворцу и вскоре заполонила его. Когда мятежники пошли на приступ дворца, к ним присоединились многие именитые бояре и князья. Оказались тут Мстиславские, Шереметевы. Все они тоже вбежали во дворец в поисках Лжедимитрия. Им навстречу из Столовой палаты выбежал Пётр Басманов и закричал жалким голосом:
— Стойте! Образумьтесь! Богом прошу! Государь почивает!
Но Лжедимитрий не спал. Он наскоро оделся, схватил саблю и с постельничим побежал из опочивальни в сени. Там уже были враги. Он скрылся в соседнем покое. Изменившие ему рынды убежали из покоя. Он открыл окно и поднялся на подоконник. Чья-то сабля достала его в ногу, ранила, и он упал из окна на землю. Его подхватили стрельцы верного сотского Микулина, затащили во дворик. Микулин встал на защиту Лжедимитрия. Но уже был нацелен мушкет дворянина Валуева, прогремел выстрел, и Лжедимитрий рухнул, сражённый намертво. Стрельцы, что стояли на страже дворца, подобрали тело убитого и понесли во дворец. Но на крыльце сторонники Шуйского отняли у стрельцов тело самозванца и порубили его саблями.
Михаил Шеин, выходя из царских палат, отвернулся от этой расправы над польским прихвостнем. Спустившись с крыльца, Михаил остановился и прислушался: Москва гудела от звона колоколов, от тысяч голосов, криков, стонов умирающих и растерзанных поляков. Шеин направился к патриаршим палатам, надеясь найти там кого-либо из священнослужителей патриарха Иова, но встретил толпу горожан. Несколько человек волокли на расправу грека Игнатия, «лукавого и изворотливого», которого самозванец нарёк патриархом. Многие тащили добро из патриарших палат. Шеин не стал мешать горожанам править свой суд. В рассветной дымке он увидел своего сотского Нефёда Шило, позвал его и велел стягивать воинов.
— Без нас тут есть кому разобраться, — сказал Михаил.
— Пожалуй так, воевода, — отозвался Шило и ушёл собирать своих ратников в сумятице угасшего побоища.
Рассвело. Близ Шеина сгрудились его ратники. Резня в Кремле уже завершилась. На соборную площадь въехал небольшой конный отряд. Впереди на вороном скакуне ехал Василий Шуйский. Его сопровождали три брата. Князь Василий остановился близ Шеина, спешился и подошёл к нему.
— Спасибо, воевода, ты действовал славно, — сказал князь.
— Чего не сделаешь во благо Руси, — ответил Шеин.
— Приходи завтра на Красную площадь. Народ прокричит нового царя. И помни, что он назовёт моё имя.
Князь Шуйский произнёс эти слова обыденно, но от этого они не потеряли своей силы.
Михаил Шеин поверил, что всё так и будет. Князь ждал его слова, и Михаил отозвался:
— Ты, князь-батюшка, заслужил эту честь. Твоей волей мы избавились от самозванца и поляков.
— Спасибо, воевода, за признание моей чести, — сказал Шуйский и направился к коню.
Стременной помог ему подняться в седло.
На другой день князя Василия Шуйского не выбрали в цари. Михаил, Нефёд и Анисим побывали на Красной площади и в Кремле. Сотни ратников и горожан убирали в Кремле трупы убитых поляков. Это зрелище не привлекло Шеина, и он увёл своих спутников из Кремля. Они выходили через Предтеченские ворота, и там Шеин встретился с дьяком Елизаром Вылузгиным. Он шёл в свой приказ на службу, как ходил больше десяти лет. Встреча была тёплой.
— Мы живы и здоровы, и слава Богу, — произнёс дьяк и обнял Михаила. Спросил: — Чем ты озабочен?
— Шуйский Василий звал на Красную площадь, да вот напрасно.
— Знаю, зачем звал. Пусть потерпит. Бояре думают на Земском соборе царя выбирать, да побаиваются: земцы откажут Шуйскому. Завтра, поди, позовут москвитян на Красную площадь. Приходи.
Но на другой день Михаил не смог прийти на Красную площадь. В доме Шеиных появился дорогой гость — двоюродный брат Маши Артемий. Он приехал с женой Анастасией, пятилетней доченькой Аннушкой и трёхлетним сыном Васенькой. Собрались все Шеины и Измайловы. Не хватало только боярыни Анны, которая два года назад приняла иночество и коротала старость в Суздальском Покровском монастыре. Все минувшие годы Артемий провёл в Пронске воеводой, а минувшей весной по воле Лжедимитрия был отозван.
— Теперь ты можешь вернуться на воеводство, пока другой царь-батюшка не вспомнит, — посмеялся по этому поводу Михаил.
— Надоело нам там. Настенька осиротела. В один год убрались от поветрия матушка и батюшка. Теперь в Москве поживём. Дом-то пустует.
Когда гости помылись в бане с дороги, началось застолье. Просидели за «чарами» до позднего вечера. Было что вспомнить.
А в этот день на Руси появился новый, «всенародно» избранный царь — Василий Иванович Шуйский. На Красной площади, как рассказывал Анисим, было людно, но за Шуйского прокричали лишь те горожане, которых он поднимал против Лжедимитрия. По этому поводу среди бояр Шуйского будут звать «полуцарём». Бояре потребовали от Шуйского, чтобы он целовал подкрестную запись. В ней было записано: «Целую крест всей земле на том, что мне ни над кем ничего не делать без собору, никакого дурна», — «чего искони веков в Московском государстве не важивалось», — отметили летописцы.
Чутьё подсказывало Шеину, что его отсутствие на Красной площади в день избрания Шуйского на царство сойдёт ему с рук. В сумятице державных дел царь Шуйский забудет о лёгком уколе его самолюбию. Но были у Шеина и сомнения. Как же? Ведь князь просил, а он пренебрёг — вот и укол.
Но пока в жизни Михаила Шеина всё шло благополучно. И царь Василий Шуйский не забыл о нём. Да и как забыть? Василий понимал, что трон, на который он сел, стоит на огнедышащем вулкане, а не в Руси обетованной.
Едва был низложен и убит Лжедимитрий I, как в июле начался новый поход из Путивля на Москву и во главе восставших стоял бывший холоп князя Телятевского с Черниговщины. Это был Иван Болотников. Он повсюду рассылал грамоты, называл себя царём Димитрием и писал, что чудом спасся от гибели в ночь на семнадцатое мая. Болотников продвигался к Москве стремительно. За один только август все города Курской и Орловской земель присягнули на верность царю Димитрию. Под Кромами Болотников разбил первую царскую рать, которую возглавлял брат «полуцаря» Димитрий Шуйский. Вскоре же недалеко от Калуги, в устье реки Угры, Болотников встретил упорное сопротивление рати племянника Василия Шуйского, князя Михаила Скопина-Шуйского. Однако Болотников сломил упорство девятнадцатилетнего воеводы и двинулся дальше к Москве. Силы нового Лжедимитрия постоянно прирастали. К нему присоединились под Калугой отряды восставших во главе с Истомой Пашковым.
В эти тревожные дни и позвали Михаила Шеина вместе с другими воеводами в Кремль. Тут были князья Иван Голицын, Иван Шуйский, Фёдор Шереметев.
— Вот увидел вас, и надежды во мне затеплились, — начал разговор царь Василий. — Я верю, что мы побьём Ивашку Болотникова и Истомку Пашкова. Вот ты, Иван Голицын, встанешь во главе Тверского полка, тебе, Фёдор, вести ярославцев. Ты, окольничий Михаил, со смолянами иди в сечу. Ну а брату своему Ивану я поручаю московский полк. Он на поле брани с племянником объединится и пойдёт на самого атамана вкупе с князем. — Шуйский подошёл поближе к Шеину: подслеповатый был. — А ты, Михайло Шеин, прояви умение одолеть Истомку Пашкова.
Вскоре царь отпустил воевод собираться в поход. Но Шеин зашёл сначала в палаты патриарха. Ему хотелось увидеть там лазутчика Луку Паули, который теперь служил патриарху Гермогену. Но прежде Шеину пришлось встретиться с самим патриархом. Он был суров лицом, у него были чёрные жгучие глаза, и весь облик его напоминал грозного воителя. Михаил, однако, не робел перед ним, знал, что патриарх грозен для неправедных, сказал:
— Святейший, отпусти со мной Луку Паули в поход на Истому Пашкова.
— В чём надобность в Луке, сын мой? Он не воин, но посланец патриарший.
— Он посланцем и послужит. Ведомо мне, что честный дворянин Истома Пашков впал в заблуждение и, ежели помочь ему прозреть, он отойдёт от разбойника Ивашки Болотникова. Лука это сможет сделать.
— Я в согласии с тобой, сын мой, — ответил суровый воитель за Русь православную.
Через день, когда Михаил Шеин уходил из Москвы со смоленским полком, покинул палаты патриарха и лазутчик Лука Паули. С Шеиным он встретился за Коломенским, под селом Заборьем, побывав к этому времени в стане Истомы Пашкова. Истома отошёл от Ивана Болотникова в царский стан по увещеванию Луки Паули. Но это случилось после упорных схваток отрядов Ивана Болотникова с царским войском. Как этого добился Лука Паули, трудно сказать. Ведь в эту пору в войско Болотникова пришли на помощь с отрядами братья Прокофий и Захар Ляпуновы из Рязани. Ещё пристал к повстанцам Григорий Сумбулов с отрядом в пятьсот человек.
В войске Болотникова насчитывалось в ту пору больше десяти тысяч повстанцев. Он уже замахнулся в мыслях овладеть Москвой. Но его победное шествие было прервано встречей с полками князей Голицына, Шереметева, Шуйского и окольничего Шеина. В самый разгар боев от Болотникова следом за Истомой Пашковым отошли братья Ляпуновы и Григорий Сумбулов. Иван Болотников с остатками повстанцев спешно отступил к Калуге, занял её и начал обороняться. Полк Михаила Шеина вместе с другими царскими полками преследовал Болотникова и осадил Калугу. Шёл декабрь 1606 года.
А в январе Михаил Шеин со своим полком был отозван в Москву, и он не скоро понял причину, заставившую царя Василия Шуйского вывести полк смолян на отдых.
Глава шестнадцатая НА ВОЕВОДСТВО В СМОЛЕНСК
Как перед буйными и долгими грозами, в жизни Михаила Шеина в 1607 году наступило затишье — год мирной и безоблачной жизни. Только с семьёй — женой Машей, детьми Катей и Ваней — проводил он свои дни нежданного-негаданного отдыха. Летом он побывал с женой и детьми в Суздале. Там Шеины облагораживали свой дом, встречались с Артемием и его семьёй, которые на лето приехали в Суздаль. Потом все вместе поехали на грибную пору в Костромскую землю, в село Берёзовец. Там в тишине и благости прожили до глубокой осени, ходили с Артемием на охоту, достраивали усадьбу. В селе Берёзовец заложили и начали строить каменную церковь.
А в конце бабьего лета прискакал из Москвы Анисим, который оставался на хозяйстве в палатах Шеиных, и привёз повеление царя Василия Шуйского явиться не мешкая пред его ясные очи.
— Ты не спросил у царя-батюшки, зачем он зовёт-то? — пошутил Шеин.
— Спрашивал, — весело заявил Анисим, — так он свои глазки прищурил и пальцем погрозил: дескать, много будешь знать, скоро состаришься. А мне неохота стареть, — балагурил Анисим.
Однако сердце подсказало Михаилу, что отдых ему был дан не напрасно и его ждут в жизни большие перемены. Михаил не поделился своими предчувствиями ни с кем. Он убедил Марию, что вскоре вернётся и всё будет по-прежнему.
— Жди меня, голубушка, ждите меня, детушки. Я соколом слетаю в Москву, привезу вам гостинцев, и мы зимовать тут будем.
Сын Ваня просился к отцу на руки.
— Я хочу с тобой, тятя, хочу с тобой! — тянул он ручонки.
Михаил поднял сына, прижал его к груди.
— Вот как вырастешь, дам тебе коня и мы вместе поскачем в Москву, а то и дальше.
— Я умею скакать. Дай мне лошадку, — не унимался голубоглазый лобастенький малыш.
Мария взяла у Михаила сына, сказала:
— Иди с Богом, родимый, а мы к лошадкам пойдём.
Поцеловав Марию, сына и дочь, Михаил ушёл к коню, которого держал Анисим, и вскоре они покинули подворье.
Москва на этот раз показалась Михаилу умиротворённой. Ничто не нарушало её деловитой жизни. Но ещё совсем недавно в стольном граде было неспокойно. Под Тулой, где засело войско Ивана Болотникова, ещё лилась кровь тех, кто шёл на приступы, и тех, кто защищался от царского войска. Повстанцы знали, что их ждёт, если они сдадутся на «милость» царя. Но они не знали и другого, того, что их ждёт суровая кара в самом городе. Волей царя и по совету учёных мужей на реке Упе была сооружена плотина, и город Тулу затопило. Болотников был вынужден сдаться. Его привели в Москву и ослепили, потом увезли в глухой монастырь под Каргополь, где, сказывают, он был утоплен.
Отдохнув два дня с дороги, Михаил отправился в Кремль. Его угораздило приехать в тот час, когда царь заседал вместе с Боярской думой. Однако получилось так, что Шеина пригласили в думу и привели в Грановитую палату, где обычно бояре решали государственные дела. Князь Фёдор Мстиславский, который вновь после Лжедимитрия возглавлял думу, встал навстречу Михаилу, подал руку и повёл на уготованное ему место. Прежде чем сесть, Шеин поклонился царю и всем боярам, вовсе не представляя, зачем он понадобился думцам.
Но поднялся Василий Шуйский и негромко, но так, что все слышали, сказал:
— Я позвал окольничего Михаила Шеина для того, чтобы обнародовать мою волю перед вами, думные бояре. За многие заслуги перед державой в стоянии Шеина супротив врагов русских я жалую царской волей Михаилу Борисовичу Шеину чин боярина.
Бояре все как один встали, встал и Шеин, они поклонились ему, а он им. Так, словно обыденный, свершился обряд посвящения заслуженного россиянина в сан избранных лиц, принадлежащих к высшему сословию. Впрочем, Михаил Шеин был боярского рода и за ним значилось боярство. Но здесь он получал чин боярина из царских рук и теперь мог быть избран в Боярскую думу.
Однако Шеин не стал думным боярином. Царь Василий Шуйский прочил ему иную судьбу. Человек неглупый, но более хитрый, чем умный, помнивший все заслуги Шеина перед отечеством и все «уколы» самолюбия, царь был намерен возложить на плечи Михаила Шеина тяжесть, которая не каждому была по силам и могла надломить многих нетвёрдых духом. То, как задумал изменить судьбу Шеина царь Шуйский, можно приписать к награде за честь воеводе, равно как и счесть за наказание. Стать воеводой города Смоленска не каждый россиянин осмелился бы, зная его многовековую трагическую историю. Возглавлять порубежный город, который временами казался пороховой бочкой, — это ли не наказание?
Так уж случилось, однако, что Шеин, будучи человеком с отважным сердцем, принял назначение быть воеводой Смоленска за честь.
И, когда после заседания Боярской думы Шуйский не отпустил Шеина, а повёл его в свои палаты и там, в малом и уютном покое, они остались вдвоём, царь произнёс:
— Тебе, воевода, я оказываю большую честь. Садись и слушай, в чём суть её.
— Спасибо, государь-батюшка, мне уже оказана большая честь. Куда уж более, — попытался возразить Шеин.
— А ты поперёд батьки в пекло не лезь, — усмехнулся Василий Иванович, усаживаясь в кресло напротив Шеина. — Ты многажды бывал в Смоленске. Знаешь сей славный подвигами город, знаешь и то, что он стоит на огненном рубеже. Как я помню, он более двухсот лет есть яблоко раздора между Русью, Польшей и Литвой. А ведь это древний русский град. В десятом веке о нём уже упоминал в своих писаниях император Византии Константин Багрянородный, а при великой княгине Ольге в Смоленск из Византии была привезена икона Божьей Матери. Вот в какой град я хочу послать тебя воеводой и наместником царским. И что бы ты ни думал по этому поводу, но другого выбора я не сделаю. И стоять тебе там, Шеин, сколько я буду царствовать!
— Я покорен твоей воле, государь. Смоленск я чту выше многих других русских городов. Буду стоять там, не посрамив чести.
— Иного ответа я от тебя не ожидал. Помню, там совсем неподалёку от Смоленска, в крепости Сокол, твой батюшка голову сложил.
— Да, это случилось близ Полоцка.
— Вечная память славному воеводе…
— Когда мне выезжать к месту службы, государь?
— Жди грамоты от приказов. Через неделю и соберём тебя в путь. Да помни, что выезжать тебе придётся с семьёй, а то воевода без семьи на гостя похож.
— Это верно, государь.
— Теперь иди. Ныне я устал. — И Шуйский прикрыл глаза рукой.
Шеин поклонился и вышел из покоя царя. Он шёл и думал, что Шуйский уже стар, ему уже под шестьдесят и властвовать ему очень тяжело. «Да справится, ежели не будут мешать», — решил Шеин, покидая царский дворец.
Близ коновязи его встретил Анисим, усмехнулся.
— Смотрю на тебя и вижу — цветёшь.
— Больше ничего не придумал сказать, — отмахнулся Михаил.
Поднявшись в седло и выехав через Никольские ворота из Кремля, он не поехал на Рождественку. Какая-то неведомая сила потянула его на Воробьёвы горы. Он спустился к Москва-реке, переехал через наплавной мост, поднялся на Якиманку и дальше по прямой, не погоняя коня, выехал на высоты, вскинувшиеся над Москвой. Он отдал коня Анисиму, бросил: «Погуляй тут», — спустился с горы на выступ, где стояла скамья, и сел на неё. Стольный град лежал перед ним как на ладони. Но Михаил вторым зрением увидел Смоленск. В том 1595 году он вот так же поднялся на вершину Соборной горы и обозревал раскинувшийся у подножия горы Смоленск. Тогда он сопровождал в порубежный город шурина царя Фёдора, Бориса Годунова — правителя. Царь поручил ему построить вокруг Смоленска крепостные стены, которые были бы такими, каких нет во всей Европе. Правитель Руси Борис Годунов привёл за собой на гору князя Василия Звенигородского, окольничего Ивана Бутурлина, дьяка Никиту Перфильева. Но самой главной фигурой среди них был зодчий Фёдор Конь, который возводил в Москве стены Белого города. Ему царём Фёдором предписывалось «делать государеву отчину город Смоленск каменной». И ещё говорил царь, что в Смоленске начнётся отныне великое сотворение неприступного града. Так велел царь Фёдор, отправляя Бориса Годунова в Смоленск, и потому все, кто был послан в Смоленск возводить крепостные стены, въехали в город под благовест всех городских колоколов. Помнил Михаил, что въезжали в город через посад, мимо литовского гостиного двора, по Большому мосту через Днепр. В зрители были позваны все иноземцы, чтобы они видели и знали, зачем приехали в Смоленск зодчие, десятки вельмож, сотни мастеров каменного и кирпичного дела. В Богородицком соборе состоялась торжественная литургия по освящению «благого городового дела». Архиепископ Феодосий благословил созидателей. И вот Фёдор Конь принялся рассказывать Борису Годунову на Соборной горе, какой он видит будущую крепость. Он говорил о ней как зодчий, и многое тогда Михаилу было непонятно, но слушал он с интересом.
— По живописности расположения, общей монументальности, величавой красоте, чёткости расставленных объёмов и оборонительной способности, — звонко докладывал Фёдор Конь, — эта крепость не будет иметь себе равных. Оборонительная мощность превзойдёт такую крепость, какая есть Варшава.
— А сколько ты видишь в ней башен? — спросил Борис Годунов.
— Тридцать восемь, и в каждой из них может обороняться до ста ратников. Длина же стен будет равна шести с половиной вёрстам. И если государь окончательно повелел мне возводить крепость, то скажи ему, боярин Борис Фёдорович, что на эту крепость должна поработать не меньше трёх лет вся держава. Да-да, вся держава. — И головастый подвижный Фёдор Конь поднял вверх сжатую в кулак руку. — Зовите, шлите на возведение крепости всех мастеров каменного дела, всех кирпичников и даже горшечников. Мне будут нужны тысячи землекопов, тысячи подвод, чтобы везти со всей державы камень, кирпич, известь, лес.
— Всё запишем, что потребуется, и ты получишь в полной мере. Не станет тебе нужды ни в чём, — заверил Борис Годунов Фёдора Коня. — И помни, зодчий, что с тебя тоже будет спрошено строго. Тебе даются три года, а потом кончаются перемирные года с Польшей, и она — как пить дать — пойдёт на Русь войной. Крепость должна встать на пути поляков.
Воспоминания тринадцатилетней давности катились волна за волной. Спустя три года Михаил Шеин вновь сопровождал Бориса Фёдоровича в Смоленск, и в тот год зодчий Фёдор Конь показывал ему чудо — творение русских зодчих и мастеров. Тогда Борис Фёдорович, обнимая зодчего, произнёс:
— Ты создал творение, которое не превзойти. Смоленская крепость — это ожерелье святой Руси.
И вот это «ожерелье» по воле судьбы отдают в его, Шеина, воеводские руки. Сможет ли он сохранить это «ожерелье» в том виде, в каком получит из рук государя? Есть у него, тридцатидвухлетнего воеводы, силы стоять за Смоленск на «огненном рубеже»? Есть или нет, но выходило, что о том государю больше ведомо, чем ему, потому-то и пути к отступлению у него нет.
Завершив свои размышления по поводу перемен в жизни, Михаил наконец-то посмотрел на Москву, словно видел её впервые, и удивился: «Хороша белокаменная! Что ж, буду оборонять твой покой на западном рубеже».
Поднявшись с откоса на гору, Михаил весело крикнул Анисиму, который выгуливал на лужайке коней:
— Ты, брат, иди прощаться с Москвой! Скоро мы её покинем!
— И когда это ты успел высидеть это желание, батюшка-воевода? — засмеялся Анисим.
— Фу-ты ну-ты! Тебя ничем не удивишь! Да в Кремле-то я с какой стати был? Вот и выговорил себе воеводство в Смоленске.
— Лучшего места не нашёл, батюшка-воевода! — опять уколол Анисим своего благодетеля.
— Мне там понравится. А тебя я не возьму, — тоже нанёс укол Михаил.
Так, балагуря и смеясь, Михаил и Анисим седло в седло скакали на Рождественку, чтобы положить там начало «великой суете» сборов в отъезд.
Домашние, особенно Елизавета, порадовались, что к родовому боярству Михаилу добавили чин боярина. Все кланялись ему низко, поздравляли. Мария с Катей посмеялись:
— Теперь к батюшке ни с какого боку не подъедешь.
Когда же Шеин поведал всем о другой новости — о назначении его воеводой в Смоленск да чтобы семья была при нём, то возникло долгое и неловкое молчание. И первой нарушила его Мария. Она сказала бодро и с улыбкой:
— Нам, семейникам воевод, судьбой так велено: куда иголка, туда и нитка. Вот завтра и начнём собираться в путь.
— Верно говоришь, Мария, только невмоготу жить там, на порубежье, — заметила искушённая жизнью боярыня Елизавета.
— Да не горюй, матушка, не печальтесь, славные! Пока не осмотрюсь, не устроюсь на новом месте, никого из вас не потяну из Москвы в Смоленск.
— Не питай себя надеждами. Коль царь так повелел, то делать придётся по его велению, а не по нашему хотению, — опять вмешалась боярыня Елизавета.
После невесёлого разговора о будущем воеводстве у самого Михаила кошки на душе заскребли. О себе он не думал, но зачем государь повелел ехать в Смоленск с семьёй? Знать же должен: чем меньше у воеводы семейной обузы, тем легче везти ему воеводский воз. Однако предаваться каким-либо горестным рассуждениям по поводу отъезда в Смоленск у Шеина да и у прочих в семье просто не оказалось времени.
В эту пору «макушки лета» Москву заполонили слухи о том, что на юге Руси, в Стародубе объявился новый Лжедимитрий и будто бы он уже собрал большое войско и выступил с ним на север. Слухи с юга порождали в Москве были и небылицы. Никто не знал, чему верить, но то, что к новому Лжедимитрию валом повалили польские шляхтичи и немало гулящих людей, ни у кого не вызывало сомнений. И вновь среди знатных вельмож разгорелись страсти. Многие из них не любили царя Василия Шуйского, считали его недостойным трона и теперь готовы были преступить свои клятвы в верности царю, отойти в стан нового Лжедимитрия.
Царь Василий Шуйский не думал уступать трон без борьбы. Вновь начались сборы войска. Делалось это в спешке. Да и воевод во главе войска царь Василий поставил не тех, кто отличался умом, доблестью, умением воевать. Возглавить рать он поручил своему бездарному в военном деле брату Димитрию Шуйскому. Он словно забыл о том, что среди преданных ему россиян есть такие одарённые воеводы, как князья Мстиславские, князь Скопин-Шуйский, наконец воевода боярин Шеин.
У Лжедимитрия II оказались под рукой более сильные воеводы и крепкое войско, многие ратники которого не раз побывали в сражениях. К весне 1608 года Лжедимитрий укрепил войско крупными польско-литовскими отрядами. В войско нового царя влились казаки во главе с отважным атаманом Иваном Заруцким. А в разгар весны к войску Лжедимитрия присоединились со своими полками «известные своей доблестью и зверским мужеством» гетманы Александр Лисовский и Ян Сапега.
Всё, что происходило в стане Лжедимитрия II, какими-то путями мигом долетало до Москвы, будоражило её всё больше. Может быть, такие вести о Лжедмитрии приносили в Москву ведуны, ясновидцы, которых в стольном граде становилось всё более. В эту горячую пору появился на подворье Шеиных названый отец Михаила и Марии ясновидец Сильвестр. Его приняли как родного. А после бани и обильной трапезы Сильвестр увёл Михаила в конец подворья, которое выходило к речке Неглинке. Там на скамье под навесом они и устроились на беседу. Зелёные глаза Сильвестра горели неземным огнём, и начал он свою речь с непривычных Михаилу слов:
— Скажу я тебе, батюшка-воевода, о том, что дано мне видеть Всевышним. Грядёт великая беда нашей державе. Завтра, в день апостола Иакова, у села Волхова на Калужской земле сойдутся два войска — рать царя-батюшки, ведомая его тупым братцем, и рать Лжедимитрия Второго. Да будет он Тушинским вором вскоре. Они сойдутся на жестокую битву и по прошествии двух дней по Божьему гневу многих государевых людей побьют. А уцелевшие побегут к царствующему граду. И некому будет остановить войско Лжедимитрия, и он придёт под Москву и сядет царствовать в селе Тушине. К нему пойдут служить Рюриковичи — князья Долгоруковы, Засекины, Мосальские и Сицкие. Ещё Гедиминовичи — князья Трубецкие.
Жаль Москву. В ней станет смутно и неуютно. У царя не найдётся сил побить стотысячную рать, что соберётся вокруг Тушинского вора. И Шуйский закроется в Москве, как в осаждённом граде. Воровские шайки будут хозяйничать в её посадах и слободах…
Сильвестр замолчал, сорвал стебель осота, стал пробовать его остроту.
Молчал и Шеин. Он просто не знал, что возразить Сильвестру: рассказанное им предстало перед Шеиным как кошмарный сон. У него мелькнула, как показалось ему, спасительная мысль: немедленно уехать в Смоленск. Да-да, немедленно, потому что, если Москва вновь окажется в руках самозванца, Смоленск одним из первых городов Руси восстанет против него. «Завтра же пойду в Разрядный приказ и потребую путевые грамоты. Именем царя потребую», — решил Михаил.
Сильвестр смотрел на Шеина сбоку, прищурив свои зелёные глаза. В них гуляла лукавинка.
— Так и поступи, боярин-батюшка, как мыслишь, — сказал он.
— Экий ты проныра, названый мой батюшка. — Михаил хлопнул Сильвестра по плечу. — Никуда от тебя не денешься.
— Да как же мне не порадоваться: ведь ты дельное надумал. Добавлю последнее: чем скорее уедешь, тем лучше для державы. Однако не забудь и меня позвать.
Отъезд Михаила в Смоленск оказался неожиданно быстрым. Едва он на другой день пришёл в Кремль, чтобы зайти в Разрядный приказ, как по пути его перехватил дьяк приказа Пётр Шипилов.
— Боярин-батюшка, за тобой поспешаю. Волей царя грамоты по Смоленску готовы и всё приведено в движение. Ратные люди ждут тебя на Ходынском поле. И велено тебе завтра же идти в Смоленск.
Выговорив всё это, дьяк Шипилов повёл Михаила в Разрядный приказ. Там он встретился с дьяком Никитой Перфильевым, который сказал:
— Помню тебя, батюшка-воевода, как с правителем Борисом Годуновым приезжал.
— И я тебя помню, батюшка Никита. Что ты скажешь мне на дорогу?
— Одно скажу: завтра иду к государю, чтобы он повеление положил на грамоту о припасах к Смоленску. А тебе, боярин, до свету, никем не обременённым, следует выехать в град порубежный.
— Ты хочешь сказать — без супруги, без сродников?
— Верно понял, боярин. Получи сей час подорожную и поспешай…
Так и получилось, что ещё не сбылось предупреждение Сильвестра о сражений под Волховом, о бегстве царского войска, как царь Василий Шуйский поспешил отправить Шеина в Смоленск, потому что кончилось время перемирных лет и Польша со дня на день могла напасть на Смоленск, чтобы неожиданно захватить столь грозную крепость.
Так в одночасье решилась судьба Михаила Шеина, и «в апреле 1608 года мы видим его воеводой в Смоленске, весьма важном в то время стратегическом пункте Московского государства, у польско-литовского рубежа», сказано в Русском биографическом словаре.
Завершив дела в Разрядном приказе, Михаил не поехал на Рождественку, а отправился на Пречистенку к Сильвестру. В лавке, куда зашёл Михаил, он увидел лишь Катерину. Она встретила его с улыбкой, показала на рыжую кошечку.
— Зюзя гостей намывала только что. Вот ты и гость нежданный, боярин славный.
— А помнишь, как о незваном-то госте говорят? — тоже улыбнулся Шеин.
— Ты для нас всегда желанный.
— Где ваш батюшка?
— Урок у него с Ксюшей. Греческому письму учит.
Покупателей в лавке не было, и Катерина закрыла дверь на засов. Позвала Михаила:
— Идём в покои. Ноне у меня день без купцов.
Сильвестр и Ксюша сидели за столом, и девочка старательно выводила гусиным пером греческие буквы и слова, списывая их из книги, лежащей перед ней.
— Право же, неугомонные, — молвила Катерина. — Идёмте в трапезную. Время за столом посидеть, сыты пригубить.
Михаил не смог отказаться. Но, пока Катерина собирала на стол, он успел поговорить с Сильвестром о том, с чем пришёл.
— С просьбой к тебе, брат мой. Как ты сказал, я спешно уезжаю в Смоленск. Завтра уже буду в пути. Тебя же прошу собрать моих побратимов, ежели это воз можно, и отправить их в Смоленск. Это Нефёд Шило, Никанор, Павел Можай, Пётр и Прохор… Все они…
— Костромские! — утвердил Сильвестр.
— Вот-вот. Ещё, ежели есть у тебя на примете удалые парни, человек пять-шесть, их позови. Деньги на харчи, на оружие и сбрую я тебе оставлю.
— А меня ты не возьмёшь?
— Придёт нужда — обязательно позову.
— Годится. Ты поезжай в Смоленск не печалясь. Год у тебя пройдёт без особых хлопот, а там посмотрим.
Катерина накрыла стол и позвала Сильвестра и Михаила. Она наполнила три кубка медовухой, налила Ксюше сыты, сказала:
— Я с тобой, Михайло Борисыч, теперь долго не увижусь. Как и всех нас, ждут тебя тяготы великие, так ты отвагой наполни сердце и живи, как велит Бог.
— Спасибо, матушка названая. И за тебя буду молиться. Ты мой ангел-хранитель.
Вернувшись домой, Михаил поведал домашним о своих переменах, о том, что утром отправляется в Смоленск. Елизавета заявила:
— Вопреки воле царя-батюшки я завтра с утра тебя не отпущу. В полдень уедешь. Эк удумал на воеводство ехать словно нищий! Вот соберу тебе всё добро, что должно быть у воеводы, и отправлю. Ещё Якова с Дарьей возьмёшь. Они тебе хозяйство вести будут.
Михаил не возражал. Он покорился воле матери, подумал, что она, поди, батюшку так собирала в путь. И пролетел последний день перед отъездом в хлопотах. В них приняла участие вся семья. Даже Ваня нашёл себе занятие: он носил за отцом саблю в ножнах — дело-то мужское.
Наконец хлопоты завершились. Наступила последняя ночь, проведённая Михаилом Шеиным в Москве, перед долгой — одиннадцатилетней — разлукой со стольным градом, с Рождественкой. Сам Михаил того не знал, но у него было предчувствие. Мария, понимая состояние супруга перед отъездом, пыталась утешить его, говорила, что ничего не случится в их жизни, ничто не нарушит её обыденного течения.
— Не ты один будешь стоять на своём порубежном воеводстве. Рядом будут верные люди. И я скоро приеду. Да ежели бы не спешка, сей же час покинула бы Москву. — И, прижавшись к Михаилу, Мария прошептала: — Я скоро примчусь к тебе. Скоро. Сердце моё вещает о том. Не могу без тебя долго быть одинокой.
— Прилети ко мне, белая лебедь, прилети, — лаская Марию, шептал Михаил.
Воевода Шеин покинул Москву 22 апреля, в день Радоницы — поминовения усопших. Уже миновал полдень, трапеза праздничная состоялась. Поцеловав мать, жену, детей уже за воротами подворья, подождав Анисима, который никак не мог проститься с Глашей и сынками, Михаил вскочил на коня и поскакал, чтобы поскорее порвать нити, всё ещё крепко удерживавшие его. Якова с Дарьей Михаил не стал ждать. Было решено, что они поедут следом.
И вот уже Михаил и Анисим покинули город. Близко село Кунцево, до малого поворота знакомая дорога. С полудня и до вечера Шеин и его стременной отмахали без малого сорок вёрст и приехали в Большие Вязёмы, где в юности Михаил бывал много раз. В ту пору он только что пришёл на службу в Кремль и его поставили чашником к правителю Борису Годунову. А государь в те годы возводил в Больших Вязёмах Троицкую церковь, рядом же ставил двухъярусную шестипролётную звонницу и возводил плотину у пруда. Тогда Михаил дивился строительной страсти Годунова. Потом это удивление переросло в поклонение, когда правитель Годунов завершил строительство Смоленской крепости.
Глава семнадцатая ПОД ЗВОН КОЛОКОЛОВ
Никогда Шеин не чувствовал себя так беспокойно, как за полдня до въезда в Смоленск. Какая-то тяжесть пришла к нему ещё в пути, после Дорогобужа. В последнем перед Смоленском селе Усвятье Михаил зашёл в храм и помолился. Странно, но, молясь, он видел пустынный мост через Днепр с северной стороны города и чудо зодческого творения — главную Фроловскую башню в несколько ярусов, с бойницами, с арочным въездом и железной решёткой в нём. Он увидел мощёную дорогу на Соборную гору и там Мономахову храмину — всё было величественно и безлюдно. Никто его не встречал, ни для кого он не был в Смоленске желанным гостем. И вспомнилось ему, как десять лет назад, когда завершилось возведение крепости, смоляне встречали Бориса Годунова. Благовест стоял над городом несмолкаемый. Но он же не Борис Годунов, осудил себя Михаил, не правитель Руси, он всего-навсего воевода, спешно выпровоженный из Москвы.
Моление в Усвятье не успокоило Михаила. Он вышел из храма хмурый и крикнул Анисиму, чтобы подал коня. Но скакуна подвёл Яков, который догнал-таки Шеина в пути.
— Вот, боярин, твой конь.
— А где Анисим?
— Ускакал!
— Куда его нелёгкая понесла?
— Так туда, на заход солнца, похоже, что в Смоленск.
— Ну я ему задам за своевольство! — рассердился Михаил.
— И поделом. Много воли взял стременной, — поддержал Шеина строгий нравом Яков.
Последние версты перед Смоленском Михаил одолевал не спеша и даже неохотно. Ему захотелось остановиться где-нибудь близ речки и въехать в город ночной порой и чтобы стражи проводили его до дома князя Матвея Горчакова, в котором он нашёл бы приют. Однако взбодрив себя утешением, что время сейчас такое и никому нет дела, кто приезжает к ним в город, Шеин лёгкой рысью помчал к Смоленску. Вскоре он увидел и сам город, вернее, Соборную гору и вознёсшийся над нею Мономахов храм. Едва осмотрев то, что было видно за версту, Михаил услышал благовест колоколов. Знал воевода, что такой благовест возвещает о чьём-то приезде в город. «Вот уже кого-то и встречают», — с чувством досады подумал Михаил. И вдруг его осенила догадка: «Уж не меня ли?» Однако он осудил себя за такую честолюбивую мысль: «С какой это стати в мою честь колокольный звон?»
Вот и мост через Днепр. А на той стороне близ арки Фроловской башни — большая толпа людей, и видны даже ризы архиереев. У самых ворот в толпе мелькнул конь знакомой светло-серой масти. Так это же Анисим там! Эк его угораздило? Но догадка Михаила о том, что встречу ему, воеводе Смоленска, устроил Анисим, была ему приятна. Навстречу Михаилу мчался отряд всадников, и он узнал в переднем всаднике князя Матвея Горчакова, которого Шеин помнил с тех пор, как приезжал в Смоленск с Борисом Годуновым. И так же в ту пору служащий при воеводах князь Горчаков встречал Годунова. Матвей Горчаков подскакал к Шеину, поклонился.
— Михайло Борисыч, как случилось, что гонца из Москвы не было? — не дождавшись ответа, он продолжал: — Мы бы тебе настоящую встречу устроили!
— Спасибо, князь Матвей. Я и подобной встречи не ожидал.
Шеин и Горчаков подъехали к толпе встречающих. Михаил увидел архиепископа Смоленского Сергия, спешился, бросив поводья на шею коня, подошёл к Сергию, поклонился. Тот протянул ему крест, и Михаил поцеловал его.
— С приездом, славный воевода. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь! — звонко сказал Сергий и повёл Шеина за собой в гору.
И все потянулись следом. А вдоль дороги уже собрались сотни горожан. Анисим вышел из толпы, держа на поводу коня, и пристроился за Шеиным. Оба они сделали вид, что ничего особенного не произошло.
Процессия поднялась на Соборную гору, колокола благовестили, и у Михаила на душе стало отрадно. «Ради смолян не пожалею живота», — подумал он. Между тем архиепископ Сергий привёл всех к Мономахову храму. Врата его были открыты, в нём горели свечи, лампады, а на клиросе пел хор певчих. Началось богослужение. Михаил и Матвей встали близ амвона, а за их спинами возник Анисим. На его лице светилась довольная улыбка: удалась затея. Да и не напрасно. Пусть знает Смоленск, что на воеводство приехал большой воевода!
После молебна в палатах князя Горчакова была трапеза, на которой князь познакомил смоленских вельмож с новым воеводой и зачитал им подорожную грамоту Разрядного приказа, где от имени царя всея Руси Василия Ивановича Шуйского было сказано, что Михаил Шеин поставлен главным воеводой в Смоленске, а в его товарищах князь Матвей Горчаков.
И все выпили за здравие нового воеводы и пожелали ему «править в мире и правде многие лета».
Чуть позже, когда собравшиеся выпили по второй и по третьей чаре первача, начались буйные разговоры, и из них Шеин понял, что на Смоленской земле не будет мира, а вот правда… Так это в его руках править по правде.
— При таком положении Смоленска и ввиду жестоких событий вокруг Москвы тебе воевода Михайло Борисыч, надо быть сильно настороже. У наших порубежных жителей, смоленских и литовских, случаются частые ссоры и сбруя звенит. Да вот как поедем по волостям, много чего увидишь. А пока, Михайло Борисыч, тебе надо отдохнуть, — закончил беседу князь Горчаков. — Палаты воеводские ещё не приготовлены, так ты у меня располагайся.
Князь Матвей Горчаков пришёлся по душе Михаилу. Невысокий, сухощавый, с маленькой круглой, уже в седине, бородкой, с большими серыми глазами и плавным голосом, он навевал покой и тишину мирной жизни. Но вот же стоял при воеводах в товарищах и помогал им править не только мирные дела, но и ратные. Вскоре Шеин и Горчаков сошлись во взглядах на порубежную жизнь и вместе потянули «лямку» воеводских дел.
Благодаря князю Горчакову у Шеина возникла оживлённая переписка с велижским старостой гетманом Александром Гонсевским и оршинским старостой гетманом Андреем Сапегой. В этой переписке Михаил Шеин убеждал старост прекратить всякие набеги на порубежные русские селения Порецкой и Шучейской волостей. Эта переписка помогла укрепить добрососедские отношения. Но Андрей Сапега «со слезами на глазах» писал Михаилу Шеину, что именитые польские паны вторгаются в Московское государство самовольно и он, староста, не имеет силы остановить их. И всё-таки благодаря переписке с Андреем Сапегой и Александром Гонсевским, о которой в Польше знали многие, лето 1608 года прошло без каких-либо порубежных столкновений, и в октябре Михаил Шеин отважился вызвать в Смоленск Марию с детьми.
К этому времени Сильвестр выполнил просьбу Михаила, и в Смоленск прибыли его побратимы по Пронску и Мценску, по схваткам под Москвой с отрядами Ивана Болотникова. Михаил был рад Нефёду Шило, Павлу Можаю, Петру и Прохору. С ними было ещё семь отважных костромичей, которых нашёл Сильвестр. Вскоре же всем им нашлось достойное дело. На другой день по приезде Нефёда Шило с сотоварищами Михаил Шеин, встретившись с князем Горчаковым, попросил его:
— Ты, княже, помоги мне вот в чём. Примчали к нам служить костромичи-звероловы. Они нам очень будут нужны, но их надо научить польской речи. Найдёшь для них способного дядьку?
— Найду, боярин. Есть у меня смоляне, которые бойко лопочут по-польски и обиход знают.
— Вот и славно. Да пусть упорно учат. Казны не пожалею, оплачу. Одиннадцать человек их, а старшим над ними Нефёд Шило.
В эти же благодатные дни ранней осени Михаил послал Анисима и Якова в Москву за Марией и детьми. Это не было случайным побуждением — видеть близ себя Марию и детей. Прислал ему Сильвестр через Нефёда Шило предупреждение, говорил в нём: «Твой недруг князь Димитрий Черкасский теперь в стане Тушинского вора. Так ведомо мне, что Димитрий грозился умыкнуть Марию с детьми». Не внять совету названого отца Михаил не мог и поэтому наказывал Анисиму:
— Моих ты обязательно доставь. А Глашу свою от моей матушки не отрывай.
— Ладно, батюшка-воевода, всё так и сделаю. Понимаю же.
Однако в день отправки Анисима в Москву в Смоленской земле был нарушен покой. Поляки вновь ворвались в Порецкую волость и учинили там разбой. Шеин решил отправить к Гонсевскому и Сапеге своего посланника. Без совета с князем Горчаковым это не обошлось. Когда Михаил выразил свои мысли князю Матвею, тот ответил:
— Дело это благое, и я могу тебе показать человека, кто справится с твоим поручением.
— Давай, княже, не откладывай исполнение в долгий ящик, присылай своего человека, сделай ему напутствие.
В эту пору у Михаила был уже некий воеводский приказ, где служили дьяки, учитывающие ратных людей, имущество, корм, боевой припас — всё, что обеспечивало защиту крепости. Был у Шеина и воеводский покой в приказе, где он принимал горожан.
Вскоре вернулся к нему князь Горчаков и привёл смоленского дворянина Юрия Буланина. Ему было лет тридцать пять, сухощавый, волосы смоляные, лицо удлинённое, нос с горбинкой, глаза карие с малой раскосинкой. На русича вовсе не похож. Он свободно говорил по-польски, по-литовски. Познакомившись с Буланиным, Михаил сказал:
— Мы с князем Матвеем думаем взять тебя на службу. Готов ли ты послужить отечеству?
Михаил улыбнулся. Таких высоких слов он в себе не носил, а тут на тебе.
— Конечно, готов, — спокойно ответил Юрий.
— Вот и славно. Тогда послушай князя Матвея, что он велит.
— Дело вот в чём, Юрий. Поляки вновь чинят разбой, в Порецкую волость ворвались. Так ты поедешь к панам Гонсевскому и Сапеге и скажешь, чтобы усмирили своих панов. И повод у нас для этого есть. Гетманы Сапега и Гонсевский пишут нам, чтобы мы просили царя Василия Ивановича отпустить из плена польских послов, задержанных год с лишним назад. Скажешь гетманам, что мы готовы помочь польским послам выбраться из Москвы, однако не знаем ни одного имени. Пусть паны Гонсевский или Сапега дадут эти имена.
— А ежели и они не знают? — спросил Юрий.
— Вот это и важно для нас. Добейся, чтобы кто-то из гетманов отправил тебя в Краков узнать имена. Но главное в этой поездке будет для тебя иное. Должен ты выведать, готовятся ли поляки к войне против нас. И мы верим, что ты справишься с уроком.
— Я постараюсь сделать всё, что в моих силах. В случае чего поберегите моих матушку и жену с сыном.
— Мы не оставим их в беде, — ответил князь Матвей.
На другой день, получив от казны польские злотые, Юрий Буланин ушёл за рубеж русской земли. Это был первый посланник, а точнее — лазутчик Михаила Шеина и Матвея Горчакова. Потом их будет много.
Проводив Буланина, Шеин и Горчаков принялись осматривать крепостные стены, башни, рвы, мосты. Воевода Шеин счёл, что они должны знать, куда и сколько слать ратников, если враг надумает осадить крепость. Занятие это оказалось непростым. Нелегко было подсчитать, сколько потребуется воинов, если вдруг придётся оборонять все шесть с лишним вёрст крепостной стены и тридцать восемь башен. Такой силы в Смоленске не имелось, чтобы сразу выставить ратников на стены и башни: ведь к каждому участку стены, к каждой башне надо было приписать пушкарей, стрельцов, лучников. Нужно было призвать горожан и указать им место на крепостной стене. Но работа воеводы и князя прервалась по самому неожиданному поводу.
На седьмой день после отъезда Анисима с Яковом в Москву стременной вернулся в Смоленск. В полуденный час, прискакав в город, он версты две мчался вдоль крепостной стены и наконец нашёл воеводу.
— Михайло Борисыч! Встречай семеюшку! — закричал он, не сходя с коня.
— Вы с неба, что ли, свалились?! — удивился опешивший Михаил. — Я ждал вас недели через три. Ну и где же они?
— Так Усвятье давно проехали, уже близ города.
— Что же случилось в Москве, коль покинули её?
— Боярыня сама всё расскажет. А теперь поспешай их встретить.
Анисим догадался, что воевода и князь осматривают стены и башни без коней. Он спешился и подвёл Михаилу своего коня.
— Скачи, батюшка, до конюшни. А дальше мой и не побежит, — усмехнулся Анисим.
Михаил встретил вначале Якова. За ним следовала небольшая колымага с Марией и детьми, ещё двигались два крытых возка и две телеги со скарбом. Катили они полевой дорогой в версте от моста через Днепр. Михаил соскочил с коня, бросил повод Якову, подбежал к колымаге, на ходу нырнул в неё и оказался в объятиях жены и детей. Расцеловав Марию и Катю с Ваней, спросил:
— Ну что там случилось, родимая?
— Страсти Господни одни. Ежели бы не Сильвестр, не уехать бы нам из Москвы. Спасибо ему, нашему ангелу-хранителю.
— Ну поведай, как всё было! Ежели князь Черкасский, то я…
— Подожди, мой сокол. У нас ещё будет время посетовать и на князя Черкасского. Ты лучше расскажи, как тут без нас маешься?
— Маюсь, вот и послал за вами. Да всё опять же благодаря Сильвестру. — Глядя на Марию, на её бледное усталое лицо, Михаил подумал, что там, в Москве, ей пришлось тяжко и она скрывает что-то, может быть, стесняясь повзрослевшей Кати. — Он меня предупредил через Нефёда, что на вас охотились.
— Вот уж право, охотились! — призналась Мария.
Подъезжая к Смоленску, Михаил велел остановить лошадей.
— Выходите-ка все из колымаги. Вам надо посмотреть на город, где будете жить.
Все покинули экипаж. Мария и дети замерли от удивления. Город, построенный на кручах и холмах, словно бы возносился в небо.
— Благодать-то какая! И храм на самой высокой горе. Право же, с его звонницы можно увидеть Москву, — сказала повеселевшая Мария.
Уже ночью, в постели, когда супруги утолили свою жажду близости, Мария поведала Михаилу о том, что она перетерпела за последний месяц в Москве:
— Впервые князь Димитрий Черкасский появился у нас вечером в день Иоанна Златоуста. Матушка встретила его по чину. И он вёл себя достойно. Ушёл уже затемно. А на другой день, как он сказал, после службы у государя явился в ранних сумерках. После вечерней трапезы остался с матушкой один на один. Что он ей там наговорил, я не знаю, но она позволила ему провести у нас ночь. На другой и на третий день всё повторилось. Он оставался ночевать у нас, ссылаясь на то, что боится ночной порой возвращаться в свои палаты. Матушку, похоже, он околдовал. Я узнала, что он в это время служил не у царя Василия Ивановича, а в Тушине, у самозванца. Его, как и всех таких вельмож, в Москве зовут «перелётами». И вот князь настолько у нас прижился, что счёл возможным домогаться меня. — Мария замолчала, крепче прижалась к Михаилу, и он почувствовал, что её бьёт озноб. Он гладил её по спине, и она продолжила рассказ: — Однажды вечером, когда я шла с молитвы от матушки в опочивальню, князь остановил меня в сенях и попытался поцеловать.
Мария задрожала сильнее, заплакала.
— И что же дальше?
— Я дала ему пощёчину и убежала к себе, закрыла дверь на засов. Он оскорбил меня, я задыхалась от слёз…
— Я поеду в Москву и убью его, — с яростью произнёс Михаил.
— Он заслуживает того, — продолжала Мария. — На другой вечер за трапезой, когда няня увела детей спать, я сказала матушке: «Матушка, попроси князя покинуть наш дом сей же час». Твоя матушка промолчала. Князь тоже молчал. Я не знала, что мне делать. Я видела глаза твоей матери, они были полны слёз, но она словно онемела. А князь смотрел на неё тяжёлым, каменным взглядом. И этот взгляд лишил её сил. Я встала и ушла из трапезной в опочивальню, вновь закрыла дверь на засов, не раздеваясь, спряталась в постель. Он пришёл-таки к двери, дёрнул её. Потом попытался, наверно кинжалом, открыть её. Но ему это не удалось. Он начал звать меня. Я молчала. Он крикнул: «Ты не уйдёшь от меня, Мария!» — и, похоже, ушёл. А утром, как только он покинул наш дом, я стала собираться в путь. Помогали все слуги. Кое-как покидали всё в возки, в телеги, в колымагу, и мы укатили, как беженцы. В полдень мы приехали на Пречистенку и попросили Сильвестра проводить нас хотя бы до Кунцева. Он провожал нас до Можайска. Вот и всё, мой сокол, — завершила свой печальный рассказ Мария, прижавшись к груди Михаила мокрым от слёз лицом.
— Я благодарю Бога, что он наградил тебя мужеством. Сколько крови попортил нам этот негодяй!
Наступившие осень и зима 1609 года принесли в Смоленск много тревог, и одну из них, самую опасную, доставил вернувшийся Юрий Буланин. В Польше началась спешная подготовка к войне, с Русью. Давно уже кончились перемирные лета, и поляков ничто не связывало. Знали Шеин и Горчаков, что война не обойдёт стороной Смоленск. Но на какое-то время она обошла этот город. Пятнадцатитысячное войско гетманов Александра Лисовского и Яна Сапеги, объезжая все крепости на пути, спешили якобы на помощь Лжедимитрию II, но миновали Тушино и, приведя своё войско к Троице-Сергиевой лавре, осадили её. Слухи о подобных действиях поляков поразили Михаила Шеина, но он знал, что крепость Троице-Сергиевой лавры не всякому войску дано взять приступом или долгой осадой.
Однако Шеину некогда было увлекаться слухами, какими бы суровыми они ни были. Он не прекращал своих забот о том, чтобы подготовить Смоленск и крепость к длительному сопротивлению полякам. Он знал также, что Москва увязла сейчас в своих непреодолимых трудностях и ждать от неё помощи не приходилось. Поэтому надо было самим позаботиться о заготовке зерна на хлеб, на крупы, на корм для лошадей. И Михаил поднял на это важное дело весь Смоленск, всех горожан, всех служилых людей и ратников. Шеин не жалел на заготовку провианта городской казны, зная, что, когда город окажется в осаде, деньги потеряют свою цену. Сотни подвод ехали во все концы Смоленской земли и за её пределы скупать зерно, крупы, сало, животину. Всё везли в город, сдавали на хранение дьякам воеводского приказа.
В самую горячую пору заготовки съестного в Смоленске появился московский знакомый Михаила Шеина, лазутчик Лука Паули. Михаил и Лука были рады встрече. Но эту радость омрачало то, о чём Лука рассказывал Михаилу:
— Ведомо мне, что король Сигизмунд и радные паны собираются к зимнему Николину дню отпустить королевича Владислава в Москву. Говорят, якобы с посольством к царю Василию Ивановичу. На самом деле тайные планы короля Сигизмунда вовсе другие. Он хочет посадить своего сына на московский престол. И ещё: для тебя, воевода, по-моему, самое главное, — продолжал Лука Паули. — Гетман Гонсевский прислан в Велиж уговаривать вас, смолян, отдать город польскому королю. Потому велено Гонсевскому идти на ваш рубеж и вести переговоры с государевыми людьми — выходит, воевода, с тобой. И ведомо мне, что как сговоритесь отдать город, так король пошлёт своих людей под Москву и велит им связать Тушинского вора и увезти в Краков.
— Получается, что взамен Тушинского вора Сигизмунд подаст нам на царство своего сынка и в придачу возьмёт себе Смоленск, — рассудил Шеин.
— По-иному и не мыслит себе польский король, — завершил изложение Лука Паули.
На другой день, получив от Шеина свежего скакуна, Лука Паули только ему ведомыми путями отправился в Москву: нельзя ему было попадаться в руки поляков.
А Шеин принялся ожидать своих лазутчиков из Польши. Туда уходили Нефёд Шило, Павел Можай и ещё четверо «крестьян». Они побывали в Дубровницах, в Орте, Копыси и Мстиславле. Вернулись в Смоленск с одной малоотрадной вестью: король Сигизмунд по всей Польше собирает войско и ещё деньги, чтобы нанять иноземных солдат.
Отношения с Польшей ухудшались с каждым днём. Когда Шеин отказался послать на съезд в Велиж смоленских дворян, чтобы получить от них согласие на сдачу города, то брат велижского старосты Симон Гонсевский вместе с государевыми изменниками братьями Хрипуновыми и с «ворами», с литовскими людьми, вторгся в порубежные многострадальные смоленские волости Шученскую и Порецкую. Разбойники выжгли несколько деревень, побили всех крестьян, кто сопротивлялся, многих взяли в плен и разграбили их имущество. Землю этих волостей поляки присоединили к Велижскому повету.
Когда Шеину доложили о разбое в Порецкой и Шученской волостях, он решил встретиться со старостой Велижа гетманом Александром Гонсевским. Он отправил туда гонцов Нефёда Шило и Павла Можая и наказал им передать Гонсевскому, чтобы ждал гостя. Когда Нефёд и Павел вернулись, воевода, взяв на всякий случай полсотни воинов и всех своих лазутчиков, отправился за сто вёрст к северу от Смоленска, в Велиж.
Но Гонсевский встретил Шеина на пути к Велижу и принял его в своём поместье: он не хотел «пугать» горожан появлением русских воинов. Оба крупные, мужественные и по натуре доброжелательные, они, однако, «несли каждый свою правду».
Был накрыт стол, была горилка. Выпили, закусили и повели разговор. Бились в этой беседе долго и ни к чему не пришли. Гонсевский утверждал:
— Рубеж между Смоленском и Велижем обозначен не так, как о том был уговор в Москве между панами и боярами.
— Но в Порецкой и Шученской волостях нет на жительстве ни поляков, ни литовцев. Это наша земля.
— Но мы её добыли, и теперь она наша. Добывайте и вы, — весело смеялся Александр.
Михаил Шеин стал терять присутствие духа. Сказались дорожная усталость и выпитая горилка. Он упрекнул Гонсевского в том, чего тот не заслужил:
— Вот ты говоришь о справедливости и о поруке за слово. Почему же до сих пор вы не вывели свои войска из Московского государства? Обитель святую осаждаете.
Гонсевского это сильно задело за живое.
— Ты хочешь, чтобы польских и литовских воинов вывели из Московии. А я спрошу тебя: каким способом? Если грамотами королевскими, то такие уже были посланы. И сами вы многое теряете, не выходя на переговоры, бегаете от них, держась московского обычая. У вас брат брату, отец сыну не верят. И тот обычай привёл Московское царство к теперешней великой погибели. Будучи в Москве, пригляделся я и прислушался к жизни и, нынешнее ваше поведение видя, дивился тому: что ни делаете, всё только на большее кровопролитие и пагубу своего государства.
Слушая Александра Гонсевского, Михаил вдруг понял, что поляк во много прав. Сколько зла содеяно самими россиянами на погибель державы! И он пришёл к мысли, что сейчас в споре с Гонсевским ничего не добьётся, разве что большего озлобления друг против друга. Подняв кубок, Шеин дружелюбно сказал:
— Ладно, пан Александр, не будем ломать копья напрасно, время рассудит нас. — Он выпил свой кубок и встал. — Прощай. А мне пора в обратный путь.
Гонсевский попытался уговорить Шеина переночевать у него. Но Шеин подал ему руку, откланялся, с тем и покинул имение гетмана.
А вскоре миролюбивая поездка Михаила Шеина на переговоры к гетману Гонсевскому обернулась ему во зло. В Польше были распущены слухи о том, что смоленский воевода боярин Шеин приезжал к гетману Гонсевскому с тем, чтобы обговорить условия передачи Смоленска королевичу Владиславу, которого в Москве позвали на русский престол.
Эти слухи побудили короля Сигизмунда весной девятого года двинуть свои войска в Московское государство. Он торопился, чтобы успеть исполнить задуманное до того, как Василий Шуйский наведёт государственный порядок в державе.
Правда, в эту пору и в стане короля Сигизмунда не оказалось полного согласия между вельможами и крупными магнатами. Одни требовали от короля немедленного завоевания московского престола, другие призывали Сигизмунда вначале покорить Северскую и Смоленскую земли. Он принял второе решение. В последний час он получил от своих доверенных людей сообщение о том, что воевода Шеин и его сотоварищ князь Горчаков, а также все смоленские горожане охотно встанут под королевскую корону Польши. Вести оказались ложными.
Глава восемнадцатая В ОСАДЕ
О движении польского войска к Смоленску воевода Шеин узнал сразу же, как только королевские полки покинули Краков. Польские сходники, встречаясь в условленных местах с русскими лазутчиками, передавали им всё, что делалось в королевском стане. Последним звеном в цепи лазутчиков в Польше был Павел Можай. Он-то и примчал от рубежа на взмыленном коне, возник перед Шеиным, когда тот с князем Горчаковым принимали обоз с пушками и порохом из Москвы.
— Батюшка-воевода, пришла беда, — сойдясь с Шеиным, тихо передал Можай. — Сам король ведёт войско на Смоленск и в середине сентября будет под его стенами.
— Князь Матвей, — позвал Шеин Горчакова, — иди сюда и послушай, что говорит Павел.
Горчаков подошёл. Михаил сказал Павлу:
— Повтори, о чём поведал мне.
— Я говорю, что польские сходники донесли нам весть о том, что король Сигизмунд покинул Краков и ведёт на нас больше двадцати тысяч воинов.
— Ну что будем делать, князь Матвей? — спросил Шеин.
— Эх, Борисыч, — тяжело вздохнул Горчаков, — загоняют нас в клетку не только поляки, но и сам царь-батюшка. И зачем мы отдали из крепости три тысячи воинов и ополовинили защитников? Не знаю, как от двадцатитысячной рати нам обороняться.
Михаил Шеин был расстроен не меньше Горчакова. Ещё в середине августа повелением царя Василия Шуйского он отправил из Смоленска в Москву три тысячи стрельцов. Тогда Шеин сорвал свою досаду на гонце. «Чтоб ты сгинул где-нибудь в пути!» — воскликнул возмущённый воевода. И уже тогда, предчувствуя угрозу назревающей войны, Шеин предпринял единственно возможный шаг. Вместе с князем Горчаковым, со всеми своими приказными дьяками он сумел набрать в Смоленской земле около двух тысяч ратников, умеющих хоть как-то держать в руках оружие, но не имеющих его. Ведь потерял он три тысячи стрельцов со шведскими мушкетами, а у тех, что набрали, даже луков со стрелами не было. Пришлось вооружать их кое-чем и учить рукопашному бою.
В конце августа девятого года Шеин и Горчаков могли уже обозреть, что имелось у них для обороны Смоленска. По стенам и башням на трёх уровнях — подошвенном, среднем и верхнем — было размещено более трёхсот пушек и почти четыреста пищалей. Все они были обеспечены пороховыми зарядами, железными и каменными ядрами, картечью для пищалей. Продовольствия также было достаточно, и город мог продержаться в осаде не меньше года. Надеялись, что такой осады король Сигизмунд сам не выдержит, а идти на приступы вряд ли отважится. Крепость и по мнению поляков считалась неприступной.
Но недостаток ратников для защиты крепости всё-таки пугал Шеина. Горчаков докладывал воеводе о росписи людей по стенам и башням:
— Вот что мы с тысяцкими сделали ввиду недостатка ратных людей. По стенам, башням и воротам Смоленской крепости начальными воинскими людьми назначено тридцать девять дворян и детей боярских и сорок восемь посадских дворовых людей.
— А как распределены сотни доброхотов и слобожане?
— Их всего тысяча восемьсот шестьдесят два человека.
— Тогда распиши их на каждый отдел стены по три десятка в помощь ратным людям да поставь по два человека в помощь пушкарям.
Так умелым распределением горожан и посадских людей Шеину и Горчакову удалось заполнить ту брешь, которая образовалась по воле царя после отправки трёх тысяч воинов.
— Что ж, теперь пусть сунется к нам дерзкий Сигизмунд! Так ли я говорю, Михайло Борисыч? — заявил князь Горчаков.
Шеин был сдержаннее в выражении своих чувств. Он предчувствовал, что противостояние с поляками будет долгим и жестоким. Они вырвут Смоленск из рук погрязшей в смуте Руси. И Михаил оказался провидцем. Он прозрел суровые грядущие годы, потому что понимал, чего стоит Смоленск как для Руси, так и для Польши. Борьба предстояла долгая и кровопролитная.
День шестнадцатого сентября 1609 года будет памятен оставшимся в живых смолянам на всю жизнь. В этот день войска короля Сигизмунда подошли к Смоленску. Они ещё не окружили его. А к вечеру того же дня в полном согласии с воеводой Шеиным посадские люди забрали весь скарб из домов, выгнали из хлевов скотину и до единой семьи ушли в крепость. И при подходе поляков посады в одночасье во многих местах запылали. Вечернее небо окрасилось заревом. Казалось, весь Смоленск утонул в пламени. Это зрелище породило в польских воинах животный страх, и они три дня не подступали к Смоленску вплотную, пока не выгорели все посады.
Михаил Шеин в эти дни немало отдал времени тому, чтобы вместе с Горчаковым и своими дьяками разместить женщин и детей на постой по городским домам, а всех способных держать оружие мужчин отправил в крепостные башни в помощь бывалым ратным людям.
На третий день — девятнадцатого сентября — король Сигизмунд послал в Смоленск воеводе Шеину «Универсал» — грамоту, в которой напоминал о многих ужасных бедствиях, постигших Русь. Ещё Сигизмунд ссылался на призывы русских людей прийти к ним на помощь.
— Не иначе те люди из стана Тушинского вора, — заметил князь Матвей Горчаков.
— Ты, княже, послушай дальше, что пишет Сигизмунд. Он ждёт от смолян покорности и встречи его хлебом-солью. А в противном случае он грозит кулаком: мол, вам, смолянам, никому не будет пощады.
В тот же день Шеин и Горчаков отправились в Мономахов храм, и там архиепископ Сергий прочитал с амвона послание Сигизмунда смолянам. Горожан в храме было полно. Когда Сергий закончил читать, к амвону вышел старейший боярин Смоленска Афанасий Щегол и сказал:
— Мы в храме Богоматери дали обет не изменять ни Святой Руси, ни государю нашему Василию Ивановичу, а польскому королю не поклоняться. Стойте же до предела, смоляне!
И было написано польскому королю ответное послание, в котором смоляне просили его уйти от стен города подобру-поздорову, чтобы голову не потерять. Отправив грамоту с пожилым горожанином, добровольно вызвавшимся идти в стан поляков, Шеин сказал смолянам:
— Отныне всем ратникам, сотским, тысяцким, доброхотам и простым горожанам быть настороже.
Началось противостояние. Со стен крепости было видно, как королевское войско отрядами располагалось вокруг города на расстоянии, недоступном для поражения из пищалей и даже пушек. Главные силы поляков начали строить укреплённый лагерь с северной стороны Смоленска за Днепром. Через несколько дней лазутчики Шеина донесли ему, что сам король Сигизмунд, гетман Жолкевский и канцлер Сапега со всеми придворными расположились в ближнем католическом монастыре. Нефёд Шило сказал по этому поводу:
— Вот как мы посады сожгли, так и королевский двор в монастыре надо под красного петуха пустить.
— Придёт время, так и сделаем, — ответил Нефёду Михаил.
Наступил день, когда загремели пушки. Первыми открыли стрельбу поляки, выдвинув орудия и защитив их турами. Они били по стенам, но их ядра не приносили угрозы смолянам. Пушкари и стрельцы Смоленска не оставались в долгу. В стан врага тоже полетели ядра, и они наносили полякам урон. На восьмой день противостояния лазутчики Шеина принесли весть, которая его насторожила.
— Вчера поздним вечером мы вышли через Копытецкие ворота, — рассказывал Павел Можай, — проползли две или три сотни сажен, услышали чужую, но не польскую речь. Потом Пётр сказал, что это немцы гогочут. Так эти немцы копали ход к нам. Мы проползли вдоль этого хода. Всё сводится к тому, что немцы хотят вплотную приблизиться к Копытецким воротам.
— Выходит, готовятся к приступу, — отметил Шеин.
Но в течение дня в стане врагов не было заметно в этом месте никакого движения. Зато с восточной стороны за рекой Чурилнею было замечено большое скопление войска. Там же воины возводили туры. Полякам удалось отвлечь внимание от Копытецких и Аврамьевских ворот. Подкоп у поляков получился, и они взорвали с помощью петард «медных болванов с зельем» — Копытецкие и Аврамьевские ворота. Следом за взрывами больше сотни польских воинов ворвались в крепость.
В эту ночь Шеин не спал. С сотней воинов он ждал у подножия Соборной горы возвращения лазутчиков. Но, когда прогремели взрывы, он повёл сотню к Копытецким и Аврамьевским воротам и подоспел вовремя. Поляки и наёмные немцы ещё только ломились через проломы, но их тут же встретил Михаил со своими ратниками. Он сам повёл их в сечу. И началась рубка, но она длилась недолго. Не получив поддержки, поляки и немцы вскоре обратились в бегство, оставляя в крепости раненых и убитых.
Отбив первый приступ и не потеряв ни одного ратника убитым — лишь раненые, — Михаил, однако, задумался. С его стороны было явной ошибкой то, что он не принял в расчёт жажду противника овладеть крепостью любой ценой и в самое короткое время. Прогнав врага, Михаил Шеин велел немедленно заделывать проломы, образовавшиеся на месте взрывов.
— Несите сюда камни, брёвна, песок! — командовал он.
Кто-то догадался зажечь факелы, и сотни ратников и горожан взялись закрывать дыры в стене и взорванных воротах. К утру проломы были заделаны. Но Шеин не остановил на этом работ. Он велел князю Горчакову собрать плотников и поставить перед завалами палисады из брёвен.
— Так будет надёжнее, — заверил он князя.
В конце сентября и в начале октября поляки дважды пытались овладеть крепостью приступами. Но каждый раз защитники Смоленска разгадывали замыслы противника, собирали к местам приступов большие силы и давали отпор. Идти на приступы по всей шестивёрстной длине стен у поляков тоже не хватало сил, да и высота стен казалась им непреодолимой. Всё это устраивало Шеина. Однако гетманы Сигизмунда ещё не раз пытались разрушить стены крепости взрывами и делали подкопы в самых неожиданных местах. Шеин велел Горчакову подобрать зорких и тонких на слух воинов. Они следили за польскими воинами день и ночь. Под стенами были прокопаны искусные ходы «послухи», и, как только обнаруживался подкоп, его взрывали далеко от стены вместе с теми, кто вёл в нём работы. Вскоре поляки отказались от бесцельных подкопов, которые лишь уносили жизни их воинов.
Но польские войска действовали всё настойчивее и яростнее. Поставив за рекой Чурилнею туры и установив пушки между турами, они начали день за днём обстреливать ядрами центр Смоленска. Больше всего подверглась разрушению Богословская улица. Поляки кидали на город и раскалённые ядра, чтобы поджечь его. Но горожане умело тушили возникающие пожары, и польские пушкари отказались стрелять раскалёнными ядрами. Может, у них не хватало дров.
В конце октября в городе проявилось недовольство действиями Шеина и защитников крепости. Горячие головы требовали совершить большую вылазку и прогнать поляков. Шеин собрал именитых горожан, позвал на совет тысяцких. Вместе с князем Горчаковым он спросил их:
— Будем сидеть в осаде или попытаемся дать бой полякам? Добавлю к этому одно: у нас не хватит сил на большую вылазку. Чтобы идти каждому из нас на пятерых-шестерых противников, нужно быть Ильёй Муромцем. Нужна помощь извне. Так слать ли нам гонцов в Москву, которая сама задыхается в беде?
На совете был дьяк Разрядного приказа из Москвы Пётр Шипилов.
— Помощи вы не дождётесь, — сказал он, как отрубил. — Сейчас наступило самое время избавиться от Тушинского вора. На помощь царю торопится князь Михаил Скопин-Шуйский. Слава ему. Он гонит поляков, освободил от них Калязин, Переяславль, выгнал их из Александровой слободы. Он спешит с войском под Троице-Сергиеву лавру, чтобы разрушить более чем годовую осаду монастыря. И знайте, как только прогонит поляков из Тушина, так обязательно придёт с помощью к вам. Помните это!
Старый смоленский боярин Никита Тестов встал, когда умолк Пётр Шипилов. Постучав посохом об пол, сказал:
— Все мы знаем, что царю-батюшке сейчас труднее, чем нам. Постоим же против ляхов своими силами. Три моих сына на стенах стоят и дерутся, завтра пошлю ещё двоих. И других смолян зову отдать на защиту града последнее.
Шеин и Горчаков согласились со старейшим боярином Смоленска. И Михаил ответил ему:
— Спасибо, отец, за вразумление. Пока силы есть, будем стоять против ворога. Об одном предупреждаю данной мне властью: берегите корм. Хлеб, мука, крупы, зерно — всё это отныне достояние всех горожан, а не только тех, кто имеет запасы. Помните, всякий укрывающий их совершает злодеяние и будет строго караем. Всем, кто поделится своим кормом, казна выплатит деньги.
Позже стало ясно каждому, кто узнал о двадцатимесячной осаде поляками Смоленска, что лишь такое жёсткое решение воеводы Михаила Шеина позволило смолянам избежать голодной смерти.
Весь ноябрь девятого года поляки не очень яростно вели осаду города, может быть, им мешала непогода — дожди со снегом. Лазутчики Михаила Шеина ежедневно приносили ему вести. Узнали они от сходников и то, что главный гетман осаждающих войск Ян Потоцкий завидовал последнему назначению гетмана Станислава Жолкевского, который по воле короля возглавил новое войско и должен был вести его к Москве. Потоцкий поклялся, что к весне десятого года он овладеет Смоленском.
Правда, Ян Потоцкий потребовал от Сигизмунда пополнения войска. Король пошёл ему навстречу и повелел гетману Александру Гонсевскому призвать на службу семь тысяч малорусских казаков. Ещё восемь тысяч казаков король нанял в Северской земле. Теперь войско Яна Потоцкого превышало численность защитников крепости почти в семь раз.
— Я им покажу, матка боска, — грозил смолянам крепким кулаком гетман Ян Потоцкий.
Так совпало, что после этой угрозы ночью из русского стана спустился по верёвке со стены некий горожанин. В него стреляли из мушкетов, но ему удалось остаться в живых. Нефёд Шило в эту же ночь ждал возвращения своих лазутчиков из польского тыла. Услышав выстрелы, он поднялся на стену. Узнав, что случилось, побежал к воеводе. Шеин в эти дни дневал и ночевал в воеводском приказе. Он спал в полглаза и при первом же выстреле проснулся. Нефёда Михаил встретил в дверях приказа.
— Что случилось? — спросил он.
— Как мне поведал сейчас на стене один из смолян, убежал некий дворянский сын Божан Усвятов. Мать у него полька, отец был русский. Он давно казался горожанам подозрительным. Вчера вечером они хотели захомутать его, привести к тебе, воевода, но ему удалось скрыться, и в полночь он бежал через стену.
— Выходит, надо ждать какой-нибудь подлости, — заметил Шеин.
Но ночь прошла спокойно. А утром защитники крепости увидели, что в стане поляков началось движение. Стягивались пушки к холму, против Средней башни. Там же поляки начали копать траншею.
Шеин распорядился поставить близ Средней башни на стены несколько пушек дополнительно к тем, что были, а всех ратников из башни вывести. Воевода разгадал манёвр поляков. В полдень не меньше трёх десятков пушек открыли по башне стрельбу. Ядер не жалели, стены башни, менее мощные, чем крепостные, стали разрушаться, и уже к вечеру стена, обращённая к полякам, рухнула. Поляки были упорны, они стреляли по башне и на другой день, несмотря на то что пушкари Шеина вели по ним постоянную стрельбу. Дуэль из пушек между поляками и русскими длилась два дня. Теперь поляки стремились разнести внутреннюю стену башни, чтобы открыть путь в крепость. Но Шеин приказал воинам ставить за стеной башни, которую пытались разрушить поляки, тур из брёвен и засыпать его землёй.
Когда поляки разбили внутреннюю стену башни, то их ждала неудача: пробоину в стене защищал мощный тур, и польская пехота, готовая идти на приступ, так и не поднялась из своих траншей.
Михаил Шеин и Матвей Горчаков в эти дни не уходили со стен крепости. Нефёд Шило, глава лазутчиков, каждый день уведомлял воевод о движении и намерении поляков. Они по всей окружности крепости, кроме северной стороны, где близко протекал Днепр, копали траншеи и по примеру русских ставили для защиты туры. По всему было видно, что поляки готовились к общему приступу почти на всём многовёрстном протяжении стены. Но однажды Матвей Горчаков высказал мысль о том, что поляки только делают вид, что готовится к мощному приступу.
— Почему ты так думаешь, княже? — спросил Горчакова Шеин.
— Да потому, что у них не хватит сил на такой приступ. Кроме того, они не готовят лестницы, не ведут подкопов.
— Это верно, — согласился Михаил. — И, по всей видимости, хотят лишь укрепить рубежи осады.
— Вот-вот. Похоже, что у Сигизмунда сейчас другие планы. Он нацелился на Москву, потому и Станислав Жолкевский отозван.
Воеводы оказались правы. Зимой 1610 года поляки не предпринимали никаких действий, чтобы попытаться взять Смоленск, но большими силами шли к Москве.
Однако Михаил Шеин понимал, что и затяжная осада будет для смолян губительна. Как ни старались смоляне бережно расходовать корм, он таял на глазах. Всё меньше становилось запасов муки, зерна, круп. За зиму горожане пустили под нож всю скотину, потому как не было ни сена, ни соломы кормить коров, лошадей, овец. Пустили под нож и всю птицу.
В февральские метельные ночи Михаил Шеин послал Нефёда, Петра и Прохора за рубеж осады, в Дорогобуж, который находился пока в руках русских.
— Узнай, Нефёд, долго ли нам сидеть без помощи. Мы бы брешь прорубили в осаде, поставили бы засеки и открыли путь к Москве и из Москвы.
— Всё запомню, батюшка-воевода. О том и будем правду добывать.
— Ещё спрашивай, много ли в Дорогобуже военного припаса: ядер, зелья, фитилей, зарядов для мушкетов и пищалей — всё у нас на исходе. А главное — про хлеб спрашивай. Голод на пороге.
В эту долгую осадную зиму у Михаила нашлось время и для семьи. Он немало часов проводил дома. Шёл восьмой годок сыну Ване, и он теперь всё больше тянулся к отцу, нежели к матери. Михаил и сам отдыхал близ сына. Если раньше грамоте его учила Мария, то теперь Михаил взялся за это. Вихрастый голубоглазый Ваня оказался способным учеником, и когда Михаил принялся учить сына польскому языку, тот запоминал слова с лету. Что заставило Шеина учить сына польской речи, он не мог бы сказать, однако усердно занимался с Ваней. А вскоре отца и сына захватила страсть к рисованию. Виной этому был Анисим. Он скрывал от Михаила свой дар, но с детства тянулся к рисованию и, когда был послушником в монастыре, постиг там тайну писания божественных образов. Стоило ему лишь взять в руки чисто выструганную липовую дощечку и кисть, а к ней краски: синюю, белую и красную, — как под его руками рождался божественный лик то Николая Чудотворца, то Иоанна Крестителя. Отец и сын дивились этому Божьему дару Анисима, Ваня сам спешил научиться чудному мастерству, но у него ничего не получалось. Анисим по этому поводу говорил просто:
— Ты, Ваня, постарайся только глаза писать. Видишь, какие у батюшки глаза строгие? В них даже огонь есть. Или вот у Кати. Прелесть! Два василька! Вот и попробуй нарисовать васильки.
И пока Ваня до пота старался изобразить васильки, Анисим очень серьёзно, как равный равному, сказал Михаилу:
— Ты, батюшка-воевода, тоже не чурайся этого ремесла. Давай вместе учиться писать лики святых. Мне в монастыре отец Нифонт говорил: «Аниска, раб Божий, помни, что ремесло за спиной не носить. А в жизни оно всегда как дар божественный».
Воевода слушал стременного внимательно, без желания одёрнуть его: дескать, баловство это. Какой-то внутренний голос подсказал ему: «Прими совет во спасение». И Шеин внял совету Анисима. Долгими зимними вечерами, когда на крепостных стенах и за ними, в стане противника, раздавались лишь голоса караульных, Михаил садился рядом с Анисимом к столу и усердно пытался написать глаза, в которых бы что-то жило, горело. Только живые, полные жажды жизни глаза он пытался изобразить кистью. Но, временами Михаилу казалось, что это для него недостижимо. Лишь постепенно, благодаря упорству Анисима, который вёл воеводу к цели, рука Михаила стала искуснее, а зрение тоньше, и у него начало что-то получаться. Анисим поправлял его и подчас одним лёгким мазком зажигал в глазах огонь. Это же наконец стало удаваться и Михаилу.
— Анисим, а ведь получается! — однажды радостно воскликнул Михаил.
Мария, которая иногда приходила посмотреть на увлечение мужа, с удивлением увидела своё отражение. Это были её глаза. Она подошла к Михаилу, прижалась к его спине и сказала:
— Мой сокол, я вижу себя.
— Слава Богу, а я-то боялся…
Так же постепенно, как он перенимал у Анисима азбуку писания образов, он открыл в тайниках своей души клад, где хранилась разгадка к созданию живых образов. По его разумению, это оказалось донельзя просто. Лики тех, кого изображал Михаил, должны смотреть на мир его глазами, в них должно отражаться его душевное состояние, его помыслы и чувства: гнев, ненависть, радость, счастье, веселье, печаль — всё это из его сердца ложилось живыми красками на холст, на дощечки. И Михаил понял, что долгие вечера, проведённые с Анисимом, не пропали даром. Всё, что надо было делать дальше, Михаил знал. К живым глазам он легко приписывал мягкие или твёрдые губы, окладистую или клинообразную бороду, прямой, клювообразный, с горбинкой или вздёрнутый вверх нос, высокий или низкий морщинистый лоб, мощную или жиденькую шевелюру — всё рождалось по воле глаз создаваемого образа.
Мария и Катя часто приходили в покой, где творили трое одержимых, но никогда не мешали им, а с трепетным удивлением смотрели, как рождаются живые лики святых. Потом они бережно принимали в свои руки завершённые образы и уносили их в покои, украшая ими «красные углы».
Нефёд Шило и его соратники Пётр и Прохор вернулись в Смоленск лишь мартовской метельной ночью. В эту пору через заставы осаждающих можно было провести полк — так просторно было на рубежах вражеского стана. Пришли они сытые, принесли на спинах огромные торбы с харчами: хлебом, салом, солью, вялеными рыбой и мясом, пшеном. Знали, для чего несли. Все трое явились в палаты воеводы. Его подняли с постели среди ночи, и он вышел к лазутчикам полусонный. Они расположились в трапезной, ополовинивали торбы. Шеин не сразу узнал трёх «лесовиков».
— Эк, вы изменились обличьем. А я уж и ждать вас перестал. Больше месяца нет и нет.
— Ждали подмоги из Москвы, — ответил Нефёд, — будь оно не ладно. Так и не дождались. Сказывал нам воевода дорогобужский боярин Пронин, что Москва отправила последних ратников под Тушино. Туда же пришёл и князь Скопин-Шуйский. Все там и бьются.
— Но что в Дорогобуже? Есть ли корм для ратников? Есть ли пороховые заряды, ядра? У нас всё на исходе.
— В Дорогобуже, воевода, всё есть в достатке, амбары полны. Нет одного — тягла и ратников, чтобы через заслоны доставить в Смоленск.
Вести, принесённые лазутчиками, сильно озадачили воеводу Шеина. Подумал он, что надо отправить гонцов в Москву, а с ними князя Матвея Горчакова. Вывод Михаил сделал один: без помощи Москвы и державы Смоленску не выстоять, и если она не позаботится о том, чтобы Русь пришла на выручку к смолянам, то виновен в падении крепости окажется только он, воевода, и никто больше.
Глава девятнадцатая ПОЗОР ДЕРЖАВЫ
События весны и лета 1610 года не имели никаких других красок, кроме чёрных. Всё происходящее окутывалось в траурные ленты. Лишь начало весны прошло под торжественный перезвон московских колоколов. Москва встречала победителя, прогнавшего поляков от Троице-Сергиевой лавры, которые осаждали её шестнадцать месяцев. Ян Сапега и Александр Лисовский бежали от лавры в панике, бросая пушки, знамёна, раненых. Следом за изгнанием поляков от лавры князь Михаил Скопин-Шуйский стремительно подошёл к Тушину и разгромил Тушинский лагерь.
И вот он, двадцатитрёхлетний красавец, герой, появился в Москве. Его встречали так, как не встречают государей. Москвитяне хотели видеть Скопина-Шуйского на русском престоле. В день встречи они призывали его войти в Кремль. В толпе встречающих князя было много молодых отчаянных голов, которые кричали: «Долой царя Василия Шуйского! Не по правде, не по выбору всей земли русской сел он на престол и был несчастен на царстве!», «Слава Михаилу Скопину! Слава!» — перекатывалось по Красной площади.
Но встал на пути молодого героя, воеводы и князя заносчивый и ничтожный, но считающий себя первым претендентом на престол брат Василия Шуйского Димитрий. И Михаилу не удалось уберечься от рук этого злодея.
В эти апрельские дни у князя Ивана Воротынского родился сын, и по этому поводу он позвал князя Михаила Скопина-Шуйского в крестные отцы. Михаил не мог отказать князю Воротынскому, с которым был в добрых отношениях. В крестные матери Воротынскому Шуйские навязали жену Димитрия Шуйского Марию, дочь Малюты Скуратова. Как всё случилось дальше, сказано кратко и точно в «Повести о победах Московского государства»: «И как будет после честного стола пир навеселе и диавольским омрачением злодейница та княгиня Мария, кума подкрестная, подносила чару пития куму подкрестному и била челом, здоровала с крестником Алексеем Ивановичем. И в той чаре в питии уготовано лютое питие смертное. И князь Михайло Васильевич выпивает ту чару досуха, а не ведает, что злое питие лютое смертное». После этой выпитой медовухи с зельем Михаилу Скопину-Шуйскому стало плохо, из носа пошла кровь. Через две недели он скончался.
Другу воеводы Михаила Шеина Сильвестру довелось быть на похоронах и на панихиде по князю Скопину-Шуйскому. И он плакал, как и многие другие москвитяне, провожая в последний путь народного любимца. В этот день в соборе Благовещения в Кремле после панихиды Сильвестр подошёл к иконе Архангела Михаила и поклялся, что злодей погибнет более мучительной смертью, нежели князь Скопин-Шуйский. «Я буду чёрным ангелом смерти, уготованной тому злодею», — шептал перед образом Сильвестр.
Когда царь Василий Шуйский назначил своего брата главным воеводой над сорокатысячным войсковым соединением, приготовленным для спасения Смоленска, и Димитрий Шуйский повёл это соединение, Сильвестр был среди ратников московского ополчения. Он пошёл в ополчение по доброй воле, с ним хотел дойти до Смоленска, там ударить в спину полякам и прорвать жестокую осаду города. Однако своё желания Сильвестру не удалось исполнить. Мудрый ведун прозрел время и увидел то, от чего могла бы содрогнуться самая мужественная душа. О своём прозрении близких грозных событий, которые произошли всего в ста семидесяти вёрстах от Москвы, под деревней Клушино, ещё под Воробьёвой и Тетерями, Сильвестр не хотел признаваться даже себе. Но он не мог ничего изменить в том, что грозило царскому войску, ведомому Димитрием Шуйским. Тот вёл соединение с великой беспечностью. Любой воевода, даже самый посредственный умом, не допустил бы того, что допустил Димитрий Шуйский. Он вёл соединение вслепую. Впереди у него до самого Клушина и далее не было дозорных. Через четыре дня пути князь Димитрий устроил большой привал войска. Была июльская благодатная пора, князь собрал всех воевод и устроил с ними по случаю своего Дня ангела пир. Хмельного было много, и все воеводы перепились.
В ночь на двадцать четвёртое июля к деревням Клушино, Воробьёво и Тетери подошло войско гетмана Станислава Жолкевского. На рассвете поляки хлыну ли лавиной на русский стан, и началось побоище. Оно продолжалось полный день, и в нём полегли тысячи русских воинов.
Сильвестр находился в эту ночь близ деревни Тетери и видел, как уводил свои полки шведский генерал Делагарди. Он счёл за лучшее не нападать на поляков и бросил русскую рать на погибель. Большую часть своего войска Делагарди увёл на север, а один из полков передал полякам. Слышал Сильвестр потом, что Делагарди захватил без особых потерь Новгород.
Сказывали позже, что сам князь Димитрий Шуйский переоделся в крестьянскую одежду и бежал на крестьянских санях с места побоища в Москву. Вернувшись в Кремль, он пал в ноги старшему брату Василию и со слезами на глазах молил его о прощении за потерю рати. Василий бил Димитрия ногами и твердил: «Ты опозорил меня! Ты опозорил! Нет тебе прощения!» Но Димитрий не был наказан.
Сильвестр покинул разбежавшееся ополчение и направился на запад. Он шёл в стороне от проезжей дороги Москва — Смоленск. Его путь пролегал через леса и перелески. Так он добрался до Дорогобужа, но не рискнул войти в город: в нём были поляки. Они захватили Дорогобуж без сопротивления. В деревне Полибино, вёрстах в десяти от Дорогобужа, старый крестьянин рассказал Сильвестру, что в тот день, как прийти полякам, он был на торге и видел, что они вошли в город, словно на смотру.
— В том Дорогобуже, батенька мой, многие сотни возов добра и корма для Смоленска уготовано было. Теперь то добро наши воеводы псу под хвост бросили.
Переправляя на своей лодчонке Сильвестра через Днепр, крестьянин поинтересовался:
— Да ты, я вижу, в Смоленск пробираешься. Смотри, голова, будь настороже. А возвращаться станешь — заходи. Меня Поликарпом кличут.
— Не обещаю, батька Поликарп. У меня дорога дальняя.
— И не обещай. Ты свою дорогу знаешь. Я же вижу, что ты ведун. Да сильный, похлеще меня.
Так говорили Сильвестр и Поликарп, пока переправлялись через Днепр. А когда пристали к берегу, Поликарп достал из кармана три молодые сосновые шишки и подал их Сильвестру.
— Как встретят тебя ляхи, ты достань из кармана шишку и покажи. Шишку-то отберут, а тебя пропустят.
— Эк, сильно! А почему?
— Поверье у них такое: шишку подаришь — жизнь спасёшь.
— Так я карманы набью и пойду по вражьему стану, всё и разведаю, своим принесу.
— Куда как хитёр, да, смотри, не обмишулься. В нашем стане и без тебя есть кому разведывать скрытное. А вот ежели купишь коня с телегой да привезёшь в Смоленск муки или зерна, тебе в пояс поклонятся смоляне. И не отрицай, что не сможешь купить. Поликарпу всё про тебя ведомо. Это ведь ты, рыжий Сильвестр, Борису Годунову семь лет царствия нарёк.
Поликарп засмеялся, в лодку сел, селезнем крякнул да так и поплыл гордым селезнем через Днепр.
— Ой, силён Поликарп! Ой, силён! — смеялся Сильвестр и чесал затылок.
Однако ведун задумался над советом Поликарпа. Он сел, достал из-за пазухи кису, открыл её, посмотрел, сколько у него денег, и решил, что может купить и коня, и телегу, и поклажу на неё. Встал и отправился в большое селение Курлымово. Одно его смущало в пути: как он, с конём и с телегой, сможет проникнуть в окружённый врагами Смоленск. Но чародейский дух возобладал над человеческой осторожностью. В Сильвестре проснулась жажда вскружить врагу голову, обвести его вокруг пальца и устрашить, наконец. И он, добравшись до села Курлымово, знал, что ему делать. Он пришёл на маленький сельский торг, расспросил мужиков, как лучше подъехать к Смоленску, минуя польские заставы. Мужики посмеялись над ним и сказали, что это невозможно. Но тут вышел вперёд неказистый молодой мужик и заявил:
— Можно проехать в Смоленск и через заставы ляхов. Только ты в Полибино вернись и попроси деда Поликарпа помочь тебе. Как посеребришь руку Поликарпу, так он тебя по всему вражьему стану проведёт и главные ворота перед тобой распахнутся.
— Спасибо за совет, Полканов сын. Ты лучше помоги мне коня с подводой купить да съезди со мной до города.
— А ты откуда меня знаешь? Да, я Полканов сын. A-а, Бог с тобой, мужик ты свойский, да и смолянам надо помогать. Айда к Никифору Скворцу. Он тебе и коня с телегой продаст и муки…
Вскоре Полканов сын привёл Сильвестра к богатому подворью с крепкими воротами, по-хозяйски постучал в калитку. Появился сам Никифор Скворец с палкой в руках. Увидев Полканова сына, замахнулся на него палкой.
— Ну-ну, не балуй, Скворец. Я к тебе купца привёл.
Никифор, увидев московские серебряные рубли, рассчитал верно. Знал он, что поляки всё равно разорят его до нитки, потому продал Сильвестру ржи, муки, ячменя, крупы — всё кулями. Нагрузили полный воз, чуть ли не с верхом. Коня продал хорошего и телегу крепкую.
— Мой конь эту махину бегом потянет, — похвалился Скворец.
После того как сторговались и Сильвестр сполна расплатился звонким серебром, он сходил в церковь и купил тринадцать свечей. Вернувшись на двор к Скворцу, нашёл у него глину, замесил и слепил тринадцать подставок под свечи. Разжился у Скворца трутом, кремнём, кресалом — кусочком стали для высекания искр. Всё опять-таки оплатил.
Выехал Сильвестр с Полкановым сыном уже к вечеру. Посчитал, что ему надо быть под городом в полночь и поедет он главным трактом, ни от кого не прячась, и всё у Сильвестра получалось, как задумал. К полночи он был уже в версте от Днепра, за которым стоял Смоленск. Ночь была тёмная, тихая, и от Днепра нанесло на пойму туман. Когда он скрыл коня, воз и путников, Сильвестр раздул трут, зажёг все свечи, расставил их на возу и тихонько поехал. Он знал, что огонь увидят поляки, если они где-то рядом или впереди на мосту, и был уверен, что они в панике убегут от той страсти, какая на них надвигалась. А надвигалась эта страсть в виде огромного огненного шара. Катился он по полевой дороге прямо к Смоленску, и удержу ему не было.
Поляки действительно увидели это наваждение. Оно показалось им карающей огненной колесницей, и все, кто был близ моста через Днепр, ринулись бежать. А несколько воинов, спасаясь от карающей «десницы», прыгнули в Днепр. Путь к крепости был свободен. Сильвестр и Полканов сын бежали сбоку коня, и ведун вызывал дух Михаила Шеина, чтобы он поднялся на стены и, увидев огненный шар, догадался, что он сулит.
Воевода Шеин вместе с воеводой Горчаковым были в этот час на Соборной горе. И они ждали, но не ведуна Сильвестра, а своих лазутчиков, которые должны были вернуться с вылазки под пеленой тумана. И Михаил впрямь почувствовал некое волнение и зов. Его потянуло к Фроловской башне.
— Ты будь тут, княже, а я сбегаю к главной башне, посмотрю, что там.
Михаил убежал. Едва спустившись с горы, он увидел возле главных ворот суету, беготню. Ратники поднимались на стену. Поднялся и Михаил. Глянул в бойницу и узрел чудо: К воротам Фроловской башни подкатывался большой огненный шар.
— Чудеса! — воскликнул Михаил и ещё громче крикнул: — Не стрелять! Это наши!
И впрямь «чудеса» у него на глазах превращались в явь. Приближаясь, шар стал меркнуть, и, когда подкатился к самым воротам, Михаил увидел коня, телегу и на ней горящие свечи. Сердце ёкнуло от радости и догадки: «Сильвестр! Только ему дано творить такие чудеса!» И Шеин крикнул ратникам, которые стояли в карауле близ ворот:
— Открывайте! Это свои!
Он спустился со стены и побежал к арке башни.
Ворота уже открыли. Показалась морда коня, а рядом лик огненно-рыжего Сильвестра. Шеин подошёл к нему.
— Сердце почуяло, что это ты с чудом катишься, — сказал Михаил.
Он обнял Сильвестра, похлопал его по спине. Спросил: — Что это у тебя на возу?
— Так зерно, мука, крупы. Что мог, то привёз, не взыщи…
— Батюшка Сильвестр, да мы на тебя помолимся за сей дар!
К башне пришёл князь Горчаков. Шеин поручил ему взять под опеку всё, что привёз Сильвестр, и повёл ведуна в воеводские палаты.
Мария и дети уже спали, слуги тоже, и Михаил привёл Сильвестра на кухню. Там, в тишине и без помех, побратимы и устроились поговорить. У воеводы нашлось что выпить за встречу, чем накормить Сильвестра с дороги. Но это для него было не главное. Ему не терпелось поведать Михаилу обо всём, что случилось под деревней Клушино, в шестидесяти вёрстах от Можайска. Пересказав, как громили поляки русскую рать, как бежали из стана россиян шведы, Сильвестр добавил то, о чём думал весь путь от Клушина до Смоленска.
— И выходит, Борисыч, что, разгромив рать Димитрия Шуйского под Клушином, поляки завершили тем битву за Москву. И ни под стольным градом, ни в нём не будет сечи. Поляки войдут в Москву, как входят в свои города, и их встретят хлебом-солью.
— Так уж, право! — возразил Михаил.
— Да, Борисыч, так всё и будет. Шуйского за царя уже никто не считает. Против него возник заговор. Во главе рязанский дворянин Захар Ляпунов, удалой да дерзкий.
— Когда случится этот заговор? Чем обернётся? — спросил Шеин.
Сильвестр взял конец бороды, пожевал его и, глядя на Михаила пронзительными зелёными глазами, будто видя за его спиной всё, что происходило в Москве, сказал:
— Худо обернётся сей заговор и для батюшки-царя Василия и для матушки-Руси. Через два дня после праздника во славу равноапостольного князя Владимира Святого Шуйского свергнут с престола. А чтобы он больше не воцарился, его постригут в монахи. Поначалу заговорщики его пощадят, а потом одумаются и свершат постриг.
— И все твои речения обернутся правдой?
— Истинно. Крест целую. — И Сильвестр перекрестился. — И кара Шуйского ждёт жестокая вместе с братьями Димитрием и Иваном. Всех их закуют в железы и отдадут в заложники гетману Жолкевскому. Вот чем станет для Руси клушинское побоище, — закончил Сильвестр своё прозрение будущего.
Молчал он долго. И у Шеина не было слов. Он думал, чем обернётся разгром русской рати для защитников Смоленска. Ведь Русь посылала их для спасения смолян и древнего русского города. Теперь от Москвы не приходилось ждать помощи. Все запасы продовольствия, предназначенные для Смоленска, весь боевой припас стали добычей поляков в Дорогобуже. Смоленск, его жители обрекались клушинским разгромом русской рати на погибель. Острая боль охватила Шеина и от мысли о том, что будет со всей Русью. Ведь если поляки в Москве или рядом, у них появилась возможность послать на престол державы королевича Владислава. И показалось Михаилу, что всё дальнейшее в судьбе Смоленска произойдёт само собой. Коль посадят на русский трон Владислава, какой смысл держать Смоленск в осаде? И надо думать, что отец и сын договорятся между собой и Сигизмунд ради сына снимет осаду Смоленска.
Но тут ему, воеводе Шеину, надо держать ухо востро. Во всяком случае, он и в мыслях не допускал, что россияне смирятся с тем, что на троне Руси окажется польский отпрыск. Не отдадут ему престола россияне. А если он захватит его с помощью вельмож, тяготеющих к Польше, то, надо думать, свергнут силой. Есть ещё воители на Руси.
Придя к такому выводу, Михаил не стал допрашивать Сильвестра, чем обернётся для смолян переворот в Москве. Он лишь спросил:
— Побратим, а ты видишь то время, когда держава истинно начнёт возрождаться от смуты, а Смоленск избавится от осады?
— Нет, — последовал печальный и вместе с тем с отзвуком металла ответ.
Сильвестр не смотрел в сторону Михаила, потому как говорил неправду. Он знал судьбу Смоленска и смолян до исхода. И пришёл он в город не для того, чтобы изменить течение судьбы, а чтобы разделить со смолянами их тяжкую участь.
Михаил не пытался получить от Сильвестра более пространный ответ. Знал, что этого нельзя делать. У ведунов свои законы, нарушать их они не позволяют. Время уже было позднее, и Михаил сказал:
— Идём, я провожу тебя в опочивальню. Вижу, что ты устал.
Проводив Сильвестра, Шеин вернулся на кухню. Сна у него как не бывало. Он сел к столу, выпил хмельного, чтобы хоть чуть взбодриться, задумался о судьбе Смоленска. Так воевода пришёл к мысли о необходимости провести переговоры с польским гетманом Яном Потоцким и канцлером Львом Сапегой, который, как Шеину было известно, находился в эту пору среди осаждающих крепость. Рассчитывал воевода, что сумеет доказать бессмысленность их стояния под городом, скажет, что почти за год они ничего не добились и впредь не добьются, потому самый резон завершить противостояние миром.
На другой день Шеин послал Нефёда Шило и Петра в польский стан сообщить, что он, воевода Смоленска, хочет вести переговоры с гетманом и канцлером.
Нефёд и Пётр въехали в польский стан от Фроловских ворот. В руках Пётр держал белое полотно: дескать, идём с миром. Шеин наблюдал за ними из бойницы башни. Вот поляки остановили россиян и после короткого разговора повели вглубь стана. Вернулись они нескоро, но довольные. Встретившись под аркой башни с Шеиным, Нефёд Шило доложил:
— Паны Сапега и Потоцкий готовы вести с тобой переговоры, батюшка-воевода.
— Когда?
— А как ты выедешь на мост прямо сейчас, так и они появятся близ моста.
Шеин посмотрел на Анисима, сказал ему:
— Приводи коней. Тебе со мной ехать.
Вскоре воевода и стременной выехали за мост, охраняемый поляками. Тотчас из дальней рощи показались два всадника. Это скакали Ян Потоцкий и Лев Сапега. Когда съехались и поклонились друг другу, Михаил Шеин присмотрелся к Яну Потоцкому и понял, что высокомерный и честолюбивый гетман не пойдёт ни на какие мирные переговоры. Так и случилось. Шеин сказал:
— Мне ведомо, что гетман Жолкевский под Москвой, что бояре просят на престол Руси королевича Владислава. Зачем же нам воевать и проливать кровь? Уходите с миром. А мы будем жить, как велит Москва.
Слушая Шеина, гетман Потоцкий кривил в усмешке губы. Когда Шеин умолк, он посмотрел на Сапегу и, получив его знак — кивок головой, заговорил жёстко и оскорбительно:
— Ты, русский воевода Шеин, должен был просить нас о переговорах раньше, пока ничего не случилось под деревней Клушино. Тогда мы пошли бы тебе навстречу и, если бы ты присягнул на верность королю Сигизмунду, прекратили бы осаду крепости. Ты опоздал. Мы разбили под Можайском войско, которое шло тебе на помощь, и теперь мы ставим свои условия: или ты немедленно присягаешь королю Сигизмунду, распахиваешь ворота крепости и мы вводим своё войско в неё, или мы сровняем стены крепости с землёй, разорим Смоленск. Иного ответа у нас не будет. — В горячности Ян Потоцкий добавил: — Мы вызываем тебя на открытую сечу. Вон поле. — Гетман показал плетью за спину. — Выводи рать, и будем биться. Кто одолеет, тому и Смоленск будет принадлежать. Только знаем, что откажешься, потому как трус.
Михаил Шеин не пустился во взаимные оскорбления, он спокойно произнёс:
— Я готов с тобой биться один на один. Принимай вызов.
Ян Потоцкий закусил губы и промолчал.
— Вот я и говорю, — продолжал Шеин, — если ты, пан гетман, пробьёшь своим лбом крепостную стену, то тебе лично мы позволим войти в Смоленск.
И Михаил Шеин повернул коня и поскакал с Анисимом к Фроловским воротам. Потоцкий и Сапега посмеялись вослед: победители всегда веселы.
На другой день с утра поляки начали очередной приступ. Ночью с западной стороны они подтащили к крепости десятков пять штурмовых лестниц. Стреляя из пушек по бойницам, пушкари помогли воинам придвинуть лестницы к стене, поставить их, и более тысячи воинов ринулись по ним на стены. Но у Шеина был большой опыт, как справляться с теми, кто штурмует стены с лестниц. Сотни полторы его ратников вооружились рогатинами и ждали, когда над стенами появятся первые враги. И вот они уже над стеной. Но удары рогатинами свалили их с лестниц, а затем и лестницы с воинами были опрокинуты наземь.
Воины Яна Потоцкого ещё несколько раз попытались овладеть хотя бы малым участком стены, но им это так и не удалось. Хроники той поры отмечали: «Через несколько часов Потоцкий начал приступ, который был отражён смолянами без потерь для себя и с великим уроном для осаждающих. Тогда Потоцкий велел разбивать башни, по разрушении которых хотел снова предпринять штурм, но сильный дождь помешал исполнить его намерения».
После неудачных военных действий Ян Потоцкий передал Шеину через своего парламентёра, что если Смоленск желает мира, то Шеину надо вести переговоры с королём Сигизмундом. Но Шеин не стал добиваться встречи с королём. При Михаиле теперь был мудрый советник — ясновидец Сильвестр, и воевода спросил его, когда они стояли на крепостной стене и смотрели в сторону Москвы:
— Ведаешь ли ты, что скажет нам Сигизмунд о мире?
— Ведаю, брат мой: не жди от него милости. Он жаждет одного: захватить Смоленск под своё крыло.
— И даже в том случае, ежели Москва присягнёт Владиславу?
— Да. Он и думать не желает, чтобы сын владел Смоленском.
— Всё бы ничего, выстояли бы мы перед супостатом ещё год, ежели бы у нас был корм. Не продержаться смолянам ещё год — голод задушит.
— Анафему надо слать Димитрию Шуйскому за то, что отдал Дорогобуж полякам. Туда запасов было свезено столько, что на два года хватило бы смолянам до сытости, — поделился тем, что знал о Дорогобуже, Сильвестр.
В первые дни осени десятого года до смолян дошли вести о том, что державой теперь, в междуцарствие, правят бояре во главе с князем Фёдором Мстиславским. Семеро их стоят у власти. Народ нарёк это правление Семибоярщиной. И в первые же дни своего правления Семибоярщина принялась собирать посольство под Смоленск. Говорили потом, что это было истинно «великое посольство». Никогда ни к кому в прежние годы Русь не посылала послов от «всей земли»! Никогда не было в посольстве столько именитых и очень именитых россиян. Всего собрали под Смоленск 1242 посла и посланника. Во главе этого посольства были поставлены митрополит Филарет — в миру князь Фёдор Романов, князь Василий Голицын и боярин Захар Ляпунов.
Начались сборы «великого посольства» в дорогу. И оказалось, что только возничих, боевых холопов, писцов, стольников и другой челяди набралось более четырёх тысяч человек. По всей Москве готовились сотни колымаг, возков, телег, а к ним — тысячи коней. И лишь один россиянин из властных лиц был против такого посольства, он требовал сократить его по крайней мере в двадцать раз. Это был патриарх всея Руси Гермоген, сам в прошлом славный воин. Прозорливый воитель за веру усмотрел в этой затее Семибоярщины злой умысел. Он понял, что этот злой умысел дорого обойдётся державе. Гермоген пришёл в Грановитую палату, где заседала Боярская дума, и заявил:
— Вижу, дети мои, замысел правителей Руси в том, чтобы очистить Москву от неугодных им мужей. Одумайтесь, державные головы! Запретите Семибоярщине бросать Русь в новое разорение. И десяти послов хватит для чести Польши!
Глас Гермогена в Боярской думе оказался гласом вопиющего в пустыне. Семеро бояр-правителей не прислушались к требованию патриарха и испытали позор от провала деяний этого посольства. Семибоярщина осталась несмываемым пятном бесчестия временщиков на Руси.
Глава двадцатая ЧЕСТЬ СМОЛЯНАМ
В ту пору, когда по дороге от Москвы к Смоленску двигалось «великое посольство», растянувшись обозом больше чем на версту, за Гжатском в мелколесье к нему пристали три мужика-подорожника — Нефёд, Пётр и Прохор. Мужики, как все россияне, что с них взять. И никто не спросил их, чьи, откуда. Двое среди челяди шли, а Нефёд обочиной дороги пробирался в голову обоза. Ему нужен был глава посольства. И он добрался-таки до рыдвана[28], в котором ехали главы посольства князь Василий Голицын и митрополит Филарет. Рынды обратили внимание на Нефёда. Один из них крикнул:
— Чего тебе надо? Иди в хвост!
— Глава посольства мне нужен. Я из Смоленска, — спокойно ответил Нефёд. — Иди-ка, брат, доложи.
— Да кто тебя знает, из Смоленска ли ты?
— Скажи князю или боярину, что я от воеводы Михаила Шеина.
В это время обоз свернул с дороги на огромный луг.
— Тебе повезло. На привал идём. Сейчас увидишь владыку или князя, — сказал рында.
Проехав ещё с четверть версты, рыдван остановился, и весь обоз, въезжая на луговину, расположился табором. Из рыдвана появились князь Василий и митрополит Филарет. Разминая ноги, тяжёлой походкой они прошли в кусты и вскоре вернулись. Тут и подошёл к ним Нефёд, низко поклонился, сказал:
— Батюшка-князь Василий, владыка Филарет, пред вами воин из рати Михаила Шеина.
— Чем ты докажешь, что от Шеина? — спросил недоверчивый князь.
— А я знаю, как его коня кличут, — улыбаясь, ответил Нефёд. — Ещё супругу Марию Михайловну, детишек Катю и Ваню.
— Сын мой, мы тебе поверили, что ты от Шеина, — сказал Филарет. — Но что тебе надо от нас?
— Я только предупредить хотел, что Дорогобуж взяли поляки и в воротах на Московскую дорогу у них три пушки нацелены. Велено пушкарям стрелять во всякую рать.
— Так мы не рать, а посольство.
— Не признают. Не было от вас к ним гонца. Миновал он Дорогобуж и промчал в Смоленск. Мои люди видели гонца.
— Экая досада, — отозвался князь Василий Голицын.
— А может, это к лучшему, — заметил Нефёд. — Послушайте, князь и владыка, меня. Какое бы ни было при вас посольство, ляхи не уйдут от Смоленска. Он нужен Сигизмунду, и потому король не снимет осады, пока голодом не уморит смолян, которым не дождаться помощи от боярской власти.
— Как смеешь, ратник, вести такие речи?! В железы сейчас повелю взять! — гневно крикнул князь Голицын.
— На то твоя воля, батюшка-князь, — бесстрашно ответил Нефёд. — Но выслушай до конца. В Смоленске уже начался голод. Там собралось с посадскими почти восемьдесят тысяч душ да наших ратников около шести тысяч. Им каждый день корм подай. Его уже урезали: четвёртую часть получают от того, что давали раньше. Но вы можете спасти город от голодной смерти. У вас больше тысячи боевых холопов, тысячи крепких слуг. Вас, послов, больше тысячи. А в Дорогобуже пятьсот воинов охраняют многие тысячи пудов зерна, муки, круп — всё, что нужно Смоленску. Так возьмём с ходу городишко в свои руки и двинемся дальше, вооружив себя пушками и мушкетами! Прорвав осаду, откроем путь горожанам на Русь!
Нефёд говорил громко, чётко, страстно, он стоял перед князем и митрополитом в такой напряжённой позе, что скажи ему: «Иди первым на Дорогобуж!» — он пойдёт.
Но князь Голицын крикнул на него властно и топнул ногой.
— Замолчи, смерд! Ты совращаешь нас с пути, начертанного правителями Руси. Мы идём добиваться мира и справедливости. Вся наша держава требует того. У нас представители от всех земель Руси. — И князь крикнул воинам: — Эй, рынды, уберите его!
Но поднял руку владыка Филарет.
— Подожди, княже, судить воителя. Он душою болеет за смолян, потому и говорит правду.
— Но он же с неслыханным делом набивается!
— Не совсем так. От нас ждут помощи восемьдесят тысяч россиян, и они получили бы её, если бы не бездарный князь Димитрий Шуйский!
— То так, — согласился Голицын.
— Потому и отпусти ратника, пусть добирается до Смоленска и скажет, что помощь смолянам будет, и скоро. — И Филарет сказал Нефёду: — Так и передай Шеину: мы заставим поляков пойти на перемирие, и будет смолянам скоро освобождение от ворогов.
— Пусть твои молитвы дойдут до Бога, владыка. Одно скажу: смоляне не простят отчизне, что она бросила их, как нерадивая мать. — И Нефёд, сделав лёгкий поклон Филарету, ушёл искать Петра и Прохора.
Вскоре трое отважных лазутчиков покинули стан посольства и ушли на запад, к Смоленску. Они пробирались в стороне от Московской дороги, на которой нет-нет да и показывались конные отряды поляков, следующие то к Смоленску, то к Дорогобужу.
Вражеского стана лазутчики достигли через сутки, засветло. Спрятались в ольшанике на кромке оврага и наблюдали за лагерем, где было большое движение. Дальнозоркий Прохор сказал:
— Ляхи встречают короля. Сегодня нам к главным воротам не пройти. Слышишь, Нефёд, пошли в верховья Днепра.
— Как раз нам бы в село Богородское на повечерие попасть, — улыбаясь, произнёс Пётр.
— Молчал бы. Только девки и на уме, — проворчал Нефёд. — К Митину идём, там и переберёмся на левый берег.
До Митина лазутчики добрались без помех. А как за версту от деревни спустились к наплавному неширокому мосточку, так и замерли от неожиданности: мосток охранял польский караул, и один из воинов стоял на правом берегу, другой — на левом. В сумерках караульных было хорошо видно из лощинки, где затаились лазутчики. Нефёд решил: надо ждать глухой полночи. В полночь караульный на правом берегу присел на бревно у мостка и, похоже, задремал.
— Я пошёл, — сказал Нефёд, — сниму ляха.
Он по-охотничьи бесшумно заскользил по траве. Пётр и Прохор подползали за ним следом. И вот уже Нефёд рядом с караульным. Он подобрался со спины, взмахнул руками, и сыромятная удавка сдавила шею. Нефёд резко затянул её, и караульный обмяк. Сдери у и с шеи ремень, Нефёд снял с поляка чёрную накидку, пояс с саблей, опоясался, укрыл накидкой плечи и по-кошачьи двинулся к левому берегу. Мосток не скрипнул, когда Нефёд добрался до второго караульного. Там всё случилось так же, как и на правом берегу. Голосом выпи Нефёд дал знать Петру и Прохору, и они заспешили через мосток, прошли мимо мёртвых воинов и догнали Нефёда.
Через вражеский стан, который безмолвствовал — не видно было даже караульных, побратимы проскочили благополучно. Укрывшись двумя чёрными накидками, обнявшись и пошатываясь, словно во хмелю, они миновали позиции поляков, вышли на открытое место перед крепостью и добрались до Богородских крепостных ворот. Нефёд постучал, как было условлено со всеми стражами ворот. Ему открыли малый лаз, какие были во всех воротах. Наконец-то лазутчики оказались в крепости. Теперь Нефёду надо было найти Шеина или Горчакова и доложить о том, что к Смоленску приближается «великое посольство».
В воеводском приказе Нефёд нашёл князя Горчакова. Матвей был в Смоленске без семьи и потому не чурался ночного бдения. Появлению Нефёда он обрадовался.
— Заждались мы тебя, Нефёд, ну поведай, с чем пришли.
— Всякого много. А главное — одно, батюшка-князь. Идёт не московское войско к нам на помощь, а пятитысячное посольство к полякам. Ведут его князь Голицын да митрополит Филарет.
— Шутишь ты, Нефёд! Такого посольства отроду на Руси не бывало. Да нам бы пять тысяч, так мы бы поляков погнали!
— Вот тебе крест, батюшка! И назвали его «великим». Одних послов и посланников за тысячу, а там боевые холопы, слуги — тьма. И довелось мне встретиться перед Дорогобужем с главами посольства, князем Василием Голицыным и митрополитом Филаретом.
— Не устрашат они таким посольством Сигизмунда. Силой, только силой его можно прогнать. А у нас ядер нет, зарядов для мушкетов, зелья совсем мало осталось. Ратники от голода с ног валятся! — с болью в голосе говорил князь Горчаков.
Наутро, когда Михаил Шеин услышал от князя Горчакова о «великом посольстве», он впервые в жизни матерно выругался. Он стучал кулаком по столу и кричал:
— Нет власти на Руси! Головотяпы стоят у неё! Пустые головы! Чинят зло державе в угоду Сигизмунду!
Встав из-за стола, Шеин долго молча ходил по покою, потом остановился против Горчакова.
— Вот что, княже Матвей. Мы должны тотчас, как придёт посольство, всё узнать о его цели. Иначе нам будет худо!
Михаил Шеин и Матвей Горчаков были к этому времени в неведении о том, что всего полторы недели назад случился в Москве сговор между гетманом Станиславом Жолкевским и семью правителями-боярами. В стане Жолкевского под Москвой был подписан договор о призвании польского королевича Владислава на русский престол. В договоре было обусловлено освобождение всех русских городов, занятых поляками, отпуск всех русских пленных, отступление польских войск от Смоленска на свою землю. В то же время спустя какой-то месяц предатели-бояре тайком от народа двадцать первого сентября впустили в столицу польские войска.
И получилось так, что, когда «великое посольство» прибыло под Смоленск, горожанам стало известно и о предательстве бояр. Рассказал же обо всём этом Михаилу Шеину его шурин Артемий Измайлов, который оказался среди сотен русских послов и посланников под Смоленском.
Переговорив с князем Матвеем о последних новостях, Михаил Шеин попросил его отправить в стаи московского посольства лазутчиков Нефёда Шило и Павла Можая и провести оттуда в Смоленск кого-либо из послов.
— Неважно, кого приведут, важно, чтобы знал суть появления посольства под Смоленском.
Однако, отправляясь в стан посольства, Нефёд Шило сказал:
— За кем-либо я не пойду, княже Матвей. Я должен привести человека, который знал бы или воеводу или тебя.
— Ты славный муж, Нефёд. Об этом мы не подумали, — ответил князь Горчаков.
После разговора с Матвеем Горчаковым Нефёд Шило два дня наблюдал со своими лазутчиками за лагерем поляков. Наконец стало известно, где расположился стан русского посольства. По воле короля Сигизмунда ему отвели место на левом берегу Днепра, где стояли основные силы королевского войска. Нефёд был доволен тем, что, идя на вылазку в стан послов, ему не нужно будет переправляться через Днепр. Понимал он, что после уничтожения двух караульных поляки станут вести себя более бдительно.
Только на седьмую, дождливую и тёмную ночь Нефёд и Павел ушли на вылазку. В полночь они добрались до стана русских послов и нашли шатёр митрополита Филарета. Почему-то у Нефёда появилось большое доверие к бывшему князю. Когда Филарет встал и благословил Нефёда, тот сказал:
— Прости, владыка, опять всё тот же Нефёд Шило пред тобой.
— Сын мой, я слушаю тебя с усердием. Мне стыдно, что не поверил твоим речениям за Гжатском. В Дорогобуже поляки отобрали у нас половину обоза с кормом. Говори же, чем могу служить смолянам, чем вину свою исправлю перед ними.
— Просьба воеводы Шеина невелика: отпусти со мной человека из послов, знающего всю подноготную о посольстве.
— Трудную задачу ты задал, сын мой. Я бы сам пошёл на встречу с Михаилом Борисычем — славен он воеводской честью и отвагой сердца, — да не могу осиротить посольство. Мы тут тоже, как и вы, оказались в осаде. — Филарет задумался, потом его пронзительные тёмно-карие глаза впились в Нефёда, и он спросил: — Ты слышал от Шеина что-нибудь об окольничем Артемии Измайлове?
— Господи, владыка, как не слышать. Да я с Артемием не раз встречался у Шеиных на Рождественке.
— Вот и славно. Артемий у меня в посольстве, и я сей миг за ним пошлю.
Филарет тут же вышел из шатра и отправил одного из рынд за Измайловым. Вернулся он вместе с Павлом.
— Что ты Божьего человека под дождём держишь! — упрекнул он Нефёда.
Измайлова ждали изрядно. Филарет усадил Нефёда и Павла к столу, сам принёс хлеба, говядины, вина, налил три кружки. Все молча выпили. Затем Филарет стал расспрашивать Нефёда и Павла о том, как живут-перебиваются в осаде смоляне.
— Усталость одолевает, голод ноги подкашивает, — излагал печальную судьбу смолян и воинов Нефёд Шило. — Голод и победит нас, а не поляки. Через него войдут они во град. Сейчас уже каждый день на погост мёртвых уносят…
— А дух каков у смолян? Дух крепкий?
— Они до исхода стоять будут за то, чтобы Русь не потеряла Смоленск. Малые и старые помогают ратникам, когда поляки идут на приступ.
Наконец появился Артемий Измайлов. Он был в расцвете лет, ладный, кипучий. Глаза, как у двоюродной сестры Марии, горели голубым огнём.
— Вот, Артемий, пришли за тобой смоляне, зовут на исповедь.
— Там же брат мой названый, как не пойти! — воскликнул Артемий.
— С этим всё ясно, другое уясни, сын мой. Скажи о «великом посольстве» Шеину всю правду. И о московской жизни тоже, о том, как московские правители губят россиян. Правители затеяли игру, отправив во вражеский стан многих честных державцев, которые не желают видеть на русском престоле ни королевича Владислава, ни короля Жигмонда. Ещё скажи, что «великое посольство» будет стоять под Смоленском до той поры, пока поляки не снимут осаду. Будь честен во всём. Скажи смолянам, что мы не намерены уступать полякам ни в чём, станем биться за Русь до конца.
— А как же договор Москвы с Жолкевским, в котором мы зовём в цари Владислава? — спросил Артемий.
— Это всего лишь воля семи бояр, но не народная. Об этом страдаю вместе с Русью. Нам же надо подумать, как накормить город, как избавить его от голодной смерти. Вот Нефёд прав: Дорогобуж надо вернуть Руси — там закрома смоленские.
Артемий понял из сказанного самое главное: Филарет ни в чём не пойдёт на сговор с поляками, что не во благо Руси и Смоленску. Но это заключение Артемия привело его к другой печальной мысли: Филарет послан семью боярами под Смоленск умышленно, чтобы обострить отношения с Сигизмундом, а тот, как показалось Артемию, найдёт способ посчитаться со строптивым митрополитом, и, как ни тяжело было, сделал из этого вывод о том, что Смоленску от «великого посольства» не будет проку, но проявится стойкость воителя Филарета против поляков, а вместе с ним и воеводы Шеина, за что им когда-нибудь будет воздана честь и хвала.
С такими мыслями Артемий уходил от Филарета с Нефёдом и Павлом в осаждённый Смоленск. Судьба была к ним благосклонна и милосердна. Они нашли «прогалины» во вражеской осаде и благополучно вернулись в город. За воротами Михаил Шеин уже ждал посланца из посольского стана. Какова же была радость Михаила и Артемия, когда, едва поднявшись из лаза, Артемий угодил в объятия Михаила!
— Здравствуй, дорогой мой шурин, дорогой побратим. Как давно мы не виделись!
— Да уж надолго развела нас судьба. — Артемий похлопал Михаила по спине, провёл руками по плечам, по груди. — Слава Богу, ты по-прежнему крепок, как дуб.
— И ты исправен, окольничий. Растёшь в чинах.
— Расту. За труды праведные. Как Мария, как дети?
— Господь хранит, но не балует. В страхе они живут, только вида не показывают. Да что же мы под аркой стоим! Идём в палаты.
Было далеко за полночь. Шёл дождь. Над крепостью стояла мёртвая тишина. Не слышался собачий лай — собак в городе давно не было, не мычали в хлевах коровы. Их можно было сосчитать в городе по пальцам. Птица уже давно была вся переведена, и в полночь или на рассвете уже не раздавалось пение вторых и третьих петухов. Город вымирал, и об этом Шеин сказал Артемию:
— Здесь скоро будет, как на погосте.
В воеводских палатах Шеин не стал никого будить, а увёл Измайлова на кухню и там, уже по привычке, собрал кое-что на стол из скудных запасов, достал из ларя последнюю баклагу водки. Когда выпили и закусили, Михаил попросил Артемия:
— Ну расскажи, брат, с какой нуждой прибыло сюда невиданное на Руси «великое посольство»? Будет ли смолянам от него прок?
— Раскол, Борисыч, в посольстве, и никто теперь толком не знает, кому что нужно. Из Москвы уезжали, было два боярских наказа: просить на московский престол королевича Владислава и освободить от осады Смоленск. Тебе это, поди, ведомо. Но вот другое, надо думать, неведомо. В первые дни нашего сидения здесь переговоры были лишь между вельможами, и тут начались склоки. Королевские гетманы, паны заявили, что Сигизмунд прежде всего утишит смятенное царство Московское, ещё займёт Смоленск, будто бы преклонённый к Лжедимитрию. От наших вёл беседу с поляками больше всего князь Василий Голицын — глава посольства, одним словом. Он же говорил: «Смоленск не имеет нужды в воинах иноземных. Оказав столько верности и чести во времена бедственные, столько доблести в защите против вас, изменит ли чести ныне, чтобы служить бродяге?» Сказанное им дальше, я видел, покоробило митрополита Филарета, истинного воителя за Русь. Голицын же говорил: «Ручаемся вам душами за боярина Шеина и горожан: они искренне вместе с Русью присягнут королевичу Владиславу». Трудно сказать, кому хотел угодить князь Голицын, но владыка Филарет потемнел от его слов. Королевские вельможи тут же начали настаивать на том, чтобы Смоленск присягнул на верность не только королевичу Владиславу, но и королю Сигизмунду. Тут началось борение. Ты ведь, поди, не знаешь, что в нашем посольстве сто пятьдесят смоленских боярских детей и городских дворян, кои с нами из Москвы пришли.
— Того не знаю. И что же они? — спросил Шеин.
— Молодцы смоляне. Сказали как должно, кто любит отчую землю: «Хотя наши матери и жёны гибнут в Смоленске, а всё-таки будьте тверды и не впускайте в Смоленск польских и литовских людей. Вам доподлинно известно, что если бы вы решились впустить их, то смоленские сидельцы мечами и ружьями прогнали бы их». — Артемий улыбнулся, глотнул из кубка водки, пожевал корочку хлеба и продолжал: — А тут сказал своё слово митрополит Филарет: «Мы решительно отказываемся впустить польских воинов в Смоленск. А если же смоляне сами это сделают, то будут в ненависти и прокляты от всей земли русской». Потом добавил: «Мы всей землёй требуем, чтобы Жигмонд прекратил осаду Смоленска. Там люди умирают от голода».
— И что же польские вельможи? — спросил Шеин.
— Гордые, заносчивые ляхи ответили дерзко: «Не Москва-де нашему государю указывает, а наш государь Москве указывает». И прибавили, что Сигизмунд даже на время не отступит от Смоленска.
Михаил и Артемий не заметили, как в дверях кухни появилась Мария. Она стояла в накинутой на плечи беличьей шубке, тихая и печальная. Когда её увидели, сказала:
— Здравствуй, братец Артёмушка.
Артемий с улыбкой на лице подбежал к Марии, обнял её.
— Хвала Господу, ты жива и здорова, сестрица.
— Расскажи, как там твои, как наша матушка. — И Мария повела Артемия к столу.
Измайлов в эту ночь не вернулся в стан посольства и день провёл в Смоленске. Вместе с Михаилом он обошёл весь город, насмотрелся на тяжёлую осадную жизнь жителей, на бледные исхудалые лица женщин, как тени бродивших по городу. И Артемий клял в душе воеводу Димитрия Шуйского за то, что тот не довёл до Смоленска сорокатысячное войско.
— Ветром бы сдуло поляков с позиций, ежели бы такое войско вёл князь Скопин-Шуйский! — сетовал во гневе Измайлов.
Поляки между тем жаждали победы над крепостью. Вскоре же после яростных споров с русскими послами они по ночам начали вести подкоп под Грановитую башню. Это была одна из самых больших башен крепости. Но, как показалось защитникам крепости, башня была для поляков неприступна, и они держали против неё мало войска. По этой причине и гарнизон башни был малым, да и лазутчики Шеина ослабили внимание близ неё. Поляки беспрепятственно сделали подкоп под башню, заложили мощную пороховую мину, и ранним утром двадцать первого ноября, когда храмы Смоленска трезвонили в колокола, призывая на молебен в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, в городе раздался взрыв страшной силы. Грановитая башня взлетела на воздух, а с нею с той и другой стороны сажен по пять была разрушена крепостная стена. Образовался огромный пролом, и в него спустя немного времени устремились вражеские воины. Их вёл на приступ сам гетман Ян Потоцкий. За ним шли сотни польских пехотинцев, колонны немцев, казаки и литовцы. Казалось, падение Смоленска неизбежно.
Но за каких-то полчаса до взрыва к Шеину в храме подошёл Сильвестр с Полкановым сыном и в один голос сказали:
— Воевода, веди ратников к Грановитой башне, ставь там пушки. Все немедленно!
И смоляне не дрогнули. Воеводы Шеин и Горчаков сумели остановить хлынувшую лавину. У них под руками была подвижная рать до тысячи воинов, а на холме близ Грановитой башни стояли семь пушек, заряженных «ядрами» Анисима. Они первыми открыли огонь, в упор выстрелив по наступающим, и начальные ряды были смяты. А тут подоспели ратники, с трёх сторон встретили врага на завале. И началась рубка. Стрельцы стреляли по неприятелю со стен. Шеин во главе сотни отважных воинов прорубал дорогу к гетману Яну Потоцкому и был уже близко от него. И гетман дрогнул, стал пятиться, и вся польская рать попятилась. Казаки и немцы так и не добрались до места схватки. Они несли потери от стрельцов и, давя друг друга, покинули крепость. Убегали и оставшиеся в живых польские воины.
Но поляки не смирились с поражением. Гетман Ян Потоцкий велел подтянуть к проёму на месте Грановитой башни пушки и стрелять по городу раскалёнными ядрами, надеясь учинить в нём пожары. Ни и эта попытка врага не увенчалась успехом: смоляне давно научились справляться с калёным железом.
К тому же Шеин приказал выдвинуть навстречу польским пушкам свои, и началась дуэль. Смоленские пушки стреляли каменными «ядрышками» Анисима, и вскоре польские пушкари почти все были побиты или убежали от своих пушек.
Шеин и Горчаков подняли ратников и смолян на то, чтобы воздвигнуть вал на месте разрушенной башни и части стен. И сотни воинов и горожан принялись сооружать этот вал, таскали на него кирпич, камни, щебёнку. Но поляки прервали это занятие, вновь пошли на приступ.
— И чего лезут, тупые бараны! — в сердцах сказал Михаил Шеин и велел пушкарям встретить поляков каменным градом.
Пушки были подтянуты к самому пролому, и пушкари вместе со стрельцами обрушили на противника каменный и железный шквал. А тех врагов, которые сумели-таки пройти сквозь смертельную преграду, встретили мечами и саблями ратники. Так был отбит и второй приступ. Однако Ян Потоцкий в этот день не отрезвился. Он послал своих воинов на третий приступ. На этот раз впереди шли наёмные солдаты. Увидев их, Шеин подумал: «Будь вы трижды крещены, но я не пущу вас в крепость» — и велел пушкарям вновь осыпать врагов каменным градом. Он уже понял, что выстрелы из пушек мелкими каменными ядрами вызывали у врагов панику. Они не могли постигнуть, почему после каждого выстрела в их рядах падают десятки раненых и убитых.
К вечеру над крепостью, над польским лагерем, по всей округе пошёл проливной дождь, и поляки прекратили военные действия.
В стане русских никто не ушёл в укрытия от дождя, все упорно продолжали трудиться, заделывая разрушенную стену. Сотни ратников подносили брёвна, чтобы на валу срубить деревянные туры и заполнить их землёй, выравнять верх туров с каменными стенами. Можно было только дивиться, откуда у голодных людей брались силы выполнять эту изнурительную, адски тяжёлую работу.
Никто, в том числе Шеин и Горчаков, не покидал места взорванной башни, пока не выросла вместо неё крепкая и неприступная стена.
В эти часы, находясь среди ратников, Михаил Шеин с горечью думал, что поляки идут на приступы с благословения московских послов, потому как по здравом размышлении они не должны были допустить эту жестокую попытку захватить крепость. Чуть позже оказалось, что мысль Михаила Шеина была провидческой.
В конце февраля 1611 года воевода Михаил Шеин и князь Матвей Горчаков получили от послов грозную, решительно написанную грамоту, которую поручили принести в крепость Артемию Измайлову. Он знал, как пройти в неё, и вьюжным вечером появился в палатах Шеина. Встретившись с воеводой, Артемий сказал:
— Я принёс от бояр тебе грамоту, на которую кладу анафему. Ежели бы она сгорела в моих руках синим пламенем, я был бы доволен. Но судьбе угодно, чтобы ты прочитал её.
Михаил взял грамоту, развернул её, поднёс к свече и прочёл. «Вам бы, господа, — говорилось в грамоте, — однолично всякое упрямство отставя, общего нашего совету грамот не ослушаться, и крест государю королевичу Владиславу Жигимонтовичу целовати, и литовских бы людей по договору в город пустити, чтобы вам тем своим упрямством королевского величества на больший гнев не воздвигнути и на себя конечного разорения не навести.
Мы упрекали тебя за то, что ты так затвердел, что не хочешь видеть государского добра, то есть доброты Сигизмунда».
Закончив читать грамоту, Шеин скомкал её и бросил.
— Завернул бы я в эту грамоту дерьма собачьего да и отправил послам. Идём на кухню, Артемий, досаду смыть.
И тяжёлой походкой сильно уставшего человека Михаил покинул трапезную, отправился к очагу, от которого исходило тепло.
Глава двадцать первая ПАДЕНИЕ СМОЛЕНСКА
Смоляне встречали весну 1611 года в безрадостном состоянии. Два года подряд они не справляли самый весёлый праздник года — Масленицу. На этой Масленой неделе они пекли блины из мякины, да и то это богатство было не у всех, а лишь у тех, кто молотил на своих дворах хлеб. Зимой в Смоленске умерло много горожан. У них выпадали зубы, их губили цинга и водянка. Город пробыл в осаде уже восемнадцать месяцев, и никто не знал, чем она завершится. Смоляне из тех, кто был побогаче умом, осознавали, что держава вычеркнула их из городов, принадлежащих Руси.
У них были причины так думать, потому что и в Москве русской, власти не было. Она принадлежала полякам. Во всяком случае, Кремль и Китай-город были в их руках. Властвовал там гетман Станислав Жолкевский.
Михаил Шеин в эти дни порой терял самообладание. Ему было труднее, чем другим, он нёс ответственность за смолян, за ратников, и ноша эта казалась ему иногда непосильной. И не было рядом с ним князя Матвея Горчакова. Он находился в безнадёжном состоянии. Рана, которую он получил в последнем сражении, оказалась смертельной, и вскоре он скончался. Его похоронили с воинскими почестями.
Опорой в эту весну у Михаила были Сильвестр, Мария и Нефёд Шило. Они питали его дух. Сильвестр и Нефёд Шило подружились и теперь вместе с лазутчиками ходили во вражеский тыл добывать провиант. Делились харчами со смолянами и послы.
Весна принесла и другие непомерные тяготы. Возобновились военные действия, поляки рвались в город.
Пятнадцатого марта ночью Артемий Измайлов принёс Шеину новую грамоту. В Михаиле жила ещё какая-то малая надежда на то, что послы чего-то добились в пользу Смоленска, и он попросил Артемия:
— Прочитай её, брат. Нутро у меня вырывает от их словес.
— Не обессудь, буду читать как есть, — ответил Артемий, разворачивая грамоту, но долго не начинал.
— Читай же! Всё стерплю!
— Да тут в двух словах всё ясно. Сигизмунд требует сдать ему Смоленск — вот и вся соль. Ниже с десяток малых требований.
— Вот с них и начинай.
— Так он заявляет, что отныне страже у городских ворот быть пополам королевской и городской. Дальше Сигизмунд обещает не мстить горожанам за их сопротивление и грубости, без вины не казнить.
— За эту «милость» Сигизмунду низкий поклон.
— Слушай с вниманием. Тут есть что-то полезное для смолян. Поляки пишут, что когда смоляне принесут повинную и исполнят всё требуемое, тогда король снимет осаду и город останется за Московским государством вплоть до дальнейшего рассуждения.
— Не глотай, Артемий, эту приманку. Читай.
— Ты прав. В рабство хотят они взять смолян. Слушай. Смоляне обязаны заплатить королю все военные убытки, причинённые их долгим сопротивлением.
— Зарядил бы я этой грамотой пушку да и выстрелил в Жигмонда, — с досадой произнёс Шеин.
— Я бы тоже так поступил. Но тебе надо её до смолян донести.
— Это верно, придётся обнародовать. Что ж, пойду к архиепископу Сергию и попрошу его ударить в колокол, собрать народ в храм.
Архиепископ Сергий внял просьбе Михаила, и через день на Мономаховом храме зазвонил колокол. А как сошлись горожане, отец Сергий прочитал послание короля. В храме возник ропот, послышались гневные выкрики, на голову Сигизмунда посыпались проклятия. Но нашлись и трезвые головы. Они собрались вокруг Шеина и высказали своё отношение к королевской грамоте. Дьячок всё записал.
Ответ горожан полякам был таким, каким и ожидал увидеть его воевода Шеин. В своём последнем заявлении смоляне отказывались платить полякам какие-либо убытки от войны, но обещали подарить от бедности своей кое-что, если Сигизмунд немедленно уведёт своё войско в Литву. С этим ответом Михаил и отправил Артемия в стан послов. Но воевода Шеин так и не узнал, получил ли Сигизмунд ответ смолян. Наступила череда новых потрясений на Руси.
Первая весть, дошедшая в стан послов, а потом и в Смоленск, была о том, что поляки выжигают Москву и вывозят из Кремля, из стольного града награбленные ценности. Второй гонец, прискакавший из Москвы, принёс весть о том, что против поляков, засевших в Кремле и в Китай-городе, выступило ополчение, которое вёл рязанский дворянин Прокопий Ляпунов.
В стане русского посольства от Михаила Шеина теперь постоянно дежурил лазутчик Павел Можай, и как только Артемий доносил до Павла московские вести, он уходил своими путями в город. В последний раз Артемий сказал Павлу о том, что в стане послов наступила паника и неразбериха. Половина их решили покинуть лагерь, уйти в Москву. Удивлялся Артемий:
— Кто мы теперь, от кого послы? И ещё передай Михаилу Борисычу, что митрополит Филарет отправляет меня в Москву к патриарху Гермогену, а с чем — пока не ведаю.
Артемий и Павел Можай выбрались из стана послов вовремя, как и те, кто собирался оставить его по своей воле.
Наступил апрель. Природа ожила. На Днепре прошёл ледоход. Казалось бы, надо радоваться жизни. Но жестокость господствовала. Смоленск умирал от голода и цинги. В эти же дни в стане послов произошло ещё одно важное и позорное событие. Многие послы, которых уговорил князь Иван Куракин, вместе со своими боевыми холопами и слугами переметнулись к полякам. Король Сигизмунд наградил князей Куракина и Михаила Салтыкова землями и имениями. Князь Салтыков получил от короля давно желанную ему волость Вегу.
— Верю, вы любите своего короля, — говорил изменникам Сигизмунд, — но, чтобы получить свои земли, вам надо проявить доблесть и вместе с моим войском взять Смоленск. Вижу, кому-то из вас придёте и стоять в моём городе воеводой.
Предавшие Русь князья дали королю слово собрать на Смоленской земле полк ратников для штурма города.
А в середине апреля на остатки «великого посольства» было совершено нападение поляков. Повелением Сигизмунда всех послов велено было взять под стражу и считать их пленниками. Все они были уведены из стана и упрятаны в сараи и овины в селе Богородском. А через неделю их погнали в литовский город Мариенбург — так спустя две недели сказали Шеину его лазутчики Пётр и Прохор, которые шли по следу пленных россиян.
— Старый замок там есть, вот в него и замкнули всех. Но Филарета и князя Голицына с ними не было, — поведал Шеину Пётр.
В тот же день, насмотревшись московских ужасов, вернулись в Смоленск измотанные Нефёд Шило и Павел Можай. Выслушав от лазутчиков всё, Михаил Шеин позвал смоленских бояр, архиепископа Сергия и сказал им то, что не счёл нужным скрыть:
— Как ни горько мне сказать вам правду, я должен это сделать.
Шеин с печалью смотрел на измождённые лица сидевших перед ним людей, и его сердце сжималось от боли: «Это ведь сильные люди, а как отощали».
— Сегодня утром вернулись из Москвы мои доброхоты и принесли короб новостей. Скажу самое главное. От Руси нам с вами не дождаться никакой помощи. Там поляками уничтожено народное ополчение князя Димитрия Пожарского и Прокопия Ляпунова. В Москве разбой, пожары, грабежи. Власти никакой. Бояре покинули город или предались полякам. Князь Димитрий Пожарский, что возглавил первое ополчение, тяжело ранен и увезён в Троице-Сергиеву лавру. Вам я скажу одно: пока есть у меня под рукой хоть один ратник, буду держаться. Полякам не бывать в Смоленске. Призываю и вас к борьбе.
Встал смоленский дворянин Юрий Буланин.
— Ты, Михаил Борисыч, забыл одно: кто будет бороться? Помнишь, нас с посадскими было восемьдесят тысяч, теперь почти в десять раз меньше, и если корма не будет, умрут с голоду последние.
— Буланин, я тебя услышал. Где выход? — спросил Шеин.
— Надо идти на вылазку. Захватить у поляков табун лошадей. Ежели дашь отряд смелых воинов, сам поведу. Добудем.
Михаил осмотрел собравшихся, увидел в стороне Нефёда Шило и Павла Можая, сказал им:
— Нефёд, Павел, идите помогать дворянину Юрию. Возьмите надёжных людей, сами с ними отправляйтесь.
— Ты, батюшка-воевода, Сильвестра с нами отпусти.
— Скажу ему, и он пойдёт.
Группа Юрия Буланина пропадала две ночи и два дня. На третью ночь они вернулись. Все были живы и здоровы и привели с собой полсотни лошадей, навьюченных пшеном, солью, зерном. Они совершили в тылу у поляков дерзкое нападение на провиантский склад в деревне Дрюцк, ушли на запад, как бы в Литву, а затем берегом Днепра вернулись к Смоленску и благодаря чудесам Сильвестра вошли в город через Фроловские ворота.
Неведомо, по причине ли захвата русскими продовольствия и табуна лошадей, или по другому поводу, но поляки словно озверели. Они открыли огонь из пушек по всей окружности стены и били по воротам и по городу. Канонада стояла полдня. А потом в разных местах крепостной стены поляки пошли на приступ, применяя штурмовые лестницы и тараны, которыми пытались разбить ворота. Два дня смоляне отбивались из последних сил и всё-таки не пустили врага в город. На третий день наступила передышка. В полдень к Фроловским воротам подъехали парламентёры, и когда на их зов поднялся на стену Михаил Шеин, гетман Рожинский крикнул ему:
— Воевода Шеин, ты испытал нашу мощь! Но это были цветочки, ягодки будут завтра, если не откроете ворота!
— Погрозил волк быку да оказался на рогах, — ответил Шеин.
Гетман Рожинский ещё что-то говорил, угрожал, но Шеин ушёл.
Но, когда Русь забыла о Смоленске, отвернулась от него и судьба. В одну из последних ночей мая из Смоленска убежал в стан врага мещанин Андрей Дедёшин.
Его привели в шатёр гетмана Рожинского, и он рассказал всё о себе и почему появился у поляков.
— Хорошо, мы тебе верим, что желаешь нам добра. С чем ты пришёл?
— Я знаю, в какой башне очень тонкие стены, в неё можно вломиться, пробив её таранами. Башня очень большая, в неё могут войти больше ста воинов, а из неё — в город.
— Ты болван и ничего не понимаешь в военном деле, — вскипел гетман. — Но мы принимаем твой совет. Будет по-твоему — получишь дворянское звание.
И Дедёшин в ту же ночь привёл поляков к Шиловой башне. Они осмотрели её и чуть позже начали копать к ней траншеи, подтаскивать тараны, прикатили несколько пушек. К утру в траншеях скопилось больше тысячи воинов, а за ними в стане приготовились ещё, может быть, две тысячи воинов.
В эту ночь ведуну Сильвестру не спалось. Его томило предчувствие большой беды. Накинув кафтан, он вышел из опочивальни и пошёл в город. Дойдя до крепостной стены, он поднялся на неё и направился к югу. И вдруг в его душе раздался колокольный набат. Он был настолько сильный, что Сильвестр вынужден был остановиться вблизи Шиловой башни. Квадратная, с широкими стенами сажен в шесть, она ему не понравилась. Сильвестр унял «колокольный» звон, настроился и услышал, что во вражеском стане будто горный ручей гогочет на камнях. Он разгадал: это был тихий людской говор. Он уловил тонкий скрип колёс, натужное дыхание людей, как будто тысячи их тянули непомерную тяжесть. И перед его взором возникла картина: там, внизу, против Шиловой башни собирается большая рать, к крепости подкатывают орудия, тянут тараны.
Постояв с минуту в размышлениях, Сильвестр понял, что нужно делать, и приступил к исполнению задуманного. Он спустился со стены, подошёл к воинам, которые несли караульную службу, и спросил:
— У вас тут всё тихо?
— Да, сотский, — ответил десятский.
— Слушай же. Иди сей же миг к воеводе Шеину и скажи, что у Шиловой башни поляки готовятся к приступу.
— Да полно, сотский, какой приступ!
— Иди, как велено. — И Сильвестр перекрестил десятского.
У того глаза на лоб полезли от страха, ему показалось, что перед ним сам Илья-пророк. Он убежал к воеводским палатам.
А Сильвестр помолился на восток, вспомнил свою незабвенную Катерину и медленно направился в Шилову башню. Он увидел двух стрельцов, которые дремали у бойниц, поднялся на второй ярус, где стояла только пушка и не было ни души, со второго — на третий и там узрел двух пушкарей, которые дежурили у орудия, но спали.
— Эй, тетери! Вставайте, а то пушку украду!
Пушкари просыпались медленно, от немощи им было трудно открыть глаза.
— Чего тебе? — спросил один из них.
— Стрелять будем. Есть у вас заряды, ядра?
— Вон в закроме у стены посмотри.
Сильвестр подошёл к закрому. В темноте ничего не было видно, но он нащупал пороховые заряды, пересчитал их — оказалось двадцать три заряда. «Хватит», — подумал он. К нему подошёл пушкарь.
— A-а, это ты, огнищанин! — узнал он Сильвестра.
— Где у вас ядра? — спросил ведун.
— Так на первом ярусе. Сил нет поднимать. Зуба ми бы взяли, так их нет.
— Вот что, пушкари. Именем воеводы прошу вас сносить пороховые заряды с третьего яруса на второй. А я подниму туда ядра.
— Ежели именем воеводы, тогда можно, — отпятил пушкарь поживее.
— Кладите заряды у пушки, — сказал Сильвестр и поспешил вниз.
Он знал, что ему нельзя медлить. Увидев стрельцов, он именем воеводы заставил их помогать ему переносить ядра. Вскоре и ядра и заряды лежали на настиле из брёвен возле пушки. Можно было передохнуть, но времени на то не оказалось. В рассветной дымке короткой июньской ночи поляки пошли на приступ. И прогремели вражеские пушки, в стену первого яруса башни ударили ядра. Вот ещё залп, ещё! Ядра крошили кирпич. Но вот пушки умолкли, а в стену ударили тараны. И раз за разом! Раздался гром, и стена первого яруса обрушилась.
Поляки хлынули в башню. Они втянули тараны и принялись разрушать стену, за которой открывался путь в крепость.
Сильвестр понял, что настал его час, что ему и четверым ратникам нет пути к отступлению. Однако он вспомнил, что с третьего яруса есть выход на стену, и велел ратникам уходить, сам же вступил на путь обретения свободы души через восхождение в Царство Небесное. Ясновидец, проживший долгую и памятную россиянам жизнь, зажёг трут. Когда, по его счету, ратники покинули башню, он помолился и, чувствуя, что башня внизу переполнилась врагами, поднёс трут к грядке пороха. Он вспыхнул и…
И прогремел мощный взрыв, потрясший округу. Шилова башня поднялась в небо и рухнула, похоронив под своими обломками славного россиянина и сотни полторы врагов. Но ещё не осела пыль, ещё плавал в воздухе дым, как из траншей против Шиловой башни поднялась не одна тысяча польских воинов, которые лавиной устремились в пролом. Они шли стеной, с яростными криками.
Михаил Шеин успел привести к пролому почти тысячу ратников — всех, кто ещё мог держать в руках оружие. Он сам повёл их в сечу на поляков, на немцев, на малорусских казаков. Сеча была неравной. В пролом вкатывались всё новые и новые волны врагов, а ряды защитников крепости с каждым мгновением становились всё реже. Рядом с Шеиным бились Нефёд Шило, Павел Можай, Пётр, Прохор, ещё семеро отважных воинов. Но вот упал Пётр. Нефёд Шило отбивается от врага плечом к плечу с Михаилом Шеиным. Но их уже теснят с двух сторон, и они отходят, отходят, и вместе с ними отступают ратники. А впереди всё пространство уже заполонили поляки и их наёмники. Кто-то из врагов проник за спину Шеина, рвался убить его, но на пути шляхтича встал Анисим и сразил его.
Остатки ратников Шеина уже почти окружены, за их спинами только воеводские каменные палаты. И ратники скрываются в них, считая, что там можно будет биться с врагом. Многие же успевают уйти в Мономахову храмину. Михаил Шеин понимает, что это конец, это падение Смоленска. Он ещё рвётся вперёд, и падают под ударами его тяжёлого меча дерзкие шляхтичи, которые изначально охотились за воеводой. Он не думает о себе, страх смерти отступил. А она обходит его стороной, и он не помнит, как оказывается в просторном воеводском доме.
Поляки стеной остановились перед каменным зданием, и никто из них не сделал попытки ворваться в него. В то же время не меньше двух сотен поляков, немцев и казаков побежали к Мономахову храму и скрылись в нём. Там началась резня.
А в эти минуты дворянин Юрий Буланин спустился в усыпальницу храма, где лежало больше сотни пороховых зарядов. Он высек искру, она упала на трут, он затлел, Юрий разорвал холст верхнего заряда и сунул в него трут.
Этот второй взрыв потряс весь город. И долго после него сыпались, падали на землю камни, кирпич, обломки дерева — всё то, что составляло храм, что было в нём.
Услышав взрыв, Михаил Шеин рванулся к дверям воеводских палат, чтобы вновь принять бой, но Павел Можай и Нефёд Шило удержали его, перекрыли путь к двери.
— Не рвись на погибель, воевода! Ты нам ещё нужен! — небывало властным голосом крикнул Нефёд Шило.
Михаил пытался вырваться из их рук, но к нему подбежала Мария, держа за руки Катю и Ваню.
— Возьми и нас с собой, родимый! Мы примем смерть вместе с тобой! — припадая к Михаилу, твёрдо сказала Мария.
В воспалённой голове Михаила билась одна мысль: «Так не должно быть! Так не должно быть!» И когда эта мысль обожгла его сердце, он оттолкнул от себя Можая и Шило, отстранил Марию и ринулся к двери. Всё это случилось мгновенно. Выбежав из двери, Михаил увидел перед собой гетмана Яна Потоцкого и крикнул ему:
— Защищайся!
Но Ян Потоцкий, окружённый шляхтичами, сложил на груди руки и произнёс:
— Зачем мне защищаться? Я — победитель!
— Эх, матушка-Русь, предала ты нас, — прошептал Михаил и воткнул меч в настил крыльца. — Возьми меня, гетман, я твой пленник!
И было позднее записано в биографической хронике так: «Шеина привели в королевский стан и подвергли пыткам, допрашивали по 27 пунктам о предполагаемых его отношениях с князем Василием Васильевичем Голицыным, Ляпуновым, Салтыковым и Тушинским вором и причинах упорной обороны, и о том, где скрыта смоленская денежная казна. После пыток и допроса Шеина заковали в кандалы; король взял к себе его сына, а жену и дочь отдал Льву Сапеге».
Как смотрели на Шеина современники, видно, например, из грамоты от двенадцатого июня 1611 года, написанной казанцами пермичам: «… А тем и утешаются русские люди, Божиим милосердием, что дал Бог за православную веру крепкого стоятеля, светлейшего Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, а в Смоленске архиепископа Сергия да премудрого боярина Михаила Борисовича».
Глава двадцать вторая СПАСИ НАС, ВСЕВЫШНИЙ
Король Сигизмунд приехал в Смоленск на четвёртый день после взятия города. Его встречали войском, потерявшим больше половины воинов. Отдельно, в плотном окружении конных шляхтичей, стояли более сотни пленных во главе с воеводой Михаилом Шеиным. Король въехал в город в открытом экипаже. Он обозрел своё войско, поднимая руку, махал ею воинам в ответ на многократно прозвучавшее: «Виват! Виват! Король Сигизмунд!»
Экипаж короля подкатил к пленникам. Король вышел из экипажа и подошёл к стоящему впереди Шеину. Сказал почти со злостью:
— Ты много попортил мне крови, русский воевода. Ну ничего. Как говорят у вас: долг платежом красен.
Он стоял перед Шеиным, важно подбоченясь. Борода с рыжинкой была гордо вскинута. Холодные голубые глаза не сулили никакой милости. Сын короля Швеции Юхана III Вазы, он занял после смерти отца престол, но вскоре был изгнан из страны и нашёл приют в Польше. Полякам и литовцам он пришёлся по нраву, и они избрали его королём Речи Посполитой.
Сигизмунд подозвал гетмана Потоцкого и произнёс, показывая на Шеина:
— Допроси его с пристрастием, для чего получишь от меня лист.
— Исполню, ваше величество, — ответил гетман.
Он был воином, но не палачом, потому голос его прозвучал вяло.
— Похоже, ты, вельможный пан, устал, и я не уверен, что допросишь этого демона, как должно. Поручи Шеина гетману Рожинскому.
— Исполню, ваше величество.
Но король уже забыл о Потоцком, потому что увидел Марию Шеину. Он умел ценить женскую красоту и, присмотревшись к бледному, но не потерявшему прелести лицу русской полонянки, сказал:
— И как это, вельможная пани, тебя угораздило очутиться в Смоленске и попасть в плен? Если ты пожелаешь служить при моём дворе, сей же миг будешь свободна.
— Не хочу твоей милости, государь. Я разделю судьбу своего мужа, — без вызова, но твёрдо ответила Мария.
— Напрасно, вельможная пани. Его судьбе мало кто позавидует. — Король остановил свой взгляд на дочери Шеиных. — Я верю, что ты это сделаешь ради своей дочери. Вы будете украшать мой двор. — Король повернулся к приближённым, увидел канцлера Льва Сапегу и крикнул: — Вельможный Лев, подойди к своему королю!
— Слушаю, ваше величество, — подбежал к королю канцлер.
— Отвези их в Богородское. Но это не всё. Завтра ты отправишь их в своё имение и будешь беречь как зеницу ока. Не приведи Господь, если с их голов упадёт хоть один волос.
— Государь, я всегда служил тебе верно, — с поклоном ответил Лев Сапега.
Он позвал двух молодых шляхтичей и обратился к Марии:
— Пани, извольте пройти с нами до экипажа.
За спиной Марии неподалёку среди пленных стоял рядом с Анисимом Ваня Шеин. Увидев, как уводят Марию и Катю, он ринулся к ним. Однако Анисим удержал Ваню за руку. И всё-таки он крикнул:
— Матушка, и я с тобой!
Отрок не остался незамеченным королём Сигизмундом. Он окинул Ваню взглядом с ног до головы, улыбнулся и сказал:
— Ты вырастешь при моём дворе и станешь шляхтичем. — Он подозвал Яна Потоцкого. — Тебе это поручение будет приятнее. Отправь паныча в Краков, распорядись поместить его в Вавеле.
— Исполню, ваше величество, — ответил Потоцкий и попытался взять Ваню за руку, но тот не дался. — Не бунтуй, паныч, напрасно…
Тут дал о себе знать Анисим, который держал Ваню за руку.
— Ваше королевское величество, — поклонился Анисим королю, — отправьте и меня с сыном воеводы. Я его воспитатель, и со мной он во всём будет послушен. — Анисим сделал шаг к королю и довольно тихо сказал: — К тому же мы с ним пишем иконы. И католические…
— Как тебя звать? — спросил король.
— Анисим Воробушкин.
— О! — удивился король и бросил через плечо Яну Потоцкому: — Пусть этот шляхтич сопровождает сына воеводы.
— За мной! — крикнул Ян Потоцкий Анисиму.
— Мы готовы, вельможный пан. Но позволь Ване проститься с отцом.
Сказано это было довольно громко, и Сигизмунд услышал. Он был в хорошем настроении и разрешил:
— Иди прощайся, Во-ро-буш-кин, — улыбнулся король.
Анисим провёл Ваню мимо пленных к Михаилу Шеину.
— Мы с Ваней вернёмся на Русь, — произнёс он скороговоркой и добавил: — Ваня, простись с батюшкой.
Отец склонился к сыну, поцеловал его и сказал:
— Храни тебя Всевышний.
Подошёл Ян Потоцкий с двумя воинами, и Ваню с Анисимом увели. Это был миг разлуки отца и сына на долгие восемь лет.
Осмотрев ещё раз пленных, король проехал мимо войска, и перед ним открылась улица на Соборную гору. Он решил доставить себе удовольствие осмотрев. Смоленск с её высоты, а поднявшись и обозрев покорённый город, произнёс:
— Отныне и навсегда быть Смоленску польским градом.
Сигизмунд вспомнил, что до начала осады Смоленск был одним из богатейших городов Руси. «А где же смоленская казна?» — мелькнуло у короля, и ом спросил гетмана:
— Пан Потоцкий, ответь мне на такой вопрос: ты искал городскую казну? Где она?
— Я не искал её, государь, нам было не до этого.
— Тогда спроси у воеводы Шеина.
— Я пытался. Он говорит, что ничего не знает о городской казне.
— Знает и скажет сегодня же. Отправь его сей же час к Алиму и Алиме. Они добудут из него всю подноготную.
В Смоленске королю нечего было делать. Горожане не встретили его «хлебом-солью», и он, покинув город, уехал в село Богородское, что стояло к югу от Смоленска в семи вёрстах, думая по пути, что ему пора уезжать в Краков. Но на другой день после утренней трапезы Сигизмунд велел привести к нему воеводу Шеина, позвал ещё маршалка Стаса Копыря с листом. Когда воеводу привели, король велел Стасу Копырю прочитать все пункты, изложенные на листе. После прочтения Сигизмунд спросил Шеина:
— Будешь ли ты отвечать на эти вопросы как смелый воин? Или к тебе применить пытку?
— Если ты, государь, спрашиваешь, почему я так упорно держался в Смоленске, то скажу без принуждения. Смоляне защищали родной город. Я помогал им оборонять родную землю.
— Допустим, что это так. А что ты скажешь на то, где лежит городская казна? Куда её спрятали? Там многие тысячи золотых и серебряных рублей, которые теперь принадлежат мне.
— Истинно не знаю, государь.
— Лжёшь. Простояв воеводой три года, ты должен знать и знаешь о Смоленске всё.
— Всего никто не может знать.
Король почувствовал, что ему сопротивляются, и приказал воинам отвести Шеина в подвал, а Стасу Копырю — позвать туда палачей.
Михаила привели в подвал, в передней части которого под потолком было окно. При тусклом свете Шеин увидел стол, две скамьи и у окна мягкое кресло. Сигизмунд пришёл и сел в это кресло. А следом появились палачи. Шеин удивился: это были мужчина и женщина. Смуглолицые, с чёрными волосами и разговаривали они на незнакомом Шеину языке. В руках мужчина держал небольшой металлический обруч, а женщина — ларец красного дерева. Она поставила его на стол, открыла, достала из него кусок красного бархата и принялась выкладывать на бархат маленькие шила, ножички, клещи — всё миниатюрное, хорошо сделанное. Раскладывая свои «орудия», она показывала их королю и воеводе, при этом улыбалась, и в её лице не было ничего палаческого. Шеин даже подумал, что она привлекательна. Приготовления к пытке шли медленно, и это нравилось королю.
Но не Михаилу Шеину. Он мрачно посмотрел на воинов, которые притащили грубое деревянное кресло, усадили в него воеводу и принялись привязывать сыромятными ремнями его руки к подлокотникам. Шеин начал ругаться, делал это со смаком, и это снимало его нервное напряжение, он уже не боялся пыток. Он поносил короля, и тот, не стерпев оскорблений, крикнул:
— Скажешь ли ты наконец, где смоленская казна, и я прекращу твои пытки!
Шеин порадовался тому, что нервы у короля оказались слабее, чем у него, и, чтобы вовсе избавить себя от пыток, произнёс:
— Я покажу, где спрятана смоленская казна.
Воевода сказал заведомую неправду: он и впрямь не знал, где хранилась казна. Но ему не оставалось ничего другого. Он подумал, что эта «игра» с королём может что-то принести ему полезное.
Так и получилось. Шеина отвезли в Смоленск, и он привёл гетмана Яна Потоцкого и маршалка Стаса Копыря к развалинам взорванного Мономахова храма.
— Вот, расчищайте этот завал и там в подвале, под ризницей, может быть, найдёте смоленскую казну.
— А если не найдём? — спросил Ян Потоцкий.
— Найдёте, — усмехнувшись, ответил Шеин.
Гетман Потоцкий оказался проницательнее короля. Ткнув в грудь Шеина пальцем, он жёстко проговорил:
— Ты морочишь нам голову, и тебе это дорого будет стоить. Помни, что твоя жена и твои дети у нас в заложниках и за всякую твою подлость им придётся расплачиваться. Спросишь, чем? Найдём.
Эти слова отрезвили Шеина. Он знал, какие мучения могут причинить поляки его близким. Сердце воеводы сжалось от отчаяния.
— Ладно. Я сказал ложь: нет под этими развалинами городской казны. Но мне неведомо, где она. А теперь делайте со мной, что хотите. Да спасёт меня Всевышний.
Позже Михаила Шеина всё-таки пытали, но так и не добились ничего, что предавало бы интересы смолян, Руси. Король отступился от Шеина, и его с искалеченными кистями рук повели вместе со всеми пленными в Мариенбургскую крепость. Когда его уводили из села Богородицкого в полубессознательном состоянии, он молил Бога о том, чтобы избавил от страданий Марию, дочь Катю, сына Ваню.
Может быть, молитва Михаила Шеина дошла до Бога. Над ними поляки не чинили неправедной расправы. Мария и Катя были увезены в имение Льва Сапеги в Слоним, а Ваня с Анисимом были отправлены в дальний путь, в столицу Польши Краков.
Неизвестно, чья воля властвовала над Михаилом Шеиным в осень 1611 года, но в Мариенбургский замок он не попал. Его отвезли в католический монастырь Святого Валентина, который был расположен вёрстах в десяти от Мариенбурга. Как потом Шеину стало известно, всё это произошло не случайно, а благодаря усилиям богослова и философа Петра Скарги, который пребывал в лето одиннадцатого года в окружении короля Сигизмунда. Но пробыл Пётр Скарга близ короля недолго. Он давно хотел удалиться от мира и провести остаток дней в пустующем замке под Мариенбургом. Когда король Сигизмунд отправил русских пленных в Мариенбург, Пётр Скарга счёл, что ему самое время уйти вместе с ними из королевского окружения. Его поманила в путь жажда приобщить русских православных христиан к католической вере.
Весь долгий путь — почти шестьсот вёрст — из-под Смоленска до Мариенбурга Пётр Скарга провёл среди пленных россиян. Иногда он целыми днями сидел в повозке, в которой ехал истерзанный пытками Михаил Шеин, и, как вода точит камень, так и он час за часом втолковывал воеводе каноны католической веры.
Михаил счёл за лучшее молча сносить проповеди богослова. А когда Пётр Скарга спрашивал его напрямую, как он смотрит на то, чтобы принять католичество и избавиться от тягот плена, Шеин отвечал односложно: «Время покажет».
Богослов Пётр Скарга был терпелив и не требовал от Шеина прямого ответа немедленно:
— Ты, сын мой, думай над тем, что я говорю. Меня слушал сам Иван Грозный. Ты впитывай в душу, в разум благие истины католичества. Грядёт час, я уповаю на это, и ты войдёшь в лоно нашей веры.
— Спасибо, святой отец, что даёшь мне время подумать, — отвечал Михаил.
В пути Шеин видел, что Пётр Скарга кружил не только вокруг него, но и многим другим пленникам проповедовал превосходство католической веры римского толка над верой православной константинопольского закона. Слышал Михаил иной раз, как давали отпор стоятели за православную веру Нефёд Шило и Павел Можай:
— Мы, святой пастор, веру отцов не предадим. С нею и уйдём, как придёт час исповедоваться в грехах.
Преуспел ли в чём-нибудь Пётр Скарга, читая проповеди Нефёду и Павлу, Михаилу было неведомо. Но именно благодаря ему Шеин оказался за вратами монастыря Святого Валентина, и там монахи залечивали ему раны на истерзанных руках.
Хорунжий, который командовал конвоем, сдал воеводу Шеина настоятелю монастыря отцу Вацлаву со строгим приказом:
— Ты, святой отец, береги его пуще глаза. Так наказал богослов Пётр Скарга, ты его знаешь. Отвечать же будешь перед королём.
Приор Вацлав, высокий, с сухим лицом, чёрными колючими глазами, осмотрел Михаила, как коня на торгу, пощупал его спину и грудь и сказал, как приговорил:
— Исправен, как конь, к работам способен.
Но внимание приора привлекли руки Михаила. Он взял за запястье правую руку и увидел, что на пальцах нет ногтей, а там, где им надо быть, как угли под пеплом, пламенело живое мясо. Отец Вацлав взял левую руку и увидел то же.
— Иезус Мария, что это? — спросил он хорунжего.
— Это наказание за непослушание, — ответил с улыбкой шляхтич.
— Кто учинил такую расправу над тобой, пленник? — страдающим голосом обратился отец Вацлав к Шеину.
— Как сказал богослов Пётр Скарга, это наказание за грехи, — ответил по-польски Михаил.
— Ты знаешь нашу речь? — спросил приор воеводу.
— Как не узнать за два года войны с вами?
— Идём же в келью, где ты найдёшь покой, где тебя будут лечить, — произнёс приор и повёл Михаила в низкое и большое деревянное строение.
Вацлав и Михаил вошли в длинное помещение, где по одну сторону коридора были через каждые три шага двери. В конце коридора приор снял с пояса связку ключей и открыл тяжёлые дубовые двери в последнюю келью.
— Вот твоя обитель. И не ропщи, сын мой.
Он побудил Михаила войти в келью и закрыл за ним дверь. Ключ звякнул о железо.
И наступила тишина. Михаил осмотрелся. Но смотреть было не на что: голые стены, лишь в углу образ какого-то святого, деревянная лавка, на которой лежали соломенный тюфяк и соломенное же изголовье с покрывалом из рядна. У маленького оконца с решёткой была прибита широкая доска на двух укосинках, на доске открытая книга — вот и всё убранство места заточения Михаила Шеина. Он прошёлся по келье, насчитал шесть шагов в длину и четыре в ширину. Опустившись на лавку, потёр лоб и тихо произнёс:
— А жить-то надо.
Шеин вспомнил Марию, детей, попытался представить, что происходит с ними, где они, но это ему не удалось. Не зная, куда себя деть, он подошёл к лежащей на доске книге. Это был катехизис — толкование простых христианско-католических истин. Михаил принялся читать, но гнев остановил его. Он понял, что грешит против устоев своей веры, и принялся ходить по келье.
День за оконцем погас, наступили сумерки. В это время загремел замок, открылась дверь, вошёл сутулый монах. В руках он держал свечу и лампаду. На сгибе руки висела плетёнка. Он поставил лампаду под образ — это был святой Валентин, — зажёг её от свечи, затем выложил из плетёнки хлеб, печёную репу, кринку с квасом и ушёл, ни разу не глянув на Михаила.
Шеин долго не прикасался к пище, потом подумал, что ему нет нужды изнурять себя голодом, присел к «столу», поел, напился квасу и вновь принялся ходить, вновь вспоминал Марию, детей. И приоткрылась в душе некая дверца, и оттуда, словно птица из гнезда, вылетели испугавшие его поначалу слова:
Позови меня, белая лебедь, В поднебесную синь улететь. Я взломаю дубовые двери И покину суровую клеть…Конечно же он обращался к своей Маше-лебёдушке. И себя он увидел в другом, молодецком обличье, способным взломать дубовые двери.
На заре выйду в чистое поле, И Господь мне поможет взлететь…И Михаил уже вместе с Марией летит к солнцу.
Испытаем мы счастье и волю, Мир сумеем с тобой обозреть.Но можно ли одним улететь с чужой земли? Да нет же! Нет!
Мы найдём свои милые чада И возьмём их с собой на крыло…Вот они, Катя и Ваня, с ними, и можно лететь на восход солнца. Надо лишь освободиться от боли.
Сбросим горести в пропасти ада И помолимся, чтоб повезло.«Однако не заблудиться бы в поднебесье, — подумал Михаил. — Да нет же, не заблудимся», — твердит он уверенно.
Русь узнаем с тобой по одёжке: Шапка вкрень и кафтан нараспах! Мы услышим, как крикнут детишки: «Видим Кремль! Слышим звоны вразмах!»И впервые в жизни Михаил почувствовал, как у него повлажнели глаза, как горькие спазмы сдавили горло и с сердца сорвалась печаль.
Позови меня, белая лебедь, В синь небес позови, позови. Гложут сердце моё, словно звери, Боль, тоска, и от них не уйти. Позови, позови, позови!Глава двадцать третья ШЕСТВИЕ ПО ВАРШАВЕ
Осенью 1611 года королевский двор Сигизмунда III Вазы жил праздно. Пиры следовали один за другим: то по случаю взятия Смоленска — в какой раз! — которым Польша владела более ста лет назад; то по случаю установления восточного рубежа за Дорогобужем. Раздалась Польша вширь. Теперь рубеж её от Москвы был всего лишь в двухстах вёрстах. Как тут не пировать! Но королю Сигизмунду этого было мало. Ему хотелось потешить своё тщеславие чем-то необыкновенным. Как раз в это время возвращался в Польшу из Руси гетман Станислав Жолкевский. Это ему выпала честь захватить Московский Кремль. Почему бы не воздать ему должные почести за этот подвиг? Сигизмунд пригласил на совет канцлера Льва Сапегу.
— Ясновельможный пан Сапега, я собираюсь в Варшаву, потому что туда прибывает победитель Московии гетман Жолкевский. Подумай, как торжественнее обставить въезд Жолкевского в Варшаву.
Лев Сапега недолюбливал гетмана Жолкевского, считал его слишком тщеславным, с непомерной гордыней человеком. Однако король ждал угодного ему совета, и Лев Сапега сделал совершенно неожиданное предложение:
— Ваше величество, зрелище будет необычайным, оно возвеличит тебя, если ты перед въездом Жолкевского церемонно проведёшь по Варшаве, перед лицом тысяч своих подданных, русских пленников, которых ты взял в Смоленске.
— Удачное предложение, ясновельможный Лев. Это будет запоминающееся зрелище. И вот что: царя и его братьев везти на телеге и в рубище.
— А вот тут, государь, позволь тебе возразить, — отважно произнёс Лев Сапега. — Ты окажи милость царю, проведи его перед варшавянами в царских одеждах, и все поймут, что так великодушно может отнестись к своему врагу только великий государь.
Лев Сапега был очень доволен тем, что сказал.
Король был благодарен своему канцлеру и распорядился собрать русских пленных со всей Польши, привезти из Литвы. Вспомнил король и о князе Голицыне, и о митрополите Филарете, которых увезли в имёние Яна Потоцкого, затерянное где-то в горах Силезии. В ноябре по всей Польше помчались гонцы, чтобы донести повеление короля доставить в Варшаву русских пленных. Пришло такое повеление и в монастырь Святого Валентина.
Михаил Шеин принял это повеление довольно равнодушно. Он устал. Целыми днями, с рассвета и до темноты, он занимался изнурительной работой: заготавливал для монастыря дрова. Вместе с ним работали ещё трое русских пленников. Их увели в лес, там они срубили себе жильё, там под надзором вооружённых молодых монахов жили до глубокой осени, пилили деревья, кололи чурбаны, укладывали дрова на возы — и так день за днём.
И вдруг эта резкая перемена в жизни: их погонят в Варшаву. Известие было неожиданным и потому Михаил остался к нему безучастным. Но уже по пути к монастырю он подумал, что поездка в Варшаву может стать путём к освобождению из плена. Откуда ему было знать, что прихоть короля явится для русских пленных лишь ещё одним жестоким унижением их чести! Однако в дорогу Шеина собрали основательно. Его одели по чину воеводы, дали овчинную шубу. В крытом возке их было трое: возница, страж и пленник. Конечно же, ни страж, ни возница не стали бы ему помехой, надумай он убежать. На миг Михаил представил, как всё это могло быть. Вот он ударил кулаком по голове одного и другого лишил сознания, связал по рукам и ногам и где-нибудь в лесу выбросил из возка. Но все эти размышления были досужими. От его поведения в плену зависела судьба трёх дорогих ему существ, и потому Шеин ехал в Варшаву покорно.
В эту пору Михаилу Шеину не дано было знать, что происходило в Кракове. Если бы до него дошли оттуда вести о том, что задумали стременной Анисим и его, Шеина, сын, может быть, он решился бы на какой-то отчаянный поступок. Но пока в Кракове явного у Анисима с Ваней ничего не случилось. Они жили во дворце Вавель, и Ваня ходил в чине королевского пажа. Стройный подросток, красивый, с яркими голубыми глазами, с ямочками на щеках, которые появлялись, когда он улыбался, он был любим многими вельможами. А вельможные пани, особенно средних лет, не скрывали своего восхищения. Они прозвали его «наш херувим». Анисим стоял при Ване дядькой-воспитателем и слугой, но это не угнетало его, и он ежедневно укреплял в Ване дух любви к родной Отчизне, к Москве, к Рождественке, ко всему тому, что окружало юного Шеина в детстве. Анисим давно заметил, что внешний облик Вани, «мягкого, домашнего мальчика», был обманчив. У него складывался твёрдый отцовский характер. Чего он хотел, того добивался. Он был в меру скрытен и терпелив. А повседневные напоминания о Москве, о детстве, об окружении на Рождественке укрепляли в Ване желание как можно скорее вырваться на родину. И однажды вечером перед сном Ваня сказал Анисиму:
— Дядя Анисим, мне здесь плохо, я хочу в Москву.
— Мне тоже хочется, славный. Там у меня сынки выросли, а я их и не видел как следует.
— А давай убежим. Ты придумай что-нибудь, дядя Анисим.
— Это хорошая задумка, Ваня, и мы с тобой как пить дать — убежим. Но надо немножко потерпеть.
— Сколько же терпеть?
— Зима на носу, а в зиму даже разбойники с тёплых мест не убегают. Нам же с тобой до Рождественки ой как далеко. И нужно хорошо подготовиться в путь. К весне и управимся. Деньги надо приготовить. А вот откуда их взять, думать нужно. Есть у меня побуждения, вот я и пущу их в оборот.
— Славно. Я буду ждать весны, — ответил, улыбаясь, Ваня.
Своих побуждений Анисим пока не хотел открывать подростку, но сам готовился дать им жизнь. В свободные часы, когда Ваня был на королевской службе, Анисим уходил на хозяйственный двор Вавеля. Там были столярные мастерские, и он заходил в них, искал, выпрашивал у мастеров дощечки из обрезков в ладонь величиной. Иногда он находил их, а случалось, подбирал чурку, раскалывал её на дощечки, потом выравнивал, оглаживал камнем и добивался, чего хотел. На таких дощечках он мог писать образы святых. В иконописной мастерской, которая тоже была при Вавеле, Анисим выменивал часть дощечек на краски, и постепенно у него накопился запас дощечек и красок. При вавельском дворце был католический храм, Анисим заходил в него и часами рассматривал лики святых, особо чтимых католиками. И пришло время, когда Анисим взялся за кисточки, начал писать. Как у него было принято, он создавал образ через выражение глаз. Для Анисима главными в образе были глаза. Они жили, обращали на себя внимание, вдохновляли, укоряли, обнадёживали. Глаза, по мнению Анисима, были самым сильным оружием святых.
Анисим надеялся, что создаваемые им образы святых будут находить отзвук в сердцах верующих. Так ли всё получится, Анисим пока не знал, но надежда в нём жила, потому что пищи у неё при ярком воображении стременного было предостаточно.
Отъезд из Кракова в Варшаву для Анисима и Вани оказался неожиданным. Анисим и в мыслях не мог держать, что им так повезёт и они почти на пятьсот вёрст приблизятся к Москве. И вот уже Анисим и Ваня в пути из Кракова в Варшаву. Они едут где-то в хвосте, но для Анисима это приближение к Руси было добрым Господним знаком.
В эти же дни с северной стороны приближался к Варшаве и Михаил Шеин. А из имения Льва Сапеги в Слониме выехали Мария и Катя, которых сопровождал дворецкий Якуб Хельминский.
И настал знаменательный день, дарующий удовольствия и славу одним и несущий печаль по утраченному и горести в грядущем другим.
«19 декабря 1611 года Сигизмунд доставил себе тщеславное удовольствие: устроил торжественный въезд в Варшаву гетмана Жолкевского с большою, блестящею свитою полковников и ротмистров; вместе с гетманом везли, напоказ народу, в открытой карете, запряжённой шестерней белых коней, бывшего московского царя Василия Ивановича Шуйского с братьями. Далее следовали кареты, в которых сидели смоленский архиепископ Сергий, Шеин и другие смоленские пленники. Их всех провезли в королевский дворец, где произошёл приём, столь же торжественный, как и въезд».
Но написанное в хронике пусть останется на совести летописцев. Всё это было несколько по-иному. Правда, прохождения ротмистров, полковников и войска Мария, Катя и Ваня с Анисимом не видели. Их глаза с нетерпением смотрели на то, что они ожидали увидеть за прошедшими воинами. И вот появилась первая карета, но она была пустая, только возница сидел на облучке. А за каретой, держась за её спинку, шёл согбенный, маленький, щуплый, с редкой бородёнкой бывший русский царь Василий Иванович Шуйский. Если бы россияне видели прежнего государя Руси, они содрогнулись бы от жалости к нему. Следом за старшим братом шёл Димитрий Шуйский. Он держался гордо, потому как за скудостью ума и совести не понимал, что это позорное шествие россиян и его брата случилось лишь по его вине. Не будь трагедии под Клушином, русская сорокатысячная рать дошла бы до Смоленска, уничтожила бы и прогнала войско поляков, осаждающее город. Только за поражение под Клушином расплачивалась теперь Русь, потерявшая Смоленск и тысячи воинов. Судьба уготовила Василию и Димитрию Шуйским жестокий жребий: через год они оба скончались в польском плену.
Но в этот день торжественного шествия мимо помоста, где стоял король со своей свитой, позор Шуйских не завершился прохождением мимо Сигизмунда. Шествие было остановлено. Шуйских — Василия, Димитрия и Ивана — позвали к помосту, и гетман Станислав Жолкевский трубно возгласил:
— Великий польский народ, слушай! Сейчас бывший царь Руси Васька Шуйский будет просить милости и прощения за все содеянные злодеяния против Польши. Преклоняй же колени, несчастный! Кайся!
И Василий Шуйский, а за ним и братья, правда, с принуждением, опустились на колени.
— Грешен пред тобою, король польский Жигмонд!
Каюсь и прошу милости отпустить с миром к смертному одру! — звонко произнёс Василий Шуйский.
Он встал и направился к карете.
Мария Шеина и Катя всё это видели и слышали. Но их сердца остались безучастны к позору Шуйских. Зато их глаза зажглись огнём страдания и радости, когда они увидели супруга и отца. Он по-прежнему сидел в телеге, и с ним рядом был архиепископ Смоленский Сергий. Мария подняла руку и помахала ею. Она отважно ринулась вперёд, но стоявшие на карауле шляхтичи задержали её.
— Там мой муж! — крикнула она.
— Нельзя к нему! — ответил шляхтич и крепко стиснул ей руки.
Увидел отца и Ваня. Он с Анисимом стоял за рядом гвардейцев короля, и у него не хватило духу крикнуть: «Батюшка, я вижу тебя». Он только прошептал это про себя.
Михаил Шеин тоже увидел всех своих близких. Но глаза его остановились на Марии. Он пытался рассмотреть её лицо. В серой дымке декабрьского дня оно показалось ему белой маской. Стенания рвали ему грудь, и он с придыханием произнёс:
— Ты услышь меня, белая лебедь!
В это время к повозке подошли два воина и, ударив в спины Шеина и Сергия, столкнули их на землю.
— Король стоит, и вам стоять, пся крев! — крикнул один из них.
Шествие пленных двинулось вперёд. Помахав родным рукой, уходил Михаил от помоста, где стояли Мария и Катя. И вот они уже исчезли из поля его зрения.
Глава двадцать четвёртая ПОБЕГ АНИСИМА И ВАНИ
После торжества на площади в королевском дворце был задан пир. Привели на него и Василия Шуйского с братьями, архиепископа Сергия, немногих воевод, и среди них были два недруга: князь Димитрий Черкасский, взятый в плен вместе с послами, и Михаил Шеин. Всех россиян загнали в дальний угол залы. Там был поставлен стол со скудным угощением, и каждому было выдано по глиняной кружке хмельной браги. Сесть пленникам было не на что, и они полдня простояли с окаменелыми ногами. К ним подходили польские вельможи и дамы, рассматривали их, смеялись и отходили. Михаилу Шеину ничто не мешало смотреть на наглых вельмож с презрением, но он часто посматривал в залу из-за спин оцепивших пленников стражей: надеялся увидеть среди поляков Марию. Надежды его не сбылись, и он впал в уныние, стоял за спиной гвардейца, опустив голову. В какой-то миг он забылся, но тут страж тронул его за плечо. Михаил поднял голову и лицом к лицу встретился со своим стременным Анисимом, который, как понял Шеин, был в ливрее кучера. Он подал Михаилу кубок с вином и тихо сказал:
— Мы с Ваней уходим на Русь. — Громко же добавил: — Кубок тебе от короля! — и быстро ушёл.
Михаил потряс головой: не сон ли? Вот в его руках кубок, и он прикоснулся к вину, выпил одним махом. Михаил вспомнил, что однажды Анисим уже произнёс эти слова. «Всевышний, сохрани их в пути!» — воскликнул он в душе и повернулся, почувствовав на спине чей-то взгляд. На него в упор смотрел князь Димитрий:
— С поляками якшаешься, присягнувший Владиславу. То-то они и жалуют тебя, кубками с мальвазией потчуют.
У Михаила Шеина всё закипело в груди. Ещё мгновение, и он ударил бы кубком князя Черкасского. Но в это время пленных начали выводить из залы, и он почувствовал, как его толкают под бок.
Зима в Польше выдалась в этом году с обильными снегопадами. Дороги укрыло до такой степени, что рослый конь тонул в снегу по живот. Королевский двор, собравшийся было выехать в январе, зимовал уже и февраль, потому как путь в Краков был закрыт. Зато в сторону Вильно, на северо-восток, дороги от Варшавы были проезжими.
Анисим в эту зиму мало занимался с Ваней, но пристрастился ухаживать за лошадьми и сделался возницей. Помог ему случай.
Однажды в королевском обозе заболел старый возница. Надо было передать кому-то крытый возок и доброго коня. Старший обоза пан Жмудь увидел на хозяйственном дворе Анисима.
— Ты, кажется, за лошадьми можешь ухаживать?
— Могу. Я был стременным у полковника, — пустил «утку» Анисим.
— А ты за кем сейчас стоишь? Слуга, что ли?
— Слуга.
— Так я возьму тебя к себе. Скажу дворецкому, шабры[29] мы с ним.
— Готов тебе служить, Панове, — ответил Анисим.
— Идём, я покажу тебе возок и коня. Конь славный, Янеком зовут. Подготовь всё в путь. Завтра в Брест поедем.
— Исполню, Панове.
— Владом меня зовут. Ещё Жмудь. А ты?
— Онис…
— Вот и поладим, Онис.
Влад Жмудь привёл Анисима на конюшню и показал ему коня. Анисим смело подошёл к молодому мерину, приласкал его.
— Мы с Янеком поладим.
Из конюшни Влад повёл Анисима под навес, показал ему крытый возок, в котором возили муку. Анисим узнал это сразу, едва заглянул внутрь. Потом Жмудь привёл Анисима к конюху.
— Это Онис, вместо Лукаса. Выдай ему для Янека овса на неделю. — И сказал уже Анисиму: — А харчи получишь у меня вечером.
— Всё запомнил, пан Влад, — ответил Анисим.
Оставшись один, он вернулся к коню, взялся чистить его и размышлял. Всё складывалось для него как нельзя лучше. «Вот только бы с Ваней чего не случилось», — мелькнуло у него. Сам он готов был к побегу. За прошедшие месяцы, как попал в плен, он скопил немного денег. Была припасена сума с харчами: сухари, толокно, ветчина — всё, что выдавалось польским воинам в поле. Приготовил Анисим и простую крестьянскую одёжку для себя и для Вани. Но самым главным его достоянием были три десятка написанных иконок с ладонь величиной. Он уже продавал такие на торгу, и поляки хорошо покупали. Католикам нравилось, что в глазах святых много божественной силы. Так собралось у Анисима немножко денег, чтобы не голодать в пути и даже купить коня.
С Ваней в эти дни ничего не случилось. Он по-прежнему был в меру волен, ему разрешали покидать дворец. Но дальше хозяйственного двора его не выпускали. Каждое утро он шёл на занятия к ротмистру Верницкому и вместе с другими подростками, сынками вельмож, занимался военным искусством.
Накануне отъезда в Брест Анисим постарался вечером увидеть ротмистра Верницкого, сказал ему:
— Пан ротмистр, сделайте милость, освободите от занятий на два дня паныча Янека. Он заболел, у него жар, сыпь на теле, — невесть что плёл Анисим.
Ротмистр Верницкий был по нраву брезглив и, услышав от Анисима о напастях, свалившихся на пажа, сказал:
— Отпускаю на три дня, но не больше. Чтоб выздоровел!
— Дзякую, пан ротмистр. — И Анисим поклонился.
Ночь Анисим спал неспокойно, вполглаза. Встал задолго до рассвета и, собрав всё приготовленное в дорогу, разбудил Ваню.
— Братец мой, одевайся. Нам время уходить.
Ваня ждал этого часа не меньше, чем Анисим. Накануне он был посвящён в замысел побега и согласился с радостью. Встал он тотчас, оделся в овчинный кожушок, на ноги натянул валенки, на голову надел овчинный треух, и они покинули своё пристанище, чёрным ходом вышли на хозяйственный двор, добрались до возка. Оба нырнули в него. Анисим пояснил Ване:
— Я тебя, братец мой, спрячу под солому, и там лежи тихо, пока не покинем Варшаву. На тебе будут лежать две сумы, кули, так ты уж потерпи.
— Я всё стерплю, — ответил Ваня и полез под солому на днище возка.
Вскоре на дворе стало оживлённо. И вот уже кони в упряжи выезжают к воротам, выстраиваются в линию. Анисим встал среди одноконных повозок четвёртым от хвоста. Впереди обоза в теплом возке ехал с возницей маршалок Броницкий. Он командовал обозом. Распахнулись ворота, Броницкий показал стражам подорожную, обоз покатил по пустынным улицам Варшавы и достиг восточных ворот. Там также проволочек не было, и вот уже перед путниками долгий, в триста вёрст, путь до Бреста.
Дорога от Варшавы до Бреста оказалась накатанной, без заносов: миновала непогода восточную Польшу. И во благо ездовым. Весь короткий зимний день ехали лёгкой рысью. Ваня уже вылез из-под соломы по грудь, лежал так, что в любую минуту мог спрятаться. Но пока Анисим и его возок никого не интересовали, и Анисим радовался в душе хорошему началу. Беглецы проследовали две трети пути до Бреста без каких-либо помех. Первая опасность их поджидала, когда остановились на ночлег на постоялом дворе в маленьком городке Вяла-Подляска. К возку Анисима подошёл маршалок Броницкий как раз в тот миг, когда вернулся ходивший по нужде Ваня.
— Ты кого это везёшь, Онис?
— Так это мой сынок Янек, пан маршалок.
— Зачем взял с собой? — рассматривая Ваню, спросил Броницкий.
— Так пан Влад и разрешил. Матка наша в Бресте у сестры задержалась, вот и затосковал сынок по матке. Так вы уж, пан…
— Милую. Пусть до Бреста едет. Там узнаю, не врёшь ли.
Когда Броницкий ушёл, Анисим задумался. Здесь обманул, и сошло, но в Бресте ложь обязательно откроется. Маршалок был въедлив и дотошен, и не приведи Господь, если дознается, чей сын «Янек». Надо было что-то предпринимать. Но что? Не свернёшь же в пути в лес или в поле! Это только себе на погибель. И в малом городке Вяла-Подляска не спрячешься. Ночь прошла беспокойно. Спал, не спал — Анисим не мог бы сказать, скорее, плавал в бесплодных размышлениях.
Наступило утро. Обоз выехал из Вяла-Подляски до рассвета. Дул сильный северо-восточный ветер, нёс космы снега. Но было терпимо, до полудня ехали, как обычно. И вдруг наползли синие тучи и пошёл такой обильный снег, что не стало видно бегущую впереди лошадь. Поднялся неистовый ветер, и закружила метель. Небо обрушилось на землю и накрыло её мраком. И всё-таки в этой круговерти Анисим увидел наезженный поворот дороги вправо и какую-то избушку близ него.
У Анисима перехватило дыхание. «Вот она, удача, а другой и не будет», — подумал он и свёл коня с проезжей части на обочину. Позади за ним шли ещё три возка. Вот два миновали, а третий, последний, остановился, возница увидел Анисима, крикнул:
— Что у тебя, Ониска?
— Да подпруга лопнула! Сейчас догоню, — ответил Анисим.
— Не отставай, нелёгкая тебя возьми! — гаркнул возница и скрылся вместе с конём в снежной замети.
Анисим взял коня под узды и провёл его до поворота, где заметил чернеющую избушку, сел на облучок и погнал коня.
— Но, милый Янек! Вперёд, на родину! — крикнул Анисим, скорее подбадривая себя, нежели коня, и конь, подгоняемый ветром, пошёл рысью.
Знал Анисим, что если с пути Варшава — Брест свернуть перед Брестом вправо и ехать на юго-восток, то можно добраться прямой дорогой до Брянска, русского града. В это время Ваня подобрался к облучку, высунул голову из-под тяжёлого холста.
— Дядя Анисим, куда коня гонишь? — спросил он.
— На восток, на Русь, друг мой! Надо молить Бога, чтобы нас не захомутали. Да скажем, что сбились с пути. Вон какая непогода!
Близился вечер, наконец в метели появились кое-какие просветы, и Анисим увидел впереди лес. Конь уже устал, шёл шагом. Дорогу замело, и он лишь чутьём угадывал её. Но вот и лес. В нём метель гуляла по вершинам деревьев. Коню стало легче, потому как лесную дорогу не перемело. Правда, у Анисима появился озноб на душе, пробивалось нечто похожее на страх. Да и было отчего: чужой лес путнику всегда чем-то угрожает. Анисим хотя и был воин не робкого десятка, но и в нём жило суеверие. Он вспомнил про лешего, хозяина дебрей, про ведьм и прочую нечисть, но принялся творить молитву, и полегчало. Велел Ване достать из-под соломы саблю.
— Страшно-то как, дядя Анисим, — молвил Ваня, подавая саблю.
— Страшно, Ваня, да ты крепись. Мы с тобой праведные люди, и нас никто не тронет. А на разбойника у нас сабля есть.
— Так ведь у тебя и палаш есть. Дай саблю мне, а тебе — палаш.
— Ты верно рассудил. Доставай палаш. Ты саблей будешь препоясан, а я палашом. То ли не ратники!
Анисим подумал, что за разговором меньше ощущается страх и принялся рассказывать, как обвёл вокруг пальца ротмистра Верницкого. Разговоры помогли. За ними Анисим накормил Ваню, сам перекусил хлеба да говядины. Даже сделали остановку на лесной дороге, дали коню овса.
— Животине силы нужны, — сказал Анисим Ване, — а то и не побежит.
И снова в путь. Дорога пустынна. Наступила ночь. Метель, похоже, угомонилась, в верхушках деревьев уже не завывал ветер. Ваня уснул. У Анисима сна ни в одном глазу. И усталости нет. Настроение боевитое, злое. Просто Анисим сам себя взвинчивал. Да и не напрасно: знал, что, когда в душе всё кипит, значит, будет удача. Об одном молил Бога Анисим: чтобы Янек не подвёл. Пока он казался бодрым, но чересчур сторожким. Он часто прядал ушами, фыркал и даже ржал. Анисим понял, что он привык ходить в обозе, чувствовать дыхание коней, бегущих впереди и позади.
Конь волновал Анисима и по другому поводу. Был он видный, холёный, и как только наступит рассвет, как только они появятся в селениях, которых на долгом пути не минуешь, так сразу же на него обратят внимание властные поляки — разные бискупы — и те, кто готов поохотиться за чужим добром. И надо было Анисиму придумать нечто, чтобы обезопасить себя, но пока в голову ничего путного не приходило.
Близился рассвет. Метель утихомирилась. Небо очистилось от туч. За лесом вот-вот проснётся заря. И Анисим подумал, что хорошо бы ему провести день где-то в лесу и не показываться пока в селениях. Но лес в зимнюю пору принимает не каждого, да и смелости надо много, чтобы в него с головой окунуться. Однако Анисим был везучим человеком. Уже рассвело, и он увидел на встречном пути санный поворот в лесную чащу. Остановил коня, присмотрелся, заметил обломанные сосновые ветки, кору, лежащие в колее, и решил, что кто-то в глубине леса валит лес и вывозит. Знал Анисим, как лесорубы на вырубках зимой обустраиваются, они и шалаши тёплые ставят, если рядом зимника нет. Анисим рискнул въехать в чащу и сделал это так, чтобы не оставить своего еле да на повороте. Он проехал вперёд, развернул сани руками, опустил их в наезженную колею и сошёл через лощинку в лес.
Больше версты проехал Анисим, когда учуял запах костра. И конь заржал, пошёл веселее. Стук топора донёсся. Лесорубы уже трудились. Анисим остановил коня, нырнул в возок, разбудил Ваню. Тот спал крепко и не враз пришёл в себя.
— Ваня, к людям я еду, к лесорубам, так ты у меня будь немым. Ни слова, ежели спрашивать начнут, лишь головой мотай и мычи.
— Ладно, дядя Анисим, — ответил Ваня.
— Вот и поладили. Так я поехал. А ты помни: молчун отныне.
Анисим взялся за вожжи и погнал Янека дальше в лес. Вот и делянка. Поодаль справа от неё срублен зимник, мхом да ветками укрыт. Там же рядом, под навесом, лошадь стоит. Анисим увидел трёх лесорубов. Двое пилили лес, третий срубал сучья, стаскивал их в кучу. Заметив коня и возок, лесорубы прекратили работу. Один из них, мужик лет пятидесяти, в овчинном кожушке без рукавов, подошёл к Анисиму и спросил:
— Заблудился, что ли?
Анисим понял, что перед ним не поляк, а русский. Вспомнил он и то, что здесь когда-то была русская земля, взятая некогда Польшей.
— Заблудился, брат, заблудился. Так ведь света белого не видно было вчера, небо с землёй смешались.
— Да ты никак русский мужик-то. Нашенские так не гуторят.
Анисим соображал, как лучше ответить, чтобы не опростоволоситься.
— Так ведь и ты русский, только я из-за бугра, а ты здешний.
Подошли два других лесоруба. Это были молодые крепкие парни. Они молча осмотрели Анисима с головы до ног, застыли неподалёку.
— Верно сказано. Чем же тебе помочь? Меня Федулом зовут, а это Аким да Роман — сыновья-погодки.
— Анисим я. И сынок у меня в возке, Ваня. Немоту наслали на него, так говорили мне, что в вашем краю ворожея есть, которая немоту снимает. В Бресте я на торгу слышал.
— Верно, есть. Так это от нас в сторону Гомеля вёрст пятьдесят. — Федул подошёл к коню Анисима, осмотрел его, огладил. — С барской конюшни конь-то.
— С барской. Янеком зовут. А я служу конюхом у барина. Вот и дал сынка отвезти.
— Дорого будет стоить это тебе.
Федул смотрел на Анисима, прищурив маленькие серые глаза, в которых засветилась хитринка.
— Всему своя плата, — с настороженностью ответил Анисим.
— Верно. Только коня жалко. Она, ворожея Ефросья, как увидит справного коня, враз себе забирает, и не поспоришь. Вот какое дело, Анисим. Поедешь ты к такой бабке?
— Поеду.
— Ну-ну. Однако потом пеняй на себя.
— А что делать-то?
— Э-э, все русские мужики недотёпы, — усмехнулся Федул. — Ты найми у меня лошадёнку Стрелку, вон стоит. Она неказистая, но шустрая. А за наем я на твоём коне лес повожу. Не убудет от него.
«Хитёр Федул, на мякине не проведёшь. Да благую сделку прочит. На королевском коне далеко не уедешь. А тут россиянину послужит», — подумал Анисим и сказал:
— Ты обо мне, словно брат, печёшься. Согласен я. А в какой деревне эта ворожея живёт?
— Так и деревня называется — Ворожеево. Там и живут лишь колдуны.
— Я и сам их роду, — отшутился Анисим. — Так ты пусти меня в зимник на день отдохнуть. А к ночи-то я уеду, авось к утру в Ворожеево…
— Леший, истинно леший, по ночам шастать! Давай, иди в зимник, а как смеркаться будет, чтоб ветром тебя сдуло.
Федул взял коня под узды и повёл под навес.
Днём Анисим и Ваня хорошо отдохнули в теплом зимнике, выспались. Когда проснулись, уже смерим лось. Перекусили. Пришёл Федул.
— Ну, ты не передумал коня оставить? Справный конь. А мы тебе и возок к Стрелке приготовили. Или жалко оставлять? Вдруг не верну?
— Ты, Федул, честный человек, и я хочу быть честным. — Анисим достал из-за пазухи кису, отсыпал из неё злотые и подал Федулу.
— Это тебе за Стрелку и возок. Мало ли что, вдруг не вернусь. Леший его знает, попутает — пропадёт лошадка. Да и конь-то барский…
Федул многое понял из сказанного Анисимом. Догадался, что Анисим не вернётся, что конь у него чужой и даже не барский. Он взял деньги и спрятал их.
— Ладно, Стрелка и возок стоят того, а теперь уезжай.
Уже стемнело, когда Анисим покинул вырубку. Знал он, что его ищут. Но в наступившую ночь от Бреста до Ворожеева никто не может добраться из тех, кого пошлют за ним в погоню. Лошадка Стрелка оказалась сноровистой, обжитый, тёплый возок был по ней — лёгкий на ходу, ей по силам. И она бежала всю дорогу лёгкой трусцой. Было тихо, безветренно, морозец едва давал себя знать. Анисим и Ваня сидели на облучке, прижавшись друг к другу, и бывалый воин рассказывал Ване, как он вместе с его батюшкой отбивали крымскую орду. Судьбе было угодно уберечь Анисима и Ваню от волков и татей, от воинов короля Сигизмунда, которые на четвёртый день отъезда обоза в Брест ринулись искать сына воеводы Шеина, для острастки числившегося в королевских заложниках, как и жена с дочерью.
И вот один заложник сбежал. Когда королю Сигизмунду доложили о том, он пришёл в гнев и потребовал найти тех, по чьей вине сбежал сын воеводы. Виновного в побеге Вани Шеина нашли. Сочли, что всё случилось упущением ротмистра Верницкого. Нашли виновного и в побеге Анисима. Им посчитали пана Влада Жмудя. Но поиски беглецов оказались безуспешны. Все считали, что Анисим и Ваня сбежали из Бреста, и ринулись искать их в сторону Минска.
Но беглецы удачно выбрались из Польши и прикатили на труженице Стрелке в Брянск. Теперь им оставалось вспоминать, как они двигались по Польше лишь по ночам, одолевая страх, пробирались на Русь. От Брянска к Москве Анисим и Ваня ехали днём. В пути они продавали иконки, тем и кормились. Они меняли их на каравай хлеба, кусок мяса, на бадью овса для Стрелки. Анисиму и Ване россияне не давали умереть с голоду. Крестьяне находили на обмен то десяток яиц, то кусок сала и лепёшки к нему.
Так и добрались путники до Москвы. Она распахнула перед ними ворота. Апрельским погожим днём, по последнему снегу Анисим и Ваня добрались до Рождественки, где Ваню встретила бабушка Елизавета, а Анисима — семеюшка Глафира и два отрока-сына. Все плакали от радости, да и было отчего.
Никто из россиян не знал судьбы русских пленных, взятых под Смоленском и в городе. Анисим первым делом подошёл к боярыне Елизавете и сказал:
— Матушка-боярыня, видел твоего сына Михаила Борисыча. Здравствует он.
— Согрелось моё сердце от твоих слов и оттого, что спас моего внука от польской неволи, — прижимая Ваню к себе, ответила Елизавета.
Анисим той порой поспешил обнять свою Глашу, потрепать по вихрам сыновей.
Глава двадцать пятая ВСТРЕЧА В ИМЕНИИ ЛЬВА САПЕГИ
Шёл третий год страданий Михаила Шеина в польском плену. Но если бы это были только телесные страдания! Вытерпел бы всё. Нет, его тело не истязали. Ом много работал физически, и это шло ему во благо. По-прежнему его содержали в монастыре Святого Вален тина, и он валил лес, пилил, колол на дрова, на плахи. От этой работы в нём прорастала мощь тела, мускулы были словно камни. Он не знал усталости. Но от душевных страданий он не мог уйти-спрятаться. Ничего он не знал о своей незабвенной Маше, о дочери. Здоровы ли они? Как им удаётся хранить себя? Посильна ли им тяжесть заложничества? На все эти вопросы у Михаила не было ответа. А последний вопрос, который часто прорывался из души на волю, был самый болезненный. При той красоте, которую несла Мария, она могла смутить любого вельможу из окружения Льва Сапеги и даже самого канцлера Сапегу. Как ни старался Михаил запрятать поглубже эти мучительные раздумья о Маше, они вырывались наружу. И Шеин страдал от них и в келье и в лесу до такой степени, что ему хотелось волком выть.
В не меньшей степени его терзали думы о дочери Катерине. К ней уже пришла пора девичества. И помнил же Михаил её черты до самой маленькой родинки на лице. Катя, по его мнению, была очень красива, и кто бы ни глянул на её лицо, на стать, обязательно загорелся бы страстью сорвать этот нежный весенний цветок. Никакому отцу не пожелал бы Михаил подобного лиха — так переживать за любимую дочь. И никуда не денешься, приходилось сносить и эти страдания. Чуть легче было Михаилу, когда он думал о сыне Ване. Короткая фраза, сказанная Анисимом в замке короля в Варшаве, светила Михаилу лучезарной звездой надежды. Михаил верил Анисиму. Если он что-то задумает, обязательно исполнит, и Шеин надеялся, что Анисим и Ваня совершат побег из Варшавы. Но убежать из королевского дворца-замка — одно, а преодолеть сотни вёрст по враждебной державе — совсем другое. И он молился каждый день Господу Богу, чтобы они прошли через Польшу, молился даже тогда, когда они были в объятиях близких.
У Михаила было время помолиться Спасителю. Каждую весну и осень, когда не надо было заниматься заготовкой дров, он сидел за верстаком в иконописной и занимался тем, чему ещё в Смоленске научил его Анисим. Как он был благодарен своему стременному, что тот вдохнул в его грудь жажду творить добро! Да, именно так называл Михаил иконопись. Ведь он писал образы святых для того, чтобы люди молились им, обретали радость от моления, надежду на исполнение своих желаний, очищение от дел неправедных.
В иконописную Михаил попал случайно. Ещё в первые дни своего сидения в келье он стал писать на гладкой поверхности брёвен угольком из печи глаза святых, помня наказ Анисима о том, что в любом образе главное — это глаза, их выразительность, их воздействие на того, кто увидит святой лик. И Михаил добился того, что в глазах его святых отражалось его душевное состояние и они покоряли верующих. Такое понимание Михаил заметил у монаха, который приносил ему пищу.
Позже этот монах пришёл с покаянием к настоятелю Вацлаву и рассказал о том, что был опален божественной силой глаз, которые написал русский узник на стене.
— Святой отец, я готов был пасть пред ними на колени, потому что они прожигали мою душу. И я готов был каяться в своих грехах.
— Но чем он писал глаза святых на стене? — спросил приор.
— Простым углём из печи! Это как проявление чуда! Помилуй меня, Дева Мария! — каялся монах.
И пришёл для Михаила банный день. Его увели мыться. А спустя некоторое время в его келью пришли настоятель монастыря и с ним два пожилых иконописца. В полутьме кельи они вначале ничего не увидели. Потом зажгли свечи и подошли к одной из стен. То, что они там увидели, заставило их истово молиться. Требовательно и властно смотрели на них грозные глаза властителей неба и земли.
— Святая Дева Мария, спаси и сохрани нас. Мы каемся даже в первородных грехах, — шептал приор Вацлав.
Сделав несколько поклонов, настоятель и старцы отошли от стены.
— Святые отцы, что мне делать с этим узником? — спросил приор.
Старейший из них, отец Стефан, ещё зоркий иконописец, ответил:
— Мы возьмём его под своё крыло. Сотворим грех, если оставим без призора.
— Верю тебе, отец Стефан. Ждите его из бани и ведите к себе.
И минуло два года, как Михаил Шеин работал в иконописной мастерской монастыря. Он будто родился для того, чтобы стать иконописцем. Он распознал силу красок и каждой из них находил своё место, что составляло гармонию, устремлённую ввысь, поднимавшую выразительность образов до живого звучания. Лики его святых можно было назвать характерными как для католических, так и для православных образов, и по этому поводу он не спорил с искушёнными иконописцами Стефаном и Владиславом. В душе он нёс своё понимание того, что создавал: это были служители Всевышнего — единого Бога всех христиан. Михаил не изменял православию и не стремился в лоно католичества, считал себя работным человеком, которому Господь дал умение творить добро.
В монастыре к Михаилу стали относиться как к брату во Христе, но не настаивали на обращении в католическую веру. А время бежало, и пришёл день, когда в жизни Михаила произошли отрадные, хотя и короткие события.
Июньской порой 1614 года в монастырь примчали два шляхтича, на поводу у них был третий конь. Оба уверенные в себе и властные. При них была грамота канцлера Льва Сапеги с требованием передать в руки шляхтичей пленного воеводу Михаила Шеина. Покинул монастырь Михаил Шеин неохотно. Шляхтичи ни словом не обмолвились, куда его повезут, зачем он кому-то понадобился. Сказали только, что ты, воевода, дескать, не вздумай убежать, потому как своим побегом нанесёшь вред жене и дочери. Михаил крепко задумался. Он-то вначале полагал, что с двумя шляхтичами как-нибудь справился бы в удобный для себя миг, умчал бы лесами затемно на родину. Но упоминание о жене и дочери отбило у него всякую охоту к побегу. Ещё он понял из скупой фразы, что Мария и Катя пока в безопасности, и помолился о том, чтобы Господь свёл его с ними. Счёл он, что повороты судьбы всегда непредсказуемы.
Провожали Михаила в путь настоятель монастыря Вацлав и старец Стефан. Сказали тёплые слова от души.
— Грустим, расставаясь с тобой. Ты много сотворил во благо обители. Возвращайся, если Богу угодно будет, — произнёс Вацлав.
— Спасибо, святые отцы. Вы были ко мне добры, — ответил Михаил.
«В июне 1614 года он был уже вместе с женою и дочерью в вотчине Льва Сапеги, в Слонимском повете», — писали летописцы той поры.
Через несколько дней неторопливого пути шляхтичи и воевода добрались до Слонима. На его окраине они подъехали к просторному имению, обнесённому частоколом. Большой каменный дом Льва Сапеги бал похож на замок. Окна узкие, как бойницы, две пушки на башнях у ворот — всё говорило о том, что здесь заботятся об обороне имения. Когда въехали в ворота, Михаил увидел лишь дворовых людей. Всадники спешились у высокого крыльца. К ним подошли два холопа и увели коней. Шляхтичи застыли на месте и не склонялись никуда идти. Михаил понял, что они кого-то ждут. И впрямь, вскоре из дома вышел сам канцлер Лев Сапега. Это был почти высокий и крепкий мужчина лет пятидесяти. Шеин запомнил его стоящим близ короля, когда русских пленных проводили по Варшаве.
Лев Сапега сделал знак шляхтичам, и один из них показал Михаилу на лестницу: дескать, иди вперёд. Михаил поднялся на крыльцо. Сапега протянул ему руку. Шеин пожал её.
— Здравствуй, воевода. Думаю, не ожидал, что встретишь канцлера, который держит в плену твою жену и дочь.
— Господи Милосердный, вознагради ясновельможного пана за то, что хранил моих родимых! — воскликнул Михаил.
— Проходи в палаты и будешь гостем. — И Лев Сапега кивнул на дверь, которую слуги держали открытой.
Михаила ввели в трапезную, и он сразу увидел Марию и Катю, которые ждали его, предупреждённые Львом Сапегой. Михаил поспешил к ним, и они шли ему навстречу. И вот уже Мария в его объятиях, и он целует её в губы, в щёки, смотрит в её чистые глаза, в которых никогда не было ни знака неискренности. Наконец Михаил оторвался от Марии и принял в свои объятия дочь. Она была в расцвете юной красоты и так похожа на мать, будто сёстры-близнецы.
— Здравствуйте, мои дорогие, мои славные, моя семеюшка, моя дочь!
Михаил положил им руки на плечи и смотрел то на одно, то на другое лицо. Он увидел на глазах у Марии слёзы.
— Мы так давно тебя ждём, родимый, — наконец произнесла Мария, смахивая слёзы. — Пан Сапега ещё зимой обещал привезти тебя.
— Бог наградил нас терпением и слава Ему. Мы вместе, вместе, — твердил Михаил.
Лев Сапега покинул трапезную в тот миг, когда Михаил подходил к жене и дочери. Он вернулся, и рядом с ним шла его жена, княгиня Сандомирская Кристина. Это была пани лет сорока, стройная, с красивым, но несколько строгим лицом, светловолосая, с большими серыми глазами. Сапега подвёл её к Михаилу и с улыбкой сказал:
— Вот тот воевода, который почти два года морочил нам голову.
— Плохо воевали, ясновельможный пан, — ответила княгиня Кристина и протянула Михаилу руку. Он поцеловал её.
— Спасибо за заботу о моих близких, ясновельможная пани. — Шеин поклонился.
— Твоя супруга и дочь заслужили такую заботу. Да не ломайте больше копий, паны, живите в мире.
Между тем Лев Сапега проявил заботу о Михаиле.
— Тебе, воевода, надо сходить в баню. Она уже готова и ждёт…
— Спасибо, ясновельможный пан. Семь дней пути дали себя знать.
Пришёл слуга и повёл Михаила за собой. Он шёл и оглядывался: случилось чудо, и он боялся, как бы оно не рассеялось как туман.
Чудо не исчезло. После бани, в чистой одежде, испытывая небывалую лёгкость в теле, Михаил сидел между Марией и Катей за столом. Напротив сидели Лев Сапега и княгиня Кристина. А рядом с Катей стоял свободный стул. Это была загадка, и она озадачила Михаила. Вошёл слуга, доложил:
— Пришёл князь Игорь Горчаков.
— Мы его ждём. Зови к столу, — ответил Лев Сапега слуге.
— Надо же! Он что, здесь обитает? — спросил Марию Михаил.
— Потом всё расскажу. — И Мария пожала Михаилу руку.
И вот появился сын князя Матвея Горчакова, Игорь. Тогда, в пору обороны Смоленска, князь Игорь в свои семнадцать лет был сотским городского ополчения. Его трудно было узнать. Михаил увидел жизнерадостного, полного сил молодого мужа с красивым лицом.
— Тебе, воевода Михаил, не надо представлять молодого князя? — спросил Лев Сапега.
— Я помню его как родного! — Михаил встал и, выйдя из-за стола, обнял Игоря. — Я рад тебя видеть, славный.
— Спасибо, батюшка-воевода, я тоже рад.
В этот миг надо было посмотреть на Катю. Она зарделась как маков цвет, потупила взор и лишь изредка постреливала синими глазами.
Наконец князя усадили за стол, и Лев Сапега поднял кубок, призывая гостей, чтобы они выпили за здравие семьи Шеиных. Потом канцлер стал рассказывать Михаилу о событиях на Руси.
— У вас в державе много перемен. Правда, они вновь подпортили наши отношения, но мы народ терпеливый. Знай же, воевода, что у вас появился новый царь.
— И кто же, ясновельможный пан? — спросил Михаил.
— О, ты его отца хорошо знаешь. Кстати, он ещё у нас в плену. Помню, в миру его князем Фёдором Романовым звали, ну а Борис Годунов уличил его в злодеянии и свершил постриг. Теперь это…
— Митрополит Филарет, глава «великого посольства» под Смоленском, — пояснил Шеин.
— Да, да! — И Сапега вдруг засмеялся. — Но что хотят россияне от его сына-подростка? Даже отца не может вызволить из плена. И что думают бояре-тугодумы? Владислав был бы для Руси царём в самую пору: умён, решителен. Кстати, завтра ко мне заглянет в гости посол из Москвы, Стас Желябужский. Он-то и расскажет о жизни в Московии.
В этот час Лев Сапега не поведал Михаилу о том, что вместе с послом Стасом Желябужским возвращался в отечество один из пленников русского посольства, князь Димитрий Черкасский.
Встреча Михаила и Димитрия тоже будет неожиданной, но вовсе не такой, какая была с князем Игорем. Волей судьбы теперь сойдутся в имении Льва Сапеги не два, а три недруга. Игорь Горчаков жил в имении канцлера на правах вольного пленника. Он мог из имения Сапеги уйти на Русь. Но молодой князь по воле Божьей влюбился в Катю Шеину. И не только он один попался в сети любви — Катя им грезила во сне и наяву. Она жила лишь думами о нём. Им было вольно влюбиться, потому как ещё в Смоленске между ними зародилась дружба. А теперь она сменилась более сильным чувством, и вот уже три года они встречались изо дня в день.
Однако у князя Игоря появился соперник, и был им не кто иной, как князь Димитрий Черкасский, который годился Кате в отцы. Когда-то в молодости влюблённый в Марию, теперь он перенёс свою любовь на её дочь, но его это не смущало. Пользуясь благосклонностью канцлера Льва Сапеги, Димитрий отпрашивался у его брата Яна Сапеги, у которого отбывал заточение, и в сопровождении шляхтичей уже несколько раз показывался в имении под Слонимом. С первого своего появления он стал настойчиво добиваться встречи с Катей. Его не обескураживало, что она гуляла с матерью и с князем Горчаковым. Он присоединялся к ним и рассказывал о московской жизни, развлекал былями и небылицами.
Мария, оставшись наедине с Михаилом, поведала ему о том, что происходит с их дочерью, и о той угрозе, какую принесло появление князя Димитрия Черкасского.
— Доченька бредит князем Игорем. Я это вижу и даже радуюсь. Он такой славный, сын твоего побратима. Но теперь моё сердце разрывается от страха. Я боюсь за Катю. Димитрий готов на всё и способен сотворить любую мерзкую выходку.
— Ты меня обеспокоила. Надо подумать, как избавиться от наглого домогателя. Скажи, а ты не знаешь намерений молодого князя?
— Как не знать! Он готов отдать Кате руку и сердце. Но без тебя я не могла что-то обещать, потому и упросила Льва Ивановича позвать тебя. Теперь ты и решай их судьбы, родимый.
— Я чтил князя Матвея как родного брата. Нет у меня сомнений и по поводу его сына. И давай так поступим, моя славная: завтра вызовем его на откровенный разговор.
— Да поможет нам Господь спасти доченьку.
— Так и будет. И пойдём в постель, моя лебёдушка. Я так истосковался по тебе…
— Подожди, мой сокол, и прости, я тебе не сказала, что Ваня с Анисимом убежали из Варшавы домой. И была мне весточка через Катерину-ведунью, что Ваня и Анисим живы и здоровы.
— Хвала Всевышнему! — отозвался Михаил.
Ночь у Михаила и Марии была почти бессонная. Они никак не могли утолить жажду сердца, жажду близости.
— Ты уж прости меня, — шептал Михаил, — я так истосковался…
— И я, родимый.
Они уснули на рассвете. Но с пробуждением жизни в доме Сапеги были уже на ногах, оделись. Мария повела Михаила в парк, где на зелёной лужайке каждое утро занимались искусством сабельного боя князь Игорь и племянник Льва Сапеги, пан Казимир. Князь Игорь встретил Шеиных с удивлением: зачем он оказался им нужен в такую рань? Когда поединок завершился и Шеины с Игорем отправились на прогулку, Михаил не стал испытывать терпение молодого князя, сказал как воин воину:
— Сын моего побратима, ты понимаешь, чего добивается князь Димитрий Черкасский, кружа, как коршун, близ Катерины? Хочу услышать твоё слово. Но, что бы ты ни сказал, мы с Марией не будем в обиде.
Они шли по лужайке, под ногами у них была мягкая, пушистая травка. Игорь смотрел себе под ноги и видел, как она переливается, касаясь его сапог, он видел цвета — зеленоватый и жёлтый — и молчал. У него не хватало духу сказать то самое главное, что уже выстрадал за многие годы общения с Катей. Наконец он понял, что его молчание сочтут за трусость, и, шагнув вперёд, припал на колено и, глядя в глаза Михаилу и Марии, произнёс:
— Батюшка и матушка Кати, я прошу руки вашей дочери!
— Встань, воин. — Михаил протянул руку Игорю. — Ты крепок духом, и нам это по душе. — Князь Игорь поднялся, и Михаил обнял его. — Помни одно: тебе ещё придётся постоять за Катю, чтобы Господь соединил вас на супружество. Но мы благословляем тебя и Катю.
Михаил вздохнул с облегчением. Он верил, что князь Игорь сумеет постоять за Катю и за себя, будь перед ним сам князь Черкасский.
Так всё и было. Князю Игорю Горчакову потребовалось много сил, чтобы выиграть схватку с князем Димитрием. Эта схватка приближалась.
Князь Димитрий Черкасский появился в имении Льва Сапеги перед полуденной трапезой. Его сопровождал шляхтич и стременной Керим. Князь прибыл не случайно. Посол Стас Желябужский должен был привезти из Варшавы королевскую отпускную грамоту. Осталось тайной, как сумел посол Желябужский добиться отпускной грамоты: то ли он выкупил князя, то ли король проявил милость. Позже прошли слухи, что всё-таки князя Черкасского выкупили многие его братья и дядья.
Лев Сапега встретил князя на крыльце и был с ним приветлив, как со старым другом дома. В трапезной Сапега сказал Михаилу:
— К нам пожаловал князь Димитрий Черкасский, прошу почтить его вниманием.
Михаил лишь слегка поклонился, но руки не подал. Лев Сапега бил удивлён и даже пожал плечами. Черкасский учтиво поклонился женщинам, поцеловал руку княгине Кристине и, вместе с Сапегой пройдя к столу, сел слева от него напротив Марии. Кинув на неё беглый взгляд, он вперил свои чёрные глаза в Катю. Она на сей раз не смутилась под его взглядом и держала голову гордо. «Славная гордячка, ты будешь покорна мне, как райская птица в клетке», — подумал Димитрий.
Лев Сапега поднял наполненный кубок.
— Час назад ко мне прискакал гонец из Варшавы. Он сказал, что сегодня к вечеру к нам прибудет посол Московского государства дворянин Стас Желябужский, который везёт грамоту с повелением короля об освобождении князя Димитрия из плена. Виват! Виват князь Черкасский! Мы поздравляем тебя.
Четверо из присутствующих подняли кубки ради приличия. Их лица были равнодушными, и князь Черкасский заметил это. В его груди забушевала горячая кровь. Но он должен был выразить радость вместо гнева. Что ж, у него была причина. Для него закончилось позорное пленение, хотя ему не приходилось сетовать на то, в каких условиях он провёл минувшие три года. Выпив свой кубок, князь Черкасский опрометчиво решил, что настал самый удобный миг, чтобы сказать о сокровенном, о том, что привело его в имение Льва Сапеги. Оставаясь решительным в исполнении задуманного, князь Черкасский встал и, поклонившись Льву Сапеге и княгине Кристине, повёл речь:
— Я благодарю Льва Ивановича и княгиню Кристину за тёплый приём и за то, что оповестили меня радостным известием. Я хотя и не испытал никакой нужды и притеснения в благословенной Польше, но плен есть плен повсюду. Отныне я свободный россиянин, и я хочу, чтобы боярышня Екатерина, дочь достойных родителей, боярина Михаила и боярыни Марии, была тоже свободна, как и я, и прошу её руки и сердца у родителей, а также их благословления на супружество.
— Браво! Браво! — захлопал в ладоши Лев Сапега.
Но его никто не поддержал. За столом возникла гробовая тишина. Князь всё ещё стоял, сжимая в руке кубок с вином. Катя сидела бледнее полотна. Князь Игорь стиснул зубы, на скулах выступили желваки. Михаил и Мария были спокойны, но в их лицах не было и намёка на то, что заявление князя Черкасского было им по душе. А тишина уже давила на всех, кто был за столом. И Михаил Шеин понял, что сейчас только от него зависит спокойствие в этом доме хотя бы на сегодняшний вечер. Он тоже встал и хладнокровно-почтительно обратился к Льву Сапеге.
— Ясновельможный пан, я в вашем доме гость, но я ещё и пленник. Поэтому скажу так, чтобы никого здесь не обидеть, и кратко. Князь Черкасский нарушил русские обычаи сватовства, потому давайте сочтём, что это с его стороны была шутка. Пошутил князь. А может, его лукавый на то подтолкнул. Признайся, князь Димитрий, и мы вместе посмеёмся. А я той порой выпью кубок за великодушие ясновельможного пана Льва Ивановича и прекрасной княгини Кристины. Виват!
Князь Черкасский понял, что снова получил отказ и счёл за лучшее ответить:
— Что ж, я и впрямь пошутил. Свобода кому голову не замутит. И я присоединяюсь, воевода, к твоему тосту.
В трапезной стало спокойнее, все выпили, и Лев Сапега рассказал дипломатическую шутку о том, как однажды польский посол — это было ещё при Иване Грозном — неудачно пошутил и государь велел послу выпить жбан медовухи.
— И понял я из повеления Ивана Грозного, что шутить опасно.
Все посмеялись, и трапеза завершилась мирно и тихо. Но это походило на тишину перед бурей. Из трапезной князья Димитрий и Игорь уходили последними. Все, кто шёл впереди, поднялись на второй этаж, где были спальни. Им предстоял полуденный сон. А князь Димитрий мягко взял под руку князя Игоря и повёл его из палат на двор. Они спустились с крыльца и вскоре скрылись на аллее среди деревьев. Наконец Димитрий опустил руку Игоря и жёстко произнёс:
— Ты жалкий трус. Почему не защитил честного князя от насмешки, которую учинил изменник боярин Шеин? Я просил руки его дочери, которую люблю. А ты слушал боярина и улыбался. И я повторяю, что ты трус. И ты это, вижу, признаешь.
— Образумься, князь Димитрий, — невозмутимо ответил Игорь. — Я тоже люблю Катерину и просил её руки у родителей. Они мне не отказали.
— Ах вот как! Значит, это ты, подлец, перешёл мне дорогу! — Глаза князя были безумными, на губах выступила пена. — Я убью тебя, если не скроешься с глаз долой!
— Можешь угрожать. Но послушай меня, князь Черкасский, — твёрдо выговорил князь Игорь. — Боярин Шеин не изменник, а я не трус. Ты же клеветник. Я всё о тебе знаю. Ты мерзкое существо. Получи же за всё.
И князь Игорь нанёс князю Димитрию пощёчину и спокойно пошёл прочь. Но он не сделал и ста шагов, как его догнали шляхтичи и стременной князя, встали перед ним.
— Мой господин вызывает тебя на поединок, — заявил Керим. — Он смоет твоей кровью свой позор.
— Но у меня нет оружия. Я готов с ним встретиться в кулачном бою. — И, повернувшись к шляхтичам, Игорь с улыбкой добавил: — Но он же старик. Как можно бить стариков!
Князь Димитрий уже подошёл к шляхтичам, встал рядом. Зло бросил:
— Я покажу тебе «старика»! Молокосос! — И попросил шляхтичей: — Дайте мне ваши палаши. Пусть защищается этот наглец!
Шляхтичи переглянулись, пожали плечами: дескать, князь защищает свою честь, — обнажили палаши и подали эфесами князю. Он взял оружие, ловко бросил один палаш князю Игорю.
— Защищайся! — крикнул князь Черкасский и изготовился к бою.
Князь Игорь, поймав палаш, не вскинул его навстречу противнику. Он провёл рукой по обоюдоострому клинку и подумал, что ради Кати он должен выиграть этот поединок, хотя сам вид крови претил ему. Но нужно было биться, и князь Игорь, молодой, полный силы и ловкости, умения владеть любым оружием, хладнокровный и расчётливый в бою, поднял палаш. Вступая в бой, он надеялся завершить его бескровно. Как хотелось ему в этот миг заставить князя Димитрия признать себя виновным в том, к чему он вынудил его, князя Игоря!
И совсем другие мысли, да и не мысли, а неуёмная злость и ненависть двигали чувствами князя Черкасского. Он вспомнил кулачный бой на Москва-реке с Шеиным, когда был повержен на лёд, вспомнил свой позор в Суздале, когда попытался подсунуть Шеину фальшивый кинжал. Всё это подхлестнуло ярость князя, и он ринулся на Игоря слепо, опрометчиво. Палаши скрестились, и с первых же ответных ударов князя Игоря Димитрий почувствовал, что лёгкой победы у него не будет. Да и победит ли он этого спокойного, расчётливого, с железными нервами воина?
Получив на все прямые атаки мощный отпор, Димитрий пустил в оборот все свои финты, какими владел достаточно искусно. Он прыгал из стороны в сторону, отступал, заманивая Игоря напороться на клинок, вновь бросался вперёд. Но всюду встречал удар по своему палашу, который отбивал его оружие с нарастающей силой. Наконец один из ударов Черкасского достиг цели, он ранил князя Горчакова в левую руку, потекла кровь. Черкасский довольно вскрикнул и бросился вперёд, чтобы добить противника. Тут-то он и получил ответный удар в правую грудь.
Князь Черкасский ещё медленно оседал на землю, зажимая левой рукой рану, а в это время к князю Игорю со спины, с кинжалом в руках подбирался стременной Керим. Он был похож на рысь, готовую к прыжку на свою жертву. Но Господь отвёл от Игоря удар. В какое-то мгновение он почувствовал опасность, извернулся, упал на спину и выставил палаш. Керим животом упал на остриё клинка и, вскрикнув по-звериному, рухнул замертво.
Князь Игорь встал, отдал палаш одному из шляхтичей и, зажав рану на руке, медленно побрёл к палатам Льва Сапеги.
Глава двадцать шестая ВНОВЬ РАЗЛУКА
Всё, что случилось в глубине парка близ палат Льва Сапеги, видел его садовник Ануш. Он поспешил к своему господину. Найдя его в библиотеке, где Лев Сапега отдыхал после трапезы, садовник, тяжело переводя дыхание, сказал:
— Ясновельможный пан, там в парке московиты убивают друг друга.
— Позови слуг, пусть бегут туда.
Сапега сам поспешил из палат.
Едва он вышел на крыльцо, как увидел князя Игоря, который шёл к флигелю, где жил. Лев Сапега окликнул его:
— Князь Игорь, что случилось?
— Беда нахлынула. Князь Димитрий ранен!
Сапега заторопился в парк. Его обогнали слуги, садовник Ануш. Навстречу им показались шляхтичи, которые несли князя.
— Он жив? — спросил Сапега шляхтичей.
— Да, ясновельможный пан, — ответил один из шляхтичей. — Но там есть убитый.
Лев Сапега и Ануш прошли дальше и на полянке увидели труп стременного Керима. Он лежал на животе, руки его были вытянуты вперёд, и в правой он держал кинжал. Сапега только покачал головой и пошёл назад, сказав Анушу: «Закопайте его».
Льву Сапеге понадобилось увидеть князя Горчакова и воеводу Шеина. Тонкий дипломат знал, что с князьями Черкасскими лучше не связываться, и он хотел выяснить, не лежит ли и на нём вина за ранение князя и смерть стременного. Когда он вошёл во флигель, где обитали Шеины и Горчаков, то увидел, что Мария перевязывает рану князю Игорю, а Михаил помогает ей.
— Я пришёл вас спросить, почему в моём имении случилось кровопролитие? Объясните.
— Ясновельможный пан, князь Черкасский оскорбил воеводу Михаила Борисыча и меня. Я ответил на это пощёчиной, и он вызвал меня на поединок.
— И ты ранил князя?
— Вначале был ранен я.
— А кто же убил стременного?
— Он бросился со спины на меня с кинжалом. Я извернулся и…
— Убил его?
— Да, ясновельможный пан. Всё произошло на глазах у шляхтичей.
Лев Иванович возбуждённо ходил по покою.
— Завтра приедет в имение московский посол. Что я ему скажу?
— То и скажите, что случилось. К тому же есть очевидцы, — ответил Михаил Шеин.
— А не сватовство ли тому причиной? — спросил Шеина Сапега.
— И сватовство. Я ведь отказал князю. Но говорить об этом — долгая история. Будет свободный час, и я поведаю, ясновельможный пан.
Доктор Льва Сапеги осмотрел князя Черкасского и признал рану не опасной для жизни. Княгине Кристине, которая была в покое во время перевязки, он сообщил:
— Через две недели ваш гость выздоровеет, ясновельможная пани.
А на другой день, уже после полудня, на дворе имения появилась дорожная карета. Приехал русский посол Стас Желябужский. Лев Иванович, будучи послом в Московии ещё в царствование Василия Шуйского, встречался с Желябужским в Посольском приказе. Они пришлись друг другу по душе и теперь встретились как добрые знакомые. Между русским послом Желябужским и бывшим польским послом завязался откровенный разговор об отношениях между собой государей Польши и Руси.
— Король Сигизмунд не принял моей верительной грамоты, — жаловался Желябужский. — Он ни в какую не хочет признавать царём Руси Михаила Романова. Считает, что его сын Владислав по-прежнему остаётся претендентом на московский престол.
— Что я могу сказать, дорогой Стас, — отвечал Лев Сапега, — ведь не мы набивались с Владиславом на их царство. Московиты его звали.
— Это верно.
— Вот и пусть расхлёбывают свой кулеш, коль заварили.
— Всё верно, и не будем об этом. Пусть государи сами разбираются. А я заехал к тебе, чтобы повидать воеводу Михаила Шеина. Ещё передать грамоту о вольности от плена на князя Димитрия Черкасского: выкупили его сродники.
— Слышал о том. И князь Черкасский сейчас в моём имении. Да беда в том, что он ранен и не скоро, поди, сможет уехать из Польши.
Лев Сапега рассказал о событиях в имении, случившихся день назад.
Стас Желябужский хмурился при рассказе. Он был недоволен тем, что случилось, и даже выразил мнение, что Михаил Шеин всё подстроил с целью опорочить князя Черкасского. У него были основания так говорить в защиту князя. Отправляясь в Польшу выкупать Димитрия, Стас встречался с его братьями. Они не поскупились на то, чтобы отблагодарить посла, и благодарность надо было отрабатывать. Но в своём высказывании о Шеине посол был осторожен.
— Одно скажу, ясновельможный пан: князь Черкасский сватался за дочь Шеина из благородных побуждений. Видимо, во всём виноват князь Горчаков, из молодых да ранний.
На другой день, встретившись с воеводой Шеиным, посол Желябужский увёл его в парк и там на свободе, вдали от чужих ушей, стал искать ума воеводы в вопросе о том, как поступить московскому государю в отношениях с Польшей.
— Ты, воевода, уже три года в Польше и знаешь многое из того, что должен знать молодой царь. Ты же знаешь, что поляки его теснят. Он до сих пор не признан царём. Польша даже не приняла моих верительных грамот. Скажи, в чём дело, и я обязательно передам всё государю Михаилу Фёдоровичу. Это так важно.
Шеин слушал Желябужского внимательно и даже прутиком, который держал в руках, не размахивал. Понял он одно из попыток посла дознаться мнения воеводы: посол лил воду на чужое колесо. Он не хотел блага Руси, которой служил. Михаил весьма удивился, как Посольский приказ мог послать в Польшу поляка, в своё время отказавшегося служить родине.
И Михаил счёл за лучшее представиться перед Желябужским этаким простачком.
— Я, господин посол, минувшие три года провёл в монастырской келье и ничего не знаю, что происходит между Польшей и Русью. И пусть меня царь простит за то, что я не могу дать ему каких-либо советов.
Желябужский даже обиделся на Шеина.
— А вот это, воевода, ты напрасно делаешь. В Москве тебя считают более прозорливым и умным.
— Там, господин посол, ошибаются, и, по-моему, лучше вам повидаться с митрополитом Филаретом, отцом государя. Ему-то сам Господь Бог повелит дать советы сыну.
— И ты, воевода, знаешь, где находится Филарет?
— Слышал, что в Мариенбурге, в замке. Да тебе, господин посол, лучше всего спросить об этом у канцлера.
Стас Желябужский счёл, что ему нечего делать в компании Шеина, и с лёгким поклоном ушёл в палаты Льва Сапеги.
Позже, будучи в Москве, посол Желябужский выложил главе Посольского приказа то, чего Шеин не говорил и не мог сказать. Но и в имении Льва Сапеги Желябужский попытался очернить Шеина.
Встретившись наедине со Львом Ивановичем, он попробовал настроить канцлера на то, чтобы тот как можно скорее выпроводил Шеина из своего имения.
— Ясновельможный пан, мы с вами старые друзья, и по долгу друга я говорю, чтобы вы отправили Шеина поскорее в изначальное место, где его содержали как пленника.
— Но, пан Стас, что тебя беспокоит? Чем он мне может повредить?
— На вас обидится князь Черкасский за то, что вы приняли сторону Шеина, когда князь сватался к его дочери…
— Дорогой пан Стас, ты выслушал только одну сторону — князя Черкасского и не знаешь, что в свою защиту говорит боярин Шеин. Знай же, что вражда между Черкасским и Шеиным длится без малого двадцать лет.
— Странно. Но я никакой вражды не вижу со стороны князя ни к Шеину, ни к его семье. Он же просил руки его дочери. О какой вражде может быть речь! — горячо выражал свои чувства Желябужский.
— Дорогой, я не хочу ломать с тобой копья. Завтра я предложу Шеину уехать. Шляхтичи уже отдохнули после Мариенбурга.
— Спасибо, ясновельможный пан. Вы всегда были внимательны к моим просьбам. — И Желябужский поклонился.
Вскоре же посол покинул имение Льва Сапеги.
А вечером того же дня после молитвы Мария сказала Михаилу:
— Мой сокол, не сочти мои слова за шутку. Сегодня в полуденном сне приходила ко мне наша защитница Катерина. Взяла она меня за руку и повела в храм. Едва мы ступили за врата, как я увидела на амвоне Игоря и Катю. Их венчали. Ясновидица и говорит: «С сего часу дано тебе два дня, чтобы это венчание стало явью». И тут же Катерина исчезла. Она вошла в храм, и я видела, как в купол храма улетело белое облачко.
Михаил долго молчал. Он сидел на краю ложа и одной рукой перебирал распущенную шёлковую косу Марии. Она не вытерпела его молчания и спросила:
— О чём ты думаешь?
— О наших детях. Сердце болит за Ваню — как он там без нас? И теперь новая угроза. Мы можем потерять Катю. Потому скажу одно: всё, что ты видела во сне, должно за два дня обернуться явью. Мы обвенчаем наших детей Игоря и Катю.
— Спасибо тебе. Ты снял с меня тяжкий камень.
— Завтра к заутрене мы сходим в слонимский православный храм и попросим священника к вечеру исполнить обряд венчания.
На другое утро они чуть свет собрались в храм. Уже спускаясь с крыльца, они увидели Льва Сапегу, который завершал утреннюю прогулку. Михаил и Мария поклонились ему, сказали: «Доброе утро».
Он усмехнулся, покачал головой.
— Не знаю, доброе ли оно будет для вас. Я вынужден заметить тебе, воевода, что пришло время отправляться в Мариенбург.
Михаил и Мария переглянулись, она взяла его за руку, сжала.
— Надеюсь, не сегодня, ясновельможный пан? — спросил Михаил.
— Нет-нет. Вы уедете ранним утром послезавтра. — И канцлер пояснил: — Завтра мы должны узнать мнение варшавского светила о здоровье князя Черкасского.
— Это очень важно, — согласился Михаил. — А пока мы можем заниматься своими заботами? Мы идём в храм.
— Конечно, воевода. Помолитесь и за меня, — улыбнулся Лев Сапега. Но посерьёзнел, шагнул к Михаилу и добавил: — Вы от меня что-то скрываете. Скажите, и я оправдаю ваше доверие.
— У нас говорят, ясновельможный пан, что шила в мешке не утаишь. Чего уж скрывать… Нынче, ясновельможный пан, мы хотим обвенчать свою дочь с князем Горчаковым. Они любят друг друга. А кому неведомо, что это такое — любовь?
Лев Сапега не остался равнодушным к сказанному, его глаза оживились.
— Славно поступаете. Однако есть ли у вас посажёные отец и мать? Принято, поди, у вас, как и у нас.
— Нам трудно их найти. Католики в православный храм не пойдут.
— Пусть это будет моей заботой. Мой Якуб пойдёт сейчас же к Слонимскому старосте. А у него в услужении есть русские. Он найдёт достойных и приведёт.
— Ясновельможный пан, позволь и мне сходить с дворецким.
— Я об этом не подумал. Конечно же сходи, боярин. Сейчас Якуб к тебе выйдет.
Лев Сапега поднялся на крыльцо, вошёл в дом. В ожидании дворецкого Михаил и Мария прошлись по дорожке. Вскоре дворецкий появился.
— Ясновельможный пан велел заложить экипаж. Так вы уж подождите, — сказал Якуб и ушёл на хозяйственный двор.
В этот день в палатах Льва Сапеги всё пришло в тихое, словно подспудное движение. И управляли им сам ясновельможный пан и княгиня Кристина. Их дети, сын и дочь, жили в Кракове, потому Лев и Кристина взялись помочь Михаилу и Марии, чтобы их дочь и будущий зять в свадебный день почувствовали тепло и заботу о них.
До Слонимского старосты Кострича Якуб Хельминский довёз Михаила и Марию за каких-нибудь десять минут. Дом его располагался не в центре Слонима, а на окраине, на берегу речки Шары, но от реки был отгорожен высоким забором с калиткой на замке. На дальнем от дома дворе Кострича стояла мастерская, и в ней работали русские пленные. Их было девять человек, и они шили кожаную обувь.
Кострич встретил Якуба по-простому и, узнав о причине его появления, похлопал дворецкого по плечу.
— Милое дело затеяли. Идёмте в сапожню. Там сами и выберете посажёного, кто по душе придётся.
Михаил присматривался ко всему, когда его вели к сапожне. Всё тут было сделано так, чтобы пленники не сбежали. Крепкое помещение, решётки на окнах. В нём пленники работали, в нём было их общее житие. Когда Кострич ввёл гостей в сапожню, Михаила будто ударило что-то в грудь, едва он бросил взгляд на человека, сидящего к нему спиной. Такая широкая и могучая спина была из его десяти лазутчиков только у Павла Можая. «Да он же, он», — мелькнуло у Михаила, и когда Кострич сказал: «Встаньте все и повернитесь!» — Михаил увидел Павла и поспешил к нему.
— Господи, Можай! Бог милостив к нам! — И Михаил обнял Павла.
— Батюшка-воевода, я верил, что мы ещё встретимся.
К ним подошёл староста Кострич, похлопал Павла по плечу.
— Славный муж. Он у меня тут за десятского. Вот и возьми его в посажёные.
— Так и матушку нам надо, — сказал Михаил.
— Вот и хорошо. Он женат на местной. Годится?
— Годится, пан староста. Приходи к ясновельможному пану к вечеру, нашим гостем будешь.
— Спасибо, даст Бог, приду, — ответил Кострич.
Жена Павла, Анфиса, работала у старосты Кострича в прачках. Она была под стать Павлу, крепкая, статная, с приятным круглым лицом. Как сошлись Павел и Анфиса, Михаил сказал им:
— Доченьку я выдаю замуж. Сами знаете, что без посажёных отца и матушки свадьбе не бывать, вот и зову вас.
— Спасибо, батюшка-воевода, что зовёшь, что помнишь о нас. А мы твоим чадам послужим ещё, — сверкнул карими глазами Павел и с поклоном попросил старосту: — Вельможный пан, отпусти нас с Анфисой нынче.
— Как не отпустить, коль сам ясновельможный пан Лев Сапега за вас просит. Идите, собирайтесь в путь.
В этот день у Михаила Шеина получилось всё как нельзя лучше. В церкви архангела Гавриила протоиерей Филипп встретил его по-отечески ласково и пообещал без проволочек, сегодня же свершить обряд венчания.
— Видел я твою доченьку на Воскресение Христово, свет мой воевода. И князя Горчакова знаю. Он тоже бывает в храме. Как не порадеть за них, ибо семья это Божья крепость.
По дороге в имение Сапеги Михаилу удалось поговорить с Павлом.
— Как живётся-можется в неволе? — спросил он у Можая.
— Худо поначалу было, в старой крепости нас держали как скот. А потом Слонимский староста взял нас в работники. Сносно живём. Да вот мне повезло: Анфису встретил, свет в окошке. Она-то из местных, русачка. Род её со времён Ярослава Мудрого в Слониме обитает. Нашенский город-то был.
— Тебя на Русь-матушку влечёт?
— Нет, батюшка-воевода, говорю честно. Торговые люди приходят в Слоним из Московии, чего только не узнаешь от них. А хорошего мало. Землю мужик забросил, в бега подался. Да, сказывают, и государь недоумок. Будто бы бояре выбрали себе такого, чтобы на нём верхом ездить.
— Придумаешь, Можай, такое!
— Да нет. За что купил, за то и продаю. Ещё слышал, что державой правит мать царя монахиня Марфа. А с нею пришло стадо сродников Салтыковых, и теперь они Русь по лоскутам растаскивают. — И, как бы в оправдание себе, Можай добавил: — Не хотелось бы мне хаять государя, да я на торг хожу, сапоги, что мы шьём, продаю, а там, на торге, всяких небылиц короба разносят.
Смертельно захотелось Шеину в этот час в Москве побывать, покрутиться в Кремле среди бояр, узнать поближе, чем Русь живёт. И то сказать, шесть лет прошло, как он покинул Москву. Рассудил и о царе Михаиле. Неужели и впрямь сынок Филарета не в него пошёл? «Как моё сердце рвётся к тебе, Москва белокаменная, мой отчий дом», — с болью в сердце подумал Михаил. В эти часы он не мог предположить, что ему ещё пять долгих лет придётся быть пленником.
И пришёл час венчания дочери. Лев Сапега дал Михаилу две кареты. В одну из них посадили невесту, Марию и посажёную мать Анфису. В другой ехали Михаил, Игорь и Павел. Вот и вся свадебная процессия. Да что поделаешь? Зато близок час, когда дочь будет под защитой данного Богом супруга. Этому ли не радоваться, когда вблизи затаился злой и жестокий коршун? Знал Шеин, что враждебность князя Черкасского теперь падёт не только на него, но и на дочь с зятем. Михаил, однако, попытался избавиться от мрачных размышлений, весело сказал про себя: «Бог не выдаст, свинья не съест».
В церкви Катя и Игорь радовали тех, кто смотрел на их счастливые лица. И никому не было дела, что на невесте нет драгоценных украшений, что у жениха потёртый кафтан и не атласная рубаха.
Вот уже и вознесены венцы над их головами, и надеты венчальные кольца: Кате — с руки матери, Игорю — с руки тестя. Обряд венчания завершён. Хор на клиросе спел величальную, а протоиерей Филипп в последний раз благословил молодожёнов. Теперь они ехали в карете одни, а родители и посажёные отец и мать сели в другую карету.
В палатах Льва Сапеги молодожёнов встречали все обитатели во главе с хозяевами. В покое перед трапезной собралось более тридцати человек. Все они знали жениха и невесту, и Лев Иванович счёл за должное позвать всех на свадебное застолье. Ему было лестно показать своё радушие к семье пленника. А княгиня Кристина сделала Кате подарок: надела ей на шею жемчужное ожерелье, и это вызвало восторг дворни. И вот уже все сели за стол и были выпиты первые кубки хмельного за молодожёнов. За столом стало шумно. А в это время пришёл слуга Льва Сапеги, который ухаживал за раненым князем Димитрием, и сказал своему господину:
— Ясновельможный пан, князь Димитрий просит прислать к нему воеводу Шеина.
Лев Иванович велел слуге подозвать Михаила и, когда тот подошёл, попросил:
— Извини, воевода, что отрываю от застолья, но князь Черкасский желает тебя видеть. Сходи к нему.
Шеину очень не хотелось идти на встречу с князем. Его сердце почувствовало, что там предстоит жестокий разговор. Но отказать Сапеге он не мог и потому, сделав лёгкий поклон, ушёл следом за слугой.
Князь Черкасский лежал в малом флигеле чуть в стороне от большого, где с приездом Михаила обитали Шеины. Пока Михаил шёл, у него нашлось время подумать о том, как вести себя с князем. Но оказалось, что и думать Михаилу было не о чем. Он всегда относился к князю доброжелательно, и, если бы не горячий, мстительный нрав Черкасского, они могли бы стать добрыми знакомыми. Во всяком случае Михаил решил быть сдержанным и почтительным — всё-таки человек пролил кровь — и постараться вселить в князя надежду на то, что он ещё встретит достойную себя супругу. С такими побуждениями Шеин вошёл во флигель и в небольшой комнате увидел лежащего на ложе князя. Похоже, тот потерял много крови и был очень бледен. Но в глазах у него не было страдания, боли, они светились мрачно. Михаилу трудно далось понимание «светились мрачно», но он смирился, произнёс как можно мягче, приветливее:
— Здравствуй, Димитрий Мамстрюкович. Доктор сказал, что твоя жизнь вне опасности. Ты скоро поднимешься в седло и сможешь вернуться в Россию. Я пришёл на твой зов.
— Ты не садись предо мной и прелестных слов не говори. Я знаю, что поднимусь в седло, и лишь для того, чтобы наказать тебя и весь твой род. А говорю тебе это потому, что не скоро увижу. Вот как вернёшься на Русь, знай, что первый враг твоего рода — это я, а со мною и все князья Черкасские. Теперь иди. Я сказал всё.
— Но я-то ещё не всё сказал, — возразил Шеин. — У нас нет причин для взаимной борьбы. В тот первый кулачный бой мне не надо было сбивать тебя на лёд. Так уж получилось. И потому прости. Знал бы твой нрав, я бы пальцем тебя не тронул. А теперь прощай. — И Михаил Шеин направился к двери.
Князь Черкасский застонал от злости и ярости, и эти чувства заглушили боль в ране. Никто в жизни не обижал его так жестоко, как это сделал только что воевода Шеин, счёл Черкасский. Рядом с ложем стоял столик, на котором лежали разные вещи. Он схватил одну из них — это была китайская фарфоровая чашечка — и запустил ею вслед Шеину.
Михаил слышал, как разбилась о дверь чашка, и понял степень ярости оскорблённого князя. Он подумал, что мира между ними не будет никогда, и сожалел о том. Но за себя он не боялся. Любой конец в этой схватке не страшил его. Он переживал за своих близких, за дочь, жену, зятя, которые всего через день могут оказаться беззащитными перед лицом коварного врага. Что ему стоит, поднявшись на ноги после ранения, нанять гулящих людей — а они и в Польше есть — и натравить их на беззащитных и бесправных заложников! Вернувшись в трапезную, Шеин не сел на своё место, но прошёл к Льву Ивановичу и сел возле него.
— Я вижу, что ты расстроен, воевода, — сказал Сапега и, взяв чистый кубок, наполнил его вином и подал Шеину. — Давай выпьем. Сегодня ты не имеешь права на печаль. Посмотри на дочь и зятя. Они счастливы. Будь и ты счастлив.
— Ты прав, ясновельможный пан, надо забыть о печалях, — ответил Шеин и выпил вино.
— Пью и я с тобой, воевода. Да хранит твоих детей Господь Бог, а мы Ему поможем.
На другой день ещё до полуденной трапезы в имении Льва Сапеги началась суета сборов в дорогу. Провожали не одного Шеина, но и его близких. Ранним утром этого дня, когда Лев Иванович выходил на обязательную прогулку, за ним последовал Шеин. В парке между ними завязался разговор. Его начал Михаил и прежде всего выразил свою просьбу:
— Ясновельможный пан, три года вы были для моих близких за отца родного. Этого я никогда не забуду. Но вот пришёл для них трудный час, и я прошу вас ещё об одной милости. Да, по воле короля они живут у вас как заложники. Пусть это и дальше так будет. Я же прошу отправить жену, дочь и зятя в какое-нибудь наше глухое имение под стражу воинов, под надзор старост.
— Ты переживаешь за их судьбу из-за князя? — спросил Сапега.
— Да, ясновельможный пан.
— И у тебя есть основания?
— Да. Это пороки кровной мести.
— Что же между вами случилось?
— Когда мы были молодыми, я поверг князя на лёд в кулачном бою.
Лев Иванович осмотрел Шеина, улыбнулся.
— Ты мог это сделать. — И задумался. — Язычество. Это страшно. — И после долгой паузы сказал: — Я исполню твою просьбу, воевода, и сегодня после обеда вы вчетвером отправитесь в путь. Вместе вы проедете вёрст сто до местечка Лида. За Лидой есть селение Радунь. Оно принадлежит мне. Там есть крепкий дом. Староста Прошак. У него три десятка боевых холопов. Вот они и будут охранять твоих близких. Там они скоротают время до твоего освобождения из плена. Об одном прошу: накажи своим, чтобы не сотворили каких-либо вольностей. Это им и тебе в урон. Сам понимаешь.
— Всё так и будет, ясновельможный пан, без вольностей.
— Я распоряжусь, чтобы вам дали карету и возок. Вот и всё, воевода Шеин. Мне не хочется с тобой расставаться. Но что поделаешь.
Лев Иванович слегка кивнул головой и углубился в парк.
Полуденная трапеза прошла в молчании. Оказалось, что всем собравшимся за столом было грустно расставаться. Печальна была княгиня Кристина, боярыня Мария сидела, склонив голову. Замкнутым был Лев Иванович. Лишь Катя и Игорь часто и многозначительно переглядывались. Они вступили в мир супружества, и их переполняло счастье. Михаил Шеин не спускал глаз с Марии. Вновь через каких-то два дня их ждёт разлука. Сколько она на сей раз продлится, никто не знал.
И пришёл час расставания с хозяином имения Львом Ивановичем Сапегой и его женой Кристиной. Слова все сказаны. Кристина и Мария обнялись. И вот уже карета подана, возок загружен скарбом. Шеин, Горчаков и два шляхтича поднялись в сёдла. Обоз тронулся в путь.
Кони бежали резво. Они были ухоженные, сытые, и к концу первого дня путники достигли села Дятлово. Оно тянулось вдоль большака на Лиду, в нём стояла русская церковь. И всё тут казалось русским. На постоялом дворе путников встретил русский хозяин — борода лопатой.
— Наконец-то Господь послал россиян, — разводя гостей по покоям, говорил хозяин.
Утром Михаил спросил у него, много ли в Дятлове русских.
— Голубчик, тут одни русские испокон веку живут. Трудно приходится с поляками и литвой ладить, да вот живём, — рассказывал хозяин.
У Михаила порой возникало чувство, что он на родине. Но к вечеру, когда из Дятлова приехали в Лиду, всё было по-иному. В местечке царствовали поляки. В Лиде Михаил и Мария провели вместе последнюю ночь перед долгим расставанием. Они предчувствовали это по той простой причине, что за три минувших года родина и пальцем не пошевелила, чтобы вызволить из плена своих сыновей. Вновь они говорили о Ване. Мария даже всплакнула. А потом, придя в себя, вспомнила, что передала ей тайком княгиня Кристина за час до отъезда из Слонима:
— Сказала она о том, что паны Сапега и Желябужский вели разговор о московитах и что король Сигизмунд слишком зол на них, потому как выкрали нашего Ваню. Родимый, выходит, что он добрался до дому, а ежели бы не добрался, король был бы весел.
— Ты хорошо рассудила, матушка. Будем надеяться, что всё так и есть. А король пусть себе злится, — заключил Михаил.
Ночь у Михаила и Марии прошла в беседах, ласке и печали, в полусне. На заре они отправились будить молодожёнов, у которых миновала третья ночь медового месяца.
Сразу же после трапезы на постоялом дворе появились три воина, и шляхтич Льва Сапеги, показав на Марию, Катю и Игоря, произнёс:
— Вот их вы и доставите в Радунь. — И шляхтич передал воину бумагу. — А это — старосте Мушкалику. — И шляхтич тут же повернулся к Шеину. — Пора прощаться, воевода. У нас путь дальний.
Михаил не стал затягивать прощание.
— Живите в мире и любви, — сказал он дочери и зятю и трижды поцеловал их. Потом обнял Марию. — Надеюсь, лебёдушка, на твоё мужество. Я буду прислушиваться к ветрам и услышу, когда ты меня позовёшь.
— Береги себя, родимый. Мы без тебя осиротеем.
И они расстались.
Глава двадцать седьмая ГОДЫ ОЖИДАНИЯ
В монастыре Святого Валентина время, казалось, остановилось. От чего уехал Михаил в Слоним, к тому и вернулся. У ворот обители его встретил настоятель Вацлав, благословил и, словно возвратился из дальних странствий близкий человек, признался:
— Нам тебя не хватало, сын мой. Да кроме того, осиротели иконописцы, пока тебя не было. Преставился святой отец Стефан. Будешь писать с отцом Владиславом.
Настоятель проводил Михаила до кельи. Дверь была открыта, и он не стал закрывать её.
— Завтра, как и прежде, твоё послушание — писать иконы.
— Я буду послушен, отец Вацлав, — ответил Шеин.
Оставшись один, Михаил вновь долго ходил по келье, и тоска глодала его душу. Он вспоминал дни, проведённые в Слониме, и жалел, что они пролетели как сон. Ещё он испытывал досаду на себя за то, что так и не нашёл времени поговорить по душам с Павлом Можаем. Из немногих слов, какими они обменялись, Михаил понял, что такие россияне, как Павел, теряют веру в возрождение Руси после смуты. Растерялись они перед лицом великого разорения, какое пришло в пору Смутного времени. Но вскоре Михаил осознал, что своими досужими размышлениями он ничем не поможет державе, надо думать о том, что можно ему сделать для неё. Пока же у него оставалось одно: ждать утра, чтобы взяться за доступное ему занятие.
Иконописная мастерская встретила Михаила привычными запахами красок, олифы, согбенными спинами иконописцев, застывших над своими творениями, и тишиной. При его появлении только отец Владислав поднял голову, встал с табуретки и пошёл ему навстречу.
— Хвала Деве Марии, что она вернула тебя к нам. — Владислав взял Михаила за локоть и повёл к верстаку, за которым писал Стефан. — Вижу, что Дева Мария ниспослала на тебя благодать, ты посвежел ликом, набрался сил. И вот тебе моё повеление: прояви великое усердие рук, глаз и души и напиши образ Пресвятой Девы Марии. Так завещал святой отец Стефан.
Михаил почувствовал на спине озноб. Ему поручают писать самый высокочтимый образ католичества, Мать римской церкви. Имеет ли он на то право? «Господи, услышь мою молитву! Подскажи, что делать!» молился Михаил.
Старец Владислав, увидев на лице Михаила сомнение, сказал:
— Ты всю жизнь идёшь по терниям. Тернист и этот путь. Написать образ Девы Марии — значит совершил, подвиг. Иди к нему.
По-детски чистые глаза Владислава убедили Михаила в том, что он пройдёт и этот тернистый путь, создаст образ Марии. «Главное, её глаза», — прошептал он и ответил старцу:
— Я постараюсь, святой отец. Однако дай мне время сжиться с мыслью о том, что я должен творить.
— Никто не оторвёт тебя от дум. Молись Всевышнему и Деве Марии. Они снизойдут к тебе.
Лишь спустя неделю Михаил взялся писать образ Девы Марии. А минувшие дни он находился под впечатлением разлуки со своей Марией, которая продолжала жить перед его взором. Всю эту неделю он не выпускал кисти из рук, но писал только образ своей незабвенной, и она была почти похожа на Богоматерь. Но это «почти» Михаилу никак не удавалось преодолеть, и однажды он понял, что ему нужно сходить в католический храм. Нет, не помолиться там, а постоять и посмотреть на образ Пресвятой Девы Марии, которая есть некая неотъемлемая часть храма. Если он почувствует эту неотъемлемость, неразрывность храма и образа, тогда найдёт в себе силы создать лик Богородицы.
Всё это преломлялось в душе Михаила болезненно. Ему, православному христианину, легче было бы писать Смоленский образ Божьей Матери, который он видел многажды и считал верхом совершенства. Что ж, эта Смоленская икона Божьей Матери, как он знал, была написана в Византии.
Чтобы прекратить истязания своей души, Михаил попробовал отпроситься у настоятеля в православный храм Мариенбурга. Приор, однако, восстал. Но выяснилось, что запрет он накладывал не по своей воле, а по требованию богослова иезуита Петра Скарги.
— Но, святой отец, твою обитель я не оскверню, ежели побываю в православном храме в интересах вашей веры.
— Разве в наших храмах не те же образы Девы Марии? — удивился настоятель Вацлав.
— Может быть, и те же. Тогда почему бы и не отпустить меня?
— Я не имею власти выпустить тебя за врата обители. Вот если ты примешь нашу веру… Пойми, сын мой, наша вера богаче и глубже православной…
Михаил испытывал досаду. Как часто упрекали его на польской земле, что он фанатик своей веры. Но Михаил не считал себя исступлённым упрямцем, представлял Творца Вселенной единым Богом всех народов, всех верующих и в том не видел греха. По его мнению выходило, что православная и католическая вера близки друг другу, о чём же спорить? И всё-таки причина спора была. Её окутывал туман. Доводы у каждой стороны были неубедительны, запутаны, и вот эта запутанность не позволяла идти на сближение, потому как тем и другим была присуща гордыня.
Нашлась-таки одна убедительная причина, которая дала повод отпустить Михаила в православный храм. Настоятель монастыря был не только духовным отцом своей братии, но ещё и её кормильцем. Монастырю нужны были деньги ради хлеба насущного, и то, что писал в иконописной Михаил, приносило обители ощутимый доход. Получая из монастыря написанные Шеиным иконы, верующие не скупились на вклады. Да и на торгу иконы, созданные Михаилом, ценились выше других. Верующие считали, что они несут в себе небесную благодать и целительную силу.
И настал день, когда Михаила отпустили в Мариенбург. Этот день совпал с праздником, особо чтимым христианами, — Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня. От обители до города было вёрст шесть. Михаил предпочёл пройти их пешком. Было время ранней осени, погода радовала теплом, солнцем и красками. Леса ещё лишь начали одеваться в палитру осени, но тут и там виднелись багряные клёны, наливающаяся золотом листва берёз. В этот благодатный день Михаилу вспомнилось предание, которое ему, пятилетнему мальцу, поведал дед Василий вскоре после гибели отца в крепости Сокол. «Сказывают, что в давние времена, когда было великое гонение на христиан, — перебирал в памяти Михаил быль до да, — мать византийского императора Константина, царица Елена, отправилась в Иерусалим, чтобы отыскать крест, на котором был распят Иисус Христос. Царице показали место, где зарыли крест Господень, но над ним был построен языческий храм в честь богини Венеры. По воле Елены храм сломали и начали рыть землю. Но нашли три креста, а не один. Чтобы узнать, который из крестов Господень, стали возлагать на них умершего. Когда положили умершего на третий крест, свершилось чудо: покойный воскрес. Всем христианам хотелось видеть Святой Крест, и по воле царицы Елены его поставили на возвышенное место, чтобы творил чудеса. — И дед Василий добавил: — Был бы у нас на Руси такой Животворящий Крест, мы бы положили на него твоего порубленного батюшку — жил бы и поныне».
Вспомнив это предание, Михаил подумал, что теперь чудес не бывает, и ошибся. Шагал Шеин резво и вскоре увидел, как поднимается над лесом старинный Мариенбургский замок. Три года назад в этом огромном мрачном замке мог бы оказаться узником и он, пленный воевода. Но судьба избавила его от страшных казематов замка. И всё-таки два славных россиянина были заточены в его подземелье. С ними-то и должна была нынче состояться встреча Михаила.
В эти дни, в какой раз, в Мариенбургский замок приехал богослов Пётр Скарга. Он наезжал в замок с одной целью: намеревался обратить в католичество узников замка митрополита Филарета и князя Василия Голицына. Не удавалось Петру Скарге, как ни бился, одолеть стойких хранителей веры отцов. Между Филаретом и Скаргой дело доходило даже до кулачного боя. Но где там! Филарет был мощным бойцом не только духом, но и телом. Но вот по какому-то наитию в День Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня Пётр Скарга проявил к узникам милость и, не боясь оскверниться, привёл их в мариенбургскую православную церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Тут-то, ещё на паперти храма, и произошло радостное чудо. Судьба свела трёх россиян, близко знавших друг друга многие годы. С разных сторон подходили они к паперти, но ступили на неё в один миг и оказались лицом к лицу. Михаилу почудилось, что с последней встречи в Москве Филарет не изменился: мощь в плечах, в груди, твёрдый взгляд серых глаз, гордо вскинутая голова — всё говорило о том, что россиянин не давал себя в обиду, стойко отбиваясь от напастей и угнетений плена. И вовсе по-иному выглядел князь Василий Голицын. Природа не наделила его крепостью тела. Был он худ и сутулился, бледное лицо просвечивало сквозь белую бороду. В карих глазах погасли все краски, были они тусклыми и водянистыми. Филарет первым заметил Шеина, шагнул к нему, облобызал.
— Сын мой, Михаил! Как я рад, будто кровного сынка встретил!
— Спасибо, святый отче. А уж я-то как рад вас видеть! — И Шеин тут же поклонился князю Голицыну. — Славный князь, вреден вам воздух Мариенбурского замка.
— Да, боярин. Хочу в тень русских лесов.
Они тоже обнялись. Но Пётр Скарга уже подгонял их всех к храму.
— Идите Богу молиться, грешники! Душу очистите от скверны!
Они все трое вошли в храм, где было довольно много прихожан, принялись молиться. В храме было чисто, но убого. Михаил заметил, что многие образа написаны не иконописцами, а богомазами. И загорелась у него душа потрудиться во благо обновления православного храма. «Так бы и ночевал здесь после трудов праведных», — подумал он, продолжая молиться.
Служба подходила к концу, когда Михаил заметил, что Пётр Скарга, стоявший в притворе храма, вышел. Михаил подошёл к дьячку и спросил его, как зовут священника.
— Отец Пимен, — отозвался дьячок.
Шеин тут же приблизился к священнику.
— Отец Пимен, нас трое, мы узники и встретились впервые много лет спустя. Пусти нас в ризницу побеседовать.
Священник лишь кивнул в ответ, размахивая кадилом, подошёл к Филарету и Василию, повёл всех в маленькую ризницу и усадил на скамьи.
— Кланяюсь тебе, владыко Филарет, — промолвил священник. — Я знаю, что вы с князем узники замка. С праздником вас, родимые россияне. — Он засуетился, принёс потир, полный вина, три чаши, блюдо с просвирами. — Вот угощение вам в честь Животворящего Креста Господня.
Откланявшись, священник Пимен ушёл. Михаил взялся разливать в чаши вино. Подняв чашу, произнёс:
— Да не приму грех на душу и поздравлю Фёдора Никитича с царствующим сыном Михаилом Фёдоровичем.
Но, сказав это, Михаил увидел на лицах Филарета и Василия чрезмерное удивление.
— Господи, неужели вы ничего не знаете? — спросил он.
— Мы в неведении, — ответил Филарет.
— Но это правда, владыка. Твой сын Михаил избран всенародно Земским собором и летом венчан на царство.
— На муки его вознесли! — с глубокой горечью произнёс Филарет. — Немощен он, и духу в нём крепкого нет. О-ох, досада-то какая. — И Филарет поставил нетронутую чашу с вином на стол.
— Владыка, не отчаивайся. Так угодно было Всевышнему, — попытался поддержать дух Филарета Михаил.
— И впрямь, Филарет, не гневи Бога. Твой сынок возмужает и будет достойным государем, — поддержал Михаила князь Василий.
— Не утешайте меня, радетели. Я знаю, что говорю, и дело не только в том, что сын мой слаб телом и духом, а в том, что алчущие почестей, власти, богатства нашли угодного себе государя. Инокиня Марфа, моя печальная супруга, всех Салтыковых и Челядниных подпустит к государеву кормлению. Они же, аки волки голодные, будут терзать Русь!
— И как же быть теперь, владыка? — спросил Шеин.
— Не знаю! Не знаю! Эх, други мои верные, были бы у меня крылья, улетел бы на Русь, встал бы рядом с сынком. Да я бы всех алчущих в мякину перетёр!!
— Слушай, воевода, а откуда ты узнал эту новость? — спросил князь Голицын.
— Недавно я был в имении Льва Сапеги в Слониме. Возили меня туда, дочь замуж выдавал за князя Горчакова. Так из Варшавы возвращался посол русский Стас Желябужский — вот он и рассказал.
— Ему можно поверить. Эк, в гору пошёл перелёт, уже и посол русский. Он же из тех, кто служил Тушинскому вору, — посетовал князь Василий.
— Михаил Борисыч, а ты не встречался с Желябужским? — всё-таки выпив вино, спросил Филарет.
— Встречался, владыка.
— Что ж ты не попросил его, чтобы он порадел за наш полон?
— Трудный у нас с ним разговор был, владыка. Толкал он меня на то, чтобы не смягчить соседство с Польшей, а осквернить. Но одно благое дело он исполнил — выкупил князя Димитрия Черкасского.
— Надо же! Он у нас в посольстве был. Менять надо полон, а не выкупать. Держава наша ноне нищая, а пленных держит, — заметил князь Голицын.
В это время в ризнице появился богослов Пётр Скарга. Он был зол, вскинув руки, крикнул:
— Вы тут не молитесь, а богохульничаете! Митрополит и князь, идите за мной, пока не позвал стражей!
— Креста на тебе нет, богослов, — в сердцах сказал Филарет и обратился к Шеину: — Воевода, спасибо за весть о сыне. Верю, что мы с ним ещё постоим и поборемся за Русь. Вещания Катерины-ясновидицы всегда сбываются.
— Как пить дать, владыка! — отозвался Шеин. Катерина, матушка моя посажёная, никогда не обманывала.
Пётр Скарга чуть ли не силой выталкивал князя и митрополита из ризницы.
— Вы недостойны быть в храме! — кричал он. В дверях ризницы он столкнулся со священником Пименом. — Я передам в епархию о твоих вольностях! — погрозил он ему.
— Вам бы, патер, не следовало появляться здесь. Сами нарушаете каноны католичества, — строго выговорил Пимен Скарге.
Богослов одарил священника злым взглядом и покинул ризницу. А спустя немного времени в храме появились два стражника и увели Филарета и Василия в замок.
Михаил Шеин встретился с Филаретом только спустя почти пять лет под деревней Деулино близ Троице-Сергиевой лавры, когда на речке Поляновке русские и поляки обменивались пленными. Князь Василий Голицын не дождался этого светлого дня и скончался в Польше уже на пути к Руси.
Расставшись с митрополитом и князем, Михаил ещё долго пробыл в храме. Он помолился, успокоился после грустных откровений митрополита Филарета по поводу царствования сына и, вспомнив, зачем пришёл в храм Покрова Богородицы, ушёл в себя, сосредоточился, чтобы увидеть желаемый образ Девы Марии. И он увидел его. Это был лик Девы Марии, прародительницы христианства. Михаил понял, что этот образ будет близок как католикам, так и православным христианам.
Вскоре Михаил покинул храм Покрова Богородицы, найдя опору в своих исканиях, обретя ясность ума и крепость духа. Вернувшись в монастырь, он окунулся в дело, которое приносило ему отраду. Конечно, он понимал, что отрада была бы полнее, если бы он писал образы святых для православных храмов. Но при этой мысли он улыбнулся: да не писал бы он икон, а оставался бы воеводой. Не от сладкой жизни окунулся он в дело, которому его научил стременной Анисим.
И прошло три долгих года в однообразном труде и ожидании перемен. В августе 1617 года они наступили для Михаила, но, как говорят на Руси, он попал из огня да в полымя. Как-то перед полуденной трапезой в иконописную зашёл настоятель Вацлав и позвал Шеина в свою келью.
— Тебя, россиянин, сам королевич Владислав зовёт на службу. Так ты уж постарайся, — сказал Вацлав, как только Михаил вошёл в келью.
Шеину эта новость как ножом по горлу прошлась.
— Не быть тому, отец, не запряжёт он меня в свою телегу, — сгоряча ответил Михаил.
Всю зиму уже возмужавший королевич Владислав собирал войско. Ещё никто не знал, с кем он намеревался воевать, но августовской порой он двинул свои полки на Московское государство. Из Варшавы он пришёл в Могилёв, и туда же по его повелению был привезён воевода Шеин. Всякие догадки приходили на ум Михаилу, зачем он понадобился королевичу, но ни одна из них не оказалась верной. При первой же встрече с королевичем в Могилёве Шеин спросил его:
— Ваше высочество, зачем вы вызвали меня из Мариенбурга?
Молодой, красивый и самоуверенный королевич Владислав улыбнулся и ответил:
— А вот это тебе пока, воевода Шеин, не обязательно знать.
— Спасибо и на этом. Но помните одно: служить я вам не буду.
— Это почему же? И как ты смеешь так дерзить?
— А вы, ваше высочество, спросите своего батюшку, почему воевода Шеин не намерен служить польской короне.
— Помню я всё. Крут был с тобою его королевское величество. Да ведь и ты хорош! Нет бы признаться во всём, что знаешь.
— Так ведь родину нужно было с торгов продать.
— Ты бы мне послужил. Я пока чту себя царём Московского государства, вот и иду в Москву воевать свой трон. Теперь жду твоего последнего слова. Помни одно: прежде чем отказаться от королевской службы, подумай о семье. Жена, дочь и зять — это заложники, которые смогут пострадать из-за твоего легкомыслия.
Двадцатидвухлетний королевич уже вполне созрел для серьёзных дел и, похоже, умело подбирался к воеводе Шеину, чтобы сделать его послушным в своих руках. Воевода понимал, что ему трудно быть твёрдым в своём нежелании служить королю или королевичу, если в их руках почти вся его семья. К тому же в руках Владислава был ещё один козырь, который мог окончательно сломить сопротивление Шеина. Хотя и доходили до Михаила слухи, что его сын и Анисим удачно совершили побег, но ведь это были только слухи. Никто же не сказал Михаилу твёрдо, что, дескать, видел твоего сына близ бабушки на Рождественке. Нет, этого не было. «Но какой службы от меня ждёт королевич?» — задал себе вопрос Шеин.
И Владислав словно понял Михаила, приблизился к нему и, не спуская своих глаз с его лица, произнёс:
— Я заставлю тебя служить королевскому дому Польши так, как нам будет угодно. Ты помнишь, что в наших руках твои жена, дочь и зять, но ты не знаешь, где твой сын. А он тоже в наших руках. Да, я не шучу. А теперь рассуди здраво. Я предлагаю тебе службу во благо Руси, но не Польши. С моим восшествием на престол Московского государства отойдёт под мою корону и славный город Смоленск. И я вижу, что произойдёт дальше: мой батюшка, дай Бог ему здоровья, попытается отнять у меня Смоленск, а это значит — и у Руси. Так почему бы тебе не помочь мне удержать эту лучшую крепость в Европе под короной русской державы?
— И что я для этого должен сделать? — спросил Шеин.
— Ничего особенного. Мы поедем с тобой в Смоленск, и я познакомлю тебя с мальтийским кавалером Новодворским, который, да будет тебе известно, осаждал Смоленск, когда ты его защищал. Теперь, поучившись у тебя, кавалер Новодворский будет защищать Смоленск от королевского войска. Вот и всё.
Михаил Шеин понял, к чему приведёт его согласие учить кавалера Новодворского защите Смоленска. Имя Шеина на Руси покроется позором. Перенесут ли такой позор его близкие, он сам? Нет, предательства не будет. Ни одним чёрным штрихом не запятнает Михаил чести древнего боярского рода Шеиных. Но, для того чтобы спасти семью, не погубить сына, он попытается без посрамления своей чести поиграть с этим честолюбивым королевичем. Да, он готов ехать в Смоленск и встретиться там с кавалером Новодворским — чёрт знает, кто он такой, а потом дело покажет, как обвести вокруг пальца королевича и мальтийского кавалера.
В конце августа королевич и его свита двинулись к Смоленску. Позади на многие версты растянулось войско Владислава. С ним он готовился войти в Москву. Шеин ехал в карете, и его сопровождали два вооружённых шляхтича. Всё-таки королевич опасался дать Шеину полную свободу, но другим пленным россиянам, которые ехали с королевичем Владиславом, она была дана. Кто они такие, Шеин не знал, но думал о них нелестно: продали матушку-Русь. Королевич не пытался познакомить воеводу со своим русским окружением, но давал понять, что и его ждёт то же, если он будет неуступчивее.
Дальше всё было просто. Когда королевич Владислав свёл воеводу Шеина с мальтийским кавалером Новодворским, то Михаил увидел перед собой некоего морского пирата с одним глазом и сказал себе: «Нет, я учить тебя ничему не буду. Уж лучше положусь на волю Всевышнего».
Но вот королевич Владислав произнёс:
— Перед тобою, мальтийский кавалер, воевода Шеин. Он тебя научит, как защищать Смоленск. Не так ли я говорю, воевода?
Михаил стоял перед королевичем, который сидел в воеводских палатах в его кресле. Шеин помолился на образ Богоматери, попросил прощения у жены, дочери и сына и, отбросив в сторону желание сыграть в кошки-мышки, твёрдо сказал:
— Воля твоя, королевич, судить и казнить меня, как вздумается, но я отказываюсь помогать морскому разбойнику в защите Смоленска.
Королевич Владислав не ожидал такого отпора. Он встал и, багровея, закричал:
— Я отрублю тебе голову, гордый московит!
Владислав принялся ходить по палате, сжав за спиной кулаки. Он думал, что ему предпринять, как наказать Шеина, и вспомнил, что говорил ему отец: «Ты, сын мой, не преследуй Шеина. Он мой, а не твой пленник». И тогда Владислав крикнул:
— Эй, стражи, уберите этого упрямца! — К Шеину подскочили два дюжих воина. — Отправьте его в каземат Мариенбурга!
Шеин знаком руки остановил гвардейцев.
— Стойте! Я ещё не всё сказал. Ваше высочество, из той крепости я убегу. А вот если вы меня в Слоним к канцлеру Льву Сапеге отправите, там уж меня закуют в железы.
Разъярённый королевич плохо соображал и по молодости лет не уловил хитрости Шеина. Грозя пальцем, он крикнул:
— И пусть там сгноят тебя в железах! — И приказал гвардейцам:
— Везите его в Слоним!
— Спасибо, ваше высочество.
Шеин поклонился и направился к двери покоя, где провёл без малого три года.
Глава двадцать восьмая СОТВОРИ ДОБРО
Молодой царь Михаил Романов был доволен четвёртым и пятым годами своего царствования. Ему было чему порадоваться. Наконец-то после великой Смуты дела в державе пошли на поправку. И не напрасно в минувшем году он послал в Англию дьяка Андрея Зюзина. Посол сумел убедить короля Якова I помочь Руси. Правда, денег удалось выпросить взаймы немного, зато король Англии вместе с королём Голландии уговорили короля Швеции заключить с русским государством «вечный мир». И такой мир был заключён под Тихвином, в деревне Столбово. К тому же шведы вернули Руси Новгород, Старую Руссу, Порхов, Гдов и Ладогу — все с уездами.
Радовало сердце молодого царя и то, что русская рать побила под Москвой осенью восемнадцатого года польское войско, которое привёл королевич Владислав. Побила и его сторонника с лихими казаками — украинского гетмана Сагайдачного. Странным в отступлении казаков и поляков было то, что бежали они не в Польшу, а вглубь Руси к Троице-Сергиевой лавре. Царь Михаил велел воеводам преследовать врага и сам отправился с войском, намереваясь помолиться в лавре после изгнания королевича Владислава.
Но перед выездом за войском у царя Михаила случилась встреча. Подходя к карете, царь увидел дьяка Елизара Вылузгина, бывшего главу Разрядного приказа. Он держал за руку молодого боярского сына Ивана Шеина. Вылузгин с поклоном шагнул к царю.
— Государь всея Руси, выслушай раба твоего.
— Говори, батюшка Елизар.
— Вот сын воеводы Шеина, который вместе с твоим батюшкой томится в польском плену. Помнишь ли его?
— Как не помнить!
— Так прошу твоей милости поместить Ваню Шеина в Посольский приказ к дьяку Андрею Ивановичу Зюзину. Даровит он к посольскому делу. Речь польскую и литовскую знает, читает и уставом пишет.
— Ручательству твоему верю.
Царь внимательно посмотрел на Ивана. Тот был, может быть, на три года моложе царя, но уже ростом и статью взял, крутолобый, глаза тёмно-синие, спокойные, зоркие. Не робок: стоит перед царём — не трепещет. И подумал царь: «Посажу-ка я его в свою колымагу, расспрошу о Смоленске и о батюшке: может, что и слышал». Вылузгину царь сказал:
— Ты, Елизар, позже отведёшь его в Посольский приказ моим именем. А пока он при мне побудет, в Троице-Сергиеву съездит. Садись-ка, Ваня, в колымагу.
Не думал, не гадал Ваня Шеин, что судьба такой крутой поворот сделает. Ещё день назад он слушал свою бабушку Елизавету и улыбался про себя. Эк выдумала она отправить его служить в Посольский приказ. Туда, по его мнению, берут только тех, кто семи пядей во лбу. Однако перечить бабке Ваня не стал и после полуденной трапезы отправился к дьяку Вылузгину, который, как сказала бабушка, всегда чтил его батюшку и многие советы давал.
Побаивался Ваня дьяков, слышал, что все они суровые. Но Елизар Вылузгин принял Ваню, как добрый дед внука.
— Вот таким помню и твоего батюшку. Правда, он в кости был покрепче тебя. Да и то сказать, чуть ли не первый кулачный боец на Москве. Ну чего пришёл, говори?
— Так бабушка послала. Сказала, что мне время пришло идти в Посольский приказ в посыльные. А порадеть за меня некому.
— Ишь какая твоя бабка Елизавета мудрая: сразу и про радетеля вспомнила. И что же, в послы думаешь податься?
— Так науку надо вначале одолеть, батюшка Елизар.
— Но почему тебе захотелось в Посольский, а не в Разрядный? Воеводой был бы, как батюшка.
— Так батюшку из полона, может, выручу.
— Верно говоришь. Их надо выручать. Сотни россиян у поляков чахнут. Что ж, чем могу, тем и помогу. Теперь слушай с вниманием. Сейчас ты пойдёшь на Колымажный двор. Найдёшь царского конюха Власия Панкрата и спросишь моим именем, куда завтра государь поедет.
— Только и всего?
— Да. Но важнее вот что: спроси, в какую пору выезжать будет. Ежели скажет: «Чуть свет», — нам с тобой то и нужно. Теперь ступай.
Ваня Шеин был лёгок на ногу: примчал от дома дьяка до Колымажного двора, что близ Крымского моста, не переводя дыхания. Но в воротах его остановил страж. Низенький, плотный, сказал строго:
— Куда летишь, коломенская верста?!
— Так я к дядюшке Василию Панкрату. От дьяка Вылузгина.
— От него можно. Вон конюх стоит, так у него и спроси, где Власий. Да помни: не Василий, а Власий.
Ваня Шеин нашёл Власия в стойле, возле молодой белой кобылицы, такой красивой, что застыл от удивления. Власий протирал её бархатным полотенцем. Это был могучий дядя, борода закрывала грудь. Ваня застыл возле стойла и долго смотрел, как великан с любовью протирает атласные бока и спину белой кобылицы. Власий давно заметил «молодца», но ждал, когда его позовут. Налюбовавшись кобылицей и конюхом, Ваня сказал:
— Дядя Власий, я к тебе от дедушки Елизара.
— Чего ему?
— Так хочет знать, когда царь-батюшка завтра выезжает.
— Всё не угомонится старый Елизар. А тебя как кличут?
— Ваней.
Власий подошёл к Шеину, положил руку ему на плечо, весомо сказал:
— Дьяк Елизар отроков ко мне не присылает. Ты молодой муж Иван, вот и будь им. Да передай дьяку Елизару: чуть свет. Теперь иди.
Дорога к Троице-Сергиевой лавре накатанная, колдобин не найдёшь. Службу на ней несут царские доглядчики и каждую малую рытвинку засыпают, а то и каменным тестом заделывают. Большая колымага, запряжённая шестериком лошадей вороной масти, катится плавно, легко покачиваясь. Иван сидит спиной к движению. Перед ним на мягких подушках сидят царь Михаил и духовный отец царя митрополит Геласий. Он уже стар, но ещё крепок и сопровождает государя на все богослужения. Беседу вёл Геласий:
— Ведомо мне, что ты, молодой Шеин, три года был при батюшке в Смоленске и столько же в польском плену. Вот и расскажи царю-батюшке, как в Смоленске жил, как от короля Сигизмунда убежал.
— Детское я лишь помню о жизни в Смоленске да последний год, когда голодали и каждый день приступы поляков отбивали. Я с дядей Анисимом — это стременной моего батюшки — из пушек камнями стреляли, когда ядер не было. А как от короля Сигизмунда убегали, так это стременному Анисиму низкий поклон. Он привёл меня домой.
— Скажи, Ваня Шеин, ты видел кого-либо из «великого посольства», когда в Польше был? — спросил царь.
— И не только в Польше. Я видел дворянина Артемия Измайлова в Смоленске. Он был близок к твоему батюшке и к князю Василию. Ещё я видел царя Василия Шуйского и его братьев, своего батюшку и всех русских пленных, когда их вели по Варшаве.
— Как ты мог видеть? Ведь тебя тоже взяли в плен.
— Нет, государь-батюшка. В Могилёве меня, матушку и сестру отделили от пленных и там же, в Могилёве, меня и Анисима привели в стан короля.
— Вон что! — удивился царь. — И что же ты делал в стане короля?
— Меня отдали на воспитание ротмистру Верницкому, который учил пажей.
— А будучи в Польше, ты слышал что-нибудь о моём батюшке?
— Слышал, государь. Так уж случилось, что при мне на каретном дворе встретились два поляка и один из них был священником-богословом. Он-то и завёл разговор о твоём батюшке, государь.
— О чём же они говорили?
— Это был богослов-иезуит Пётр Скарга, как я потом узнал, и он жаловался на то, что ему не удаётся обратить твоего батюшку в католическую веру. «Даже среди животных нет таких упрямцев», — повторял Пётр Скарга.
— Батюшка всегда был твёрд, — улыбнувшись, сказал царь Михаил.
— Хвала Богу, что он и другие россияне выстояли, не предали веры отцов, — отметил митрополит Геласий.
— Это верно. Да близок конец их мукам. Вот в эти дни побьём поляков и лихих казаков под лаврой, и они мира запросят.
— Да уж пора бы пленных в размен пустить, — заявил Геласий.
В Софрине, на пол пути до лавры, царь всегда останавливался, случалось, и ночевал. Так было и на этот раз, но не потому, что у царя не было желания поспешить в лавру, а задержали гонцы от воеводы Бориса Салтыкова. Гонец доложил царю:
— Государь-батюшка, русская рать достала поляков, и они теперь в хомуте — так велел сказать воевода. А ещё казаки Петра Сагайдачного покинули поляков и просят мира.
— Милосердный Боже, Ты избавляешь нас от кровопролития, хвала Тебе! — воскликнул царь.
Глаза его повлажнели от слёз, но он не замечал этого. Менее был растроган митрополит Геласий. Он спросил гонца:
— Что, поляки сдаются?
— Они не сдаются, но в полон многих взяли, видел, как сотен пять гнали.
— Всех их за Урал гнать надо! — в сердцах сказал Геласий.
— О чём ты говоришь, владыка?! Мир нужен, и надо всех пленных обменять на наших страдальцев.
Иван Шеин понял, что молодой царь вовсе не пылал военной страстью и страдал оттого, что его отец в плену. Но, спрашивал себя Иван, почему бы царю не выкупить отца? И выходило по Шеину, что царь, любя своего отца, любил и тех россиян, которые были в польском плену, и выкупать надо было всех. А царская казна пока была пуста от разорения великого.
Будучи в иные дни посыльным от Разрядного приказа, бегая по Москве то на Пушечный двор, то на Кузнецкий мост, то в казармы на Ходынское поле, Иван видел, как Москва готовилась отражать польское нашествие, как копились ядра, ковались мечи, отливались пушки, как стрелецкие сотни учились стрельбе из новых мушкетов. А сколько корма свозилось в Москву со всей державы! Надо ведь было кормить почти стотысячную рать. Прошлая осень в Москве, как вспоминали горожане, походила на ту осень, когда поляки захватили Кремль и Китай-город, чинили разбой и бесчинства. Тысячи горожан бежали из Москвы, и напрасно бежали, думал Иван Шеин.
Два дня в конце сентября небо над Москвой гудело от пушечной стрельбы. В один из дней Иван пробрался к пушечному наряду, главным пушкарём в котором был дядька Анисим, и видел, как он стрелял по коннице Петра Сагайдачного картечью. Кони падали, как снопы, казаки в панике убегали с поля боя.
И вот в Москве наступила тишина. Только колокольные звоны нарушали покой. Но это были звоны во славу победы россиян над поляками, бежавшими от стольного града.
Той порой в Софрине всё пришло в движение. Стало всем известно, что поляки просят мира. Они были в полуокружении в шести вёрстах от Троице-Сергиевой лавры, вблизи деревни Деулино. Сам король Владислав со своими гетманами был на грани панического бегства. Он боялся быть взятым в плен и умолял русских начать мирные переговоры.
Царь Михаил со своими приближёнными выехал в Троице-Сергиеву лавру. Он хотел быть поближе к месту переговоров. Вначале поляки предложили вести их в лавре. Но царь Михаил защитил святыню от осквернения и повелел русским послам вести переговоры о мире в деревне Деулино. Из-за чьих-то проволочек дело шло медленно. Лишь в середине ноября, когда уже наступили сильные морозы, в Деулине начались переговоры. Они носили странный характер. Поляки избавились от панического страха быть пленёнными и, перестав чувствовать себя побеждёнными, вели себя заносчиво. Всему задавал тон сам королевич Владислав. Он всё ещё считал себя законно избранным русским народом на царский трон, не признавал Михаила государем державы. Царь и королевич между собой так и не встретились. В Деулине вели переговоры от Посольского приказа дьяк Андрей Зюзин и от государя лично братья Борис и Михаил Салтыковы. Королевич Владислав требовал уступки во всём. Он говорил Салтыковым:
— Я придвину рубежи Польши к Московии от Дорогобужа за Вязьму, к Кубинке, и вы не посмеете их переступить, если хотите мира.
Дьяк Зюзин оказался более рьяным защитником интересов Руси, чем князья Салтыковы. Он не щадил самолюбия Владислава:
— Ты, королевич, не пугай нас. Сегодня твоя рать побита под Москвой, а здесь в хомуте пребывает. И мы её держать будем, пока уступчивым не станешь.
— Не могу быть уступчивым, — возражал Владислав, — потому что я вами избранный царь. Как же я буду уступать то, что мне по праву принадлежит? Вот вы требуете отдать вам Смоленск, а я не отдам, мой это город, и придёт час, я сделаю его стольным градом. К этому я должен получить от Руси во владение все смоленские, черниговские, новгород-северские земли. И я требую записать в договоре о перемирии моё непризнание царём Михаила Романова.
Борис Салтыков пытался уговорить Владислава:
— Ясновельможный королевич, побойся Бога, ты очень много получил от Руси. Зачем же сдираешь с нас последний кафтан?
Королевич Владислав к словам Салтыковых не прислушивался и отмахивался от них рукой. И день за днём длились в Деулине бесплодные споры о том, кто кому что должен. Но о русских пленных в Польше в эти дни не было сказано ни слова, как будто они уже ушли из жизни.
Находясь в лагере при царе Михаиле, Иван Шеин слышал много о ходе переговоров и удивлялся тому, что ни дьяк Зюзин, ни братья Салтыковы ни разу не завели речь об обмене пленных. Однажды Иван Шеин отважился сказать об этом царю, когда шли из храма с моления:
— Государь-батюшка, каждый день послы наши приносят вести о переговорах в Деулине. Слышал я, что поляки требуют отдать им то черниговские, то северские земли, но про обмен пленных ни слова. А там ведь твой батюшка.
И тут царь Михаил признался молодому Шеину в том, что он знает причину, почему Салтыковы не ведут речь о пленных:
— Боятся они возвращения моего батюшки из полона. Погибели своей боятся. Выгонит их батюшка с царской службы.
Молодой Шеин дерзнул остановить царя возле монастырской трапезной.
— Царь-батюшка, а ты упрекни их в нерадении за державу.
Михаил посмотрел на Ивана печальными карими глазами и тихо сказал о сокровенном:
— Боюсь я их, братьев Салтыковых. И всей своры Салтыковых боюсь. А пуще всего матушки своей, инокини Марфы. Гнетёт она меня своей властью. А вся её власть опять-таки в угоду Салтыковым.
Царь Михаил сутулился и был совсем не виден рядом с рослым, с крепкими плечами, молодым Шеиным. И дрогнуло у Ивана сердце от жалости к русскому царю. Захотелось ему не щадя живота послужить ему хотя бы в том, чтобы помочь освободить из плена батюшку Филарета. Вспомнил Иван, с какой отвагой освобождал его, подростка, стременной отца Анисим. Загорелось отвагой сердце молодого Шеина, и он попросил у государя воли:
— Царь-батюшка, позволь мне твоим именем сказать то, что сочту нужным, королевичу Владиславу. Я скажу ему о твоём, о выстраданном, и он не посмеет уклониться и не выполнить сыновнюю просьбу.
— Ой, Ваня, смел ты не в меру, что не боишься потерять живота. Да где наша не пропадала, благословляю тебя на подвиг. Так уж на Руси повелось. Одно скажу: порадей и за своего батюшку. — И царь осенил Ивана крестным знамением.
Государь возвращался из храма не один, а в сопровождении многих бояр и князей, всё больше пожилых. Но шли они поодаль, и, когда молодой и дерзкий Шеин остановил царя и начал рьяно что-то говорить, они встали тоже и не посмели к тому прислушиваться.
Иван же, получив благословение царя, вечером того же дня отправился к дьяку Андрею Зюзину, который только что вернулся из Деулина, где, как он выразился, русские и поляки толкли воду в ступе. Войдя в покой, Иван поклонился.
— Добрый вечер, батюшка-дьяк, — сказал он.
— Откуда ему быть добрым? Маета одна день изо дня. Тебе-то что надо от меня? Слышал я, что на службу в Посольский приказ просишься. Вот как вернёмся в Москву, так и приходи с поклоном.
— По другому поводу я, батюшка-дьяк. По воле государя завтра с тобой поеду в Деулино.
— Зачем это тебя нелёгкая понесёт? У нас там и так лишних переговорщиков много.
— Ведомо мне это.
Иван ощущал в себе спокойствие, уверенность. Дьяк Зюзин хотя и смотрел на него сердито, но это Ивана не смущало.
— Я с королевичем Владиславом встречался в Польше и не раз разговаривал с ним. Вот и хочу продолжить разговоры. И царь-батюшка дал мне на то волю.
— Вон как! — удивился дьяк. — Ну дай-то Бог поговорить вам по душам. Я перечить не смею. Помни одно: королевич Владислав спесив и чванлив, пожелает ли он вести теперь с тобой разговоры? Он себя чтит за царя Руси, а слово батюшки Михаила ему не указ.
Иван Шеин понял, что своим желанием поговорить с королевичем Владиславом он провёл по груди дьяка острым ножом и попытался как-то смягчить своё вторжение в вечерний покой Зюзина.
— Я, батюшка-дьяк, хочу поговорить с королевичем Владиславом о моём батюшке. Кому о нём замолвить слово, как не сыну.
Однако сказанное Иваном Шеиным дьяк понял как упрёк ему и всем, кто вёл в Деулине переговоры, в том, что они вовсе забыли о пленных, которые вот уже восемь лет томились в казематах Польши. Но, бросив беглый взгляд на молодого сына знатного воеводы, Зюзин проглотил упрёк и решил подождать до завтра, посмотреть, чем завершится разговор с королевичем Владиславом.
— Ладно, завтра с рассветом и выезжаем. Не проспи.
— Доброй ночи тебе, батюшка-дьяк. — И Шеин покинул покой.
В этот вечер у молодого сына воеводы было время подумать, какую ношу он взвалил на свои плечи, и, будь он робкого десятка, отказался бы от дерзости, какую затеял. Но, живя по правде, он думал не о себе, а лишь о том, какими путями добиться того, чтобы переговоры о пленных стали главными в череде переговоров о перемирии. И он нашёл-таки ключ к замку, который висел на чёрствой душе королевича Владислава.
Как только наступил рассвет короткого ноябрьского дня, из лавры в сторону Деулина укатили группа всадников и крытый возок. Среди путников был и молодой Иван Шеин. Кроме дьяка Зюзина, никто не знал, по какому поводу ехал в стан переговоров воеводский сын. Возможно, все сочли его за гонца, и он, никого не волнуя, добрался до Деулина.
Переговоры велись в большой рубленой избе. К часу появления русских послов в ней был только один хозяин, который топил печь, потому как на дворе стоял крепкий мороз. В избе была боковушка, и Шеин заглянул в неё. Там стояли лишь две скамьи возле грубо сколоченного стола. Иван подумал, что здесь-то и будет удобно поговорить с королевичем Владиславом наедине.
Ивану Шеину повезло с первых минут. Случилось так, что, когда королевич Владислав входил в избу переговоров, Иван выходил из боковушки и они встретились лицом к лицу. Владислав склонил голову направо и налево и засмеялся, что с ним редко бывало.
— О, узнал! Узнал! Это ты со своим слугой украл коня моего батюшки!
— Я с Анисимом! — смеясь, ответил Иван.
— А ведь коня-то мы нашли! Да мужик не в обиде был, когда отобрали. Ты ему с лихвой заплатил за Стрелку — так он сказал. — И Владислав повернулся к тем, кто пришёл с ним. — Эй, Фишек, принеси нам вина, — велел он шляхтичу. Тот скрылся. Королевич обратился к остальным: — Давайте ведите переговоры с паном Зюзиным и прочими, а мы поговорим наедине. — Владислав положил на плечо Ивану руку, увёл его в боковушку и тут же спросил: — Зачем пришёл? Ты же королевский пленник!
— Что было, то быльём поросло, ваше высочество.
— Верно. Однако скажи, как тебе удалось убежать?
— Долго рассказывать. Я ведь тогда мальцом был. А вот батюшкин стременной — сметлив.
Воин принёс вина, два кубка и блюдо белых пирожков. Наполнив кубки, ушёл.
— Мой батюшка любил тебя. — Королевич поднял кубок. — Напрасно ты убежал. Ну давай за встречу. — И королевич выпил вино.
— Да я бы и не убежал, ежели бы отпустили. Отчий дом из сердца не вырвешь. — И Иван пригубил вино.
— Давай выкладывай, зачем появился, любимец моего батюшки.
— Хочу, чтобы ты, ваше высочество, севом занялся.
— А что сеять?
— Посей добро на русской земле, и она тебе отплатит добром.
— Говори, говори, Янек.
— Вы уже почти месяц ведёте переговоры, и всё напрасно. Помни, королевич, Русь выполнит все свои обещания, ежели ты сделаешь первый шаг ей навстречу. Сотвори добро. Отпусти из полона всех русских пленников, и среди них Филарета Романова и Михаила Шеина. Отпусти заложников, мою матушку и сестру. Вот твоё доброе деяние, которого Русь не забудет. И тебе это надо делать не мешкая. Знаешь ли ты или нет, но твоё войско в хомуте, и лишь добром ты можешь избавиться от него.
— Что же мне делать?
— Шли гонцов к батюшке. Пусть сводит к рубежам Руси всех наших полонян. Есть тут неподалёку речка Поляновка, на её берегах и свершим обмен. Только сам будь там. Мы с тобой царской медовухи выпьем.
— Задел ты меня за живое, королевский любимец. Да знаю я и то, что за добро всегда злом платят.
— Русь не такова! Сотвори добро, и ты войдёшь в её сердце, говорят у нас.
Королевич смотрел на Ивана с мягкой доброй улыбкой. Никто из россиян не нравился ему так, как этот светловолосый синеглазый русич, сам способный творить добро и не ждать благодарности. Владислав наполнил кубки.
— Ну давай выпьем за доброту. Да пора за работу. И помни, что завтра мы подпишем договор о перемирии и об обмене пленными — всё, как ты просишь.
Они чокнулись и выпили. Иван встал.
— Так я пошёл, чтобы вам не мешать.
— Иди, ты сделал своё дело, батюшкин любимец.
И королевич обнял Ивана, похлопал его по спине.
Когда Иван ушёл, Владислав позвал дьяка Зюзина.
— Давай, служилый, концы с концами сводить. Пора добро сеять.
И было записано в хрониках: «1 декабря 1618 года между Московским государством и Польшей было заключено в деревне Деулино перемирие на 14 лет и 6 месяцев». Обмен пленными, как определили королевич Владислав и Иван Шеин, произошёл на речке Поляновке спустя полгода.
Глава двадцать девятая ПОМНИТЕ ПОЛЯНОВКУ
Никто и не знал на Руси малую речку Поляновку, втекающую в Дубну и несущую свои воды мимо таких же малых деревушек, как Деулино, Каменка, Марьино, разве что те, кто в них жил. И вдруг о Деулине и Поляновке заговорили по всей Москве и по многим другим городам державы. А всё случилось после того, как под этой деревенькой русская рать чуть ли не пленила всё войско королевича Владислава, помешала лишь доброта русская. И только чудом россияне заставили поляков пойти на перемирие, покинуть Русь и обменять пленных.
В начале мая по всей Москве уже знали, что пленных будут разменивать на речке Поляновке. Все близкие, чьи отцы, братья, мужья должны были вернуться из плена, сходились на торгах то в Китай-городе, то на Красной площади и судили-рядили, когда и как добраться до речки Поляновки, чтобы встретить там своих родных.
В палаты бояр Шеиных эту весть принёс внук боярыни Елизаветы, Иван. Служа в Посольском приказе, он лучше многих других знал все новости, которые до многих и не доходили. Поведав новость бабушке, Иван поспешил поделиться ею с Анисимом, который со дня побега из Польши служил в доме Шеиных за дворецкого:
— Дядя Анисим, у нас в приказе говорят, что в конце мая начнётся размен пленными на речке Поляновке. Надо туда ехать.
— Непременно, славный. И хорошо бы там загодя шалаши поставить. Давай-ка пошлём туда троих домашних, чтобы всё приготовили. А мы следом поедем.
Весть о том, что будут менять пленных, так обрадовала Анисима, что он места себе не находил от беспокойства.
— И знаешь что: надо оповестить Измайловых. Артемий Васильевич должен знать о возвращении твоего батюшки.
Всё закружилось, завертелось в доме Шеиных. В Деулино были посланы три холопа на повозках — строить шалаши. Иван слетал на Арбат к Измайловым, там всех поднял на ноги. Вернулся оттуда с сыном Артемия Измайлова, Василием. Оставив его на Рождественке, Иван поспешил в Кремль к дьяку Зюзину, чтобы испросить у него позволения отлучиться от службы.
— Как я могу удержать тебя по такому поводу! Езжай, Михалыч, встречай батюшку.
После разговора Ивана Шеина с королевичем Владиславом Зюзин очень зауважал отважного молодого Шеина. Думал он, глядя на Ивана: «В батюшку пойдёт».
И вот уже трое встречающих отправились на речку Поляновку за Троице-Сергиеву лавру к Деулино, и в последние дни мая появились близ речки. Шалаши уже были готовы. Иван радовался вольному простору и тому, что скоро увидит батюшку, с которым судьба свела его пять лет назад.
На речке Поляновке было уже людно. Не меньше ста человек встали за Деулином табором на берегу реки. В последний день мая из Москвы прикатил со свитой сам царь Михаил. Поднялись над рекой шатры. Всё было приготовлено к встрече страдальцев. В лавре уже топилась баня. Через речку Поляновку были перекинуты два мостика, такие узкие, что по ним можно пройти и разминуться только двоим.
К вечеру этого же дня Анисим вернулся из деревни Деулино, куда ходил за парным молоком, и принёс весть о том, что в деревню привели не меньше двух сотен польских пленных. Уже на закате солнца за рекой появился всадник. Сам он прошёл по мостику, а коня пустил вплавь. То был царский гонец, и он привёз весть о том, что к полудню первого июня польская сторона приведёт к реке русских пленников. Сказано им было, что пленных уже привели к селу Васильевскому, что в десяти вёрстах, там они и заночуют.
Как узнали в таборе, что пленники так близко, и загудел он, словно улей. Несколько отчаянных голов отправились на ночь глядя в Васильевское. Многие принялись таскать из леса сушняк, хворост, чтобы жечь костры, говорили при том: «Увидят наши, будут знать, что их ждут».
По всему было видно, что Русь приготовилась достойно встретить своих сыновей из плена. По этому поводу в Троице-Сергиевой лавре всю ночь благовестили колокола. И звоны годуновского «Лебедя» и других колоколов доносились до Деулина и до Васильевского с малыми перерывами всю ночь.
Всё по-иному происходило этой весной в Польше. Казалось, никто и не думал выполнять условия Деулинского перемирия. Даже канцлер Лев Сапега узнал о договоре, заключённом в Деулине, с большим опозданием от брата, гетмана Яна Сапеги, который в это время служил при королевиче Владиславе. Гетман появился в имении брата как раз в те дни, когда случилось несчастье: была похищена дочь Михаила Шеина, Катерина.
Произошло это в начале мая, средь бела дня. Михаил Шеин, вернувшийся из Смоленска в Слоним два года назад, работал в имении Льва Сапеги вместе с князем Игорем Горчаковым на возведении новых каменных палат канцлера. Михаил и его зять по своему желанию пошли на стройку и работали простыми каменщиками и плотниками. Им это нравилось. Стены уже были выложены, и теперь каменщики взялись за топоры и возводили крышу. Их было человек тридцать.
Время приближалось к полудню. Стояла жара. Обнажённые по пояс Михаил и Игорь тесали брёвна. Работали они умело. Брёвна под их топорами выглядели ровными, гладкими, на поверхности выделялась каждая смоляная жилка. В тот момент, когда Михаил и Игорь распрямили спины, чтобы передохнуть, от флигеля, в котором жили Шеины, с криком: «Ратуйте! Ратуйте!» — выбежала к стройке молодая девица.
Игорь Горчаков, забыв воткнуть в бревно топор, побежал ей навстречу, спросил:
— Марыся, что случилось?
— Воры, разбойники, пани Катерину украли! Ратуйте! Украли!
Князь Игорь вбежал во флигель, в свою спальню, и застыл на месте. Ложе, на котором отдыхала недомогающая Катя, всё взбугрилось от борьбы, которая на нём случилась. Катя была на седьмом месяце беременности, и вот — пустое ложе, во флигеле — тишина. Игорь выскочил из него, метнулся за флигель, увидел распахнутые ворота. На песчаной почве дорожки он увидел следы колёс, четырёх пар конских копыт. Он побежал на конюшню и в пути встретился с Шеиным.
— Батюшка, Катю украли! Я за конём!
— Возьми и для меня!
Вскоре Горчаков прискакал к флигелю, ведя на поводу второго коня, бросил повод Шеину и крикнул:
— Там Лев Сапега спешит к флигелю, а с ним матушка Мария и княгиня!
— Ладно. Скачи по следу. А я дождусь их и за тобой…
Горчаков умчался, держа вместе с поводьями и топор.
Шеин поднялся в седло. Подошли Лев и Ян Сапеги, Кристина, Мария, прибежали рабочие, воины, примчался псарь с двумя гончими собаками.
— Что случилось, боярин Михаил? — спросил Лев Сапега.
— Украли мою дочь! Я иду по следу! — И Шеин поскакал за ворота.
Между тем к Льву Сапеге подвели плачущую Марысю.
— Перестань плакать, — сказал Лев Иванович, — и говори толком, что случилось?..
Марыся шмыгнула носом, протёрла кулаками глаза.
— Я сидела возле пани и вязала чулки. Она дремала. Тут вбежали трое. Один, бородатый, страшный, подбежал ко мне, схватил под груди и попытался утащить. Я стала биться, увидела, как двое заворачивают пани в одеяло, я укусила за руку бородатого, чтобы вырваться. Он стукнул меня по голове. Больше я ничего не видела.
— А те двое какие?
— В драных кафтанах, один с чёрной бородой, другой — усатый.
Лев Сапега провёл по лбу рукой, словно смахивая паутину, сказал брату:
— Ян, пошли своих воинов искать княгиню.
Вскоре отряд воинов Яна Сапеги ушёл на рысях по лесной дороге.
Михаил уже догнал Горчакова, и они скакали рядом по дороге, где явно был заметен след пароконной повозки. Они скакали молча, лишь зорко всматриваясь в дорожное полотно, и заметили, как след исчез с дороги и потянулся через луговину и кустарники к лесу. Перед ними лежали две заросшие мелким ельником просеки, убегавшие в разные стороны. И тут на корневищах просеки они потеряли след. Игорь спешился, принялся искать смятые ёлочки, отпечатки конских копыт, увидел, как колесо скользнуло по корневищу и содрало кору.
— Нашёл! — крикнул он. — Нам на восток!
Они поскакали дальше, встречая на пути сломанные и примятые ёлочки. Просеке, казалось, не будет конца. Но нет, после долгой скачки они выехали на лесную поляну и на молодой траве увидели чёткие следы колёс. Преодолев поляну, они не нашли продления просеки и поняли, что похитители поехали, петляя между деревьями, оставляя на мягкой хвое едва заметный след. Но вот лес неожиданно кончился. Шеин и Горчаков оказались на берегу реки. Снова различили чёткий след, он вёл их вниз по течению реки. Проскакав с версту, они увидели небольшой дом, сарай, но всё-всё обнесено изгородью. Близ изгороди стояла повозка, запряжённая парой коней. Подскакав ближе, Михаил и Игорь заметили средних лет поляка, сидящего на траве. Он был за руки привязан вожжами к изгороди. Игорь спрыгнул с коня, развязал поляку руки, спросил:
— Ты кто?
— Я рыбак, а то мой дом.
— Кто тебя привязал?
— Разбойники. Они увели мою Брылю, посадили в лодку и уплыли вниз по Исе.
— Сколько их было?
— Трое, а с ними — пани. Руки у неё связаны и во рту тряпка.
— Давно это случилось? — спросил Михаил.
— Солнце вот там светило. — И рыбак показал на небо.
Михаил понял, что за то время движения солнца похитители могли уплыть на лодке за десять-двенадцать вёрст. Он спросил рыбака:
— Кто это были? Поляки? Говори только правду.
— Я знаю русскую речь. Это московиты. Я их видел за Исой на торгу в Волчунах.
Михаил в отчаянии подумал, что это подлое похищение сделано по воле князя Димитрия Черкасского. «Чёрный рок, за что ты меня преследуешь?» — мелькнуло у него. Он вновь спросил поляка:
— Ты поможешь нам догнать их?
— Да-да, я помогу вам. Они же и мою Брылю украли! В Волчунах нам покажут, где они спрячутся до ночи.
— Выходит, что в ночь они могут уйти дальше?
— Так. Ежи Гонта знает.
— Это ты Ежи Гонта?
— Да. А теперь надо поспешить. — И Гонта принялся распрягать лошадей. — У меня нет коня, так я возьму их. Они же мою лодку угнали.
— Ты вправе взять этих коней, — отозвался Михаил.
Ежи Гонта был деловит. Он распряг коней, одного отвёл за изгородь в сарай, вернувшись, легко поднялся на спину другого, ударил его пятками под бока и погнал вниз по течению реки. Шеин и Горчаков молча следовали за Гонтой.
Вскоре Шеина и его спутников догнали десять воинов Яна Сапеги. И вот уже отряд из тринадцати человек двинулся к селению Волчуны.
Дальше всё так и было, как предполагал Ежи Гонта. В Волчунах он куда-то сбегал и вернулся с молодым парнем. Тот и повёл отряд берегом реки, мимо села, всё вниз по течению. Отряд достиг старой водяной мельницы. Но Гонта, ехавший впереди вместе с парнем, не остановился, а поспешил за мельницу, продираясь сквозь заросли ивняка. Выехав за мельницу на высокий откос, все сразу увидели, как трое тянут к берегу плёса лодку, в которой лежали связанные Катерина и Брыля. Похитители увидели воинов и бросились бежать к реке. Воины пустились преследовать их, двоих догнали, ткнули саблями в спины, и они упали. А третий добежал до реки и бросился в воду. Быстрое течение подхватило его, и вскоре он скрылся в камышах противоположного берега.
Катерина и Брыля были освобождены от пут и оказались в объятиях своих супругов. Молодые женщины держались мужественно, лишь Катя была бледнее обычного.
А на другой день русским пленникам — Михаилу Шеину и Игорю Горчакову — было сказано, чтобы собирались всем семейством в путь.
— Вы теперь вольные птицы. Наконец-то пойдёте в Московию, где вас обменяют на наших пленных, — сообщил Шеину Лев Сапега, получив от гонца грамоту из Кракова.
Вечером этого же дня Михаил Шеин с зятем отправились в Слоним в сапожную мастерскую старосты Кострича, где трудились Павел Можай и другие русские пленники. Михаил счёл, что должен убедить Павла и его сотоварищей вернуться на Русь. Встретившись, он так и сказал всем:
— Вы, славные россияне, возвращайтесь вместе с нами домой. Русь не забыла нас. Что уж тут поминать лихое. Поднимемся из Смуты — заживём, и родная земля отзовётся нам добром.
Павел Можай за пять минувших лет изменился в лучшую сторону. Тоска по родине съедала его душу. Потому он ответил Шеину просто, показав рукой на всех, кто работал в мастерской:
— Хватит нам горбатиться на ляхов. Возвращаемся мы все домой, батюшка-воевода. Дождались-таки светлого дня. — И, улыбнувшись, добавил: — А кто старое вспомянет, тому икаться до конца дней будет.
В Польше пленные россияне были разбросаны по всей державе. Кто-то добывал руду в горах Силезии, кто-то копал торф в болотах Мазурского поозерья. Многие превратились в холопов зажиточных шляхтичей, пахали землю. Настало время собрать всех воедино и прогнать через пол-Европы до маленькой деревеньки Деулино, затерявшейся северо-восточнее Москвы под Троице-Сергиевой лаврой.
Но не всем пленным довелось испытать радость освобождения и встречи с родной землёй. Сотни русских пленников за минувшие восемь лет со времени Смоленского сражения умерли от истощения, изнурительного труда и болезней. Уже в дни, когда было объявлено по Польше об освобождении русских пленников, ушёл из жизни воевода-князь Василий Васильевич Голицын. Все долгие восемь лет он провёл бок о бок с митрополитом Филаретом. Они терпели духовные и телесные терзания в казематах Мариенбургского замка. Там их мучил иезуит и богослов Пётр Скарга, которого однажды в ярости чуть не прибил Филарет Романов. Кончина Василия Голицына потрясла Филарета. Князь, как никто другой, рвался на родину. Умирая, он попросил Филарета:
— Друг мой любезный и единственный, прошу тебя, отвези мой прах на родную землю. Погреби где-нибудь на сельском кладбище близ деревни Петелино или Крекшино, на пути к Москве.
Митрополит Филарет исполнил волю князя Василия. Он поставил гроб с телом покойного на телегу, обложил его льдом, засыпал опилками. Так и вёз, бережно храня останки князя, до вотчинных земель, что лежали на западе от Москвы.
Встретились митрополит Филарет и воевода Шеин после многих лет разлуки майской порой на подходе к Могилёву, когда пленники с севера и с юга сходились в селении Лебедянке в одну колонну. Шеину было горько видеть, как митрополита и ещё около сотни россиян вели под охраной. «Неужели, — думал он, — мы куда-то удерём? И как это у короля Сигизмунда не встала кость в горле, когда он отдавал повеление гнать пленных под ружьём?» Правда, Льва Сапегу Михаил многажды поминал добрым словом. Мария и Катя ехали в возке, и Катя могла там полежать во время пути. Ей было тяжело. Испуг от похищения ещё мучил её. Близкие опасались, что у неё может быть выкидыш. Потом она рассказала, что страх у неё появился после освобождения. В те же часы, когда её похитили из флигеля, она была в полусознательном и отрешённом от мира состоянии.
Поляки провели русских пленных через Смоленск, чтобы прибавить им в сердца горечи. Город, похоже, возвращался к жизни медленно. Поляки не хотели селиться в нём, русские боялись. В городе было малолюдно, виднелось много разрушенных зданий. Мономахова храмина по-прежнему лежала холмом щебня на Соборной горе. Михаил вспомнил, как королевич Владислав пытался заставить его учить поляков, как защищать крепость. Ещё Михаил вспомнил павшего героем Сильвестра и подумал, что ясновидец прозревал тогда будущее Смоленска, иначе зачем бы ему было взрывать себя вместе с Шиловой башней.
Проходя Вязьму, Михаил Шеин убедился, что Русь укрепляла свои западные рубежи. Вяземскому воеводе князю Ивану Хованскому было дано повеление от царя Михаила: «В Вязьме город и острог доделать и укрепить совсем накрепко… Усидеть надёжно и бесстрашно… и по острогу поставить и устроить пушкарей к наряду».
Когда Михаил Шеин шагал рядом с Филаретом через Вязьму, митрополит в сердцах посетовал на князей Шуйских:
— Вот ведь как хмельным упущением Митьки Шуйского Русь от Смоленска на сто сорок вёрст отпрянула. На дыбу Митьку следовало вздёрнуть, и того мало!
Наконец-то россияне добрались до вотчины князя Василия Голицына, и в сельце Петелино, близ деревянного храма Николы Зимнего, его прах был предан земле. Все сделали, как было завещано. После панихиды пленники продолжили свой нелепый, как всем казалось, поход к речке Поляновке и деревне Деулино. Для этого им надо было преодолеть лишних сто или более вёрст.
— И кто придумал такой обмен пленных? — возмущался Филарет. — Я от Старых Вязём за полдня бы пешком до Москвы прошагал. А мне теперь, выходит, за Москву ещё два дня шагать надо.
Выходило, однако, что условия договоров надо было выполнять, какими бы нелепыми они ни были. Но в глубине души у Филарета жила обида на сына: мог бы своим державным словом избавить пленных россиян от позора идти по родной земле под охраной польских воинов. В одном был соблюдён договор обмена — в сроке.
Переночевав в селе Васильевское, россияне с рассветом покинули его и близко к полудню были на речке Поляновке у Деулина. Стояла благодатная погода. На небе ни облачка, синь беспредельная, вокруг до самого берега реки раскинулась луговина, поросшая белыми ромашками. В Деулине на храме звонили вперепляс колокола. За речкой пленники увидели огромный табор и в центре его — царский шатёр. Там, за рекой, началось движение. Сотни людей придвинулись к берегу. Из деревни вывели польских пленников. Русская сторона готова была начать обмен пленных. Но поляки не торопились. Они раскинули холсты на траве, сели за трапезу, пили хмельное, пока не пришли в веселье.
Россияне роптали: поняли, что поляки умышленно отравляли им радость встречи с близкими.
Но вот наконец-то наступило время обмена. Первым к мосткам с польской сторона привели митрополита Филарета. С русской стороны повели полковника и трёх шляхтичей: такова была цена русскому митрополиту. Пришла пора обмена воеводы Шеина и его семьи. Меняли по правилу один к двум. За четверых россиян отдали восемь поляков. Так и пошло: за одного — двух. Но это уже мало кого интересовало. Главным стала встреча россиян с родными и близкими.
Однако всем, кто приехал на Поляновку из Москвы, было интересно посмотреть, как встретятся отец и сын Романовы. Они не виделись почти девять лет. Оба шли в объятиях друг друга, со слезами на глазах. Филарет не замечал на сыне царского облачения, он глядел только ему в лицо, и сердце умудрённого жизнью воителя сжималось от жалости. Филарет понял с первого мгновения, что в сыне нет ничего державного: ни в безвольном подбородке, скрытом редкой бородкой, ни в грустных глазах. Может быть, ожесточившись за многие годы суровой жизни, Филарет подумал, что было бы лучше, если бы сын был священнослужителем. Но, положив на себя крест за мрачные мысли о сыне, он всё-таки с улыбкой вновь обнимал и многажды целовал его, гладил и хлопал по спине. Всё-таки в объятиях Филарета был царь Руси. «Да будет держава при тебе великой, в том я даю обет перед Всевышним», — мысленно произнёс Филарет.
Той порой обнимали сына, Ивана Шеина, отец Михаил и мать Мария. Тут всё было радостнее, всё было проще. Перед Михаилом стоял рослый, с открытым лицом и смелым взглядом молодой витязь. И Михаил, обхватывая его крепкие плечи, подумал: «Какой же ты славный, сынок!» Слёз ни у сына, ни у отца не было. Они радовались. Лишь боярыня Мария да Катя обнимали сына и брата со слезами радости.
— Милый Ванюшка, сердечко моё истосковалась по тебе, — причитала Мария, гладя лицо сына, который был на голову выше её.
А к Шеиным уже подходили Артемий и Анастасия с сыном Василием. И снова радостные объятия, снова вздохи и восклицания. За восемь лет можно было измениться до неузнаваемости, счёл Михаил и сказал своему побратиму и шурину два слова: «Ты возмужал».
Потом, когда завершился обмен пленными, россияне совершили в речке Поляновке, тёплой по июньской поре, общее купание. Заботами Разрядного приказа всех, кто пришёл из Польши, переодели в чистое бельё и одежду и дали волю поступить с лохмотьями, как заблагорассудится. И был устроен костёр, на котором сожгли всё, в чём пришли из плена. И было малое пированье. Всех накормили, поднесли хмельного, а затем усадили на подводы и повезли в Троице-Сергиеву лавру на торжественный молебен. И трезвонили колокола, раскаты которых достигали Первопрестольной. Москва начала готовиться к встрече своих сыновей.
Глава тридцатая ДВА ВОИТЕЛЯ
С возвращением митрополита Филарета на Руси началось преодоление великого московского разорения. Въезд Филарета в стольный град был встречен с воодушевлением только простыми горожанами. В царском дворе среди тех, кто окружал государя Михаила, возвращение Филарета не вызвало радости, а посеяло уныние. Отпраздновав встречу широким застольем в Золотой палате, царедворцы разбежались по своим палатам и затаились в ожидании грозных перемен. Это ожидание вызвало трепет в душах придворных бояр и князей, особенно после того, как Филарет был возведён в сан Московского и всея Руси патриарха. Когда к этому сану был добавлен титул великого государя, трепет многих вельмож перерос в зависть и ненависть к патриарху. Что ж, многие придворные царя знали, за какие грехи им надо бояться праведной карающей десницы патриарха и великого государя.
Однако сам патриарх Филарет не склонен был к тому, чтобы возродить на Руси опричнину времён Ивана Грозного. Нет, он думал идти к преодолению великого московского разорения иными путями, не опирающимися на преследования, казни и опалу виновных в разорении державы.
Вскоре после возведения в сан патриарха была у Филарета встреча с воеводой Михаилом Шеиным и долгая беседа с глазу на глаз. Для встречи был и благоприятный повод. Царь Михаил ещё на речке Поляновке понял, что его отец возьмёт себе в сотоварищи воеводу Шеина, и, не откладывая в долгий ящик, решил отметить его своей милостью. «Немедленно по возвращении из плена Шеин был награждён за свою службу царём Михаилом Фёдоровичем, но не особенно щедро — получил лишь шубу и кубок».
После награждения Филарет пожал руку Михаилу и с горькой иронией сказал:
— Вот, герой Смоленска, тебя и отблагодарили за то, что шкуру с тебя спускали и ногти рвали.
— Я очень рад награде. И кубок серебряный хорош, и шуба, — ответил с улыбкой Шеин.
— Верно говоришь. И не казни моего сынка за скупость. Он пока пребывает в путах. А теперь идём, мой друг, в патриаршие палаты. Поговорить мне с тобою нужно.
От царского дворца до патриарших палат не больше ста сажен, но пройти их незамеченными невозможно, и наблюдали за патриархом и воеводой десятки глаз, среди которых были и глаза недругов того и другого. И не только глаза — руки к ним тянулись. Вот от колокольни Ивана Великого подошёл князь Борис Лыков. «Это наш», — мелькнуло у Шеина. Князь Борис низко поклонился Филарету.
— Здравствовать тебе, святейший, многие лета.
— Спасибо, сын мой, — ответил Филарет.
Едва Лыков отошёл, как от Благовещенского собора подошёл к Филарету и Шеину князь Димитрий Черкасский.
— Поздравляю тебя с царским подарком, — сказал он Михаилу. — То-то он тебя отблагодарил. — И протянул руку.
— Мы с тобой уже здоровались двадцать лет назад на берегу Москва-реки. А на льду обнимались, — улыбнулся Шеин и прошёл мимо Черкасского.
— Иди помолись, сын мой, прими покаяние, — сказал Филарет и продолжил путь.
Обескураженный князь смотрел им вслед, и глаза его пылали огнём.
В патриарших палатах, несмотря на полуденную жару, царила прохлада. Услужители уже наладили быт патриарха, и Филарет с Михаилом прошли в трапезную к накрытому на двоих столу. Как сели к нему, оба долгое время молчали, рассматривая друг друга, словно увиделись впервые. Но это было не праздное молчание, оно таило глубокий смысл. Филарет смотрел на Михаила долго и изучающе для того, чтобы разглядеть, чем наполнена его душа и могучая грудь, нет ли в нём усталости, отрешённости от дум о державе, и ничего этого не заметил. Взор Михаила был доброжелателен, твёрд и умён. Он как бы говорил: «Я понимаю тебя, святейший, тебе нужна опора в грядущих делах. Не побоюсь сказать: обопрись о моё плечо, не подведу, выстою в любом праведном деле, потому как верю твоему воительскому духу».
Так «поговорили» Филарет и Михаил, и руки их потянулись к царской медовухе. Очень им нужно было выпить для обоюдного откровения и державного разговора, ибо в это время у них не было никакого другого надёжного собеседника для искренней беседы. Как выпили царской медовухи и закусили, Филарет положил на стол свои могучие руки и повёл речь о том, ради чего пригласил Михаила Шеина.
— Вот мы, сын мой, прошли через тернии и вернулись в отчизну. Нам бы с Божьего позволения можно было почивать на лаврах, нянчить внуков. Но у нас с тобой нет на то права, воитель, если ты услышишь от меня то, что расскажу, если проникнешься, а я верю, что проникнешься, духом стояния за Русь-матушку полусиротскую. — Филарет наполнил кубки. — Давай же, сын мой, выпьем за то, чтобы горечь услышанного от меня не затопила твою душу.
И они выпили. А как поставили кубки, Филарет продолжил свои душевные излияния:
— Мы, Миша, вернулись на Русь к разбитому корыту. За шесть лет царствования моего сынка и правления моей бывшей супруги Русь ни на шаг не ушла от разорения, нанесённого Смутой. Но если бы только это. Разорение продолжается, и чинят его прежде всего властные люди, пользуясь попустительством правительницы инокини Марфы. Она виновна в том, что правительство захватили пауки, сосущие кровь из державы. И кто эти пауки? Да все сродники инокини Марфы, весь княжеский род Салтыковых и их кумовьёв. Они захватили все чины в державе, но пользы ей не приносят. Они даже в домашний обиход царя вмешиваются. Сыну моему приглянулась боярская дочь Мария Хлопова, и он хотел на ней жениться. Так Салтыковы оговорили её, сказав, что она порченая, и по воле Марфы сослали в Сибирь вместе с отцом и матушкой. Я верну их и узнаю всю подноготную. Помню же Хлоповых с лучшей стороны.
Теперь, сын мой, слушай главное. Чтобы изгнать от кормила власти всех мздоимцев и корыстолюбцев, мне нужна опора таких россиян, как ты. И сам ты, Михаил, должен прикипеть к делу всей душой. Но я знаю и другое. У тебя есть соратники, на которых можно положиться. Называй мне имена, говори, что они могут, и я возьму их на службу, буду ставить туда, где они поправят дело.
— Я понял тебя, святейший, — ответил Михаил.
— И вот что, последнее. Гниль из Москвы поползла по областям и землям. Половина воевод поставлены Марфой по указке Салтыковых. И всё это корыстные людишки. Думаю погнать их палкой с мест. Но нужно найти способных к делу. Слышал я, что с дьяком Елизаром Вылузгиным ты в ладах. Возьми его в советчики. Да не откажи мне, поедем вместе по землям и областям в августе.
— Я готов, святейший.
Два побратима выпили ещё царской медовухи, но немного, не желая «распоясаться», поговорили о семейных делах — всё больше о семье Шеина — и расстались.
— Отдохни недельку-другую да и поедем с тобой по Руси, — сказал на прощание Филарет.
— Так и будет, святейший.
Распрощавшись с патриархом, Шеин шёл и думал о нём и о царе Михаиле. Ему хотелось разобраться, каковы же будут отношения отца и сына в делах государственных и церковных, потому как царь имел большое влияние на архиереев церкви. Позже Шеин узнал, что Филарет и для духовенства оказался более сильной личностью, чем его сын. Он и для церкви стал прежде всего великим государем. Филарет достиг со временем той высоты власти, к какой стремился всю жизнь. С первых дней, как он встал возле сына, в делах управления государством почувствовалась твёрдая рука. Слышал Михаил, как умудрённые жизнью бояре говорили о Филарете: «Нравом опальчив и мнителен, а властителен таков, яко и самому царю его бояться».
Михаил шёл из Кремля на Арбат к Елизару Вылузгину. Знал он от сына, что дьяк ушёл на покой, но по своему нраву покоя не ведал и помогал всем, кто нуждался в совете, в помощи. Однако дьяка Елизара дома не оказалось: уехал по делам в Серпухов, и Шеин отправился к Артемию Измайлову, благо он жил неподалёку от Елизара. Помнил Михаил, что у Артемия был нюх на хороших людей. Шеин понял это ещё в Пронске, а потом утвердился, действуя рядом с Артемием, когда били Болотникова. Артемий всё время кружил среди деловитых людей. При царе Василии Шуйском он служил во дворце дворецким. Он встречал татарских князей, которые со своими отрядами шли из Казани на помощь Василию Шуйскому. Вместе с князем Иваном Масальским он освобождал от поляков Москву с владимирским ополчением.
В царствование Михаила Фёдоровича Артемий Измайлов опять-таки был на виду. Он участвовал во всех придворных церемониях, принимал дипломатов, представлял царю послов Англии и Дании, Персии и Швеции. Он был третьим лицом после дьяков Посольского приказа при заключении Деулинского перемирия. А во время отъездов царя из стольного града Артемий всегда оставался вторым или третьим лицом при градоначальнике. Как ему было не знать людей, не научиться распознавать их склонности к добру или злу! И как было не вовлечь Измайлова в помощь Филарету! Ведь именно такие честные и трудолюбивые люди нужны были великому государю.
Размышляя над текущей дворцовой жизнью, перебирая имена и фамилии тех, кто служил правительнице Марфе, Михаил подумал, что надо искать преданных деловых людей среди тех, кого инокиня Марфа не подпускала к государственной службе. Повод не принимать таких людей в своё окружение у Марфы был. Её мздоимцы и корыстные сродники не могли бы ужиться с теми, кто жил по правде и чести.
Перебрал Михаил и тех, с кем воевал. Но получилось так, что он никого не мог вовлечь в мирские дела, потому как его побратимы не были людьми державного ранга. Вот только разве князя Игоря Горчакова можно было нацелить на государеву службу, а потом уж пусть сам пробивается, чтобы потом не укоряли: дескать, сродников тянет к державному кормилу. Не мог Шеин допустить, чтобы от одной корыстной цепи отпочковалась другая. Он даже родного сына не думал никуда пристраивать и всё-таки радовался за Ивана. Тот сам умел добываться успеха. Помогали ему в этом ум, трудолюбие и честность. Минувшим вечером он сказал отцу:
— Батюшка, я еду посланником в Данию. Вот как их речь осилю, так и отправлюсь.
— Дерзай, сынок, позже послом будешь. Всё хлеб слаще, чем у воеводы.
Но, пока сотоварищи великого государя искали ему верных помощников, сам Филарет приступил к выполнению задуманных преобразований в державе. Начал он с того, что поговорил по душам со своей бывшей супругой Ксенией Шестовой, костромской дворянкой, и ласково уговорил её уйти от государственных дел. Он позвал её в свои палаты, приготовил угощение, усадил за стол и повёл тёплую беседу:
— Ты, матушка Марфа, много порадела за Русь. Низкий тебе поклон за то, что подпирала своим плечом нашего сынка. Теперь же приспело время отдохнуть тебе. Вот в патриаршие палаты зову, будешь тут коротать время за молитвой, меня мудрым словом согревать. Ежели не хочешь, так в монастырь игуменьей иди. Вон в Новодевичьем вот-вот преставится матушка Ненила — встань на её место во благо обители святой.
Инокиня Марфа шла в палаты бывшего супруга, взвинчивая себя на «кулачный бой», думала, что придётся отбиваться от нападок великого государя. Но как тут станешь отбиваться, если он Христом Богом просит помочь ему, а не мешать в возрождении державы после Смуты! Погас огонь Марфы при первых же ласковых словах своего бывшего супруга, и дальше он говорил душевно, ни в чём её не виня:
— Ты правила, как умела. Просто тебе не повезло, потому как помощники твои оказались отпетыми пройдохами. Им-то уж выпадает пострадать за неправедные дела.
— Кому «им-то»? Назови их по имени, Федя.
— Язык не поворачивается, но скажу: это наши с тобой сродники Салтыковы и иже с ними. Они, матушка, будто в прорву тянули Русь, к тому же рвали её волчьими зубами на куски. Да не переживай, голубушка, казни подвергать их не стану. У нас теперь в державе Ивашки Грозного нет. Отправим мы Салтыковых и ещё кое-кого в Устюг Великий. Эк славный град. Пусть там и зимуют.
Речь Филарета была спокойной, завораживающей. Сама Марфа почувствовала, что виновата перед Русью, что пришло время замаливать грехи, и согласилась без страдания отойти от государственных дел. Попросила лишь об одном:
— Ты уж сыночка нашего не утруждай. Болезненный Мишенька.
— Это верно. Да потяну я державу, потяну! Есть ещё силушка нерастраченная!
На радостях, что встреча с Марфой проходила без слёз и стенаний, Филарет уговорил бывшую супругу выпить с ним царской медовухи, и потом они вспоминали годы своей молодости, давнего супружества.
И вышло так, что правительница Руси, мать Михаила Романова, инокиня Марфа, простояв шесть лет у кормила власти, а по сути отдав власть на откуп князьям Салтыковым, Репниным и Хворостяным, ушла из Кремля тихо и незаметно, уступив все бразды правления Филарету. Он был доволен. Расчистив Кремль от «мусора и грязи», великий государь принялся возводить новое правительственное здание. В этом деле воеводе и боярину Михаилу Шеину досталась заслуженная дворцовая служба. «До 1628 года Шеин нёс исключительно придворную службу», — сказано о нём в хрониках.
У Михаила Шеина не было определённого круга занятий. «Придворная служба» включала в себя всё, что было на пользу державе, в том числе связи с иноземцами. Михаил Борисович сумел отдаться этой службе полностью. Всё, что ему надлежало выполнять, он делал с полной ответственностью. Он даже Марию, строгую и исполнительную, что касалось дела, вовлёк в дворцовую службу. Да и как было не вовлечь! Пришло время подумать о невесте для царя, и эту обузу взвалили на плечи Марии и Михаила Шеиных. Чуть ли не сотню невест пришлось осмотреть Шеиным, пока по своему разумению они не остановились на юной княжне Марии Долгорукой. Всё было при ней: красива, умна, рукодельна. А главное, по мнению Шеиных, в ней было то, что она отличалась мягкосердечием. К тому же была книжна, умела читать, писать. Так или иначе, но Шеины сумели показать Марию Долгорукую царю во всей её прелести.
— Царь-батюшка, лучшей невесты ты не найдёшь, — говорила государю боярыня Мария. — Она и разумна, и ласкова, и тебя полюбит. А без любви какое супружество!
К несчастью царя Михаила и супругов Шеиных, брачный союз Михаила и Марии Долгорукой был недолгим. Через год она скончалась от неведомого недуга. Злые языки тогда шептали по Москве, что Мария умерла испорченной. Патриарх Филарет согласился с москвитянами, что её «испортили», а проще сказать — отравили. И было это сделано по воле князя Михаила Салтыкова. Жила у него племянница, роду Салтыковых преданная, девушка красивая и богомольная, и князь Михаил Салтыков прочил её, в замужестве княгиню Челяднину, в супруги царю.
В эту пору, сидя в Столовой палате за трапезой, патриарх Филарет со значением сказал Михаилу:
— Ты, сын мой, царь всея Руси, подумай о державе. И не осироти её ненароком: пора тебе подумать о новом супружестве. Но сватов Салтыковых прочь гони.
— Но, батюшка, я любил Машу и не могу её забыть.
— Год уже минул, и дана тебе воля Господня жениться, — гнул свою линию Филарет. — Вот боярыня Мария Михайловна и боярин Михаил Борисович и найдут тебе надёжную невесту.
— Воля твоя, батюшка, — отвечал с безразличием царь Михаил.
На этот раз сваты Шеины постарались пуще прежнего и нашли для государя дворянскую дочь Евдокию, а попросту Дуняшу Стрешневу. Всем взяла эта девица — и красотой и очарованием. Даже стать в ней торжествовала откровенно и чарующе. Теперь Шеины не испугались, что царь пройдёт мимо неё, и не стали возражать Боярской думе, когда там пришли к мысли собрать по Руси многих красавиц. Но Михаил Шеин всё-таки с огорчением подумал, что затопчут княжны да боярышни Стрешневу, и поделился своими опасениями с Марией:
— Вот скажи, любезная супружница, чем обернётся наше сватовство, ежели царь пройдёт мимо Дуняши и не заметит её?
— Не пройдёт! — твёрдо заявила боярыня. — У Дуняши в груди колокольца будут звенеть, и сам Господь Бог, проходя мимо, услышит их.
— Это у тебя только для меня звенят колокольца, — улыбнулся Михаил. — Уж не стареем ли мы с тобой?
— Ты, сокол мой, не петушись. Лучше идём-ка к царю и потешим его, печаль развеем. Дуняша-то Стрешнева была подружкой Маши Долгорукой на свадьбе — вспомнит её царь.
— С вами, свахами, одна морока: поперёк не иди, стопчете, — пошутил Шеин. — Ладно уж, идём порадуем царя.
И порадовали.
— Помню, помню, что-то было за Машей манящее! — воскликнул царь. — Вот бы теперь её увидеть… Знать, хороша Дуняша!
— Истинно хороша, царь-батюшка, — ответила Мария.
«На второй свадьбе Шеин, кроме того, ходил к патриарху Филарету Никитичу и к великой инокине Марфе Ивановне от невесты с низаным убрусом[30], ширинкою[31], перепечею[32] с сыром», — сказано в хрониках.
Мария Михайловна Шеина вспомнила после встречи с царём дочь ясновидицы Катерины, Ксению, которая вышла замуж за князя Ивана Черкасского. Та Ксения, будто бы сидя за столом перед горящей свечой, выдала всё грядущее сидящему перед нею царю Михаилу, показала идущую с ним рядом до окоёма супругу Дуняшу Стрешневу. Верила Мария Михайловна Ксении, ясновидице от родителей и Бога, и потому так усердно добивалась супружества Михаила и Евдокии.
Ясновидица Ксения ничего не прибавила: жизнь Михаила Романова и Дуняши Стрешневой прошла в мире, любви и благости.
Михаил Шеин нередко сопровождал царя в его поездках по монастырям и храмам Московской земли. Однажды летом поехали они в Суздаль, и во время этой поездки Шеин рассказал царю Михаилу о том, что произошло в Суздале более двух десятилетий назад. Был упомянут в этом рассказе и князь Димитрий Черкасский. Молодой царь при его упоминании поморщился, потом спросил без обиняков:
— Выходит, вы с той далёкой поры и враждуете. Так?
— Не совсем так, царь-батюшка. Одна сторона у нас ищет мира, а другая — войны. Да Бог нас рассудит.
Михаила Шеина по нескольку раз в год и чаще всех других вельмож приглашали за стол к царю и патриарху. Он присутствовал при торжественных приёмах иностранных послов. Видимо, с этой целью по совету главы Посольского приказа Михаилу Шеину для посольской службы был дан титул наместника Тверского. Вместе с ним на приёмах часто появлялся и его сын Иван. К этой поре он знал немало языков и был толмачом при встречах с польскими, литовскими, французскими и датскими послами и посланниками.
Уезжая в дальние храмы и монастыри на богомолье, царь Михаил по совету Филарета оставлял Шеина ведать Москвой. Это случалось довольно часто в 1627–1630 годы. На это время Михаил Шеин брал себе в помощники своего дворецкого Анисима.
— Ты, мой друг, смотри за порядком в Москве, как у нас на дворе, — наказывал Шеин Анисиму. — Я вот думаю, что давно пришло время мостить всё большие улицы не только близ Кремля и в Китай-городе, но и в Белом городе и в Земляном.
— Благое дело, боярин-батюшка. Только для этого надо царским указом обязать всех домохозяев против своих усадеб дороги мостить.
— Верно говоришь. Государевым делом это должно быть. Нужно каменоломни открывать. Придётся с великим государем всё обговорить.
Филарету предложение Шеина пришлось по душе. Он прикинул, что и московская казна не обедняет от этого и работные люди найдутся.
— Благословляю тебя на благое дело, — сказал Филарет Шеину. — Видел я твоего помощника, который от Сигизмунда сумел убежать. Дельный мужик. Надо дать ему звание городского дворянина. Пусть радеет за Москву.
И с лёгкой руки Филарета приехавший с богомолья царь Михаил наградил Анисима Воробушкина званием городского дворянина. Прошло девять лет с той поры, как Михаил Шеин перешёл по мосткам на речке Поляновке из плена на вольную волюшку. И вспомнилось ему, что через каких-то четыре года истечёт срок Деулинского перемирия с Польшей и тогда… Что будет тогда, Михаил Шеин боялся думать, но думалось. В те дни и месяцы, когда он управлял жизнью Москвы, его всё чаще тянуло в Пушечную слободу, где отливались пушки и ядра. Приезжая в Кремль, Шеин обязательно заходил к патриарху и рассказывал, как идут дела у литейщиков пушек.
И однажды Филарет сказал ему:
— Вижу я, сын мой, твою озабоченность о военной мощи державы. Так вот мыслю, что тебе надо возглавить Пушкарский приказ. Откровенно говоря, там дела идут ни шатко ни валко. Наше пушкарское дело требует острого глаза не только в Москве, но и по другим городам, и по Уралу.
Михаил Шеин потом подшучивал над собой: «Не было у бабы забот — купила порося». «Но Пушкарский приказ — это махина, — строго осуждал себя Шеин. — И чтобы держава была вооружена пушками в полной мере, нужно поработать рьяно».
И вновь рядом с Михаилом Шеиным встал теперь уже дворянин Анисим. Не он ли был первым, кто применил картечь? Помнил же Михаил Шеин «ядра» Анисима со времён боев за Мценск.
Глава тридцать первая ПРЕДГРОЗОВЫЕ ГОДЫ
Был май. Москва утопала в кипении черёмухи. Будто снегом укрыло берега Неглинки, Яузы, Москва-реки. И в эту пору ликования весны у дочери царя Михаила и царицы Евдокии, Иринушки, был день именин. На этот семейный праздник царь с царицей звали немногих, но каждый раз, как и на День ангела царя Михаила, приглашались боярин и боярыня Шеины. Царская семья любила Марию Шеину за жизнерадостный нрав, за умение быть со всеми обходительной и ласковой. Маленькая Иринушка не сходила с рук боярыни, а та рассказывала ей на ушко, откуда пришло на Русь имечко Ирина. Но Марию с удовольствием слушал и боголюбивый царь. И получалось так, что предания старины Мария излагала для всех и даже для патриарха. Голос у Марии был грудной, мягкий, и все слушали, затаив дыхание!
— Жила-была в городе Магедоне у язычника Ликимия дочь Иринушка. Жила она в отдельном дворце, и воспитывал её мудрый и тайный христианин Анемиан. И когда она выросла, то приняла крещение и стала христианкой. Она была божественно красива, но красоту её превышали подвиги по благовестию учения Христа. В своём родном городе она привела к вере Христа многие тысячи горожан. Творя чудеса и исцеляя больных, она сама преодолевала страдания и гонения.
Иной раз Мария умолкала и смотрела на всех, кто сидел рядом, боясь, что утомила своим рассказом. Но нет, все внимали ей с глубоким интересом, а патриарх ласково улыбался. И Мария продолжала описывать судьбу святой мученицы Ирины:
— Когда язычники стали жестоко преследовать Ирину, она белым облаком была перенесена из Магедона в Эфес, где вскоре Господь открыл ей двери в Царство Небесное. И тогда Иринушка в сопровождении своего учителя и близких ей христиан ушла из города в горы и там скрылась в пещере, попросив своих спутников привалить к входу в пещеру огромный камень. Учитель увёл христиан от пещеры, а на четвёртый день прислал их в горы. Они отодвинули камень, но святой Ирины в пещере не было: она улетела в Царство Небесное.
Мария замолчала и посмотрела на сидящих за столом: довольны ли?
— Всё было так просто и так прекрасно в жизни святой Ирины, — сказал патриарх Филарет и погладил внучку по головке.
Это был праздник, и взрослые веселились вместе с именинницей. А когда женщины унесли малышку на полуденный сон, мужчины заговорили о том, что уже назревало в русской жизни. Острее, чем у других, озабоченность будущим державы проявлялась у патриарха Филарета. Очевидно, ему удавалось видеть подспудное течение событий. Филарет завёл разговор о предстоящей войне с Польшей:
— Ныне нам нельзя забывать, дети мои, что кончаются перемирные лета с Жигмондом. Он хотя и угасает, но придёт время нюхать порох, и он воспрянет.
Царю Михаилу война была ненавистна. Потому он просил Филарета:
— Ты, батюшка, почаще твори молебны во благо мира в державе.
— Каждый день, сын мой, просим в храмах Всевышнего о ниспослании державе мира и покоя. Так ведь и Сатана не дремлет. Он в свои трубы гласит. Потому наша мирская забота о сохранении покоя должна умножаться.
— Мы и так умножаем силы, — отозвался царь. — Вот пушки у Шеина хорошо отливаются, ядра. Зелье пороховое прирастает. Ты вот говоришь, что иноземные солдаты воюют хорошо, так найми, царской казны не пожалею.
Филарет попытался вспомнить, когда он говорил об иноземных солдатах, и не припомнил, подумал, что сыну хотелось, чтобы великий государь набирал в войско иноземцев. Что ж, позже он исполнил это желание; царя и нанял 3667 человек германской и шотландской пехоты. Ещё он с помощью иноземных полковников обучил европейскому строю 3330 человек московской пехоты. Эта пехота была оснащена по германскому образцу. Филарет по этому поводу съязвил однажды:
— Нам бы всем в иноземные камзолы рядиться, а тришкин кафтан нам уже не к лицу.
У пушек теперь в зарядах появились не только ядра, но и картечь. Это было сделано заботами Михаила Шеина и Анисима. Воробушкин отныне дневал и ночевал на пушечных дворах, хотя уже давно построил себе дом в Земляном городе, на Остоженке. Однажды великий государь пригласил к себе на трапезу вместе с Шеиным и Анисима. Когда сели за стол да выпили царской медовухи, спросил:
— Это ты, что ли, Анисим, от короля Жигмонда из полона убежал? Да ещё и Ванюшу Шеина прихватил.
— Я, светлейший. Так ведь Жигмонда легко было вокруг пальца обвести. Вот я и… — засмеялся Анисим.
И тут патриарх серьёзно и строго спросил:
— А Смоленск ты пошёл бы отвоёвывать у поляков — наш город? Неужто мы его так и оставим ляхам? Не потеряй Митька Шуйский тогда сорок тысяч рати, отстояли бы мы его. Анафему послал бы Митьке. Да что скажешь о покойном…
Анисим тоже стал строгим. Он был уже не тот Воробушкин, которому только бы смеяться. Он произнёс:
— Я пойду, святейший, воевать Смоленск, и рано или поздно, но мы вырвем наш город из рук ляхов. Не мы, так сыны наши это сделают.
— Спасибо тебе. Ты истинный россиянин и изрёк правду. — И Филарет обратился к Шеину: — Нам надо готовиться возвращать Смоленск.
— Я тоже так думаю, государь. Перемирные лета кончаются, — ответил Шеин.
А пока была мирная жизнь, Михаил Шеин год от года богател внучками и внуками. Сын Иван и его жена, городская дворянка из рода Зюзиных, племянница посла Зюзина, Антонина в первый же год супружества подарила деду внука. Назвали его Семёном. Говорили позже летописцы, что он стал отцом генералиссимуса Петровских времён Алексея Шеина. Вот куда взметнулась ветвь русских бояр Шеиных! А ведь прадеда, Михаила Шеина, потом казнили якобы за измену. И, кстати, было сказано, что потомки здраво разберутся в том, был Михаил Борисович Шеин изменником или всё-таки он герой отечества. Россияне склонятся к последнему. Не мог же великий государь и патриарх всея Руси ошибиться в Михаиле Шеине, зная его многие годы как преданного державе россиянина.
Незадолго до новой войны с Польшей заслуги Михаила Шеина перед Русью были отмечены царём Михаилом и великим государем Филаретом. Ему дали денежное жалованье из Костромской чети 500 рублей и, кроме того, пожаловали из дворцовых волостей большую волость — село Голенищево с присёлками и деревнями. Поместья и вотчины Михаила Шеина были освобождены от всяких сборов. Хотелось Михаилу Шеину побывать в новом поместье: ведь там было близко имение, которое подарил ему Борис Годунов, но не хватало времени у главы Пушкарского приказа на свои семейные дела. Неумолимо приближалось истечение срока Деулинского перемирия.
Первое июня 1632 года с каждым днём становилось всё ближе, и, казалось, в воздухе уже пахло пороховой гарью. Держава готовилась к войне. Всюду, где было можно, закупалось оружие. Везли из Казани и Астрахани сабли татарских мастеров. В Германии и Швеции покупали мушкеты. Считал великий государь Филарет, что новую войну с Польшей должна начать Русь, и не потому, чтобы утолить жажду войны, а чтобы освободить юго-западную Русь от польско-литовского ига. Новое движение замыслам Филарета придали события, случившиеся в Польше. Двадцать пятого апреля тридцать второго года во время полуденной трапезы царя Михаила и его отца, а также неизменно обедающего с ними Михаила Шеина в трапезной появился Иван Шеин и доложил Михаилу Фёдоровичу:
— Царь-батюшка, прискакал гонец из-под Вязьмы. Лазутчики из Польши принесли весть, которую тебе должно от гонца услышать.
— Зови его, пусть говорит.
И Иван метнулся из трапезной и через миг привёл гонца. Тот мял в руках шапку и ждал слова государя. Но царь замешкался, гонец выступил вперёд Ивана Шеина и поклонился.
— Сказано мне, ваше царское величество, что двадцатого апреля скончался польский король Сигизмунд Ваза. Других вестей нет.
Царь Михаил перекрестился.
— Вечная память Жигмонду, — отозвался Филарет.
Все замолчали. Умер враг. Надо бы радоваться, но никто из россиян не испытывал радости. Знали сидящие за столом, что на смену Сигизмунду встанет на престол Польши его сын Владислав. О нём же на Руси давно сложилось мнение как о дерзком воителе. Теперь надо было ожидать его скорого появления с войском на русских рубежах. Прервал молчание Иван Шеин. Он уже понаторел в посольских делах, знал, какие законы властвуют над царскими особами, и сказал:
— Выслушайте меня, царь-батюшка и великий государь. Весть, которую принёс гонец, добыта нашими лазутчиками и потому без силы закона. Поляки перекрыли свою границу. И ныне пока сейм не изберёт королём Владислава, он будет жить с соседями в мире.
Филарет встал, подошёл к Ивану, положил руку ему на плечо.
— Спасибо, что просветил. Сказанное тобой нам на пользу. Руки у нас развязаны, и нам нужно немедленно раскатить государеву телегу. Нам надо вздыбить всех так, как если бы враг подходил к стольному граду.
Но не всё сделали в державе великий государь и его помощники, чтобы русская телега быстро покатилась. Кто-то яростно мешал её движению, и позже это торможение достигло такой степени, что все усилия Филарета пошли прахом.
Почти год назад царь Михаил Фёдорович и великий государь Филарет указали князьям Димитрию Черкасскому и Афанасию Лыкову быть на государевой службе и, возглавив полки, идти к рубежам Руси на случай нападения польских войск. Но ни Димитрий Черкасский, ни Афанасий Лыков не выполнили государевых повелений. Более того, они затеяли между собой жестокую свару, в которую пришлось вмешаться царю и великому государю. За две недели до смерти Сигизмунда князь Лыков бил челом царю Михаилу и великому государю, что он не может быть в товарищах у князя Черкасского: «Нрав у него такой тяжёлый, что стерпеть невозможно. К тому же я стар и служил государям сорок лет, из которых лет тридцать ходил своим набатом, а не за чужим набатом и не в товарищах». Челобитная попала к царю, а не к патриарху. Михаил Фёдорович не привык трудиться и размышлять и передал челобитную в Боярскую думу. И бояре наказали за бесчестье князя Черкасского князя Афанасия Лыкова. С него была взыскана огромная сумма — 1200 золотых рублей. А назначение князей на порубежную службу за Вязьму было отменено, что потом сказалось очень жестоко на всём ходе приближающейся войны с Польшей.
И надо же быть такому несчастью, что как раз в апрельские дни тридцать второго года, в самую горячую пору подготовки к войне с Польшей, слёг в постель великий государь Филарет. Ему уже было близко к восьмидесяти годам, и за плечами он нёс пятнадцать лет жестокой жизни от опалы Бориса Годунова и в польском плену. Всё это и подорвало могучее здоровье воителя.
Ещё в тот день, как получили весть о смерти Сигизмунда, царь и великий государь договорились спешно созвать Земский собор и решить на нём вопрос о войне. И опять из-за проволочек в думе он был созван лишь в июне. Да, Земский собор единогласно решил начать войну с Польшей и воспользоваться польским «междуцарствием», но решения собора ещё долгое время оставались только на бумаге.
Михаил Шеин в эту пору занимался лишь пушкарскими делами. Люди его приказа свозили, стягивали к Москве и дальше, на запад от Москвы, пушки, пороховые заряды, картечь и ядра. Даже дома Михаил бывал редко, забывал время, дни.
Но этот летний день надолго остался в его памяти. Едва Шеин пришёл в Пушкарский приказ, как от царя прибежал посыльный. Отдышавшись, он сказал:
— Батюшка-воевода, тебя царь скоро зовёт к себе.
Шеин, не мешкая, отправился во дворец. Царь ждал его в тронной зале, сидя на престоле. Подойдя к нему и поклонившись, Михаил увидел, что царь не смотрит на него. Царский взор блуждал где-то за окнами палаты. У Шеина ёкнуло сердце, предчувствуя какую-то беду. Он подумал, что со дня болезни отца царь очень изменился, словно его подменили или он пребывал под чьей-то волей.
— Что случилось, царь-батюшка? — спросил Шеин.
— То, что должно было случиться. Сказали мне бояре в думе да ещё и воеводы, что ты отдал полякам Смоленск, тебе его и возвращать.
Шеин никогда не испытывал такого гнева, как от этой обиды, нанесённой ему царём с чьих-то слов. Стиснув зубы, он хотел смолчать и не смог.
— Наши бояре за печками сидели, когда поляки брали Смоленск. Русь отвернулась от защитников Смоленска, в ту пору погрязшая в своих сварах. Бояре предали смолян, стоявших двадцать месяцев против поляков. — Выплеснув всё накопившееся за многие годы, Шеин уже более спокойно добавил: — Повелевай, царь-батюшка, что от меня хочешь. Тебе я присягал на верность и буду служить, пока есть силы.
Царь Михаил понял, что Шеин прав: не он сдал Смоленск полякам, а Русь отдала его своим врагам. Царь забыл, что наказывали ему бояре, и ответил просто:
— Ты, Михайло Борисыч, не сетуй на меня. На думцев я тоже в обиде. Как батюшка слёг, так они, словно псы алчущие, окружили меня и кусают. Тебе скажу одно: нет у меня другого воеводы, способного, как ты, порадеть за Русь. Иди уж под Смоленск, а в товарищи дам тебе князя Димитрия Пожарского, мужа зело разумного и умелого.
— Знаю князя Пожарского как лучшего воеводу и рад буду, что он пойдёт со мной в сотоварищах. Только где он ныне?
— В вотчине, сказывают. Так из Разрядного за ним гонца послали.
— Царь-батюшка, вот в чём ты меня послушай. Смоленск очень мощная крепость. Не каждому войску дано взять её. Но мы можем её одолеть, если послушаешь моего совета и тотчас передашь мне всю рать и немецкий полк и наших стрельцов с иноземным боем. И всё это надо сделать немедленно, так, как если бы враг стоял у ворот стольного града. Летом у нас руки развязаны. Лишь летом мы можем взять Смоленск. Осень и зима погубят наше войско.
— Но я так быстро не могу, Михайло Борисыч. Надо спросить думцев, как они решат…
— Так, может быть, сходим к батюшке Филарету?
— Нельзя к нему, изнемогает он.
— Тогда советуйся, царь-батюшка, с боярами. Да поторопи тугодумов-бояр. Каждый потерянный день нам боком выйдет. Ой как время дорого!
— Вот ты с моим батюшкой одинаковы. Вам бы всё поспешать. А присловье забыли: тише едешь, дальше будешь.
— Святейший прав, царь-батюшка. Но воля твоя, и я готов идти к войску.
— Так-то лучше. И велю я тебе и князю Пожарскому собираться в Можайске и Вязьме. Как соберётесь, идите на Дорогобуж. Взяв его, к Смоленску поспешайте.
Михаил Шеин тоже таким предполагал свой поход к Смоленску. Он не сомневался, что Дорогобуж будет взят быстро, и молил Бога, чтобы войско без помех дошло по летней поре до Смоленска. А там уж как судьбе будет угодно, но он постарается вернуть древний русский город в лоно державы.
И вот уже пришло время начинать поход. Однако на пути всех честных россиян, стремящихся постоять за державу, с первых же дней появились некие злые силы, которые мешали Михаилу Шеину и всем его сотоварищам делать так, как было задумано. Полки, которые надо было вести к Можайску, собирались так медленно, как никогда прежде. Даже о съестных припасах, казалось, никто не заботился. Их никто не вёз для войска. Анисим докладывал Шеину, что и у них в Пушкарском приказе начались неполадки. На пушечные заводы прекратили подвозить чугун, и пушки отливать стало не из чего.
Ко всем прочим неполадкам добавилась ещё одна. Спустя полтора месяца после назначения князя Димитрия Пожарского вторым воеводой он «сказал на себя чёрный недуг». Михаил Шеин попытался выяснить, что это такое — «чёрный недуг». Анисим на этот вопрос воеводы ответил просто:
— Так это когда человек день и ночь хмельным упивается — вот и «чёрный недуг».
А сотоварищ Шеину был очень нужен. Не управлялся он один с подготовкой к походу, к тому же во всём встречал помехи. И Михаил решил просить Артемия Измайлова встать к нему вторым воеводой. Поздним вечером он пришёл к нему домой и сказал:
— Дело такое: оскудела Русь отважными мужами. На тебя вся надежда. Встань ко мне в товарищи.
Артемий не отозвался на сказанное Михаилом. Он позвал жену и попросил её:
— Свет мой Анастасия, собери-ка нам на стол, за встречу.
Анастасия, ещё не потерявшая девичьей стати, с улыбкой ответила:
— Вы, голуби, идите к столу. Там уже всё приготовлено.
— Вот так-то, брат Михаил, ты ещё по улице шёл, а моя голубушка уже тебя учуяла.
Михаил и Артемий сели за стол и, присматриваясь друг к другу, молча выпили хмельного. Потом Михаил пожаловался:
— Плохо у нас стало с воеводами. Назначили Черкасского и Лыкова к Смоленску идти, так они правдами и неправдами отбоярились. Полтора месяца в склоках провели. У князя Пожарского «чёрный недуг». Вот и пришёл к тебе. Скажешь слово, завтра же иду к царю. Нет, взыскивать не буду.
— Я с тобой пойду, брат, а другого ответа не услышишь. Одно меня беспокоит: проиграем мы эту войну без Филарета. А уж коль он слёг, то надолго, может, до исхода. Слышал я, что Салтыковы, Челяднины и Репнины к трону мало-помалу подвигаются. А как придвинутся, тут же под себя батюшку-царя подомнут.
— Верно мыслишь, Артемий. То и я вижу. Одно скажу в утешение: мы с тобой не отроки и нам уже ничто не должно быть страшно. Нам бы только успеть порадеть за Русь.
— Что ж, правильно говоришь. Но, может, у детей наших дело лучше пойдёт. Правда, мой Василий тоже рвётся на войну. Он уже тысяцкий.
На другой день Шеин доложил царю, что окольничий Артемий Измайлов готов встать рядом с ним вторым воеводой.
— А лучшего сотоварища мне и не надо.
— Благословляю вас, побратимы. Знаю верность вашу друг другу, — повеселев, отозвался царь.
Наконец после долгих проволочек девятого августа 1632 года Разрядный приказ вручил Михаилу Шеину роспись лиц, назначенных на боевые действия под Смоленск. Было сказано в росписи, что на большой полк поставлены воеводами Михаил Шеин и Артемий Измайлов, а к ним приписаны дьяки Александр Дуров и Димитрий Карпов. Главным пушкарём у наряда пушек был назначен воевода Иван Арбузов, а ему в помощники дан дьяк Иван Костюрин. Были приписаны к Михаилу Шеину дьяки, которые ведали боевыми запасами, а ещё выдавали жалованье немцам и шотландцам. Старались в Разрядном приказе очень прилежно и даже священнослужителей и толмачей прислали к Шеину.
В тот же день августа Михаил Шеин с товарищами, приписанными к нему Разрядным приказом, были обязаны встать «у руки государевой» в Благовещенском соборе. А ведь к этому времени Шеин рассчитывал взять Дорогобуж и быть под Смоленском. Однако надо было слушать царя, а он говорил, не ведая того, что его слова звучат насмешкой:
— Благословляю вас, воеводы и служилые люди, на подвиг во имя Святой Руси. А мы за вас помолимся.
Отстояли службу и помолились в храме Благовещения все, кто пришёл с Шеиным. А как вышли из храма, Шеина и Измайлова позвали в Разрядный приказ и им был передан подробный наказ от царя о том, что делать воеводам в походе под Смоленск и во время осады его. Шеин и Измайлов были крайне удивлены, получив этот огромный лист. Подобного они не знали. Их никто не хотел признавать за воевод, умеющих и должных принимать самостоятельные решения и исполнять их. Огромный наказ превращал их всего лишь в исполнителей чужой воли. Выходило, что, назначая их воеводами над войском, кто-то, может быть, далёкий от военного опыта, расписал им все действия до последней мелочи. Шеин и Измайлов были возмущены до глубины души и даже хотели взбунтоваться, а в какой-то миг просили Бога наслать на них «чёрный недуг», как на князя Димитрия Пожарского. Он, как понял Шеин, «заболел» не от праведной жизни.
Шеин и Измайлов покидали Москву с ощущением, что вырывались из некоей клетки, и они попытались забыть о царском наказе. Но он довлел над ними, и, двигаясь впереди полков московской и немецкой пехоты, они оставили верховых коней, пересели в карету и принялись читать царский наказ, чтобы не попасть впросак.
— Давай-ка, Артемий, посмакуем, что нам царь-батюшка на дорожку пожелал.
Артемий достал царский наказ и начал читать. Звучало написанное так, что царь обращался не к ним, а к кому-то неведомому.
— «Они должны идти на Можайск, — читал Артемий, — к ним в сход назначены: окольничий и воевода князь Семён Прозоровский и князь Илья Бондарев из Вязьмы; стольник и воевода Богдан Нагово из Калуги, из Севска воевода Фёдор Плещеев. Все эти воеводы должны выступить под Смоленск лишь по требованию Шеина и Измайлова. Поименованы все города, из которых дворяне и боярские дети назначены в этот поход; кроме того: казанские татары, московские стрельцы, донские атаманы и казаки, ногайские мурзы, едисанские городовые стрельцы, наёмные немецкие люди — капитаны, ротмистры и солдаты с немецкими полковниками Александром Лесли и Яковом Шарль».
Измайлов замолчал, смотрел на Шеина с улыбкой, а в глазах играла злость. Спросил:
— Читать дальше?
— Издёвка, да и только. Но читай, с нас же спрос будет.
— «Когда все ратные люди соберутся в Можайск и будут привезены туда наряд, зелье, свинец и всякие пушечные и подкопные запасы — тогда Шеин и Измайлов должны проверить по разборным спискам всех приехавших и идти в Вязьму. После того послать под Дорогобуж и под Белую голов с дворянами, детьми боярскими, казаками и татарами и велеть им добыть „языков“ и не пропускать к Дорогобужу никакие запасы. Если удастся добыть „языков“, расспросить их и отправить в Москву, а самим Шеину и Измайлову идти к Дорогобужу; если между Вязьмой и Дорогобужем попадутся заставы и острожки, поставленные литовцами, сбить их, придя к Дорогобужу, выбрать место для стоянки и отписать к „державцам“ и к польским и литовским людям, чтобы они сдали город; в случае добровольной сдачи обещать государево жалованье и свободный пропуск из города со всем имуществом; в случае же взятия города после осады — беспощадное избиение всех дорогобужан». — Измайлов откинулся на спинку сиденья. — Устал я от этого вздора. Тридцать лет в войске и впервые читаю такое вразумление.
— Я с тобой согласен. Но придётся дочитать, — отозвался Шеин.
Долгий летний день ещё сверкал солнцем, обочь дороги то тянулись перелески, то подступал могучий лес. Проехали Большие Вязёмы, до Можайска ещё было далеко, и, отдохнув от прописей, Измайлов продолжал читать:
— «Кроме переписки с литовскими людьми Шеин и Измайлов должны тайно посылать грамоты в Дорогобуж к русским людям с теми же обещаниями и угрозами. В случае взятия Дорогобужа — назначить туда воеводу и дать в его распоряжение ратных людей. А самим идти под Смоленск. Если же Дорогобуж не будет скоро взят, то выбрать голов, которым бы ратное дело было в обычай, дать им ратных людей и оставить для промыслу над Дорогобужем, а самим всё-таки идти под Смоленск. Придя к Смоленску, встать в таборы, сделать остроги, выкопать рвы и всякими крепостями укрепиться, чтобы в тех острожках было бесстрашно и надёжно сидеть в случае прихода польских и литовских людей».
Артемий остановился передохнуть. Михаил усмехнулся:
— Устал. Да есть отчего. Ты, Артемий, прочитай последние строки.
— Сказано тут доходчиво. Сводится всё к одному: просят нас взять те города, которые раньше принадлежали Московскому государству. Обо всём, что произойдёт в ходе войны, сообщать царю Михаилу Фёдоровичу. Вот и всё.
— Скажу, Артемий, одно: не будет у нас ничего, как написано в наказе. Всё войско движется так медленно, неповоротливо, что с ума можно сойти. Нам бы в июле должно быть под Смоленском, пока у гетманов не было под рукой войска и в Польше царило безвластие. Сейчас же со дня на день встанет на трон Владислав и раньше нас подойдёт к Смоленску с мощным войском. Он-то уж не отдаст Смоленск Шеину, которого когда-то умолял научить его, как защищать крепость. Худо всё, и мы с тобой поплатимся за русскую неповоротливость.
К утру одиннадцатого августа Шеин и Измайлов, а следом за ними немецкий и московский пехотные полки вошли в Можайск. Им бы совершить ещё таких четыре-пять переходов, и они были бы под Смоленском. Но того не произошло. Движение было прервано, и всего лишь по одной причине: Шеину не выдали в Москве деньги на жалование немцам и на корм московским стрельцам, и немцы без выплаты им жалованья дальше Можайска идти отказались. Из-за разных проволочек деньги из Разрядного приказа были отпущены только второго сентября, и лишь к десятому сентября их привезли в Можайск. В течение минувшего месяца Шеин отправил в Москву не меньше десяти гонцов с требованием прислать деньги.
— Уму непостижимо, — гневался Шеин, — чтобы нас так безжалостно загоняли в стойло, где нас ждут одни неудачи. Месяц просидели — и ради чего!
Дальше, как и предполагали Шеин и Измайлов, им не везло в походе до такой степени, что они были вынуждены отписывать царю. Путь из Можайска до Вязьмы с расстоянием всего в сто десять вёрст, занял больше двух недель. А в Вязьме полки опять застряли на месяц, потому что полковники Лесли и Шарль потребовали очередного жалованья. Из Вязьмы вышли только второго октября и лишь одиннадцатого октября пришли под Дорогобуж, проделав за эти дни всего сто десять вёрст.
Предчувствия Шеина о неудачах подтверждались каждый день. Он с горечью писал в донесениях Разрядному приказу о том, что войска движутся вперёд с великими затруднениями, что осенние дожди превратили дороги в болота, что снесены на реках мосты, что речушки превратились в реки. Он писал, что лошади не в силах везти пушки, ядра и заряды и приходится тянуть их ратным людям. Но самое страшное было то, что воины шли полуголодными. Войско получало лишь десятую часть нужного ему корма. Закупать же запасы продовольствия на пути из Москвы к Смоленску было не у кого.
В эти дни похода к Дорогобужу Шеин не раз вспоминал двадцать месяцев, проведённых в осаждённом Смоленске. Тогда Русь забыла о защитниках города. И вот всё повторялось, хотя теперь к Смоленску шли его освободители.
Глава тридцать вторая ПРОБЛЕСКИ УДАЧИ
Никогда раньше в сражениях с врагами воевода Шеин не испытывал такой беспомощности, как в войне, которую начали по воле царя и Боярской думы россияне против Польши. Все наказы царя войску, все его повеления московским приказам и в первую голову Разрядному приказу были неисполняемы, и всё по одной причине: из-за неповоротливости чинов приказа. Казалось бы, чего проще завезти по благоприятной поре хлебные запасы в Вязьму, и минувший год-то был урожайным. Но это не было сделано. Михаил Шеин писал четвёртого и двадцать восьмого ноября в своих донесениях, «что государевых запасов нет, что купить не у кого, а из Вязьмы к войску запасов привозят понемногу, телег по 10 и 15. И того запасу на один день не становится, а пешие русские люди с голоду бегают, а немецкие люди от голода заболели и помирают».
И всё-таки, несмотря на невероятные трудности, войско Михаила Шеина и Артемия Измайлова продвигалось к Смоленску широким фронтом. Воевода князь Гагарин со своим полком взял двадцатого октября город Серпейск, лежащий в ста пятидесяти вёрстах левее Дорогобужа. В это же время по указанию Шеина полковник Лесли и воевода Сухотин начали переговоры с воеводой Дорогобужа маршал ком Ясеничем. Когда встретились с Ясеничем, прокричал ему на стену воевода Сухотин:
— Сдавайся, воевода, пока не поздно! Нас тут тридцать тысяч, мы тебя сомнём вместе с крепостными стенами, которые пальцем проткнёшь.
— Дайте слово, что выпустите нас с миром, и мы оставим город! — прокричал в ответ маршалок Ясенич.
Хороший ход переговоров испортил полковник Лесли. Он объявил, что город должны покинуть не только поляки, но и все коренные жители Дорогобужа.
Ясенич сказал, что должен узнать мнение горожан. Они же дружно заявили, что им нет нужды покидать город. И прошло восемь дней пустых переговоров. Лишь после возвращения воеводы Михаила Шеина из-под Рославля, который он освобождал вместе с князем Прозоровским, горожанам была обещана полная защита от всякого насилия и принуждения. Восемнадцатого октября город Дорогобуж сдался русской рати.
В октябре сдались без сражений многие прежние русские города, томившиеся под короной Польши. Воевода Измайлов, который принимал гонцов от воевод, докладывал Михаилу Шеину:
— Радуйся, воевода. Отныне под двуглавого орла Руси возвращены города Невель, Себеж, Белая, Почеп, Трубчевск и даже Новгород-Северский. Жду гонцов из-под Стародуба, Миргорода и Друя.
— Надо сделать отписку государю. Пусть радуется. У нас же причин для радости нет. Пора выступать под Смоленск, но как поведёшь голодную рать? Опять нужно слать гонцов, напоминать царю, что войско голодает. Будет ли тому конец?!
Двадцать второго ноября из Москвы в Дорогобуж прискакал гонец и, вместо того чтобы привезти весть о том, что хлеб в пути, «порадовал» Шеина тем, что в Москве для покупки продовольствия собираются деньги: с торговых людей — пятая деньга, а с духовенства, монастырей, бояр, князей и приказных людей — добровольные денежные пожертвования. Во главе де нежного сбора поставлены князь Димитрий Пожарский и чудовский архимандрит Левкой, а во главе сбора хлебных и прочих кормовых запасов — князья Иван Борятинский и Иван Огарёв. Собирают сухари, крупу, солод, толокно, масло коровье и ветчину.
— Как соберут, — докладывал гонец Шеину, — так проверят и немедленно отправят под Смоленск.
После того как проводили в Москву гонцов, Михаил Шеин с горечью сказал Артемию Измайлову:
— Что ж, брат мой, будем поднимать полуголодную рать и поведём её под Смоленск. Где наша не пропадала!
— Ты прав, Борисыч, надо идти, пока Владислав с войском не встал на нашем пути.
Двадцать четвёртого ноября рать Шеина выступила из Дорогобужа и двинулась к Смоленску. Весь путь Шеин и Измайлов не покидали седел, двигались по всей рати вперед-назад, подбадривали воевод, полковников, тысяцких, а чаще всего простых ратников. Но не только ратники, но и кони еле волочили ноги, потому что кроме соломы они не получали других кормов. Воинам приходилось вновь и вновь впрягаться в постромки и тянуть вместе с конями пушки, телеги с ядрами и зарядами. Измученная до предела рать подошла под Смоленск лишь в середине декабря. Уже стояли крепкие морозы, и голодным воинам не было от них спасения. Они обмораживали руки, ноги. Особенно страдали от морозов немцы.
Увидев маковки и кресты храмов, воины крестились, благодарили Бога, что дал им сил добраться до цели. «Теперь достать бы сей град, войти в его тёплые дома, избы», — переговаривались между собой ратники.
Но пока не было места досужим восклицаниям. Удастся ли россиянам на этот раз взойти на Соборную гору, никто не стал бы ручаться за это. Шеину и Измайлову предстояло распорядиться ратью, поставить её так, чтобы в стан не залетали вражеские ядра. Остановились на левом берегу Днепра и с ходу начали строить два моста через Днепр. Одновременно пешие полки принялись делать временную переправу по тонкому льду. В лесу рубились жерди, их подносили к реке и укладывали настилом жёрдочка к жёрдочке. Шли осторожно, цепочкой, с жердями в руках, чтобы не уйти под лёд, и одолели Днепр без потерь. Как встали близ города с юго-восточной стороны, принялись рыть траншеи, ставить туры для пушек. А потом и за землянки взялись: морозы донимали и от них надо было прятаться. Шеин и Измайлов сами следили за тем, как рать занимала позиции. Михаилу всё тут было знакомо. Траншеи, которые рыли поляки, заросли травами, их засыпало снегом, но они угадывались и через два десятка лет. Виднелись и котлованы от землянок.
— Воспользуемся польским наследством, — пошутил Шеин, обращаясь к ехавшему рядом Измайлову. — Однако нам с тобой не хватает четырёх полков, чтобы полностью осадить город. Тогда у поляков было больше тридцати тысяч, у нас сегодня пока лишь двенадцать.
Шеин и Измайлов часто советовались в пути. Так было и в те дни, когда осматривали крепость. Их сопровождали две конные сотни. И не напрасно: можно было ждать вылазки поляков в любую минуту. Поляки за ними наблюдали.
Осматривая стены и башни крепости, Шеин заметил, что они после минувшей войны были восстановлены.
— Не дремали поляки прошедшие годы. Видишь вон ту широкую башню? Помнится, Шиловой её называли. Так поляки узнали от предателя, что у неё самые тонкие стены, и ударили из всех пушек, проломили стены и сразу бы ворвались в город, да слава покойному Сильвестру, взорвал он эту башню, сам пал и сотни врагов похоронил. И теперь нам нужно прежде всего добыть «языка». Ты подбери сегодня толковых ратников, и пошлём их на поиск. Надо думать, что смоляне да и поляки, поди, выходят из города. Тут их и отловим.
— Думал я об этом тоже. Должно знать, чем живёт и дышит враг.
— И помни, собирай парней не на один день, сколоти артель человек из десяти отважных, и пусть послужат, сколько Бог даст. Эх, сейчас бы побратимов: Петра, Прохора, Нефёда Шило, Павла Можая! Помнишь?
— Как не помнить, славные были лазутчики.
Осмотрев стены и башни крепости, воеводы пришли к выводу, что до подхода полков от Стародуба, Почепа, Рославля и других городов, освобождённых за минувшую осень, идти на приступ нельзя. Смоленск настолько успел укрепиться, что сумеет выстоять против тех малых сил, которые выставили россияне. Пока приходилось лишь готовить силы для освобождения Смоленска. И время работало против россиян.
Только в январе к Шеину подошли со своими полками князья Семён Прозоровский и Василий Белосельский. Шеин поставил их на западе от Смоленска, велел укрепляться, копать траншеи, землянки. Следом подошёл от Рославля князь Богдан Нагово с полком. В конце января подошёл из Москвы иноземный полк во главе с полковником Маттисоном. Лишь десятого февраля 1633 года царь Михаил получил донесение воеводы Шеина о том, что крепость Смоленск находится в полной осаде: «Город Смоленск совсем осаждён, туры поставлены, да и острожки поставлены, из города выйти и в город пройти немочно».
Однако польские воины часто беспокоили русских ратников, которые вели осадные работы. Группами по тридцать-сорок воинов они выскакивали из ворот, подбегали к траншеям и обстреливали их из луков. Артемий Измайлов устроил у незасыпанных Малаховских ворот засаду. Старшему сотскому Матвею Гребневу он наказал:
— Сразу, как выйдут они из ворот, ты их не трогай. А как будут возвращаться, последних, сколько сможешь, и отсеки.
— Так и сделаю, как сказано, — пообещал Гребнев и не обманул.
В засаду ратники Гребнева ушли на рассвете. Пролежали в лозняке, затаившись, до полудня. В полдень, когда шёл густой снег, ворота распахнулись и из них выбежали почти тридцать гайдамаков[33]. Когда они отстрелялись и бежали обратно, выскочили ратники Гребнева. Завязалась скоротечная схватка. Двоих гайдамаков сразу оттеснили от группы, на них навалились шестеро ратников, схватили и унесли. Поляки попытались освободить захваченных, но им это не удалось. Оставив троих убитых в схватке, они скрылись в воротах.
Измайлов и Гребнев повели взятых в плен в острожек, в котором находился Михаил Шеин. Воевода сидел в землянке с князем Прозоровским. Увидев введённых гайдамаков, Шеин сказал:
— Ну, сотский Гребнев, поздравляю тебя с уловом.
— Спасибо, воевода. Вот, допрашивай. Податливы. Говорят, что из Теребовля.
Шеин внимательно осмотрел их и обратился к Артемию:
— Однако ты уведи вот этого матерого хитрована. Он правды не скажет. Погляди в его глаза.
Когда «хитрована» увели из землянки, Шеин подошёл ко второму гайдамаку, вроде бы с простым, круглым лицом, но с умными глазами.
— Тебя как звать? — спросил Шеин.
— Остапом кличут, — ответил тот.
— Слушай, Остап, расскажи правду, как живут в Смоленске, сколько там войска стоит, и мы тебя отпустим. А ежели пожелаешь остаться у нас, Руси послужишь.
Остап слушал Шеина, смотря ему в глаза, и было видно, что он если будет говорить, то скажет правду. Он и не намерен был говорить неправду. Три дня назад семь гайдамаков попытались убежать из Смоленска. Их схватили, три дня пытали, добиваясь признания, кто ещё хочет убежать. Гайдамаки ни в чём не признались, потому как ничего не знали, и гетман Соколинский, который хранил у себя ключи от Малаховских и Днепровских ворот, приказал повесить беглецов на глазах у всех воинов. Остап не хотел умирать на виселице и прошептал:
— Пан воевода, спрашивайте. Всё, что я знаю, скажу.
— Ты правильно поступаешь, Остап. Ведь мы хотим отобрать у поляков свой город. Теперь скажи: ты знаешь, сколько в городе хлеба?
— Этого я не знаю, пан воевода, но похоже, что много. В городе было до двух тысяч лошадей. Теперь их осталось меньше половины. Нет ни сена, ни соломы. Про овёс давно забыли.
— И что из того?
— А то, что этих лошадей кормят печёным хлебом.
— Скажи, а откуда войско берёт воду?
— С водой, пан воевода, совсем плохо. Как перестал пан Соколинский выпускать горожан и воинов к реке, так начали пить воду из колодцев. Но в глубоких воды уже нет, а в мелких она болотная и гнилая.
— Что ещё плохо в городе?
— Дров нет. И горожане вместе с воинами мёрзнут. Потому разбирают и жгут крыши, лишние избы и клети.
— Ну а войска сколько?
— Так я, пан воевода, счета не знаю.
— И пушек сколько не знаешь?
— Много их, а счётом — не знаю. Да вы, пан воевода, не горюйте. Охрим счёт знает, и он проныра хороший. Скажите, как мне, что вы его не повесите и не убьёте, а отпустите, так он и поведает.
— Вот ты ему и скажешь, — ответил Михаил.
Князь Семён Прозоровский посоветовал Шеину:
— Теперь ты их вместе сведи и спрашивай того Охрима о том же.
Как свели гайдамаков да сказали Охриму, что он доживёт до глубокой старости, так тот и выложил всё, что знал о польском войске, о том, как оно приготовилось к обороне. От Охрима Шеин узнал, что все ворота, кроме Малаховских и Днепровских, засыпаны валами.
— Никакой силы не найдётся, чтобы их одолеть. Теперь поляки и в башнях нижний ярус забрасывают землёй. Всех смолян на ту справу согнали. А пушки у них на стенах через пятьдесят шагов стоят.
Допросив «языков» и сделав вывод, что они не обманывают, Шеин решил отправить их в Москву, как и повелел о том царь Михаил в наказе.
А вскоре лазутчики Измайлова добыли ещё одного «языка». Это был литвин из Вильно, лет тридцати, упитанный, с холодным взглядом голубых глаз. Назвать себя он не захотел, держался чванливо и гордо, был дерзок. Он заявил Шеину:
— Я вам ничего не скажу, москали. Даже и пытать не думайте.
Матвей Гребнев сказал Шеину:
— Он, как бешеная крыса, кусался и плевался, когда мы его под Красным взяли.
Красное было большим селом в сорока вёрстах от Смоленска. Оно давно интересовало русских воевод. Литвин шёл вдвоём с польским воином из Красного, когда лазутчики Гребнева выскочили из засады. Стражи обнажили сабли и стали защищаться, не испугались шестерых русских ратников. Поляк отбивался отчаянно и сам напоролся на саблю Гребнева. А у литвина, который был неумелым бойцом, саблю вмиг выбили из рук, навалились на него. Тут он и начал кусаться, верещать и ещё вытворять невесть что.
Артемий посоветовал допросить литвина с «пристрастием».
— Сейчас вот уведём его в соседний острожек и будем у него на глазах готовить снасти для пыток. Посмотрим, как он вытерпит…
— Добро. Делай, как задумал, но добудь от него подноготную о селе Красном. — И Шеин вспомнил, как поляки вгоняли ему под ногти иголки, а потом срывали клещами.
Литвин оказался слабым и при виде снастей для пыток затрясся от страха и заговорил. Куда и спесь делась! Звали его Штокасом.
— Мы шли с Янеком в Смоленск с вестью от гетманов Гонсевского и Радзивилла. Они велели передать гетману Соколинскому, что у них в Красном шестнадцать тысяч войска, — ещё вздрагивая, сообщал Штокас Измайлову.
— Сколько же на самом деле? — спросил Артемий.
— Там не больше девяти тысяч. Но поляки говорят так, чтобы напугать русских воевод. Они их боятся. Сам король Владислав предупреждал Гонсевского не ходить в Смоленск на помощь Соколинскому, а сидеть в своём остроге. И слышал я, что в Красное из Вильно идёт ещё три тысячи воинов.
— Ты, литвин, обманываешь нас. Незачем идти литовскому войску в Красное. Говори правду, куда идут три тысячи? — И Артемий взялся за щипцы.
— Пан воевода, пан воевода, не пытайте. Я скажу правду. Они идут к Смоленску, чтобы вам в спину ударить.
Штокас сказал-таки правду. В конце февраля из Рудни прискакал в стан русских молодой лазутчик Измайлова Тихон и доложил:
— Батюшка-воевода, к Рудне подошли три тысячи литовского войска, но на постой не встали, а идут на нас.
Измайлов отправился на поиски Шеина, чтобы известить его. Нашёл он главного воеводу в Московском полку, который вёл осаду с южной стороны. Встретившись за турами у пушек, сказал:
— Борисыч, опасность со спины нам угрожает. Уже от Рудни идут к Смоленску три тысячи войска из Вильно. Что будем делать?
— Встретить их надо. Да с «хлебом-солью», — улыбнулся Шеин. В руках у него появился зуд, ему хотелось взять в руки меч или саблю и идти встречать врагов. Но пока он мог только распорядиться. — Вот что, дорогой. Быстро подними моим именем полк пехоты князя Василия Белосельского, и я поведу его в засаду навстречу литвинам. Мы встанем слева и справа в лесу за Архиповкой и дадим бой. Дорога там лощиной проходит, удобно…
Был уже вечер, когда Михаил Шеин повёл вместе с князем Василием Белосельским полк навстречу литовцам. Дойдя до Архиповки, миновав её, они разделили полк на две части и затаились в лесу вдоль дороги. Февраль в эту пору ещё не бушевал метелями. Было тихо, и морозец стоял терпимый. Шеин велел выслать дозор. Перед рассветом три конных воина вернулись в стан и доложили:
— Идут литвины. Видимо, в Архиповке дневать намерены.
Шеин подумал, что дозорные правы. Проведя день в деревне, литовцы могли выйти из неё вечером и к полуночи достигли бы Смоленска, навалившись со спины на русских ратников. «Ничего, вам эта уловка не удастся», — заключил свои размышления воевода.
Наступил рассвет, и показались литовцы. Впереди скакал конный дозор. В двухстах саженях за ними ехали ещё несколько конных воинов. А дальше шла колонна пехоты. И было условлено так, что, когда колонна дойдёт до стрельцов и они ударят ей в грудь, засада навалится на литовцев сзади и пойдёт молотьба с двух сторон и спереди. Всё шло по-задуманному. Впереди колонны прогремели залпы. Эхо прозвучало над лесом, и он ожил. Из ельника на дорогу лавиной выкатились четыре тысячи ратников. Литовцы не успели приготовиться к защите, как началось побоище. Кто-то попытался прорваться в лес, но никому это не удалось. Дорога покрывалась телами убитых, над нею разносились стоны раненых. Многие литовцы бросали оружие, поднимали руки. Но были среди них и отважные головы, они сплотились и отбивались мужественно, не без потерь для русских.
Но литовцы сопротивлялись недолго. Шеин сам повёл своих храбрых воинов на горстку литовцев. И вот уже схватка завершилась, лишь кое-где ещё звенело оружие. Сотни литовцев стояли на дороге, подняв вверх руки.
К полудню убитых стащили с дороги, засыпали тела снегом. Делали это пленные литовцы. Их насчитали триста двадцать семь человек вместе с сотней раненых. Были собраны ружья, сабли, их погрузили на сани. На двадцати возах оказалось продовольствие: хлеб, крупы, сало — всё, чего так не хватало русским. Полк возвращался к Смоленску на старые позиции.
В тот же день Михаил Шеин отправил в Москву сына Артемия Измайлова, Василия, с донесением царю Михаилу и с запросом, отправлять ли литовских пленных в Москву. Самому Шеину они были в обузу. Перед отъездом он наказал Василию:
— Наберись смелости и скажи всем властным людям, даже самому царю, помимо моей отписки, что под Смоленском у нашего войска немалые трудности, что большой наряд пушек, кои нам обещали, так и не получен, что денег на жалованье иноземцам нет вот уже два месяца. И они грозятся покинуть войско.
Сын Артемия Василий был отважным молодым воеводой. Его тысяча воинов, во главе которой он стоял, показала себя у деревни Архиповка с лучшей стороны. Шеин сам был тому свидетелем.
— Я всё скажу московским властителям и даже царю, как мы тут маемся.
Как потом стало известно Шеину, в московском Разрядном приказе знали о положении войска под Смоленском не хуже самого главного воеводы. В Разрядном приказе получали и донесения не только от воеводы Шеина, но и от тех дворян, которых посылали под Смоленск с отписками. К несчастью для войска, эти служилые люди делали всё возможное, чтобы исказить правду. Они докладывали, что войско под Смоленском ни в чём не нуждается. Ложь эта была губительна для войска. Может быть, в Разрядном приказе и старались обеспечить все нужды ратников, однако в пути от Москвы до Смоленска всё менялось в худшую сторону. Наряды пушек тащились к Смоленску с черепашьей скоростью. Деньги на жалованье иноземцам где-то оседали, и их не могли найти. На переправах через реки мосты постоянно или сносило, или они разрушались. Воеводы, которых отправляли к Смоленску с войском, не спешили туда и месяцами отсиживались то в Можайске, то в Вязьме.
Только пятого марта под Смоленск был доставлен большой наряд пушек — почти сто орудий, но зарядов, ядер и картечи к ним не поступило, и пушки, поставленные на позициях, никого не могли поразить. Лишь к пятнадцатому марта был доставлен к пушкам боевой припас, и в этот же день воевода Шеин отдал приказ о бомбардировке крепости.
— Да поможет нам Илья-громовержец! — сказал Шеин, и по взмаху его руки раздался первый залп.
И все сто пятьдесят орудий, нацеленных на крепость, открыли огонь. От дыма, от пыли разрушаемых стен и башен в небо поднялось чёрное облако. Но Шеин не питал особых надежд на скорое разрушение стен и башен. Для этого у него было очень мало ядер и пороховых зарядов. Он сосредоточивал огонь пушек на отдельных участках стен и башнях, чтобы можно было в проломы вести на приступ пехоту. Помнил Шеин, как пытались поляки разрушить стены и башни двадцать лет назад. Им удалось разнести за девять месяцев лишь одну башню. На этот раз русским пушкарям была уготована такая же печальная доля. Стены, построенные волей Бориса Годунова, выдержали двенадцатидневную бомбардировку. И стреляли пушкари до тех пор, пока не были сожжены последние заряды и пущены в крепость последние ядра. Каждый вечер Шеин получал от воеводы пушечного наряда Ивана Арбузова донесения, что было разрушено за день. Радости от докладов Ивана Арбузова Михаил Шеин не испытывал. Когда стрелять из пушек стало нечем, подсчитали.
— Мы, Борисыч, за минувшее время сумели сбить только три башни и полностью уничтожили сажен пятнадцать стены. Но за башнями и за разрушенной стеной поляки уже возвели мощные валы, — с горечью завершил свои подсчёты воевода Иван Арбузов.
— Надо испытать иной путь. Постараемся сделать три-четыре подкопа на одном участке стены. Сделаем большой пролом в стене и тогда пойдём на приступ.
Шеин сам отбирал людей делать подкопы. Были заготовлены сотни плах на крепления стен и верха. Работы велись день и ночь. И теперь лишь одно беспокоило Шеина. Пока не было пороховых зарядов, их ждали со дня на день. Но наступила весенняя распутица. Дороги были разбиты и непреодолимы. И только двадцать третьего апреля на позиции войска под Смоленском были доставлены пороховые заряды. Можно было закладывать их под стену.
Между тем к этому времени осложнилась обстановка с внешней стороны русской рати. С наступлением весны всё чаще стали беспокоить польско-литовские войска. В конце марта они дважды появлялись близ Смоленска. На правом берегу Днепра за позициями русской рати возвышалась над окрестностью большая Покровская гора. Враг решил её захватить. Шеин не мог держать на ней достаточное количество воинов для обороны, и, пользуясь этим, поляки и литовцы подошли к горе с запада и вступили в бой с московскими ратниками. Однако две тысячи воинов московского полка отбили попытку поляков и литовцев овладеть Покровской горой. Отступая, поляки и литовцы не ушли от Смоленска, а прорвали осаду близ Днепровских ворот и после жестокой схватки сумели войти в город. Сказывали потом ратники, что в Смоленск ушла почти тысяча поляков и литовцев.
А в апрельские дни паводковые воды затопили подкопы под стены и попытка взорвать стену не удалась. Наступило затишье.
Глава тридцать третья ПОТЕРИ
Это затишье не прошло для воеводы Михаила Шеина даром. Протекла не одна бессонная ночь, когда он, прервав всякое желание уснуть, думал о том, что происходило с ним, с державой за минувший год, когда он взял на себя долг возвратить Руси всё, что было потеряно в сражении за Смоленск в 1609–1611 годах. Он был уверен, что, будь все эти годы во главе державы Фёдор Никитич Романов, ничего бы не случилось позорного. Русь бы процветала. К горечи печальных размышлений о судьбе отечества первого октября 1633 года добавилось истинно великое горе. Правда, последствия утраты наступили раньше, в те дни, когда слёг в постель несгибаемый воитель Филарет.
Через несколько дней после первого октября гонцы донесли весть под Смоленск о том, что в Москве, в преклонном возрасте преставился святейший патриарх всея Руси, великий государь Филарет Никитич Романов. В острожек, где коротал ночи воевода Михаил Шеин, эту весть принесли Артемий Измайлов и сын Шеина, посланник Посольского приказа Иван. Они появились в землянке, когда наступил вечер. Оба вошли в землянку, низко склонив головы. Их лица были бледны и печальны.
— Батюшка родимый, велено мне передать тебе царём Михаилом Фёдоровичем, что первого октября сего года скончался его батюшка, патриарх всея Руси и великий государь Филарет Никитич Романов.
Михаил Шеин встал с ложа при первых же словах сына, и, пока подходил к нему, из глаз воеводы потекли слёзы. Он не чувствовал их, потому что грудь его разламывалась от сердечной боли. Шагнув к сыну, он обнял его, уронил голову на плечо и заплакал, содрогаясь всем телом от рыданий.
Артемий Измайлов тут же взял глиняную кружку, зачерпнул воды из липовой бадьи, подошёл к Шеину, погладил его по спине и вложил кружку в его руку.
— Выпей, брат мой, выпей. Никитич ушёл по воле Божьей.
Михаил поднял голову, выпил воду и виновато сказал:
— Простите за слабость. Я потерял больше, чем родного батюшку.
— Что делать! Все мы в руках Всевышнего.
Шеин прошёлся раз-другой по землянке, остановился против Ивана.
— Я давно предчувствовал, сынок, что тяжёлая потеря вот-вот случится. Я много думал о святейшем, о том, что он значил для Руси. И смириться с этой потерей трудно. О, если бы он был жив и здоров, мы бы не сидели в этих норах и Смоленск давно был бы наш!
Шеин опять начал ходить по землянке и говорить только о Филарете. И он провидчески сказал то, что позже записали хронисты, учёные, историки: «Политические успехи новой династии, её укрепление во главе национального государства в значительной мере связаны с личностью святейшего патриарха всея Руси, великого государя Филарета Никитича. Сама властная фигура патриарха и его сан содействовали поднятию авторитета власти. Умирая 1 октября 1633 года, Филарет покинул Московское государство окрепшим настолько, что ни внешние опасности, вызывавшие тяжёлую борьбу с соседями, ни внутренние язвы народного хозяйства и государственного быта, готовящие ряд грядущих потрясений, не могли уже расшатать воздвигнутого из развалин политического здания. Вернулись в Москву опальные члены придворной знати и приказной среды. Но, видимо, никто из них, ни из близких царю вообще не заменил Филарета в преобладающем государственном влиянии. Московское правительство плыло по сложившемуся течению, не проявляя сколько-нибудь крупного почина».
В возбуждённом и опечаленном мозгу Михаила Шеина рождались, наверное, иные мысли, но они были сходны с теми, что позже выразила общественная мысль. Исходив по землянке с версту, Шеин подошёл к Измайлову и попросил:
— Брат мой, помоги усмирить боль. Душа разрывается.
Артемий лишь кивнул головой и ушёл. А Михаил вновь обнял сына.
— Как там наши бедуют?
— Да всё, батюшка, путём. Вот только матушка прибаливает, тоскуя по тебе. Да бабушка совсем занемогла, но держится, ходит, правит нами. Сестрица моя, Катюша, сынка принесла. Мой Сеня подрастает, воеводой хочет быть, как дедушка.
— Ну слава Богу. А что в Кремле? Волки из леса не сбегаются? Знать-то они давно о себе дают.
— Худо, батюшка. Вернулись, как ты говоришь, волки. Князья Борис и Михаил Салтыковы уже близ царя увиваются, и все мы живём во граде под страхом опальной поры.
— И что же, смещения в приказах пошли?
— Пока Бог миловал. Все, поставленные святителем, на местах.
— Пусть Господь хранит их.
— Ты-то как, батюшка, здесь?
— Тяжко, сынок, мне. Вериги Москва на ноги повесила, и тянут они меня в омут. Ведь ежели бы всё было путём, так мы Смоленск ещё в прошлом году освободили бы. Теперь и конца войне не видно. А ежели и прорезается что-то в видениях, то срам на нашу голову падёт, как сбудется.
— Я вижу тому причины, батюшка. Понаторели уже в Посольском приказе разгадывать происки. И я знаю, кто чинит их.
— Спасибо, сынок, что понимаешь меня. Только не ходи с открытой душой — зальют отравным зельем.
— И это знаю, батюшка. Земно кланяюсь я дьяку Елизару Вылузгину. Он хоть и стар, но всё питает меня умом-разумом.
— Поклон ему низкий от меня.
— Передам. Он часто вспоминает тебя и за сына чтит. Да, забыл передать тебе поклон от Анисима. Он днюет и ночует в Пушкарском приказе. Все артели, что пушки и ядра льют, под его рукой.
— Славный муж Анисим. Дай Бог ему здоровья, и от меня поклон.
Пришёл Артемий со стременным. Они принесли корзину с кувшином и съестным. Артемий всё выставил на стол из плах, разлил хмельное по кружкам. Как взяли кружки, Михаил тихо сказал:
— Вечная память отцу нашему Филарету. Пусть земля ему будет пухом.
И все выпили. Потом долго стояли молча. Прокатилась вечность. И Михаил произнёс то, что родилось в душе:
На Руси ты один был великий воитель, Мощно вёл за собою народ. И в русскую нашу обитель Никогда не входил при тебе враг-ирод!Удивились сын Михаила и Артемий песенному слову воеводы. И поспешил Артемий налить в кружки хмельного, и сказал:
— Вместе с патриархом тебе, воевода, честь и хвала за то, что твёрдо стоишь за Русь.
Помянув ещё дважды Филарета, Михаил и Артемий рассказали Ивану о том, как воевали лето. Но больше просвещал Ивана Артемий, а Михаил погрузился в грусть.
— Мы, Ваня, увязли в этой войне по грудь и теперь стараемся выбраться из трясины из последних сил. Всё лето до сентября мы бились с поляками не за Смоленск, а за то, чтобы уцелеть и удержаться под Смоленском. Есть тут на правой стороне Днепра гора, Покровской называется. Так вот за лето на этой горе случилось четырнадцать сражений. Да каких! Мы за минувший год под Смоленском потеряли меньше ратников, чем за Покровскую гору. А почему мы держимся за эту гору? Да потому, что, ежели поляки захватят её, то они над нами будут господствовать и всех из пушек побьют. Сейчас мы острог на горе поставили, и там целый полк иноземный полковника Маттисона обороняется.
— А Смоленск вы воевали за лето? — спросил Иван Шеин.
— Бились за него смертно, Ваня. В июне сделали мощный подкоп, взорвали сажен двадцать стены, но за ними поляки по примеру твоего батюшки клети из брёвен воздвигли, землёй заполнили. Мы двумя полками пошли на приступ, потеряв больше полка, пока преодолевали клети. Мы ворвались в город. Но воевода Соколинский в два раза больше нашего сил выставил. Да пушками с картечью нас встретили. Бились полный день. И ежели бы вовремя подошёл полк рейтаров Самуила Шарля Деберта, мы бы из города не ушли. Всему виной московская медлительность. К этому времени у нас не было к пушкам ни свинца, ни зелья, ни фитилей. И у стрельцов зарядов не было.
Михаил Шеин поднял отяжелевшую голову.
— Ты скажи посланнику о главном — о том, как в бега уходят, — сказал он гневно.
— Это верно. Слушай же, посольский служилый, и передай Разбойному приказу, что летом накануне приступа из войска сбежало до тысячи ратных людей. И всё это дети боярские, дворяне, служилые люди.
— Но ведь причина должна быть. Есть ли она? — спросил Иван Шеин.
— Есть. Дошли до нас слухи, что на южные окраинные земли Руси напал с ордой крымский царевич Мумарак-Гирей. Имения свои и добро побежали спасать.
— А имена беглецов у вас записаны? — спросил Иван.
— Имён мы не помним, — ответил Шеин-старший.
И Иван понял ответ отца и согласился с ним. Сказал своё:
— Я слышал, что король Владислав и королевич Казимир сейчас под Смоленском. Это правда?
— К нашему несчастью, правда. Совсем недавно они подошли к Смоленску с большим войском, — повёл рассказ Михаил Шеин, — и с ходу попытались захватить Покровскую гору. Артемий тогда с большим конным отрядом прискакал на помощь полковнику Маттисону, и стали отбиваться вместе. Королю помогли поляки, что в городе: они сделали отчаянную вылазку и соединились с войском короля. На Покровской горе всё было на грани её захвата. Пришлось драться в окружении. Сражение продолжалось с утра до позднего вечера. Наши уже в темноте вышли из острога и ударили по полякам. Они бежали. Но мы сумели захватить семьдесят двух пленных…
Воевода Шеин замолчал. Он восстанавливал события тех дней. Две недели после августовского сражения поляки не давали о себе знать, но одиннадцатого сентября вновь навязали россиянам сражение. Оказалось, что Владислав получил два конных полка подкрепления. Воевода Шеин был вынужден вновь помочь полку Маттисона. Он снял с осадной позиции больше двух тысяч воинов и сам повёл их на Покровскую гору. Сражение продолжалось два дня. Полк Маттисона за эти дни был почти полностью уничтожен. В ночь на третий день сражения Михаил Шеин посоветовался с Артемием и князем Василием Прозоровским и в ночную пору повёл своих воинов на прорыв окружения полка Маттисона. Остатки полка были выведены из острожка на позиции под Смоленск. Покровская гора оказалась в руках поляков.
На донесение Шеина о сражении за Покровскую гору было получено послание от царя Михаила: «Мы всё это дело полагаем на судьбы Божии и на Его праведные щедроты. Много того в ратном деле бывает. И вы сделали хорошо, что теперь со всеми нашими людьми встали вместе. И вы бы всем ратным людям сказали, — заканчивалась грамота, — чтобы они были надёжны, ожидали себе помощи вскоре, против врагов стояли крепко и мужественно». Помощи, однако, ни вскоре, ни в последующие месяцы Шеин не получил.
Проводив сына и наказав ему, чтобы передал всем близким не поминать его лихом, воевода опять с головой ушёл в военные заботы, забыв об отдыхе, о сне. Его сильно беспокоило поведение короля Владислава: оно было непредсказуемым. Лазутчики донесли Артемию, что король Владислав тайно в ночное время покинул с войском Покровскую гору. Встретившись с Шеиным, Измайлов сказал:
— Король Владислав задумал некую мерзость. Матвей Гребнев доложил, что поляки спрятались за Покровской горой в лесу и стоят недвижно.
— Пусть твои парни следят за поляками. Надо разгадать замысел Владислава.
Но разгадывать не хватило времени. К вечеру другого дня, когда лазутчики Измайлова ещё сидели в норах за горой, поляки снялись из стана и в ночь на седьмое октября «оседлали» Московскую дорогу, перекрыв проезд в стольный град и из него. Теперь Владислав встал позади острога Шеина, в котором было сосредоточено всё русское войско. К тому же король захватил Жаворонкову гору, что стояла в версте от русского стана, и ядра из тяжёлых пушек могли достать до самого центра стана.
Михаил Шеин немедленно собрал всех своих воевод, позвал на совет иноземных полковников и, рассказав о том, какой коварный ход сделали поляки, спросил:
— Что будем делать, воеводы и полковники?
Главный иноземный полковник Александр Лесли посоветовал:
— Надо ударить немедленно, сбить с дороги и с горы.
Его поддержали полковники Шарль Деберт и Маттисон. Русские воеводы тоже были за то, чтобы сбить поляков с Московской дороги и с Жаворонковой горы. Князь Василий Прозоровский так и сказал:
— Ежели не собьём, то ляхи нам жилы перережут. В Дорогобуже корм, порох, свинец. Как всё это подвозить оттуда?
Михаил Шеин был согласен с мнением воевод и полковников. Он сам понимал, может быть, острее других, что захват поляками дороги на Дорогобуж — это всё равно, что схватить клещами за горло.
В ту же ночь Шеин повёл три полка на переправу через Днепр. К утру ратники были на правом берегу Днепра и с ходу пошли в наступление на Жаворонкову гору, где были главные силы поляков. К врагу не сразу удалось подойти вплотную. Поляки открыли огонь из пушек картечью. И ратникам пришлось залечь под огнём врага. Но у поляков было туго с пороховыми зарядами, с картечью, они вскоре прекратили обстрел, и Шеин поднял ратников на штурм горы.
Сражение продолжалось с переменным успехом полный день. И всё-таки русская рать вынуждена была отступить. Поляки имели значительное превосходство в силах. Их конные отряды маневрировали и нападали на русских воинов то со спины, то с боков. Уже смеркалось, когда русская рать отошла к реке. Подсчитали потери и к вечеру воевода Шеин знал, что лишился больше двух тысяч человек. Таких потерь не было в течение года.
Угнетало Шеина то, что сражение проиграно и он не может вновь повести воинов в наступление. У стрельцов не было зарядов, а иноземные солдаты не хотели драться врукопашную. И это значило, что если он возобновит штурм горы, то потеряет всё войско. Как жаждал Михаил в эту ночь, чтобы из Москвы наконец-то подошли свежие полки! А ведь о них шёл разговор всё лето! И Шеин понимал, что у Владислава появилась свобода действий. Он мог двинуть силы к Дорогобужу. А там… Михаил Шеин представил себе всё, что будет дальше, настолько ясно, что у него пошёл мороз по коже. Дальше будет так: поляки захватят Дорогобуж и в их руках окажутся все припасы, заготовленные для войска в течение лета. А это значило, что в русском стане наступит голод, который уже сейчас давал о себе знать. Воины уже не брезгуют варить конину, когда в боях убивают их коней.
Вскоре, как и предполагал Шеин, король Владислав отправил под Дорогобуж большие отряды конных запорожских казаков и полк польских уланов. Дорогобуж был занят без какого-либо сопротивления. И захватчики не задержались в нём. Они сожгли его, все запасы продовольствия, какие не могли забрать, вывезли боеприпасы и покинули город, предав его огню.
Весть о взятии и сожжении Дорогобужа острой болью отозвалась в груди воеводы Шеина. Ещё в сентябре он получил весть о том, что к Дорогобужу идут большие силы русской рати. Почему же она шла до города более месяца? Потом было написано: царь Михаил Фёдорович «назначил на выручку Шеина из-под Смоленска следующих лиц: бояр и воевод князя Черкасского с дьяками Шипулиным и Волковым, стольников и воевод князей Одоевского и Шаховского, Куракина и Волконского с дьяками Леонтьевым и Дехтуровым». Все эти воеводы стояли во главе полков и должны были идти под Смоленск, но, к своему позору, за минувшее время не дошли даже до Дорогобужа, позволив полякам и казакам разграбить и сжечь город.
Той порой король Владислав, получив вести о сделанном в Дорогобуже, приказал своим гетманам «оседлать» все пути, ведущие из Смоленска в Москву, в том числе любые кружные. Михаил Шеин понимал, какую цель преследовали поляки. Всё было просто: если до этого он, Шеин, держал в осаде Смоленск и был момент, когда ему совсем немного не хватило сил овладеть крепостью, то теперь всё изменилось и польское войско приступило к осаде русской рати. И эта осада с каждым днём принимала более явственные и зловещие очертания. Встретившись с Измайловым поздним вечером в землянке большого острога, Шеин без каких-либо преувеличений обрисовал Артемию положение русской рати:
— Мы, брат мой, приближаемся к пропасти. В то время как в Вязьме и Можайске до сорока двух тысяч ратников ждут почти всё лето, когда их поведут под Смоленск, мы здесь в хомуте оказались. Осталось только супонь затянуть.
— И затянут, Борисыч, — с горечью отозвался Артемий. — А не затянут, так голодом уморят. Сухарей у нас сохранилось на неделю. А пшено за два дня разойдётся. Других же харчей нет. И соли в обрез.
— У меня никак в голове не укладывается то умышленное зло, какое чинят воеводы, не выполняя повелений царя.
— Давно я считаю, Борисыч, что наши бояре и воеводы не с поляками воюют, а против нас. Все эти Салтыковы, Репнины, Челяднины и Черкасские лишь жаждут, чтобы мы поскорее здесь погибли.
— Это верно, брат.
— И ещё скажу важное. Иноземцы волками на нас смотрят, воевать они вовсе не хотят: мы, дескать, голодными биться не желаем. И при первом удобном случае они нас предадут.
Вскоре же Михаил Шеин стал свидетелем ссоры между двумя иноземцами. Когда поляки стали обстреливать из пушек лагерь русских и особенно донимали англичан и немцев, полковник Сандерсон потребовал от Шеина дать ему другое место расположения, где можно было бы укрыться от вражеских ядер. Шеин собрал на совет всех воевод и полковников, спросил их:
— Как вы считаете, можем ли мы сбить поляков с горы Жаворонковой, чтобы лишить их обстрела нашего стана?
Полковник Лесли заявил без сомнений:
— Если мы собьём с горы противника, это будет нашей победой.
Англичанин сказал противное:
— Нам незачем вести солдат на убой. Надо их всего лишь увести из зоны обстрела.
Полковник Лесли разгорячился и крикнул:
— Ты изменник! Ты держишь сторону поляков.
Сандерсон схватился за оружие. Но Шеин успел встать между ними:
— Это не делает вам чести, воеводы. Помиритесь.
Но Лесли и Сандерсон отказались мириться. Дальше всё случилось неожиданно и трагично. Шеин послал пятьсот воинов заготавливать в лесу дрова, потому как наступили суровые морозы. В разгар рубки леса из засады хлынули на русских воинов не меньше тысячи поляков и казаков. И началось побоище. Длилось оно недолго. Ещё и вечер не наступил, как полегли все пятьсот русских ратников. Первым к Шеину с этой вестью пришёл полковник Лесли. Он заявил:
— Твои воины погибли потому, что их предали.
— Этого не может быть, — ответил Шеин.
— А ты позови полковника Сандерсона в лес, и я покажу, как всё произошло и кто это сделал.
Странным показалось это Шеину. Однако он послал за Сандерсоном Артемия:
— Выезжай вместе с ним к месту побоища.
Когда все собрались в лесу и обозрели место кровавой резни, полковник Лесли, указывая рукой на трупы ратников, обратился к Сандерсону:
— Это твоя работа, это ты дал знать королю Владиславу, что русские пойдут рубить лес.
— Лжёшь! — закричал Сандерсон. — Это ниже моей чести!
— И ты ещё говоришь о чести!
Лесли выхватил пистолет и в упор выстрелил в Сандерсона.
Смерть наступила мгновенно. И воевода Шеин не скоро пришёл в себя, поражённый жестокостью полковника Лесли. Он приказал воинам взять полковника под стражу.
В лагере, однако, посоветовавшись с Измайловым и услышав от него, что русскому воеводе не дано брать под стражу иноземного полковника, что это только во власти царя, Шеин освободил Лесли. Тот поблагодарил Шеина.
— Ты, воевода, мудрый военачальник.
Шеину от этого было не легче. Душу его терзало предчувствие новых испытаний.
Глава тридцать четвёртая ВЛАДИСЛАВ
Король Польши Владислав был доволен ходом войны с Моковским государством за Смоленск. Нет, не напрасно двадцать с лишним лет назад он привозил в Смоленск воеводу Михаила Шеина. Тот хотя и не научил его, как защищать город от врага, но Владислав и сам всё понял, многажды осмотрев крепость. В ней осталось немало примет той войны, когда русские держались в осаде. Бездарному воеводе не удалось бы продержаться двадцать месяцев в такой жестокой осаде. Теперь вот его королевское войско сидело в осаждённом Смоленске, и всё у него получалось. Восемь месяцев выстояли, да и урон немалый врагу нанесли. Правда, и Шеин пролил много крови защитников Смоленска. И был такой миг, когда московские войска, ведомые Шеиным, захватили бы Смоленск, но помогли полякам царь с боярами, не прислали вовремя боевых припасов, не пришли воеводы с войском, сидевшие в Вязьме полгода.
Всё изменилось к лучшему, считал король Владислав, въезжая в Смоленск. Город уже наполовину освобождён от вражеской осады. Как и положено, на Соборной горе Владислава встретил губернатор Смоленска пан Станислав Воеводский.
— К нам уже не летят русские ядра, и москали не лезут на стены, — с улыбкой встретил короля губернатор.
— А ты, вельможный пан, знаешь, чья это заслуга? — с лукавинкой спросил Владислав.
— Да, ваше величество. Если бы не ваш полководческий дар, мы бы сидели в крепости, как мыши в клетке.
— Это хорошо, что ты понимаешь, вельможный пан. А теперь отведи меня в воеводские палаты, принеси бумагу, чернила и перо. Буду писать грамоту.
Странно, но в этот миг король Владислав думал не о своём успехе и своей удачливой судьбе, а о том, в каком затруднительном положении оказалась русская рать. Он знал, что близок день, когда в лагере русских будет съеден последний сухарь, убита на мясо последняя лошадь и сожжено последнее полено дров. Тогда голодная, замерзающая от морозов рать Михаила Шеина выбросит белый флаг. Гордый русский воевода попытается сделать всё, чтобы избежать позорного плена. И это произойдёт скоро, потому что Михаил Шеин не только воевода, но и разумный военачальник, умеющий беречь жизни своих воинов. И тогда он, король Владислав, которого русские не очень чтут, сделает истинно королевский жест и заставит говорить о себе всю Европу.
Взяв Дорогобуж, перехватив все дороги из Смоленска в Москву, загнав русских под огонь своих пушек в окружённом лагере, он предложит воеводе Михаилу Шеину сделать выбор: или погибнуть в котловине от ядер, болезней и голода, или сдаться на милость его королевского величества. Видел тут Владислав много всяких «если»: если каким-то чудом не подоспеет московская свежая рать, если воевода Шеин пойдёт на прорыв осады и сумеет уйти в леса. Но, полагаясь на своё везение, Владислав решил написать воеводе Шеину грамоту, с «увещанием обратиться к его милости, вместо того чтобы погибать от меча, голода и болезней».
Отправив в русский стан грамоту о переговорах мирного завершения войны, Владислав сидел в Смоленске и никаких действий не предпринимал. Он ждал, но пока не надеялся, что русские тотчас согласятся на переговоры. Зная Шеина как неуступчивого и твёрдого стоятеля за клятву, Владислав представлял себе, что происходит в русском стане. Иноземные полковники смеют решить судьбу своих полков независимо от главного воеводы, чего в польском войске нет. Два немецких полка и большие отряды запорожских казаков во всём подчинялись не только ему, королю, но и гетманам.
Шли дни, но от Шеина всё не было ответа на предложение Владислава о мирном решении военных дел. Но вот как-то уже в конце второй недели ожидания перед крепостью появились два русских всадника. Ворота открылись, и им навстречу выехали два польских шляхтича. Тысяцкий Яков Сухотин подал шляхтичу грамоту. Но шляхтич Флорецкий помнил эту грамоту. Он удивился.
— Зачем возвращаете королевскую грамоту? — спросил Флорецкий.
— Потому и возвращаем, что в ней есть непригожие слова. Недостойно короля писать так, — заявил Сухотин.
— Везите обратно грамоту и шлите свою с выражениями, — ответил Флорецкий и повернул коня к воротам.
Сухотин бросил грамоту вслед Флорецкому и тоже развернул коня. Второй поляк спешился и подобрал грамоту.
Король Владислав был возмущён смелой дерзостью и непочтительностью, как ему показалось, воеводы Шеина. Он взял у Флорецкого грамоту и принялся перечитывать её. Прочитав, усмехнулся. Понял, что Шеину не понравилось выражение: «С увещанием обратиться к его милости». «Ну что ж, москали, вам боком выйдет это высокомерие», — подумал Владислав.
Но король не знал обстоятельств, которые помешали воеводе написать ответ. Ещё в конце ноября Михаилу Шеину удалось отправить в Москву гонца с сообщением, что король Владислав предлагает разменять пленных и заключить перемирие. «И выкладывают они такое условие, — писал Шеин, — чтобы московское и польско-литовское войско отступили каждое на своё место». И теперь Шеин ждал царский ответ, оттого и затеял игру с польской грамотой, выражая якобы недовольство оскорбительными словами.
Король Владислав, однако, добивался своего. Он хотел прекратить войну. Ощущая свою силу над русской ратью, он не думал её уничтожать, а считал возможным выпустить её из того «котла», в котором она оказалась. Знал Владислав, что ещё одну зиму русские не перезимуют, а все помрут от голода и от болезней. Не хотел богобоязненный король принимать на душу тяжкий грех. Всё это стало чуть ли не главной заботой короля Владислава. Он приказал своим гетманам не обстреливать стан русских с Жаворонковой горы, на что гетман Соколинский возразил ему:
— Ваше величество, мы стреляем только потому, что русские сами затевают стрельбу. Они убивают наших солдат из шведских ружей. Как такое терпеть?
— Это верно, пан Соколинский. И всё-таки будем добиваться перемирия.
В этот же день король встретился за обедом с губернатором Станиславом Воеводским и спросил его:
— Вельможный пан Станислав, как ты думаешь, не отправить ли нам послов в Москву? Пусть попытаются доказать царю, что пора заключать перемирие.
— Ваше величество, но Боярская дума, которая властвует после смерти Филарета над царём, не даст ему воли заключить перемирие.
— Что же им мешает? Ведь их собратья гибнут здесь.
— В думе это понимают. Но там ещё и воеводы главенствуют. Те воеводы в большей степени князья. Тут и Волконские, и Одоевские, и Черкасские, и Шаховские. Все они горят чёрной завистью к воеводе Шеину, бывшему любимцу царя и великого государя, вот и стоят ратью в Можайске да Вязьме годами. Эти князья даже царя не чтят. Говорят о нём, что он горазд только на моления по монастырям ездить, а державой управлять не умеет. Теперь при царе нет ни Филарета, ни Марфы, вот бояре над ним и властвуют.
— Наговорил ты мне семь коробов, а толком ничего не посоветовал. Как же так?
— Совет один, ваше величество: добивать москалей. Дева Мария простит нам сей грех и поможет.
Владислав рассердился на Воеводского. Случилось это по той причине, что ему надоело торчать под Смоленском и вести эту нелёгкую и дорогую войну. Он не забыл четырнадцати с половиной лет перемирия с Русью. Славные это были годы.
И всё-таки конец войны приближался. Помог королю Владиславу увидеть его лишь случай. Царь Михаил, оказывается, получил послание Шеина и, вопреки думе, написал ему ответ. Доверил он отвезти эту грамоту своему псарю Никите Сычёву. В грамоте царь Михаил изъявлял согласие принять условия о перемирии, предложенные королём Владиславом. Провожая Никиту, царь Михаил сказал ему мягко, печально:
— Прогневали мы Господа Бога, нет нам удачи в ратном деле. Тут и бояре грызут меня. Вези уж мою грамоту Михайле Шеину. В ней моя воля.
Русский государь не ошибался в одном: в том, что Господь Бог отвернулся от россиян.
Никита Сычёв отправился в дальний путь не один, он взял с собой надёжного друга, русскую овчарку Рогая, с которой ходил на волков. И он достиг лагеря Шеина. Но проникнуть в него Сычёву не удалось. Шеин был уже в это время так тесно обложен, что Сычёв должен был вернуться назад. Но не выполнить волю царя Михаила преданный слуга не мог. Он сутки таился за спиной поляков и, казалось ему, нашёл лазейку, попытался проникнуть через неё в стан Шеина, но наткнулся на конный польский дозор. Сычёв надеялся с помощью Рогая прорваться к стану, но верный пёс перестарался. Он прыгнул на круп лошади первого дозорного и вцепился ему в шею. Но другой воин в тот же миг оказался рядом и проткнул Рогая саблей. Тот упал замертво. Никита Сычёв тем временем повернул коня назад и умчался. В пути он не раз плакал, вспоминая верного пса, и ругал себя за то, что не выполнил волю царя.
Царь, однако, не смирился с тем, что грамота до Шеина не дошла, и послал нового гонца, своего стременного Ивана Плахова. На пути к Смоленску Плахов прошёл все польские заслоны и почти добрался до стана Шеина. Да подходил он к нему днём и потому затаился в старом овине вместе с конём в ожидании ночи. Он прилёг на соломенную труху и, сморённый усталостью, уснул. Во сне он и был схвачен поляками. Поначалу, обыскав Плахова, поляки ничего не нашли. Но одному из поляков понравились сапоги Плахова. Он стащил их с пленника, стал любоваться ими и чисто случайно нащупал грамоту, зашитую в голенище сапога.
Когда эту грамоту принесли королю Владиславу, он был крайне удивлён. Это был тайный наказ думных бояр воеводе и боярину Шеину. Как он попал к Плахову, тот объяснить не смог, сказал лишь, что ему передал эту грамоту «царя» постельничий, В наказе бояре писали, что пора кончать войну, что нужен мир, и требовали, чтобы воевода Шеин вступил в мирные переговоры с королём.
Владислав собрал всех гетманов в воеводских палатах и прочитал им тайный наказ бояр. Гетманы, так же как и король, были удивлены поведением ранее непримиримых бояр.
— И что же вы намерены делать, ваше величество? — спросил короля гетман Соколинский.
— Пока надо сделать с наказа список и отправить его Шеину.
На другой день воля короля была исполнена. Шеин получил список тайного наказа. Но он никак не отозвался на грамоту бояр, попавшую в руки королю. Минувшей ночью ему удалось отправить в Москву Матвея Гребнева с отпиской царю. Бывалый лазутчик проскочил сквозь польские дозоры и заставы только ему ведомыми путями. Шеин писал царю, что «ему и ратным людям от польского короля утеснение и в хлебных запасах и в соли оскудение большое».
Получив эту отписку от Шеина, царь Михаил впервые пришёл в большой гнев на воевод и князей, которые вот уже год простояли без движения в Можайске и Вязьме. Он вызвал в свои палаты окольничего князя Григория Волконского и повелел:
— Мчи сей же миг в Можайск к князю Димитрию Черкасскому и князю Димитрию Пожарскому. Вели им моим именем немедленно выступать под Смоленск. И чтобы взяли обоз с кормом.
Григорий Волконский возразил царю:
— Но, государь-батюшка, надо получить от Разрядного приказа грамоты князьям, как им двигаться.
Царь Михаил почувствовал свою беспомощность, но накричал на Волконского и заставил его немедленно скакать в Можайск.
Шестого февраля князь Волконский вернулся из Можайска.
— Государь-батюшка, князья Пожарский и Черкасский готовы выступить в поход, но всё-таки, заявили они, будут ждать отписки Разрядного приказа.
И впервые в жизни царь Михаил рассмеялся оттого, что понял: он в державе не государь, каким был его отец Филарет, а деревянный болванчик.
Потребовалось ещё три дня, чтобы Разрядный приказ написал подорожную грамоту князьям Пожарскому и Черкасскому и ещё князю Куракину в Калугу, чтобы все они немедленно выступили под Смоленск.
Но вся суета в Москве, в Можайске и в Калуге оказалась напрасной. Стан русских медленно умирал от голода, от цинги. Весь январь и начало февраля ни поляки, ни русские не стреляли друг в друга. Пятнадцатого февраля к стану русских приблизился большой отряд поляков. Они везли белый флаг. Полковник Сикорский, что держал флаг, услышал повеление короля Владислава:
— Вперёд, пан Сикорский. За тобою последнее слово.
Полковник Сикорский подъехал как можно ближе к земляному валу, опоясывающему русский стан, и, подняв руку, крикнул дозорному:
— Эй, московит, зови пана воеводу Шеина! Король с ним будет говорить!
Стрелец скрылся за валом, но на его месте тотчас оказался другой.
— Пан лях, жди! — крикнул он.
Прошло не так много времени, когда появился воевода Шеин, Он поднялся над валом во весь рост и спросил Сикорского:
— Кому я нужен?
— Воевода Шеин, с тобою будет говорить король Польши.
— Вон как! Давно не видел его. Жду, иди зови.
Король Владислав подъезжал к Шеину в окружении пяти всадников со щитами в руках. Они закрывали его от случайных выстрелов. Но, приблизившись к Шеину, Владислав отстранил воинов и остался один на один с русским воеводой.
— Здравствуй, воевода Шеин, — сказал король.
— Здравствуй, ваше величество.
— Помнишь, как семнадцать лет назад мы встречались в твоих палатах?
— Помню.
— Так вот приглашаю тебя завтра выпить кубок хорошего вина. Нам есть о чём поговорить.
— Ты так считаешь, ваше величество?
— Не будь упрямцем. Речь пойдёт о твоих десяти тысячах воинов.
«А ведь ошибается Владислав, у меня всего восемь с половиной, — подумал Шеин и с горечью признался: — Раненых разве что ещё две тысячи…»
— Я принимаю твоё предложение, ваше величество. Но позволь мне явиться в Смоленск втроём.
— Из уважения к тебе я согласен встретиться и с твоими соратниками. Кто они?
— Это воевода Артемий Измайлов и полковник Александр Лесли.
— Немец?
— Да.
— Ладно, стерплю. Завтра с рассветом я жду.
— Только ворота распахни пошире, ваше величество.
— Шеин, ты всё тот же, без шуток не можешь.
Михаил поклонился королю. Владислав ответил тем же.
Предстоящая встреча не осталась незамеченной в Москве. Но её сумели извратить, чтобы обвинить Шеина во всех смертных грехах.
Глава тридцать пятая ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ
Расставшись с королём Владиславом, Михаил Шеин вернулся в острог, поднялся на вал и долго внимательно осматривал стан, в котором его рать простояла и продержалась почти полтора года. На душе у Михаила было горько, сердце грызла тоска. Никогда ещё в жизни ему не было так худо, разве что в первые дни в плену. Чего добился он за минувшее страдное время? Да лишь того, что потерял почти двадцать тысяч ратников. «Но почему? Почему?» — кричала душа. Да потому, что предали их бояре и царь. Какими же бессовестными надо быть, зная, что без боеприпасов и продовольствия голодная гибнет рать, а в двухстах вёрстах от Смоленска второй год бездействует и жирует больше чем двадцатитысячное войско!
Шеин был в этот час беспощаден и к себе. Он казнил себя за то, что у него не хватило умения воевать с более сильным противником. И, не забыв о Боге, он звал на свою голову его гнев и кару. Шеину не хотелось больше жить. Он даже представить себе не мог, как снесёт позор всех полуторагодовых усилий. «Господи, пошли мне на голову вражеское ядро! — стонал в душе Шеин. — Хочу умереть!» Михаил забыл в этот час всех родных и близких, своих побратимов и соратников. Он стоял над пропастью один и одному себе просил смерти, которая в прежние схватки с врагами тысячу раз обходила его. Это была такая безысходная жажда избавиться от бренного тела, что Шеин вздрогнул: вдруг кто-то помешает ему утолить эту жажду.
Однако даже самому безысходному отчаянию приходит конец.
К Михаилу подошёл Артемий и встал рядом. Он стоял молча, потому что понял: никакие слова сострадания не выведут его сотоварища из того состояния, в каком он пребывал. Но они оба были ещё полны сил, и у них ещё были неотложные дела. Нужно было заботиться о восьми тысячах воинов, что ещё находились в строю, и о двух тысячах раненых и больных. И Шеин как-то буднично произнёс:
— Пойдём, брат, по острогу, заглянем в землянки. Надо же знать, чем дышат россияне накануне конца войны.
— Хорошая мысль, Борисыч. Но кто тебе сказал, что завтра не загремят пушки?
— Это от нас с тобой зависит. Только от нас!
— О чём же ты говорил с королём?
— Он предлагает мир.
— А ты?
— Вот я и говорю, что это зависит только от нас с тобой. Ежели мы примем на себя грех загубить жизни десяти тысяч россиян, значит, завтра загремят пушки. А ежели скажем, что нам нужен мир, тогда мы с тобой будем обречены…
Артемий положил на плечо Шеина руку, и они пошли вдоль остроколья по валу, который тянулся на несколько вёрст.
— Нам с тобой третьего не дано, — продолжал Михаил. — Или мы продлим войну, и тогда к весне здесь будет одна братская могила, или мы примем условия поляков о перемирии и попадём в разряд изменников отечества и клятвопреступников…
— Ты не сгущаешь краски, Борисыч? — тихо спросил Артемий.
— Нет, дорогой мой, я даже приукрашиваю то, что ты видишь. Никто из-под Можайска и Вязьмы к нам на помощь не придёт. Там засели враги наши, а не соратники. И даже царь с ними не может справиться, с тем же князем Димитрием Черкасским, который ещё два года назад не выполнил повеление царя и не повёл полк под Смоленск. Вот он — наш с тобой враг, и мы из-за него примем погибель.
Хронисты подтверждают истинность слов Михаила Шеина: «Если бы в январе 1634 года этот двенадцатитысячный корпус двинулся из Можайска к Смоленску, то Шеину, вероятно, не было бы необходимости сдаться королю Владиславу».
Шеин и Измайлов спустились близ ворот с вала и пошли к землянкам. Но с ходу не вошли в них, остановились.
— Боюсь я услышать, какими словами они встретят нас, — произнёс Шеин.
— Я знаю, что они скажут, — ответил Артемий. — В один голос заявят, что осточертела им эта война. И нас с тобой они давно недобрыми словами вспоминают.
— Вон как! A-а, куда ни шло, давай зайдём!
И воеводы пошли по землянкам. То, что они там увидели, без слов говорило о том, что воины не дотянут до весны. Тут было все: холод, голод, смрадное запущение, уныние и озлобленность. Спрашивать воинов или говорить им какие-то бодрые слова было бы безнравственно. Иногда у Шеина срывалось: «Ратники, как вы тут держитесь?» Но в ответ он слышал угрюмое бормотание. Михаилу так и хотелось сказать, что они уже отвоевали и пришло время собираться домой, но пока он не смел сделать это. Не знал он, чем обернётся завтрашний день.
Скрепя сердце Михаил и Артемий ходили из землянки в землянку и всюду видели одну безысходность. Лишь изредка они замечали какое-то шевеление: кто-то из воинов сгребал красные угольки в очаге, кто-то подбрасывал хворост. Когда Шеин и Измайлов входили в землянку, мало кто поднимался им навстречу. Но иногда к ним подходили сотский или тысяцкий, которые обитали вместе с воинами, и тогда Шеин спрашивал их:
— Ну что, голубчики, плохи дела?
— Хуже некуда, батюшка-воевода, — слышал Михаил однозначные ответы, — до конца войны не доживём.
Выйдя из двадцатой землянки на морозный воздух и вдохнув полной грудью, Шеин с зубовным скрипом сказал:
— Да пропади она пропадом, моя честь! Нет сил видеть это медленное умирание россиян. Завтра же потребую от Владислава мира. Вот для них мира и жизни!
— У нас нет иного выбора, Борисыч, и пусть судит нас Бог.
Они зашли ещё в несколько землянок, где лежали раненые, за которыми ухаживали доморощенные знахари. Зрелище в этих землянках вовсе испепелило боевой дух побратимов, они уходили оттуда с такой тяжестью на сердце, как будто на них взвалили всю грязь и страдания мира.
— Да что же станет с ними через месяц, ежели мы, осатанев, будем продолжать войну?
— Успокойся, Борисыч. Я знаю, ты уже отважился сохранить ратникам жизнь и свободу. И верно поступаешь. Господь тебя не осудит. А остальное нам не страшно.
Эти слова Артемия немного привели Михаила в чувство. Он уже спокойно подумал, что из двух путей идти вперёд по жизни у него остался один: завтра отправляться на переговоры с королём Польши Владиславом. «Да не изверг же он!» — мелькнуло у Шеина. Он положил руку на плечо Артемия:
— Эх, брат, сейчас бы баклагу хмельного. Залить огонь, залить горе!
— Что-нибудь спроворим, — отозвался повеселевший Артемий.
И они словно сбросили с плеч непомерную ношу, которая ещё недавно придавливала их к земле, и легко пошагали к своему обиталищу. Они знали, что делать им завтра.
День шестнадцатого февраля выдался морозный, солнечный и тихий. Синел за острогом лес. Под лучами солнца сверкали купола смоленских храмов. У Михаила Шеина, который вышел из землянки на свежий воздух, голова была тяжелее обычного. Но они с Артемием знали, за что выпивали, ставя на кон свои жизни, и теперь точно могли сказать, что им в этой игре не повезёт.
В десять утра, как определил Артемий по солнцу, он, Михаил Шеин и полковник Александр Лесли вышли из ворот острога. За воротами их ждала карета на санном ходу, и рядом с нею стоял сам губернатор Смоленска Станислав Воеводский. Михаил понял, что король не хотел унижать достоинство своих противников в том, что касалось гражданской чести. Сильные сытые кони докатили карету до Соборной горы за считанные минуты. И вот уже Михаил Шеин вошёл в палаты, где много лет назад больше трёх лет жил и в иное время бывал по разным поводам. В трапезной русских и немца встретил сам король Владислав. Было похоже, что он намерен вести беседу не за столом переговоров, а за трапезой. Владислав встал с кресла, на котором сиживал Шеин, и подошёл к нему.
— Нам с тобой везёт, воевода. Мы так часто встречаемся в этих палатах, будто они наш родной дом.
— Я помню те встречи, ваше величество.
— Садитесь к столу. Признайтесь, что голодны.
— Не станем отрицать. Сегодня и маковой росинки не было во рту, — ответил Шеин.
— А мне лестно будет накормить тебя, лучший воевода Руси, — с улыбкой произнёс Владислав.
Он был в хорошем настроении и уже видел тот час, когда пушки накроют чехлами.
И все уселись к столу: король — во главе его, гетман Соколинский — справа, Михаил Шеин — слева. Кубки были наполнены, и король первым взял свой. Поднял свой кубок и Шеин, опередив короля, сказал:
— Я выпью за то, чтобы великодушный король Польши Владислав открыл нам путь домой.
— Подожди, — остановил Владислав Шеина. — Нельзя же так. Ты выпей сперва за то, что уцелел в этой войне. К тому же нельзя, как на Руси говорят, поперёд батьки в пекло лезть.
— Скажу откровенно о том, ваше величество: я сегодня сожалею, что живу и здравствую. Тысячу раз обходила меня смерть и всё для того, чтобы открыть путь к позорной кончине. Есть ли справедливость на небе?! — взволнованно произнёс Шеин.
Его слова вызвали у всех недоумение. И только воевода Измайлов согласился с Шеиным и согласно покивал головой. Даже сам король Владислав не нашёл, что сказать. Но наконец он обрёл дар речи:
— Ты, воевода, не предавал Русь. Это тебя предали. Ты не присягал мне на верность, как многие другие ваши князья, воеводы. В чём же дело?
— Уволь, государь, не буду об этом говорить. Сие наше, россиян, дело.
— Да, это так. Но если мне не откроешь правды, которая всей Европе ведома, то я ни о каком перемирии не буду вести речи. Как говорят у вас, «нашла коса на камень».
— Господи, ладно уж, — отмахнулся рукой Шеин. — Тут нет особой тайны. Зависть людская нас погубит, и нам бросят в лица обвинения в том, что мы продали себя тебе, ваше величество, за тридцать денежек.
— Я понимаю тебя, воевода Шеин. В нашей державе таких мерзостей тоже полно. Давайте же выпьем и будем достойнее подобных упрёков.
— Вот это верно сказано, — заметил гетман Соколинский.
— Теперь прошу вас быть внимательными, — подняв руку, произнёс король. — Гетман Соколинский сейчас зачитает то, что ляжет в основу договора между нашими державами. Скажу одно: условия наши жёсткие, мы же победители. — И король обратился к Шеину: — Если ты хочешь спасти жизни десяти тысяч россиян, то должен согласиться с нашими условиями беспрекословно. Иначе ты можешь встать и уйти, конечно же, поблагодарив меня за трапезу.
— Хорошо то, что с тобой, ваше величество, не скучно. И скажите гетману, пусть читает условия. Я и мои сотоварищи примем их.
— Слава Богу, нашли общий язык. — И король с улыбкой перекрестился. — Итак, ясновельможный пан Соколинский, читайте условия.
— Они доступны для исполнения, — приятным голосом заверил сухощавый и строгий на вид гетман. — Первое: король Владислав заявляет, что ратные люди, как московские, так и иноземцы, могут перейти на службу к королю польскому или вернуться в отечество. Это предоставляется на их усмотрение.
— Благородно, — отозвался полковник Александр Лесли.
— Будьте внимательны, — заявил Соколинский. — Весь наряд — имеются в виду пушки со всякими припасами, а также оружие всех ратных людей — остаётся в пользу поляков. Тем, кто перейдёт на службу к королю, будет возвращено всё имущество.
— Стоп! — предупредил король Владислав. — Для наблюдения за этими действиями назначаются с польской и русской стороны по два человека — капитан и полковник. Продолжай, пан Соколинский.
— Все польские и литовские пленные должны быть отпущены воеводой Шеиным.
Прочитав это, Соколинский замешкался, потому что в грамоте дальше было записано: «Король польский повелевает целовать крест, что никто из отпускаемых ратных людей никогда не будет против него служить». Потом эти строки зачеркнули.
Увидев, что гетман Соколинский смущён, король сказал:
— Мною далее записано, что все отпущенные русские не будут воевать против меня четыре месяца.
— Да, так, ваше величество, — подтвердил Соколинский и продолжал: — «Воевода Шеин с товарищами, все начальствующие и приказные люди и весь церковный причт беспрепятственно будут отпущены со всем имуществом и во время пути должны пользоваться полной безопасностью. Выходить из острога они должны с опущенными знамёнами, с погашенными фитилями, без барабанного боя до того места, где будет находиться король…»
— Дай я сам прочитаю, — заявил Владислав и взял условия договора в свои руки. — Слушайте же! «Положив знамёна у ног короля, знаменосцы отступят на три шага и снова возьмут знамёна и по приказанию польского гетмана Станислава Воеводского зажгут фитили, забьют в барабаны и отправятся в путь. Дозволено им взять с собой двенадцать полковых пушек, если у них есть конское тягло. Таборы, укрепления и остроги должны быть сданы в целости». — Король отдал грамоту Соколинскому: — Читай дальше.
— «Во время пути ратные люди обязуются не притеснять поляков, не входить в королевские замки, а корм для лошадей, если они есть, и съестные припасы для себя — покупать. Договор должен быть подписан воеводой Шеиным и другими воеводами и полковниками с русской стороны и уполномоченными короля Владислава — с польской».
— Есть у тебя противное этому договору слово, воевода Шеин? — спросил король Владислав.
Михаил Шеин старательно вдумывался в каждое услышанное слово. По его мнению, выходило, что король, как победитель, поступал по отношению к побеждённым великодушно. Всё, что касалось оружия, в договоре было выражено по законам войны. Тут и спорить не о чем. И знамёна положить у ног короля — тоже закон войны. Но вот король оставил Шеину двенадцать пушек. Господи, что с ними делать, ежели у него нет тягла? Давно от бескормицы погибли все лошади. На что уж бережливы немцы, и те потеряли коней. «Что делать с пушками, надо подумать», — решил Шеин и ответил королю:
— Я со всем согласен, ваше величество. Законы войны не умаляют твоего благородства.
— Хвала Деве Марии. Два дня тебе на сборы.
— Так и будет. В среду на первой неделе Великого поста и уйдём.
Но не всё было гладко со сборами. Из двух тысяч раненых, которые оставались на попечение поляков и смолян, третья часть запросилась домой. Когда Шеин, Измайлов, князья Белосельский и Прозоровский обходили землянки с ранеными, чтобы проститься с ними, все, кто мог хоть как-то передвигаться, слёзно просили воевод не оставлять их у поляков:
— Сделайте милость, воеводы, не бросайте нас на погибель!
— Мы поползём следом за вами домой!
У воевод, у князей сердца обливались кровью, когда они слушали мольбы раненых. Шеин понимал, что надо внять гласу вопиющих. Выход он видел в одном: выменять за двенадцать пушек у поляков коней с повозками. Сбруя от прежних коней сохранилась. Но знал Шеин, что тех повозок и коней не хватит, чтобы вывезти всех раненых, жаждущих вернуться на Русь. Нужны были деньги для покупки того и другого. После того, как воеводы и князья обошли все землянки, Шеин позвал их в свою и сказал:
— Мы не можем уйти от Смоленска с чистой совестью, ежели не возьмём тех, кто страдает о доме.
— Не можем, — согласились всё единодушно.
— Потому прошу вас раскошелиться и отдать личные деньги на покупку коней и телег.
Денег кое-как наскребли. Узнав, что воеводы и князья отдали всё, что имели, отозвались тысяцкие, сотские, сами ратники. Хранились кое у кого деньги с той поры, когда исправно платили царское жалованье. Однако, собрав деньги, россияне оказались перед другой преградой: поляки не хотели продавать коней и телеги. И Шеину пришлось идти на поклон к королю, объяснять ему безысходность положения раненых.
Владислав понял Шеина. Он учёл и свою озабоченность: ведь русские раненые ложились обузой на его войско. Владислав был благороден, и в его душе не возникло никакого побуждения бесчеловечно избавиться от русских раненых.
— Слушай же, воевода Шеин. За каждую пушку я дам тебе пять лошадей. Остальных продам вместе с санями, но только за золотые монеты. — Король улыбнулся. — Мы, поляки, любим вести торг с выгодой для себя.
— Я благодарен тебе, ваше величество. Доброта твоя да отзовётся в нас.
Девятнадцатого февраля 1634 года восемь тысяч пятьсот шесть здоровых ратников и около семи сотен раненых, сидя и лёжа на подводах, двинулись от острога к Смоленску и там, не поднимаясь на Соборную гору, а огибая её, направились к Днепровским воротам. Они прошли мимо конного отряда гетманов, полковников, сотен воинов во главе с королём. Во время этого прохождения был и соблюдён весь ритуал передачи знамён, завершённый барабанным боем.
И вот уже девять с лишним тысяч русских ратников, спасённых волей воеводы Шеина от голодной смерти, от убиения ядрами и пулями, двинулись к просторам родной земли. Известие о заключении перемирия ещё таилось под кафтаном у гонца. Царь получил его только двадцать восьмого февраля. А двадцатого февраля князьям Димитрию Пожарскому и Димитрию Черкасскому было отправлено неизвестно какое по счету повеление царя Михаила идти к Смоленску. Писалось в грамоте: «По государеву указу велено было идти под Смоленск к боярину Шеину с товарищи помощь учинить». Но воля царя для воевод Пожарского и Черкасского ничего не значила. Они и третьего марта всё ещё продолжали стоять в Можайске, когда в город вошли ратники, ведомые Михаилом Шеиным.
Из Москвы в это время прискакал в Можайск посланец царя Моисей Глебов. Он должен был сказать воеводе Шеину и всем ратным людям, что «служба их и радение, и нужа, и крепкостоятельство против польского короля и против польских и литовских людей, и что с ними бились, не щадя голов своих, государю и всему Московскому государству ведомы».
Об этом послании царя, однако, не было ничего ведомо воеводам, которые стояли в Можайске. Они встретили ратников Шеина и самого воеводу на главной площади Можайска. Но это была встреча не соотечественников, а враждующей стороны с теми, кто вошёл в Можайск полуголодный, оборванный, грязный и больной. Ни князь Черкасский, ни другие воеводы не проявили никаких тёплых чувств к тем, кто вырвался из смертного котла.
Михаил Шеин, не помня старых обид, сказал Димитрию Черкасскому:
— Ты здесь главный воевода, потому прими смоленских ратников под своё крыло. Дай им кров, напои, накорми, заставь лекарей лечить больных и раненых.
Князь Димитрий Черкасский за минувшие годы не изменился. Он был по-прежнему высокомерен, чёрств и несправедлив.
— Никому нет в Можайске приюта. Здесь стоит моя рать, и она выполняет волю царя… — Помедлив, князь добавил: — И Боярской думы. Тебе же, изменнику отечества, и твоим битым ратникам идти в Москву. Там вас и встретят хлебом-солью.
— Ты подлец, князь Черкасский. И ты изменник отечества, а не мои воины и не я. Ты просидел с войском в Можайске полтора года и увильнул-таки от встречи с врагом! Где князь Пожарский? Он-то уж потеснится со своими воинами! — обратился Шеин к стоящему рядом с князем Черкасским подьячему Тихону Ушакову.
— Так он выехал с полком в Вязьму, батюшка-воевода, — ответил Тихон Ушаков.
— Ну вот что, дьяк: ежели не ищешь царской опалы, веди мою рать на постой в казармы Пожарского.
Тихон посмотрел на князя Черкасского. Но тот уже шагал к воеводскому дому. И тогда подьячий содрал с головы шапку и поклонился Шеину в пояс.
— A-а, где наша не пропадала! Идём, батюшка-воевода, я отведу твою рать на постой в казармы князя Пожарского.
Михаил Шеин весь путь от Смоленска до Можайска проделал пешком вместе с ратниками. И шли с ним рядом Артемий и Василий Измайловы, другие воеводы и даже полковник Александр Лесли. И теперь Шеин шёл, как показалось ему, к последнему пристанищу. Он всем своим нутром чувствовал, что пока только царь Михаил его сторонник и один он здраво оценил стояние рати Шеина под Смоленском. Других сотоварищей в русском правительстве у воеводы не было.
Глава тридцать шестая НА ПОБЫВКУ ДОМОЙ
Расположив ратников в казармах, позаботившись о том, чтобы их накормили, и поблагодарив подьячего Тихона Ушакова за помощь, Михаил неожиданно всполошился от прихлынувшей к нему мысли: если он сегодня же не уедет в Москву, то никогда больше не увидит Марию, дочь Катю, сына Ивана, внуков. Оставшись с Артемием в небольшом покое, где раньше отдыхал князь Пожарский, Михаил сказал:
— Слушай, брат мой, иссяк я терпением и душу предчувствие мутит.
— Что случилось, Борисыч?
— В Москву хочу! Поедем, а? Нам же всё равно царю надо доложить, что привели девять тысяч россиян, спасли их от смерти.
— Так повод есть, отчего же не ехать! — загорелся Артемий. — Вот только коней бы свежих добыть.
— Иди к подьячему Тихону Ушакову, он славный мужик, достанет.
Мартовское утро было благодатным, с лёгким морозцем. И солнце всходило чистое, когда Михаил и Артемий покинули на выносливых ногайских скакунах Можайск, рассчитывая к ночи добраться до Москвы. Ровная, накатанная, покрытая снегом дорога и крепкие кони позволяли им это сделать, и они в едином устремлении мчались к своим близким. Лишь одну короткую остановку они сделали в Больших Вязёмах — поддержать коней, самим перекусить — и к полуночи доскакали до Москвы. Стражи в городских воротах не задержали Шеина и Измайлова, едва Михаил назвал своё имя.
— Москва приветствует вас, герои Смоленска, — сказал пожилой стражник. — Я ведь в десятом году стоял там…
Тёплые слова стражника согрели душу Михаила. Он подумал, что ему нечего бояться чьей-то немилости: он честно исполнил свой долг в Смоленске. И если бы… И тут Шеин споткнулся о последнее слово своей радужной мысли, и Артемий будто придержал его за спину, чтобы не упал.
— Это москвитяне встречают нас с душой. А бояре посохи на нас поднимут, им-то мы ненавистны.
И всё-таки Михаил и Артемий, хотя бы на время, избавились от душевных мук. Переправившись по льду Москва-реки близ храма Василия Блаженного, они разъехались в разные стороны. При этом Михаил сказал:
— Завтра ждём тебя со всем семейством на полуденную трапезу.
— А к царю ты с утра пойдёшь? — спросил Артемий.
— Чуть свет. Он рано просыпается. Мы с ним многажды встречались по утрам.
За Кремлем Измайлов повернул на Арбат, а Шеин двинулся к Рождественке. Ночная тишина огласилась цокотом копыт. Оба всадника погнали коней рысью. И вот уже в доме Шеиных зажглись огни, засветились окна, захлопали двери, послышались голоса, все обитатели дома спешили в трапезную, где престарелая мать и сын обнимали друг друга. А потом на груди Михаила застыла прибежавшая в слезах Мария. Подошла заспанная Катя, за нею стоял князь Игорь Горчаков. А с другого бока приближался сын Иван, и за ним шла его жена. Все обнимали Михаила, поздравляли с возвращением из «геенны огненной». Слуги уже накрывали стол, холопы бежали готовить баню. Весь дом пришёл в великое движение, и лишь внуки и внучка спали крепким сном. Михаил, расцеловавшись со всеми, попросил сына Ивана:
— Идём, покажи мне своих чад. — И повернулся к дочери: — И с тобой схожу посмотреть внуков.
Увидев в постели внука Сеню, Михаил почувствовал, как перехватило дыхание, как повлажнели глаза. «Сохрани его, Господь Милосердный», — помолился про себя Михаил. Он стоял близ спящего внука долго, пока не подошла к нему Мария и не сказала:
— Родимый, идём в баню. Она готова, и я тебя помою.
И Михаил впервые за долгое время улыбнулся.
— Спасибо, славная. Я тоже ждал этого часа.
Мария увела Михаила в баню. В предбаннике она сама раздела его. Её тёплые, нежные руки гладили ему грудь, спину. И сама она разоблачилась, повела Михаила в жарко натопленную баню. В руках у неё всё горело. Вот уже медный таз полон горячей воды, мочалка намылена. Мария смывает с Михаила застарелую, зимнюю острожскую грязь и старается, старается. Вот уже кожа скрипит под рукой, тело чистое. Мария окатывает Михаила тёплой водой и приникает к нему всем своим истосковавшимся телом. И он забывает свои годы, свою усталость, душевную маету, берёт её за талию, гладит высокие бедра, млея от нежности, поднимает её на руки, несёт на высокий полок, отливающий желтизной сосновых досок. И они ложатся на него. Головы положены на берёзовые веники — это не пугает их. Они сливаются воедино. Они молоды душой и телом и тешатся, как в былые годы, — им всё посильно.
Когда напарились, намылись, ублажили все свои желания, Михаил почувствовал голод до такой степени, что у него засосало под ложечкой. Мария быстро всё приготовила. Она давно предупредила слуг, чтобы принесли в предбанник яства и питье. Завернув себя в льняные полотна, они вышли в предбанник к столу, и на нём Михаил увидел всё, чего был лишён два года, что было обычным в прежние времена. На блюде лежали румяно поджаренные рябчики. Светилась нежная севрюга. Ароматом била в нос тушёная телятина. И посреди всего изобилия стояла братина с царской медовухой. Тут же был кувшин холодного брусничного кваса и горкой возвышался пшеничный хлеб свежей выпечки. И вот Михаил и Мария вдвоём за столом и могут любоваться друг другом бесконечно. Мария наполнила кубки, и они выпили за встречу. Мария тоже изрядно пригубила и знала для чего. Ей предстояло рассказать Михаилу многое такое, что на трезвую голову и не скажешь. Михаил наполнил себе ещё кубок.
— В кои-то веки дозволяю себе, — произнёс он.
— Нам с тобой, родимый, всё теперь дозволено. И ты можешь меня послушать о том, что тебе должно знать.
— Спасибо, славная. Я вижу, ты чем-то маешься. Говори же.
— Вчера от нас уехали в Кострому гости, — принялась излагать подспудное Мария, — гостила три дня Катерина, наша посажёная матушка, с муженьком боярином Михаилом Бутурлиным. Его вызывали в думу заседать. И поведали они, сперва Катя, а потом и сам Бутурлин, столько всего, что я уж и не знаю, о чём умолчать, что открыть.
— Не надо ни о чём умалчивать, семеюшка. Нам обоим легче будет.
— Верно говоришь. И сказано мне было перво-наперво, что нас с тобой и всех наших близких ждёт опала жестокая.
— Я знал, что всё к тому идёт. Но от кого опала? Ведь царь, слава Богу, ко мне был всегда милосерден.
— И до последних дней он был к тебе милостив. Да всё пошло наперекосяк, когда пришла весть о том, что ты заключил с поляками перемирие.
— И это я предчувствовал. Однако у меня не было выбора. Я должен был спасти девять тысяч ратников.
— Все об этом знают, да не хотят понимать. Как молвил батюшка Бутурлин, им нужно было найти козла отпущения. Он так и сказал: позор за поражение под Смоленском на совести приспешников царя князей Салтыковых и всей своры с ними. Они после Филарета властвуют над державой и над царём. И по воле князей Петра и Михаила Салтыковых была созвана Боярская дума. Она и решила твою судьбу помимо царя-батюшки.
— Бутурлин был на этой думе?
— Был. И он оказался единственным, кто не бросил в тебя камень, — так мне поведала ясновидица.
— Он рассказал о том, что решила дума?
— Да, и очень подробно. Тебе это важно знать, потому как ты против думских решений найдёшь защиту.
— У кого я найду защиту, ежели царь отвернулся? Да и нужно ли? Что постановила дума?
— Она назначила с согласия царя служилых людей для допроса главных воевод смоленской рати. Во главе всех поставлены князь Андрей Иванович Шуйский и князь Андрей Васильевич Хилков. Ещё Сокольничий Василий Иванович Стрешнев и лютые дьяки Тихон Бормосов и Димитрий Прокофьев.
— Всё это выводок Салтыковых.
— Их. То всей Москве ведомо. И теперь, сказал батюшка Бутурлин, как приведёшь ратников в Москву, так и суд начнётся.
— Куда бы ни шло, ежели бы меня одного суд коснулся.
— Мало им тебя одного. Салтыковы со дня, как преставился Филарет, злодействуют над всеми, кто был к нему близок. Потому, сказал батюшка Бутурлин, будут судить не только тебя, но и князей Прозоровского и Белосельского да твоих побратимов Измайловых.
Мария замолчала. Глоток медовухи сделала и смотрела на Михаила печальными, как у Божьей Матери, глазами. Затем заговорила вновь, тихо и с горечью:
— И ведь все знают, что нет никакой вины на вас за стояние под Смоленском. Знают, что царь всех наградить думал за великое стояние. Ещё царь был сильно недоволен своевольством князя Димитрия Черкасского и князя Димитрия Пожарского.
Мария снова замолчала. Михаил понял, что она не во всём открылась, что-то утаила от него. «Зачем?» — подумал он и попросил:
— Машенька, откройся и в остальном. Мне легче будет.
— Да к чему это тебе, Миша? Главное ты знаешь.
— Так ведь я ещё жив, родимая, и сегодня же пойду искать правду у царя. Я докажу ему, что вся вина за Смоленск лежит на мне и только меня пусть судят и казнят. А вы-то здесь при чём?! Никто не смеет вас и пальцем тронуть. Ныне не времена Ивана Грозного, когда всё древо фамильное рубили.
— Может, так и будет, нас не тронут. Да ведь тот же батюшка Бутурлин сказал без утайки: и вам бы всем, сродники, поберечься надо, грозятся, дескать, сослать вас в понизовые города по Волге и достояния всякого лишить. Дума так решила. А царь-батюшка, добавил Бутурлин, у думы за пазухой сидит. Вот и весь сказ, родимый. И мы к опале готовимся.
— Что же Бутурлин посоветовал?
— Ты, говорит, Мария, подумай вот о чём. Купи себе вот хотя бы на мою Катю имение с домом в глуши, да и уезжай туда гостевать с детишками и внуками.
— А ты?
— Я послушала батюшку Бутурлина и отдала всю казну Катерине, чтобы вложила она в имение в Нижегородской земле.
— Хвала твоему мужеству, славная. Ни Катя, ни Бутурлин нас не подведут. — Михаил приблизился к Марии и поцеловал её. — Перебедуем, может быть, а?
— Как Господь повелит, так и будет. А Бутурлины уехали вчера. Жаль, что с тобой не свиделись.
— Он всё в Костроме стоит?
— Там. И вот что, родимый: идём в опочивальню, тебе надо соснуть. Уже и рассвет близок.
— Не знаю, усну ли. Ратная привычка по две, по три ночи не спать.
— Надо, родимый. День у тебя будет нынче трудный.
— Это верно.
У Марии была приготовлена чистая одежда. Она сама скоренько оделась и принялась обряжать Михаила. А как одела во всё новое, взяла с улыбкой за пояс и повела в опочивальню.
Спал Михаил каких-то два часа. А большего не мог себе позволить, потому как обещал Артемию быть чуть свет у царя в Кремле.
Михаил зашёл на поварню, там перекусил чем Бог послал и поспешил на конюшню. Ему оседлали коня, и он ускакал в Кремль. Михаил надеялся, что царь примет его, как в прежние годы, посидят они вместе за столом. Может, скажет: «Славно ты послужил в Пушкарском приказе, вставай опять во главе его». А то и по-другому может сказать: тебе, дескать, дана почти в имение волость Голенищево в Костромской земле, вот и поезжай туда, возводи палаты, отдыхай. И в крик произнесёт: «Да не виновен ты ни передо мной, ни перед Русью!»
Вот и Кремль. Думы с радужной подсветкой оборвались. Вот Соборная площадь. Ежели бы повернуть направо, то в патриаршие палаты можно войти. Там теперь иной святейший обитает, к нему не пойдёшь, не посетуешь. Слышал Шеин, что новый патриарх, бывший архиепископ Иоасаф, служил во Пскове, что родом дворовый боярский сын, нравом и жизнью был добродетелен, но к царю не вхож. Смоленская трагедия его, поди, не коснулась, и Михаил проехал мимо патриарших палат.
А вот и царский дворец. Знакомо тут всё до последней балясинки на перилах красного крыльца. И рынды у дверей, похоже, прежние. Один из них даже улыбнулся и поклонился.
— Здравия желаем, батюшка-воевода. — И распахнул перед ним дверь.
Михаил прошёл пустынными сенями в Столовую палату. Тут и оборвалось его радужное утреннее настроение. Навстречу ему шёл князь Борис Салтыков. Уже весь сивый, полный, оползший вниз, а чёрные глаза по-прежнему жгучие и злые.
— И хватило у тебя совести прийти в царский дворец? — спросил он.
— Зачем, князь, обижаешь меня? Совесть моя чиста перед царём.
— Суд разберётся, насколько она чиста. И ежели ты к царю за милостью пришёл, так не ищи его в Москве. Укатил он, и сами не знаем, где искать. А тебе и вовсе не следует ему показываться. Иди, боярин.
— Слушай, князь Борис, почему ты так лют ко мне? Я тебе дороги не переходил, каверз не чинил. За что такая немилость?
— Сказал бы почему, да чести много будет. Да уж одно выложу с досады. Ты, сидя под Смоленском, жируя там, нас всех чернил до того, что царь без гнева видеть нас не мог. А за что? Вот тебе одна правда. А другой и не жди, ежели не хочешь оплёванным уйти из дворца.
— Бог тебе и мне судья, князь Борис. А до царя я и без твоей милости дойду. — И Шеин направился к двери.
— Стой! — крикнул Салтыков. Шеин остановился. — Ты прежде повеление царя выполни, а потом уж ищи его.
— Какое повеление?
— Сказано царём-батюшкой, чтобы остатки рати в Москву привёл. А всё для того, чтобы москвитяне посмотрели, до чего ты довёл рать.
— Поклянись, что это правда! — без почтительности к князю крикнул Шеин.
— Вот те крест! — И Салтыков перекрестился. — Да не веди их оборванными, не то опять нас обвинят. Сродников соберут, сраму не оберёшься.
Покинув царский дворец, Шеин отправился в Разрядный приказ, который располагался в Кремле. Шёл и сожалел, что нет в нём Елизара Вылузгина. Но Михаилу повезло. В эту пору продолжал служить в приказе дьяк Димитрий Карпов, который провожал его под Смоленск.
— Душа любезный боярин Михаил Борисыч, рад тебя видеть, — произнёс дьяк.
И Шеин ему обрадовался. Обнялись, облобызались.
— Здравствуй, славный Димитрий. Помоги, родимый, разобраться в маете, постигшей меня.
Встретились старые знакомые в большой комнате, где сидело несколько подьячих. Шеин поклонился им. И они встали, поклонились. Димитрий Карпов взял Шеина под руку и повёл к двери, за которой оказался небольшой покой со столом, двумя стульями и шкафом.
— Вот тут и поговорим о твоей маете, батюшка. — Дьяк закрыл дверь на засов и провёл Шеина к столу. — Садись, родимый, в ногах правды нет. Да нет её ныне и нигде. Вчера приходил к нам, по старой памяти, Елизар Давыдыч, спрашивая о тебе. Да сказать ему нечего было. — Усадив Шеина за стол, Карпов метнулся к шкафу, открыл его и достал два небольших кубка и глиняную баклагу. Всё поставил на стол. — Есть нам о чём поговорить с тобой, родимый. — Он наполнил кубки. — Да прежде давай дух наш укрепим. Ты ведь воевода, им и оставайся. Выпей же. И я с тобой…
— Спасибо, Димитрий. Только что встречался с Борисом Салтыковым, так он мне ушат горечи в душу вылил. Горит душа.
Выпили дьяк и воевода. Посидели молча, глядя друг на друга добрыми глазами. Потом Димитрий воздуху в грудь набрал, будто перед прыжком в холодный омут, и повёл речь:
— Маету свою ты, славный воевода, и до конца дней своих не расхлебаешь. Окружили тебя волки злобные, будут рвать твоё тело невинное. Да помни одно: ты воин и воину надо драться с врагами, пока сил хватит.
— За что же ко мне такая немилость?
— Из зависти людской. Как повёз к тебе Моисей Фёдорович Глебов грамоту царя с благодарностью тебе, что, не щадя головы, бьёшься с врагами, так эта грамота была прочитана в думе и обожгла она правдой всех, кто за Салтыковыми стоит. И пошёл на тебя поклёп великий. В чём только тебя не обвиняли! И перескажу я тебе вкратце те измены, которые чёрные головы возводят на тебя. Будешь ли слушать?
— Буду. Врагов надо знать в лицо.
— Винят тебя в мешкотном переходе из Можайска к Смоленску. И за смерти воинов в пути от болезней и голода зимой тридцать второго года. Ещё винят тебя и твоих воевод за то, что часто и неожиданно нападали литовские воины под Смоленском из-за небрежения воевод и полковников. Да сказано было, что ты утаил, сколько прошло в Смоленск литовских и польских воинов. Винят и за то, что требовал большого количества пушечного наряда, который пришлось перевозить по плохому пути. И за то, что делали приступы не тайком и не ночью, а днём. Ещё запрещал якобы ты вступать в сражения с приходящими литовскими воинами. И будто бы ты с воеводами обогащались рыбными ловами в Смоленском и Дорогобужском уездах. — Тут Димитрий улыбнулся. — В вину тебе поставлено и то, что ты царский наказ строго исполнял, чтобы твои ратные люди не брали ничего даром и не обижали жителей Смоленского и Дорогобужского уездов. И потому ты уберёг уезды со всеми запасами кормов для короля польского. — Дьяк тяжело вздохнул. — И это лишь малая толика, что на тебя льют.
— Плетью бы всех клеветников. Я же только мародёров наказывал.
— Говорить ли ещё, славный воевода? — И дьяк наполнил кубки.
— Не надо. Давай-ка лучше выпьем за то, что не перевелись на Руси люди, живущие по правде. Я слышал, что меня обвиняют ещё в крестном целовании Владиславу. Но за мной того не было. А вот все московские бояре ему присягнули и даже ворота кремля распахнули перед поляками. Вот где клятвопреступление перед Русью.
Воевода и дьяк выпили. Потом Димитрий с досадой произнёс:
— Нет на Руси места честному человеку, будь то простой воин, воевода или служилый человек. Съедят его. Знаю одно: тебе смертушка никогда не была страшна, тысячу раз ты смотрел ей в глаза. Оставайся таким же мужественным и в грядущие дни. Да поезжай в Можайск, приведи своих ратников на Красную площадь. Пусть они за тебя замолвят слово.
— А кто им поверит? Судьи Салтыковых? Ежели царь и поверит, так его вере грош цена. Ладно, славный Димитрий, поеду в Можайск за ратниками, а после положусь на волю Божью. Увидишь батюшку Елизара, поклон ему от меня.
Покинув Кремль, Михаил поскакал к Артемию Измайлову поделиться с ним тем, что почерпнул из мутного московского колодца. И у них хватило времени приготовиться к роковому часу. Артемий, выслушав Михаила, сказал одно:
— Мы с тобой слишком рьяно служили Руси, за что и поплатились.
Артемий по совету Михаила передал все свои сбережения младшему сыну Семёну и наказал ему немедленно ехать в Пронск к деду и бабке.
— И матушку завтра же возьми с собой в Пронск.
Сделав всё возможное, чтобы оградить ближних от нищеты и разорения, Шеин и Измайлов на другой день ранним утром выехали в Можайск, чтобы привести восемь с лишним тысяч ратников в Москву и сдать их дьякам Разрядного приказа. Ехали в Можайск они не спеша. Им никуда не надо было торопиться, потому как обоим был известен тот час, когда их позовут к ответу за «измены». И оба вели себя, как перед боем, как перед приступом на вражескую твердыню. Зная, что на стенах крепости их ждёт смерть или ранение, увечье, — всё равно они были отрешены от мыслей о том, что их ждёт. Так поступали все мужественные воины, а Шеин и Измайлов были из их числа.
Глава тридцать седьмая ПОКЛОНИСЬ, РУСЬ
Прискакав в Можайск лишь на другой день к вечеру, Шеин велел позвать князей Белосельского и Прозоровского и сказал им:
— Вот что, други-князья. Против всех нас, что воевали под Смоленском, затеян сыск. Нас обвиняют во многих изменах и в других мерзостях. Так вы поезжайте сегодня же в Москву, загляните в Разрядный приказ, ежели пожелаете, и попросите дьяка Димитрия Карпова поведать вам, в чём ваша вина перед думой. Он знает и проявит милость, то во благо вам. Не взыщите.
— С нас не взыщи, Михаил Борисыч. Уж ежели тебя потянут к ответу, то и мы рядом встанем. Так ли я говорю, князь? — спросил Прозоровский Белосельского.
— Истинно так, княже, — ответил Белосельский.
— Дай вам Бог здоровья, побратимы. Потому скажу: сегодня мы вместе посидим за трапезой и я сообщу вам, что узнал в Москве.
— Так и будет, — согласился князь Прозоровский.
На другой день после утренней трапезы девять тысяч ратников во главе с воеводами покинули Можайск и двинулись к Москве.
Всем им в стольном граде была приготовлена царская милость, выплачено жалованье за все месяцы, когда сами осаждающие стали осаждёнными. Но это было позже, а пока ратники через два дня пути на третий явились на ходынское поле, и там дьяки Разрядного приказа приняли их у Шеина и его сотоварищей, разместив на отдых в казармах.
А в тот час, когда воеводам казалось, что они свободны в своих деяниях, вблизи казарм появились две большие кареты Сыскного приказа. Из них вышли два дьяка — Тихон Бормосов и Димитрий Прокофьев, а за ними — два пристава, стражники, они тотчас окружили воевод. Дьяк Тихон Бормосов достал из-за пазухи грамоту, посмотрел в неё и спросил:
— Кто из вас Михаил Борисыч Шеин?
— Чем могу служить? — отозвался Шеин.
— Князья Семён Прозоровский и Василий Белосельский?
— Это мы, — ответил Прозоровский и тронул за плечо Белосельского.
— Отец и сын Измайловы?
— Вот я и мой сын Василий, — откликнулся Артемий.
— Именем царя всея Руси вас велено взять под стражу, — заявил дьяк Бормосов.
Это уведомление дьяка Сыскного приказа ни для кого не было неожиданностью. Михаил Шеин ещё в пути к Москве поведал князьям и Василию Измайлову, в чём их обвиняют и что их ждёт по прибытии в стольный град. Арестованные без слов уселись в кареты, и они покатили в Кремль. Весь путь арестованные молчали. Дьяк Бормосов сидел перед ними и смотрел на них светло-карими совиными глазами, как на личные жертвы. В Кремль кареты въехали через Тайницкие ворота, скрылись на Крутицком подворье, затем подъехали к самым дверям каменного здания, и арестованных повели в эти двери, где сразу же была лестница в подвал. Шеина и Измайловых развели по трём каменным клетям, князей поместили в одну.
В течение трёх дней узников никто не тревожил. Им только приносили пищу. В полдень к ней добавляли по глиняной кружке вина. На четвёртый день их сидения Михаила Шеина вызвали на допрос, привели в Сыскной приказ, и он предстал перед четырьмя сыскных дел мастерами. То были князья Андрей Шуйский и Андрей Хилков, окольничий Василий Стрешнев и уже знакомый Михаилу дьяк Бормосов. Допрос начал князь Андрей Шуйский, племянник царя Василия Шуйского:
— Когда ты вернулся из плена в девятнадцатом году, зачем скрыл, что присягал на верность и целовал крест королю Сигизмунду и королевичу Владиславу?
— Мне нечего было скрывать. Присягу я не давал и крест не целовал, — твёрдо ответил Михаил.
— Ты обманываешь сыск. Почему же тогда, сидя под Смоленском в этот раз, ты исполнял своё крестное целование польскому королю, во всём ему радел и добра хотел, а русскому государю изменял? — продолжал вытягивать из Шеина «правду» князь Андрей Шуйский.
— И этого не было. Да и как я мог радеть полякам, ежели они меня пыткам подвергали? Вот смотри, что они сделали с моими руками, все ногти посрывали. Видишь, какие уродцы выросли!
— Это, поди, ты по пьяному делу у них в плену заслужил, — заметил князь Андрей Хилков.
— Ведомо нам, что ты по доброй воле отдал Владиславу двенадцать пушек. Это ли не твоё радение польскому королю? — продолжал князь Шуйский.
— Не отдал, а променял на шестьдесят коней, чтобы вывезти на них раненых россиян.
— Что с того, что ты одних спас, а других оставил? Это ли не есть твоя измена?
Шеин встал, глаза его налились гневом, но он сдержал себя.
— Тех, тяжело раненных, смоленские россияне взялись лечить и ухаживать за ними. А я бы их не довёз, они бы в пути умерли. И отведите меня в клеть. Не буду я неправедным судьям отвечать!
— Ишь, какой гордый! Скажи спасибо царю, что не велел тебя на дыбе пытать, а то бы не так заговорил, — зло произнёс князь Хилков и велел окольничему Василию Стрешневу: — Уведи его. Да приведи сюда старшего Измайлова.
Шеина увели.
Восемнадцатого апреля в палате Сыскного приказа появился царь Михаил, за ним шли многие думные бояре. Они слушали дело о Михаиле Шеине и его сотоварищах. И было постановлено применить самую жестокую меру наказания к Михаилу Шеину, Артемию и Василию Измайловым. В приговоре было сказано также о том, что их поместья, вотчины, московские дворы и всё имущество берутся на государя. Не забыли судьи и о семьях осуждённых. Семейство Михаила Шеина ссылалось в понизовые города, близких Артемия Измайлова высылали в Сибирь. Князей Семёна Прозоровского и Василия Белосельского отправляли тоже в Сибирь. У всех осуждённых нашлись дальние родственники, которых тоже осудили на ссылки, кого в Казань, кого в Нижний Новгород.
Миловала судьба только Ивана Шеина с женой Анастасией и сыном Семёном. Говорили потом, что это было сделано Сыскным приказом по личной просьбе государя. Открылся царь Михаил дьяку Тихону Бормосову, что внук Ивана Шеина будет великим воеводой.
— И случится это, когда на Руси будет царствовать мой внук. Так ты уж, дьяк Тихон, забудь про Ивана Шеина и его семью. Да быть тебе думным дьяком, — пообещал царь.
И ещё царь Михаил проявил две малые милости. Он разрешил свидание каждому осуждённому с кем-то из своих близких и, уже расщедрившись до слёз, дал согласив исполнить последнее желание Михаила Шеина. Произнёс он при этом:
— Славный был воевода. Многажды мы сиживали с ним за столом в мой День ангела. И хмельное пили. Так ты, дьяк Тихон, ему скажи, что ежели в последнем своём желании попросит хмельного, так я пришлю ему ендову[34] царской медовухи. Для такого славного человека ничего не жалко, — тяжело вздохнул царь всея Руси и покинул Сыскной приказ.
На другой день царь Михаил вызвал к себе князя Андрея Шуйского. Он считал его умным и благожелательным, и, когда князья выбрали его главой сыска над Шеиным, царь надеялся, что тот проявит к обвиняемому милость и не поставит в вину мнимые грехи за явные. Всё так и шло. Но Боярская дума решила судьбу смоленских воевод по-своему. Царь не мог надавить на думу, чтобы она изменила свой приговор, и теперь искал оправдание своей неправедной мягкотелости.
Принял царь Михаил князя Шуйского в своей опочивальне. Ему нездоровилось. Рядом с царём находилась царица Евдокия. Странной была эта беседа. Князь Шуйский как бы присутствовал при разговоре царя и царицы. А он, князь Шуйский, похоже, должен был олицетворять проводника тех сил, которые противостояли царю жить и править державой по правде.
— Вот давай, матушка царица Евдокия, посмотрим, насколько князь Шуйский и иже с ним бояре и дьяки судили по-божески воеводу Шеина. Помнишь ли, как мы велели ему идти под Смоленск в апреле тридцать второго года. Но Боярская дума и приказы отпустили его только через два месяца и четыре месяца в Можайске вооружали. Ежели бы его отпустили вскоре после назначения и дали достаточно войска, боеприпасов и корма, он бы летом Смоленск взял. Не так ли я говорю, князь Шуйский?
— Так, царь-батюшка, — ответил Шуйский.
— Писал же мне Шеин осенью, что мешкотный путь случился из-за проливных дождей осенью, из-за того, что ратникам не было корма, что они убегают из войска, особенно иноземцы. — Царь встал, подошёл к Шуйскому. Тыкая ему в плечо пальцем, продолжал: — Помнишь, Сыскной приказ докладывал мне, что Разрядный приказ, несмотря на осень, ещё не послал большой наряд пушек и идти на приступ Михаилу Шеину было не с чем?
— Помню и это, государь, — отвечал Шуйский.
— Дуняша, родимая, — обратился царь Михаил к царице, — за что судят лучшего воеводу? И почему бы не судить воевод князей Черкасского и Хилкова и иже с ними, которые получили семь моих повелений за полтора года, но так и не двинулись с войском из Можайска под Смоленск? Вот кто изменники, князь Шуйский, — всё так же тихо, но с хрипотцой произнёс царь, вновь подойдя к князю.
Но, высказываясь главе комиссии по сыску над Шеиным и его воеводами, царь сам боялся того, о чём говорил. Ему казалось, что его кто-то подслушивает, он не доверял князю Шуйскому, считал, что тот выдаст его Боярской думе. Он вопрошающе смотрел на царицу Евдокию, пытаясь угадать, согласна ли она с ним, утешит ли его в час разочарований в допущенных ошибках. Да, он мог ошибиться, определяя цену деяниям Шеина, однако он не хотел этого делать и он же утвердил приговор комиссии. Нет, дальше разговоров о невиновности Шеина он не пошёл и, провожая князя Шуйского, наказал:
— Ты, княже Андрей, забудь, о чём здесь беседовали. Вот моя супруга очевидец того, что никого из думцев я не чернил.
Царь не понимал того, что он унижается перед князем Шуйским, что просит его милости за сказанное от прямоты душевной.
Князь Андрей Шуйский, прожжённый царедворец, умел скользить между теми, кто был сильнее. В хитрости князь Андрей преуспел и перещеголял своего дядюшку Василия Шуйского и потому многажды заверял царя Михаила в верности ему, повторяя: «Крест целую, батюшка, что сказанное тобой умрёт во мне».
Несмотря на заверения Шуйского в верности, царь остался им недоволен и даже посетовал на себя Евдокии:
— Не знаю, матушка, как угораздило меня распинаться перед козлобородым князем…
— Да уж что было, то было, батюшка, — пыталась утешить царя супруга Евдокия.
— Право же, как хорошо, когда мы с тобой беседу ведём и доверяемся друг другу. Да ведь главного-то я Шуйскому не сказал. Я же всем сердцем люблю Михаила Шеина. Я ему и боярство дал и вот чином наградил. Правда, теперь и вотчины и палаты — всё пойдёт в мою казну, так ведь я не виноват. Так дума решила, всё по закону. Иль я неправ, матушка?
Царь Михаил ещё долго в этот день печаловался о горькой судьбе смоленских воевод, но пальцем о палец не ударил, чтобы смягчить их участь. Об одном он спешил позаботиться: как бы ко времени ендову с царской медовухой послать идущим к Лобному месту. Ещё о свидании с близкими, которое разрешил узникам, не забыл.
Однако Боярская дума и Сыскной приказ, вопреки воле царя, запретили узникам свидание с родственниками. И это произошло, может быть, к счастью для них. Они сумели покинуть Москву до вынесения им приговора. К Шеиным за два дня до рокового часа вернулась из поездки Катерина-ясновидица. Встретившись с Марией, она сказала ей:
— Ты, голубушка, сегодня же собирайся в путь со всеми чадами, пока дьяки дремлют. Завтра с утра и уезжайте. Послезавтра будет уже поздно. Могут и под стражу взять.
— Увидеть бы родимого хотелось, — со слезами произнесла Мария.
— Не увидишь. Запрет дума на свидания наложила. Да ты не печалься голубушка, я покажу его тебе. Ты увидишь, каким он уходит от нас.
Мария поплакала и покорилась судьбе. За долгие годы семейной жизни она не раз провожала супруга в последний путь. Он же возвращался. Она думала, что опять ошибётся.
Сам Михаил Шеин, пребывая в каменной клети Крутицкого подворья, вёл себя как истинно умудрённый горьким жизненным опытом россиянин. Тысячу раз он поднимался во весь рост, выходя навстречу ядрам, пулям, мечам и копьям, несущим смерть. Он уже свыкся с тем, что она всегда была рядом, но не касалась его, начиная от далёкого Пронска и кончая острогом под Смоленском. Никогда не было случая, чтобы он прятался от летящих ядер, стрел и пуль. Он даже не кланялся им. Он знал, что страх воеводы перед смертельной опасностью вселяет такой же страх и в сердца воинов, идущих за ним. С годами бесстрашие перед потерей живота в нём возрастало. Он думал просто: «Я мог быть убитым уже тысячу раз. Ежели это случится в тысячу первый раз, тому и быть».
И всё-таки в душе Шеина жил не то чтобы страх, а некая обида. Как это так, ему, воеводе, встречавшемуся с врагами сотни раз, надо будет посмотреть и в глаза палача? Достоин ли царский палач такой чести? Чтобы он, честный воин, глядел в глаза палача и выпрашивал у него какой-то милости? Да не бывать этому никогда! Он сделает всё, чтобы никто не увидел его идущим на Лобное место, но чтобы все видели его шагающим в сечу. А в душе его в дни ожидания последней сечи бил живой родник жажды крикнуть россиянам, которые соберутся на Красной площади, нечто такое, что вдохновило бы их во веки веков жить по правде. И Шеин ощущал, что в роднике души уже рождаются некие слова, которые вот-вот взметнутся ввысь и улетят к россиянам великим призывом. Шеин чувствовал, что это должно произойти сегодня. Так оно и было.
Утром двадцать восьмого апреля 1634 года на двор Сыскного приказа стражи привели князей Василия Белосельского и Семёна Прозоровского. У парадных дверей на помосте собрались судьи-следователи: князья Андрей Шуйский и Андрей Хилков, окольничий Василий Стрешнев, дьяки Тихон Бормосов и Димитрий Прокофьев. Близ них встали стражники Сыскного приказа. И вот неподалёку от парадного входа открылась дверь, ведущая в подвал, и из неё вывели воевод Михаила Шеина, Артемия и Василия Измайловых. Их подвели к осуждённым по сыску князьям, и дьяк Тихон Бормосов прочитал приговор, утверждённый Боярской думой.
В приговоре было отмечено, что царь щедро наградил их перед походом под Смоленск. Потом в приговоре перечислялись все провинности осуждённых. По прочтении обвинительного приговора судьи стали о чём-то совещаться. А перед глазами Шеина в этот миг появился образ Катерины-ясновидицы, и она произнесла:
— Прости, Борисыч, что не успела к тебе прийти и от родимых поклон принести. Помни, что они в благополучии и будут за тебя молиться Всевышнему. — Образ Катерины померк, но в ушах Шеина ещё звучало последнее, сказанное ею: — Напомни судьям о милости царя!
Дьяк Бормосов в этот миг повернулся к осуждённым и велел стражам:
— Ведите их на Пожар.
— Остановитесь! — крикнул Шеин. — Ты, дьяк Бормосов, не выполнил нашей последней воли! А царь велел то сделать!
— Эк, право дело, ничего я не знаю, — ответил дьяк.
— Я знаю о царской милости, — заявил князь Андрей Шуйский.
— Так донеси её до нас, князь-батюшка, — попросил Бормосов.
— А вот что воевода Шеин пожелает, то и исполним, — сказал князь.
Михаил Шеин улыбнулся, его глаза озорно блеснули, он оглядел приунывших сотоварищей и властно повелел дьяку:
— Вот что, будущий думный дьяк Тихон Бормосов. Последняя наша воля как закон, и царь её утвердил.
— Что же ты хочешь, скаженный? В судный час не утихомиришься! — со слезой в голосе выкрикнул дьяк.
— Вот что тебе царским именем повелеваю: принеси-ка сюда ендовы крепкой медовухи и пять кубков. Как выпьем, так и распоряжайся нами, приказная голова, — заявил Шеин.
Бормосов посмотрел на солнце, на Благовещенский собор, перекрестился и крикнул Стрешневу:
— Василий, а ведь ты у нас царский любимец, племянничек царицы. Вот и беги в подвал за медовухой. Да бадью неси, а не ендову!
Той порой к Сыскному приказу стекалось всё больше москвитян. К тому располагал тёплый апрельский день, солнечная погода и зрелище, которого горожане давно не видели. Помнили они, что при великом государе Филарете казней не было. Стражники вынуждены были окружить осуждённых и теснить горожан.
Наконец появился Василий Стрешнев. За ним следовали двое слуг из царского дворца, которые несли большую бадью медовухи и корзину с кубками. Хилков велел слугам поставить всё на помост.
— Ну подходи, неугомонный заводила! Исполняй последнюю милость царя-батюшки! — крикнул дьяк Бормосов Шеину.
Шеин махнул рукой князьям Белосельскому и Прозоровскому, положил руки на плечи Артемия и Василия Измайловых, и все они, подойдя к помосту, где стояли бадья и кубки, зачерпнули медовухи.
— Да простит нас Всевышний, а мы готовы к ответу перед ним, — произнёс Шеин и, вскинув кубок, выпил одним духом.
И все пятеро выпили. Да тут же Михаил побудил осушить ещё по кубку.
— За Русь-матушку! Она достойна этого!
— Эк размахнулся! Один пьёт, и совести нет! — воскликнул дьяк Бормосов и потянулся к кубку князя Белосельского.
И все судьи в этот миг смотрели на приговорённых с завистью. «А чего я-то жду?!» — подумал дьяк Димитрий Прокофьев и устремился к кубку князя Прозоровского.
Тем временем Михаил уговорил Артемия и Василия выпить по третьему кубку.
— За царя-батюшку, за его милость к нам. Не пожалел царской медовухи, — весело произнёс Шеин.
Дьяк Бормосов, выпив кубок медовухи, впал в гнев: не понравилось ему сказанное Михаилом Шеиным.
— А ну, прокажённые, айда на Пожар! Я тебе покажу, как о царе с усмешкой говорить! — погрозил он Шеину кулаком. — Эй, стража, за мной!
Стражники окружили приговорённых и повели их с кремлёвского двора. Толпа горожан двинулась следом. И вот уже позади Троицкие ворота, открылась Красная площадь, в просторечии дьяка Бормосова — Пожар. Вся она до торговых рядов была заполнена москвитянами, лишь к Лобному месту стрельцы оградили проход.
Михаил Шеин шёл впереди. Он, как и его друзья, был хмелен, и сдерживал нечто рвущееся из груди. Но в душе у него всё сильнее звенели колокольца, и они придали голосу воеводы великую силу. Михаил мощно крикнул:
Поклонися, Русь, мне в ноженьки! Поклонися в последний разок!На Красной площади всё замерло. Не было подобного на Руси, чтобы осуждённые на казнь шли так, гордо вскинув головы, так отважно обращались к народу. А голос Шеина звучал всё мощнее:
Не был я сиротиной у Боженьки! И за тобою немалый должок!— Чего это тебе задолжала держава? — послышался голос из толпы.
Отдал я тебе кровь молодецкую, Душу, сердце — всё подарил! Сохрани же бородку боярскую И головушку, что не пропил!— Слава Шеину! Слава! — прогремело над площадью. Он же продолжал покорять россиян:
Поднимусь на помост я на Лобный И над плахой склонюсь головой. Промахнися же, молодец добрый, Брось топор да и песню запой.Кто-то крикнул палачу:
— Эй, в красной рубахе! А ну прочь с помоста! Стрельцы заволновались. Шеин продолжал идти к Лобному месту и пел:
И поклонится Русь тебе низко, Что от смерти ты спас удальца. А своё ты получишь до нитки От царя, что на плаху вознёс молодца!И прокатилось над всей площадью так мощно: «Слава Шеину! Слава Измайловым!» — что с церквей и соборов с оглушительным карканьем взлетели тысячи ворон и закружили над толпой, сшибая с голов шапки. Красная площадь не переставала волноваться, и крики горожан слились с граем ворон: «Слава Шеину! Слава!»
Михаил Шеин обнял за плечи Артемия и Василия, они повернулись к толпе и низко поклонились. А в этот миг за спинами стрельцов появился Анисим, побратим Михаила. Он пытался прорваться сквозь строй стрельцов и кричал:
— Батюшка-воевода, я с тобой! Батюшка-воевода… Его сбили с ног, он вскочил и вновь ринулся вперёд.
И тогда Шеин крикнул:
— Анисим, живи за тех, кому бы жить!
И трое, обнявшись, пошли дальше. Стрельцы их уже подгоняли.
А людское море на Красной площади бурлило. Волнение готово было разыграться в шторм. Громкие крики ворон добавляли ко всему ярости.
И никто из москвитян не помнил, в кои веки подобное случалось.
Москва — Владимирская земля, Финеево, 2003–2004
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
Около 1576/1577 года
В семье окольничего Б. В. Шеина родился сын Михаил.
1591 год
Михаил — чашник при царе Фёдоре Иоанновиче. Принят на службу рано, как человек «родословный».
1598 год
В числе 45 стольников он подписывает грамоту об избрании Бориса Годунова на царство.
1600–1602 годы
Михаил Шеин — полковой воевода в Пронске. Первая схватка с крымцами.
1602–1604 годы
Шеин — воевода Мценска. Успешно обороняет город от крымских татар.
1605 год
За участие в разгроме войска И. Болотникова, за сражение с Лжедимитрием I под Добрыничами Шеин пожалован Борисом Годуновым в окольничие.
1606 год
Лжедимитрий I включает Михаила Шеина в Сенат (вместо Боярской думы) во «главе „Совета окольничих“». Шеин игнорирует участие в «Совете окольничих».
1607 год
Василий Шуйский жалует Михаила Шеина чином боярина.
1608 год
Михаил Шеин назначен главным воеводой в Смоленск. Уезжает туда с семьёй.
1609–1611 годы
Осада Смоленска польским королём Сигизмундом. Двадцатимесячная защита Смоленска во главе с воеводой Шеиным. Он вынужден сдать умирающий от голода Смоленск на милость врага. Из 80 тысяч горожан осталось 8 тысяч.
1611–1619 годы
Воевода Михаил Шеин, его жена и двое детей пребывают в польском плену.
1619 год
На речке Поляновке, под деревней Деулино происходит размен русских и польских пленников. Шеин с семьёй возвращается в Москву.
1620–1627 годы
Михаил Шеин несёт исключительно придворную службу. На обеих свадьбах царя Михаила был его дружкой.
1627–1630 годы
В отсутствие царя он «ведает Москвой».
1628–1631 годы
Михаил Шеин — глава Пушкарского приказа.
1632 год
Русь вступает в войну с Польшей. Шеин — главный воевода.
1633–1634 годы
Поляки выигрывают сражение за Смоленск. Осаждённый под городом воевода Шеин ради спасения 9 тысяч воинов вынужден подписать перемирие с польским королём Владиславом.
1634 год
18 апреля. Царь Михаил Фёдорович слушает дело об измене Шеина и его сотоварищей. Михаил Шеин, Артемий и Василий Измайловы приговорены к смертной казни.
28 апреля. Казнь Михаила Шеина, Артемия и Василия Измайловых на Красной площади в Москве.
ОБ АВТОРЕ
Александр Ильич АНТОНОВ родился в 1924 году на Волге в городе Рыбинске. Работал на авиационном заводе формовщиком. Ветеран Великой Отечественной войны, награждён тремя боевыми орденами, медалями. В 1962 году окончил Литературный институт. Член Союза писателей и Союза журналистов России, Исторического общества при СП РСФСР.
Печататься начал с 1953 года. Работал в газетах «Труд», «Литература и жизнь», «Строительная газета» и различных журналах. В 1973 году вышла первая повесть «Снега полярные зовут».
С начала 80-х годов пишет историческую прозу. Автор многих романов, выходивших в различных издательствах.
Лауреат Всероссийской литературной премии «Традиция» (2003 г.).
Исторический роман «Воевода Шеин» — новое произведение писателя.
Примечания
1
Сокольничий — в XIV–XVII вв. на Руси должность лица, ведавшего великокняжеской (позднее царской) охотой.
(обратно)2
Рында — великокняжеский и царский телохранитель-оруженосец в Русском государстве XIV–XVII вв.
(обратно)3
Справа — здесь нужда, дело.
(обратно)4
Юшка — навар, похлёбка, обычно из рыбы; жидкая часть всякого кушанья.
(обратно)5
Алтын — старинная русская мелкая монета достоинством в три копейки.
(обратно)6
Авсень — приветствие, ранее в честь весны, потом Нового года и других зимних праздников.
(обратно)7
Окольничий — один из придворных чинов в Русском государстве XII–XV вв. (следил за исправностью дорог во время поездки князя и выполнял ряд иных функций); с конца XV до начала XVIII в. второй после боярина думный чин.
(обратно)8
Акафист — одна из форм церковного гимна, посвящён святым и праздникам.
(обратно)9
Синклит — собрание духовных лиц.
(обратно)10
Выя — шея.
(обратно)11
Тапкана — дорожная повозка.
(обратно)12
Кромешник — обитатель кромешной — ада, здесь опричник.
(обратно)13
Подсанки — короткие санки, привязываемые к большим саням при перевозке длинных предметов (брёвен, тёса и т. п.).
(обратно)14
Гуляй-город — подвижное (на колёсах, полозьях) боевое сооружение из деревянных щитов с бойницами, применявшееся в Русском государстве в осадной и полевой войне.
(обратно)15
Тур — плетёная корзина, наполняемая землёй и служившая для устройства укрытий от пуль и снарядов (обычно на стенах крепостей).
(обратно)16
Янычары — привилегированная пехота в султанской Турции (до 1826 г.), выполнявшая также полицейские и карательные функции.
(обратно)17
Кунак — друг, приятель.
(обратно)18
Епанча — старинная верхняя одежда в виде широкого плаща.
(обратно)19
Батыр — богатырь, витязь.
(обратно)20
Огнищанин — хозяин дома либо земледелец.
(обратно)21
Нукер — дружинник монгольской знати в XI–XII вв., с начала XIII в. воин личной гвардии ордынских ханов.
(обратно)22
Сыта — вода, подслащённая мёдом, медовый отвар на воде.
(обратно)23
Братина — старинный большой шаровидный сосуд, в котором подавались напитки для разливания по чашкам или питья вкруговую; большая общая чаша для питья и еды.
(обратно)24
Гонт — кровельный материал в виде тонких дощечек, остро сточенных с одной стороны и с пазом вдоль другой стороны.
(обратно)25
Поливный — покрытый поливой, глазурованный.
(обратно)26
Потир — церковная чаша.
(обратно)27
Кремник — Кремль.
(обратно)28
Рыдван — большая дорожная карета.
(обратно)29
Шабер — сосед.
(обратно)30
Убрус — платок, фата, полотенце.
(обратно)31
Ширинка — здесь полотнище, отрезок цельной ткани во всю её ширину, полотенце, платок; подвязной передник без лифа.
(обратно)32
Перепеча — род кулича, каравая.
(обратно)33
Гайдамак — здесь вольный ратник, разбойник.
(обратно)34
Ендова — старинная русская посуда для вина в виде большой широкой чаши с носком или рыльцем.
(обратно)







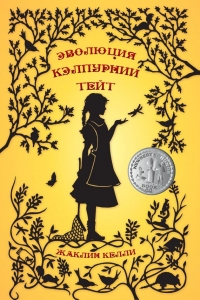
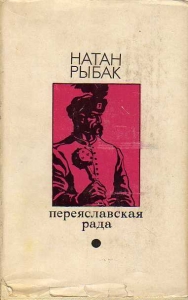
Комментарии к книге «Воевода Шеин», Александр Ильич Антонов
Всего 0 комментариев