Иван Катавасов БЛАЖЕНСТВО ПО АВГУСТИНУ
Жизнеописание Святого и Блаженного епископа Августина Гиппонского
или
историко-теологический роман в семи книгах-фолиумах и тридцати трех главах-капитулах, сообразно повествующих об эпохе поздней античности, о последних временах и нравах во дни упадка и заката Великого Рима
Согласно одной испанской легенде, граф Оргас был упокоен Святым Стефаном и Святым Августином. Именно образы этих святых написал Эль Греко в своем знаменитом шедевре «Похороны графа Оргаса».
Авторское предисловие
L. b. s.[1]
I
Заядлым любителям исторического развлекательного чтения настоятельно советуем поскорее пропустить авторское вводное напутствие и немедля приступить к первой главе-капитулу. Читайте с Богом!
II
Прочим же нашим благосклонным читателям предлагаем сие немалое предисловие-экзордиум, дабы благорассудить, достойно ли сугубого интереса это произведение, исполненное в модернизированном жанре литературной ареталогии. И главное — возможно ли современному автору-беллетристу первой четверти XXI века от Рождества Христова пристойно и уместно составить, описать, сочинить актуальную агиографию достославного отца и непревзойденного Церкви Христианской учителя Аврелия Патриция Августина (13.11.354-28.8.430) — грамматика, ритора, пресвитера, епископа из древнеримского Гиппо Регия, по-гречески именуемого городом Гиппоном.
Можно и должно ли спросить себя, что суть общечеловеческая длительная тысячелетняя история и скоропостижные даты жизни отдельного человека как не краткое предисловие-пролог? Катехизированный ответ напрашивается сам собой; он стоит сопоставления с тем невообразимым объемом данных, сведений, информационных массивов, каковой будет овеществлен, рассказан, написан, отпечатан, воспроизведен впоследствии. Не упоминая уж в суесловии о трудно представимой, во многом неизреченной и неописуемой жизни вечной в раю, быть может, для кого-то вечной адской смерти. Ибо так или иначе, той либо другой финальной бесконечности предержаще предшествует кратковременное и ограниченное земное бытие каждого человека или cooобщecтв людских.
Кто-то, постигая скоротечную предержащую и преходящую современность или отдаляясь от нее, предпочитает наскоро пролистывать, порой вовсе опускать исторические введения-пролегомены не глядя, не читая, анахронически. Но кого-то ранее, до того предварительно замеченное, предопределенно выделенное и очерченное заставляет приостановиться. Тем самым благородная история обязывает пристально всмотреться, проникновенно задуматься над теми первоосновами, с какими жили, с чем пребывали прежние племена-народы во времена давно прошедшие, о каких идет речь устная, письменная, печатная, повествуется на страницах и в строчках исторических романов, в хронографиях либо монографиях былых книжников и присных ученых историков.
Казалось бы, не к месту равнять легкомысленную беллетристику с авторитетными, солидными историческими исследованиями. Или ставить ее наравне с внушающими заведомое уважение древними пергаментными кодексами-манускриптами в увесистых переплетах. Однако не нами это придумано, поскольку повелось подобное сравнение от авторитетнейшего Аристотеля. Стагирит первым иронически заметил в «Поэтике», что Геродота Фурийcкoгo, то бишь отца истории в нынешнем банальном славословии, вполне можно облечь в стихотворные размеры и напевы. Надо думать, продолжим мысль корифея, то Гомера, в свой черед, возможно переложить презренной прозой. Коли на то пошло и выйдет дословно по Аристотелю: поэзия в метрических формах трагедии и комедии есть «серьезнее, философичнее», — нужно понимать, научнее, — нежели тогдашнее историческое знание образца середины IV века до Рождества Христова.
Данный перипатетический дедуктивный тезис Аристотель Стагирит опосредует, аргументирует тем, как поэзия больше говорит об общем, а вот история и историки времен прошедших — о единичном. Например, чего тогда сделал или претерпел во время оно какой-нибудь Алкивиад, с точки зрения фактической достоверности объясняет общепризнанный универсальный корифей всевозможных античных наук.
При этом склад событий у теогониста Гесиода или сюжет для нас анонимного автора «Рапсодической теогонии» в первой части «Поэтики» Аристотель весьма симптоматично не поминает. Очевидно, невзирая на орфические гекзаметры, он поместил их под покровительство несерьезной музы истории Клио, увенчав научно-философскими лаврами только трагедийную Мельпомену, комедийную Талию и мыслимым образом Каллиопу, заведующую эпосом.
К вопросу, почему Аристотель так пренебрежительно отнесся ко всем ему заведомо известным сюжетным историческим рассказам-сказаниям, к историкам-«мифологам» (в его же терминологии) мы еще диахронически или синхронически вернемся. Пока же перенесемся поближе к настоящему и подлежащему, недавно наступившему третьему календарному тысячелетию нашей христианской эры.
Начиная с нового времени, (берем за исчисление общемировую хроносистематизацию) феноменальные обобщающие познавательные атрибуты, какие выделил Аристотель Стагирит, не сразу, но постепенно почти всецело переходят от метрической поэзии к вольной прозе, освобожденной от оков метра или рифмы. В общем и в целом в течение XVII–XIX столетий обрели популярность и распространение бытовые, романтические и плаксиво-сентиментальные повествования, в обобщениях и в частностях трактующую жизнь человеческую. Тогда же появился и такой специализированный жанр изящной прозаической словесности, как исторический роман с реальными и вымышленными персонажами.
Над собственными вымыслами прагматичные сочинители исторической прозы слезами катарсиса по Аристотелю не очень-то обливались, антикварно умывая руки. И потому достаточно резонно пользовались старыми хрониками, анналами, летописями, выбирая из них единичные факты и акты, события, деяния и сюжеты; или же предвзятые оценки из прошлого. В том же литературном обобщении подчеркнем — взялись трудиться эти писатели, литераторы и литераты воистину исторически, согласно опять-таки Аристотелю Стагириту.
В свой резон к началу XIX века ученые историографы, не покладая рук и гусиных перьев, принялись осваивать чисто беллетристические нивы и пажити, обобщая, укладывая, систематизируя, группируя, комментируя, трактуя хронографические сведения. Паки и паки без устали трудились и толковали они историю всяк на свойский лад, аршин или салтык, кому как вздумается. Тем паче, если им в развитии двух с половиной тысячелетий назойливо не давали покоя подбрасываемые со всех сторон различные философские трактовки исторических процессов. Частное-то оно частное, частичное, но в нем тот, кто увлечен философией истории, неустанно умудряется, ухищряется индуктивно находить нечто общее, намеки и уроки.
Таким вот урочным образом к середине позапрошлого века практически сравнялась интеллектуальная значимость сочинений записных ученых мужей о прошлом и познавательных романов, специализированных на истории, включая тому подобные произведения, выпущенные в свет популярными авторами. Об их сравнительных литературно-художественных форматах и эстетических достоинствах мы многоречиво или красноречиво рассуждать не станем, принципиально и априорно. Так как довольно многоразличная гуманитарная литература в современном русском языке помещается в разряд сугубо научной.
В универсальной развивающейся истории все человеческое находит обособленное время и отдельное место, поэтому коммуникативная, популяризаторская ценность чистой воды романических сочинений вопреки их сомнительной достоверности, анахроническим ляпсусам и поверхностной правдоподобности зачастую превосходит опусы историков, достоименно сподобившихся академических званий и ученых степеней. Задумайтесь, способно ли выдержать масс-коммуникативную и когнитивную конкуренцию «Нашествие Наполеона на Россию», произведение кадрового советского академика Евгения Тарле, на равных с историческим построением графа Льва Толстого «Война и мир»? Причем литературно соперничая, состязаясь за привлечение читателей в отдаленном будущем?
Оставляя поодаль, в стороне слог и пространность обоих авторов, наш вопрос, конечно же, риторичен. Потому-то мало кто столь эрудирован, дабы навскидку назвать имя любого из почтенных докторов Сорбонны, всю жизнь писавших об эпохе кардинала Ришелье. Притом и среди читающих по-русски едва ли кто-нибудь преминет «Трех мушкетеров» Александра Дюма-отца, коль скоро речь зашла о политике Франции в первой половине XVII века. Аналогично, о средневековом Париже большинство русских и французских читателей имеет историческое понятие, лишь глядя на него с высоты башен «Собора Парижской Богоматери» в ретроспекциях Виктора Гюго.
Спустившись классом или двумя пониже, мы с полным на то основанием можем поставить в один ряд некую условную кандидатскую диссертацию, успешно защищенную где-нибудь в захолустном эсэнговском университете, и близкий по тематике какой-либо исторический роман Валентина Пикуля. В это же время множество рукописаний прочих, сейчас заслуженно забытых присоветских писателей-историков, художественных и совсем малохудожественных, сполна пригодны к тому, чтобы их взять за основу при изготовлении дипломных или курсовых студенческих работ на истфаке в том же вузе, числящимся таковым лишь в силу странных туземных обычаев. O tempora, o mores!
Опять обратимся к далекому прошлому, когда Аристотель Стагирит на свое античное счастье знать ничего не ведал о приснопамятной для нас методике социалистического реализма, о политической ангажированности, зоологической партийности и узколобой злобной тенденциозности лирической поэзии и художественной литературы. Зато кое-что подобное на злобу дня в сказаниях-описаниях ему известных историографов он еще тогда, во время оно, видел в многообразных интерпретациях минувшего и предержащего. О чем он был прекрасно осведомлен и не находил в натуральной конъюнктурности чего-либо ужасного, если в его понимании человек есть «dzoon politikon», то бишь живое существо или животное политическое, городское. Так сказать, государственное, общественное, как принято условно переводить политизированное определение Аристотеля с древнегреческого на новые языки.
Оттого Аристотель и пренебрегал историческими записями-комментариями, безусловно отказывая им в серьезности и философичности. Ибо в классических понятиях античности история есть доступное и проверенное дееписание, событийный пересказ увиденного и услышанного. Иными словами, политическая журналистика и немного ненавязчивой комментирующей публицистики в нашем с вами, благосклонные читатели, своевременном коммуникативном понимании.
В древние времена чего-нибудь иного понимающая, образованная, умевшая читать публика не ждала и всякого прочего от историков не требовала. Хотя сами они постоянно претендовали на гораздо большее. К примеру, доселе известный Фукидид Афинянин во введении книги первой о войне между Афинами и пелопоннессцам амбициозно, в косноязычном переводе убежден, будто его труд «сочтут достаточно полезным все, кто пожелают ясно понимать то, что было, и что впредь, по свойству природы человеческой, может быть еще такое же или подобное». Меж тем прямые речи вождей и военачальников фронтовой корреспондент Фукидид (извините за анахронизм) незатейливо передал, как их запомнил. Но просит возможных читателей не беспокоиться — дескать, по смыслу у него все верно.
Верность античным принципам объективной журналистики также продемонстрировал Публий Корнелий Тацит в прославленных «Анналах». В книге первой он посулил рассказать об окончании времен Августа, затем перейти к принципату Тиберия и к последующим событиям «sine ira et studio».
«Без гнева и пристрастия», говорят иные, обращаясь к расхожему переводу. Увы, многим людям свойственно заблуждаться.
Давайте переведем, истолкуем эту современную крылатую фразу близко к историческому тексту и адекватно контексту Тацита. Потому как без ложной патетики он попросту обещал повествовать: sine ira — не раздражаясь попусту на прошедшее, sine studio — не углубляясь в малоприглядные исторические детали. При этом персональное субъектное отношение к прошлым событиям, а также поиск причин, их породивших, Публий Тацит словно бы решительно пожелал отбросить, употребив для того довольно сильное и образное выражение: «quorum causas procul habeo».
Вышло ли это у него или нет — судить его актуальным читателям. Однако субъективную интерпретацию минувшего, всяческие пристрастия и гневные эмоции стремящийся к бесстрастию историограф Тацит обязуется оставить на благоусмотрение почтеннейшей публике, как оно было принято в античности. По крайней мере ему хотелось писать для того, чтобы рассказать, но не доказать. Ad narrandum, non ad probandum, — констатируем его благие пожелания на латыни почти классической.
Что же такое история и обязанности историков, пожелал разъяснить потомкам другой классик античности — Марк Туллий Цицерон. История у него истинная свидетельница времен, свет истины, и жизнь памяти, и учительница жизни, и вестница старины. Засим, после панегирика, Цицерон патетически вопрошает: «В чем, как не в речи оратора, история обретает бессмертие?»
Вот так вот! Sic! Выходит, для Цицерона история продолжается во времени и пространстве лишь в сенатских политических дебатах или в судебных прениях. Самостоятельного фундаментального значения в научно-теоретическом обобщении на взгляд практического целеустремленного политика и эклектичного философа Марка Цицерона исторические изыскания и труды никак не имеют. Иначе-де не видать им бессмертия. Сильно заявлено!
Сходного принципа по всей видимости придерживался и римский принцепс Гай Тиберий Калигула, коему немногого недоставало, чтобы изъять из частных библиотек, книжных лавок скульптурные портреты и сочинения Тита Ливия. Последнего, по свидетельству Светония, чьим замечанием мы тут политично воспользуемся, цезарь Калигула всегда бранил как историка многословного и недостоверного.
III
Со времен двенадцати римских цезарей, описанных Гаем Светонием Транквиллом, к нашему прискорбию весьма мало что изменилось в общераспространенном отрицательном отношении к историкам и к толкованию истории. Далеко не случайно по сю пору историографов и в целом историческую литературу, научную и художественную, обвиняют в субъективизме, презентизме, в релятивизме, партидизме, в иррациональности, анахроничности, идеологичности и во многая иных грехов, наукообразно излагаемых.
Сами же историки, хронисты, летописцы тому дают немало поводов в самобытной приверженности к морализаторской публицистичности, благонамеренным фальсификациям и неистребимой склонностью подменять объективную реальность квазилитературными вымыслами и мифологией. Хотя мы тут не рискуем огульно клеймить позором всех историков и анналистов, обвиняя их в природной лживости, возлагать на них вину за искажение исторических фактов, а саму планетарную историю человечества, так или иначе трактуемую, саркастически упрекать в горькой ироничности.
Мы здесь всего лишь беспристрастно и нелицеприятно определяем объективное положение дел со всей поэтической, нашей литературной философичностью и серьезностью. Sine furor et predilectio, действительно без ярости и пристрастности. Наиболее, если в нашем отстраненном авторском постулировании в категории и критериях состоятельной научно-позитивной отрасли знания история не претерпела кардинальных трансформаций, практически не развиваясь на протяжении двух с лишним тысячелетий.
Людская жизнь, в том числе и художественная литература, существенно изменились, тогда как дескриптивные историки и материалистические, монистические толковники истории пребывают, состоят все в том же качестве и количестве старых исконных блудословий и доисторических несообразностей. Сама универсальная история раз за разом уличает во лжи тех, кто ее косноязычно описывает и бездарно обобщает. Все их потуги на осмысление исторических процессов исторически быстро устаревают и опровергаются по мере развития человечества. (К слову, довольно тут упомянуть аграрное мальтузианство и индустриальный марксизм.) Они нисколько не соответствуют действительному ходу и уровню суверенного и легитимного прогресса объективной истории человека разумного, наделенного мыслящей душой, осознающей себя в Боге, и от Бога данным ей существованием в творческом пространстве-времени.
Креативные постулаты, разумеется, не требуют доказательств, однако иллюстративные примеры им популярно необходимы. Поэтому в меру необходимости и беллетристической наглядности мы пойдем на риск сравнить метафорически историю, будто бы научную дисциплину, с астрономией и медициной. Ибо угрожающее планетарными катаклизмами звездное небо от нас столь же удалено, как и смертельная болезнь от фактически здорового человека. И то и другое видимы и потенциально могут в любое время обернуться фатальной неизбежностью.
Так, языческая демоница муза Клио по-прежнему нечто кропает чернилами или типографской краской. Пусть ее черновики уже не на папирусной ленте, а в экранных пикселах, сохраняемых в энергонезависимой памяти. Тем временем муза Урания поднатужась демонически вооружилась орбитальными телескопами далеко за пределами древних стихий-элементов и обзавелась глубоко в недрах земных, почитай в преисподней, железобетонными регистраторами всепроникающих нейтрино. Посему, в прогрессивном итоге, по отношению к истории Вселенной человечество имеет гораздо более основательный перечень, нежели в древности, никем не оспариваемых фактов и общепринятых гипотез.
Говорите, это, мол, звездные теории, весьма далекие от приземленной практики? Извольте, тогда попробуем обратиться к языческой богине Гигиее и ее родителю, обожествленному Асклепию-Эскулапу, кто с древнегреческих времен олицетворяют заботы врачевателей о здоровье человека, включая санитарию и гигиену.
Все же о прогрессе в астрономии и медицине мы упомянем вскользь, если наша озабоченность в значительной мере более касается исторических и литературных вопросов в заданном продолженном предисловии к роману о поздней античности и первоначалах нашей христианской цивилизации. Поэтому прежде допустимо предположить, как если бы кто-нибудь не из медиков, но историков древности вдруг оказался в наши дни. Будь то научно-технологически либо чудодейственно-тавматургически, вышеупомянутые те же Фукидид, Тацит, Светоний перемещаются, социализируются, адаптируются в современную нам эпоху первой четверти XXI столетия от Рождества Христова.
Полагаем, у всех троих едва ли бы возникли непреодолимые препятствия в осуществлении прежней профессиональной деятельности. Старые апробированные навыки работы с информацией им несомненно позволяют найти призвание и признание на телевидении, в прессе, в книжно-журнальной публицистике.
Допустим, Фукидиду вполне по интеллектуальным силам стать телекомментатором международных событий о локальных вооруженных конфликтах и стихийных бедствиях. Если он описал чуму в Афинах, то с тем же профессионализмом сумеет популярно прокомментировать и случаи птичьего гриппа и коровьего бешенства или лихорадки Эбола. Иного нынешним телезрителям, вероятно, и не требуется.
В то же время по масштабам и последствиям Пелопоннесская война афинян и лакедемонян в пересказе Фукидида мало чем отличается от репортажей и комментариев о военных инцидентах в третьем мире в наши новые времена. Чем там и почему дикари-варвары воюют, непритязательную телеаудиторию не волнует, если причины воинственности и миролюбия кроются в неких природных наклонностях человека. Куда ж выступать против природы и естества? Разве лишь погрязнуть в кромешной пропаганде, подавая теленовости в сервильной парадигме «наши против ваших».
Так же естественно, на наш взгляд, смог бы вписаться в современные масс-медиа и Тацит, получив где-нибудь во влиятельной газете еженедельную колонку обозревателя политических и экономических новостей. Не вникая в детали и причины, его нынешние коллеги в присносущем большинстве аналогичным образом ограничиваются перечислениями и констатациями, фигурально поднимая брови и мысленно пожимая плечами. Иные завуалированные жесты или что-либо глубокомысленное, дальновидное, долговременное беспристрастным читателям газет, очевидно, без надобности.
Столь же понадобились и стали бы востребованы таланты Светония, умеющего детализировано и характерно описывать жизнь сильных мира сего, богатых и знаменитых. Колонку светской хроники он бы смог вести гораздо профессиональнее и успешнее по сравнению с теми, кто нынче подвизается в этой сфере нарушений приватности персон и персоналий, привлекающих неоднозначный массовый интерес.
Однако наибольшего успеха Гай Светоний Транквилл, пожалуй, сможет добиться, если в свободное от газетной рутины время со свойственными ему дарованием и прилежанием, займется написанием исторического труда, озаглавленного «Жизнь семи партийных генсеков. От Ленина до Горбачева». И публиковать пикантные отрывки и краткие главки в глянцевых журналах.
Талантливым историографам и бытописателям в наши времена вне всяких сомнений найдется дело, сколь скоро имеются оперативные данные и огромные массивы жестко фиксированной, архивированной информации. Извлекай и пользуйся, благодарные читатели, слушатели и зрители неизменно объявятся.
Квалифицированный античный историк — архивист и анналист — в наши актуальные далеко продвинутые информационные времена не пропадет. Вот и древний астроном, покровительствуемый музой Уранией, может свободно податься в астрологи, если в сегодняшней астрологии до сих пор в чести и почете реликтовая геоцентрическая система Птолемея.
Реликт есть реликт, чего никак нельзя сказать о другой свободной профессии античности. Скажем, о вышезатронутой архаической медицине под патронажем Гигиеи и Асклепия.
Едва ли сегодня найдутся мужчина или женщина, дерзнувшие прибегнуть к помощи знаменитого древнегреческого доктора Гиппократа в попытке вылечить триппер. Литературно допустим такая возможность у них есть, а Гиппократ о мужской и женской гонорее знал, точно описал ее симптомы, в отличие от немыслимой аттической чумы в изложении того же Фукидида.
Думается, сегодня венерических пациентов чудо-доктор Гиппократ нисколько не дождется. Исполать ему уверенно утверждать, будто бы страждущих этой малоприличной хворью он отлично пользовал, излечивал, вряд ли кто-нибудь ему поверит.
Клятва Гиппократа, конечно же, это хорошо, но лечится все же лучше у современных врачей, уже не называющих гонорею греческой болезнью. Свое здоровье, оно, как и времена, все-таки ближе к собственному телу.
Быть может, благосклонные и осмотрительные современники, ну ее, эту далекую дикую давность куда-нибудь подале? Не зря ведь простонародная банальность гласит: кто старое помянет, тому глаз вон? Или даже оба глаза? Тьма веков, древность темна, паки говорится настолько же избито и банально. Пошто нам по большому счету эта история, ежели она не наука, не профессия, не искусство, не мастерство, не ремесло?
Тем не менее, со всем тем упрямо и упорно люди веками и тысячелетиями заинтересованы в истории, заинтригованы темными и запутанными историческими обстоятельствами. Побудительные мотивы подобных интересов известны, они психологически и философически расписаны, логически и рационально исследованы. Известно, почему фиксированную историю почитают в виде суррогата материального бессмертия, дескать, удерживающегося в незыблемой исторической памяти народов. Так же исповедимо, отчего разрозненный, раздерганный набор шатких исторических сведений, видоизменяемых традиций, неустойчивых обычаев безосновательно воспринимается изъяснительной твердой опорой настоящего. Понятно и объяснимо на основании чего многие полагают возможным и реальным предугадывать будущее, грамматически опираясь не на преходящее несовершенное настоящее, но на свершившееся прошлое.
Наш литературный авторский интерес к минувшему также имеет в грамматическом перфекте пытливое и познавательное объяснение. Потому как в IV–V веках от Рождества Христова очень многое началось и много чего закончилось в обобществленной автобиографии совокупного рода людского. Достоименно тогда появляется сверхзначимая исполинская фигура Аврелия Патриция Августина в образе, но не в подобии провозвестника новой мировой религии Бога единосущного, нового понимания вселенской истории общечеловеческой цивилизации, новой экуменической науки о человеке и обществе, идущей от познаваемых признаков минувшего к прозреваемым свойствам неведомого дня грядущего.
Стоит выделить, что шестнадцать веков тому назад Августин ввел в научный понятийный оборот термины: эволюция, прогресс, цивилизация, культура. При этом не суть важны те ереси, какие впоследствии вкладывали в эти понятия материалисты всех религиозных и атеистических мастей.
Именно в работах и в жизнеописании Блаженного Августина, доныне не утративших непреходящей насущности, исходя из христианского цивилизационного прогресса от Града Земного к Граду Божьему, нам представляется очевидным и необходимым отыскать основополагающие ответы-свидетельства на многая множество принципиальных исторических вопросов. И среди прочего, перейдут ли история и те, кто ею душевно интересуются, когда-нибудь, где-нибудь от единичного и частного к общему и всеединому? Зависит ли этот переход от того, насколько успешно мировому человеческому сообществу удастся экуменически изжить псевдоисторический материализм, бездуховный фальшивый историзм, ложную анахроническую эклектику в технософистических описаниях материальной культуры, какие тернием, волчцами и плевелами произрастают с доисторических времен пагубно для истины? Ибо истинной, что для нас неопровержимо следует из жизни и трудов Аврелия Августина, предстает лишь идеалистическая абсолютная духовная надвременная историософия конкретной прогрессивной эволюции, несоизмеримая с относительными произвольными гуманистическими абстракциями, скороспелыми и скоропортящимися материалистическими спекуляциями или лукавомудрыми языческими фикциями о бессмертном времени, уподобленному скалярной линейности якобы вечно самодвижущейся и неуничтожимой материи.
IV.
Впрочем, сейчас самое уместное время свернуть сие длинное авторское предисловие-экзордиум, еще глубже не внедряясь в философские умозрительные отправления, чтобы отметить два предварительных обстоятельства, какие по нашему мнению должны предшествовать чтению историко-теологического романа об Аврелии Патриции Августине.
В первом приближении мы содержательно оставили в большинстве своем без изменений прямые и косвенные цитаты из произведений нашего литературно-исторического протагониста в том самом виде, в каком они растиражированы в русских устарелых переводах, явно нуждающихся в должном основательном редактировании. Только лишь в нескольких особых случаях ваш автор посмел обстоятельно выправить вопиющие печатные искажения буквы и духа высказываний учителя и отца Христианской Церкви пресвитера и епископа Августина Святого и Блаженного из Гиппо Регия.
Засим хотелось бы подчеркнуть без ложной скромности, почему стиль и язык настоящего авторского предисловия по нашему мнению в значительной мере соответствуют необходимому адекватному переводу основных произведений Аврелия Августина. Переводчик-литератор да разумеет, если он озадачен идеальной научно-теологической целью переводить классическую патристику умно, современно и своевременно.
Во вторую голову, предваряя недоумения слабо или мнимо верующих, чье-либо конфессиональное недомыслие и беспочвенные обвинения в ереси, мы заявляем о нашей непоколебимой приверженности Символу веры Русской Православной Церкви. При этом мы не испытываем никоих сомнений в богооткровенности и богодухновенности первооснов и синергического всеединства экуменического Святого Писания, избегая гуманизирующего доктринерства, рационалистического начетничества, казуистического талмудизма и облыжного буквалистского фундаментализма.
Мы почитаем традицию истины во всемирной экклезии христианской и не дерзнем огульно отрицать Промысл Божиий в перипетиях становления и развития христианства. Вместе с тем оставляем за собой право на поэтическую вольность и академические свободы в трактовке церковного предания, полагая всех составителей и сочинителей Священной истории не более и не менее, нежели людьми, отнюдь не избавленными Божьей милостью от недостаточного недостоверного знания, прекраснодушных ошибок, добросовестных заблуждений, извечного человеческого искушения выдавать желаемое за действительное. Бог нам всем в помощь по мере откровенной веры нашей. Ему едино судить и располагать, когда мы всего лишь предполагаем, надеясь на прозрение и просветление.
Пресветлый Господь и с вами, наши благорасположенные читатели, коли вы благосклонно прочли все вышеизложенное. Слава Богу, мы начинаем «Блаженство по Августину»!
† † †
«Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь более превосходящий».
Святой апостол Павел, Первое послание коринфянам, 12:29,30,31.ФОЛИУМ ПЕРВЫЙ. АРХИЕПИСКОП НУМИДИЙСКИЙ
КАПИТУЛ I
Год 1164-й от основания Великого Рима.
16-й год империума Гонория, августа и кесаря Запада. 3-й год империума Теодосия Младшего, августа и кесаря Востока.
Год 410-й от Рождества Христова.
Пятый день в февральские ноны. Кесарева вилла Дилекта. Проконсульская провинция Африка.
Будь то в городе или в деревне, по обыкновению епископ спал чутко и неглубоко, порой настороженно. Потому и расслышал ночной заполошный крик петуха, раздавшийся где-то в отдалении. Поблизости на вилле первому глашатаю утренней зари попытался вторить другой. Спросонок что-то сипло, невнятно крякнул по-утиному, осекся, потом прокашлялся, будто старик, и со второй попытки звонко, молодо и бодро возопил, весело заорал, радостно захлопал крыльями, но тотчас угомонился. Наверное, сообразил дурак — вокруг-то непроглядная темень на исходе ночи.
Покидать теплое уютное ложе, подниматься в холодной темноте епископу вовсе не хотелось. Время, прожитые годы, преклонный возраст безысходно, неумолимо сказываются на бренной и тленной плоти человеческой. Осенью, зимой, весной епископ Аврелий отчаянно страдал от перемежающихся тепла и холода — противно мерзли руки, ноги; неприятный озноб заставлял омерзительно дрожать плечи и спину. Иногда от внезапно наступивших холодов шея покрывалась красными пятнами, на предплечьях и голенях вспухали нарывы, голос садился и становился хриплым, сдавленным, шершавым.
В остальном Аврелий не чувствовал этих вот 55 лет с лишним и был весьма далек от старческой немощности. Душой и телом по-прежнему пребывал крепок, здоров и силен не хуже сорокалетнего мужа в самом расцвете зрелых сил. Припомнив строчки Ювенала о здравом бодром уме, наставляющем глупые бездуховные телеса на путь здоровья и долголетия, смирения ради епископ девять раз повторил «Господи, помилуй!» по-гречески. Затем откинул меховое одеяло, сшитое из теплых шкур южных обезьян, с удовольствием погладил густой мех и встал с мягкого ложа, оставив нагретую пуховую подстилку и пышную подушку.
Хитроглазый вольноотпущенник грек Каркион, управляющий кесаревым сальтусом и виллой Дилекта и думать не смел, как бы оконфузить или же возмутить высочайшего знаменитого гостя показной роскошью в консульских покоях. Вилик отлично вызнал: суровый и мудрый епископ Августин из приморского Гиппона предпочитает простоту и удобство, безоговорочно осуждает восточные царские излишества и западные кесарские роскошества.
Епископ на ощупь отыскал седельную суму, достал старое, порядком выщербленное железное огниво, кресало-кремень в медной оправе, сухой трут. С первой попытки сноровисто высек крупную веселую искру, воспламенил трут, зажег масляный светильник у изголовья простого дубового ложа с хорошо натянутыми кожаными ремнями. Обычное спальное место главы семьи среднего достатка куриалов или декемвиров где-нибудь в проконсульской провинции на западе ли, на востоке. Или как здесь в Африке, на южном лимисе цивилизованного римского мира, вселенски, домовито, по-хозяйски охватившего средиземье всех частей света, то есть Град Земной. Нынешние римские смуты и нестроения не в счет, если имперский доминат переживал и худшие времена…
Аврелий Августин потянулся было за восковой табличкой, чтобы записать новую политическую мысль… Но вместо стила его руки отработанным движением взяли вперехват, на изготовку длинный в пять локтей епископский посох. Потому как звякнули бронзовые крючья, отодвигающие массивные скользящие двери. Пусть так, если через порог малой гостевой спальни с достойным поклоном переступил центурион Горс Армилий Торкват.
— Прости за беспокойство, прелатус. Услышал, что ты не спишь. Спешу доложить: на подходе к вилле турма нумидийской кавалерии из Тевесты. По словам дозорных, доблестные тевестийцы прибудут в течение четвертой стражи.
Поболе того, две полуцентурии 3-й когорты маркианцев с ночи скрытно встали в каструм в горном лесу на западе кесарийского сальтуса. Всех ближайших колонов задерживают и допрашивают. Молодой трибун Проб Никиан Секундус обещает богомерзких мятежных еретиков непременно изловить. И примерно, наглядно бичевать преступников, прежде чем представить правосудию магистратов.
Скажи, Аврелий, ты эту помощь из Тамугади предвидел в откровении?
— Просто предполагал, мой добрый Ихтис. Кесарева Дилекта — хорошее место для сбора и отдыха славных воинов.
Иди и ты отдохни. Мы тоже здесь задержимся, до завтрашнего рассвета… Скажем, среди двоеверцев-язычников, тайных еретиков и открытых иудеев…
Даруй нам всем, Господи, незлобивую кротость и любовь к врагам нашим.
Постой, Горс. Кто из твоих дружков контуберналов так ловко петухом заорал? Меня едва не провел?
— Это наш с тобой старый знакомец вексиларий Секст Киртак, прелатус, таким сигналом весть дозорам подавал. Намедни сказал, он твой землячок-компатриот из Тагасты. Дисциплинарно наказать затейника?
— В том нужды нет, мой примпил. Киртак и в отроках был тем же озорником, гистрионом-миметиком, назовем его по-гречески. Мало, наверное, я его увещевал по-учительски…
— Или недостаточно об него розог учительских изломал по доброте душевной, о милосерднейший профессор?
— Может, оно и так… Хотя радость нашего развеселого Секста Ливия понятна, простительна и благочестива…
Епископ не сомневался: квестор ветеранов Гиппо Регия центурион Горс Торкват по прозвищу Ихтис хорошо его понимает. Центуриону так же, как и восьми другим заслуженным воинам, лично отобранным Горсом для сопровождения епископа Аврелия в опасной поездке на юг, нисколько не хотелось проливать христианскую кровь.
Вне всяких сомнений, девять искушенных воителей совладали бы с богопротивной шайкой агонистиков, состоящей из неумелых в обращении с оружием беглых рабов и безземельных колонов. Да и сам Аврелий Августин не станет уж слишком бесполезной и беспомощной обузой, когда б на то воля Всевышнего.
Епископ вновь призвал самого себя к кротости, смирению и любви ко врагам, блуждающим во мраке еретических прекословий и преступлений. Однако не удержался и любовно провел рукой по своему длинному сплошь резному посоху черного дерева с навершием слоновой кости, где три слитые воедино крылатые рыбы держат большую черную жемчужину. Ближе к нижней оконечности резьба сменяется железными инкрустациями, малозаметными со стороны. В случае необходимости острый наконечник вкупе с инкрустированными ножнами можно оставить в щите или в теле неприятеля, высвободив острейшее лезвие воинского копья, в которое превращается епископский посох — знак пастырской власти.
Епископ знаком с воином Горсом с давних пор, со времен принцепса-магнума Теодосия Старшего, величайшего доминуса Запада и Востока. Лет этак двадцать назад в проконсульском африканском Картаге младший центурион Горс Торкват учил ритора Аврелия Августина, вернувшегося из Италии, обращаться с копьем и удлиненным кавалерийским мечом-спатой. Ибо негоже натуральному нумидийцу быть неспособным носить оружие.
Кое-что к тому времени Аврелий умел, кое-какой воинской наукой худо-бедно владел, но конечно не столь искусно, насколько варвар из венедов Ихтис-Рыба, от сослуживцев заработавший греческую кличку за способность плыть 2–3 мили без устали и сидеть под водой больше тысячи ударов сердца. Аврелий это дважды, нет, трижды проверял и всякий раз взирал с удивлением, воистину поражался физическому совершенству человеческого тела, дарованному могучему Горсу от Бога и от предков-воителей далекого племени, обитающего где-то на дальнем севере, на берегах Борисфена.
Однажды северный варвар Горс удивил и доминуса Востока, августа Теодосия Магнума, после одного из сражений во Фракии попросив заменить денежный дар восточного кесаря и обменять на старую, нынче основательно забытую воинскую награду легионера — браслет на руку. Удивленный военачальник, посоветовавшись с комитами, вознаградил молодого воина, благоговейно чтящего победные традиции римских легионов, не только вызолоченным серебряным браслетом, но и полновесным крученой проволоки золотым ожерельем. Сверх того, в знак августейшей милости он даровал ему право на достославное латинское имя Армилий Торкват, то есть Носящий браслет и ожерелье.
В Гиппо Регии никто не возражал, когда Горса Армилия Торквата избрали в число городских магистратов и провозгласили квестором ветеранов, начальствующим над тремя вспомогательными центуриями умудренных воинским опытом отставников легионерской службы.
Все же Ихтис годами помоложе его, Аврелия. Но за последние несколько лет центурион поседел так, что его шевелюру принцепс Домикиан, обожавший протыкать мух острым стилом, мог бы образно назвать снегом, смешанным с медом. Размышляя об Ихтисе, прикидывая, чем он его сегодня озадачит, епископ нисколько не раздражался гневом против того древнего кесаря из фамилии Флавиев, пренебрежительно не отличавшего христиан от иудеев.
Епископ Аврелий коснулся требующего бритья подбородка, пригладил короткий ежик седых волос на макушке и со своей стороны подумал о расхожем риторическом сравнении насчет соли с перцем. Потом подошел к жаровне, попытался раздуть угли, чихнул, взялся за мелкие дрова, сложенные рядом, но разводить огонь не решился. Дровишки сыроваты, притом вилик поскупился, подсунул обычнейшее деревенское топливо, не пропитанное маслом и от того дымное и угарное.
Дым покупать незачем… Но в маленьком кубикулуме не так уж холодно, — справедливости ради отметил епископ. И спал он, не снимая кожаных доспехов, только слегка ослабив шнуровку на высоких мягких сапогах-калькеях. Ему ничуть не желательно, чтобы ночная тревога застала его врасплох неодетым в непристойном и разнеженном виде, словно римляне вождя муcуламиeв Tакфарината.
Внезапного нападения в ночи на кесареву виллу каких-либо бродячих разбойников-киркумкеллионов, погрязших в донатистской ереси, епископ не опасался и не ждал. Ведь основная опасность скрывается вдалеке на юге за горами и Ливийским болотом, где по степям бродят дикие племена кочевников-номадов, ранней весной нередко устраивающие подобные укусу змеи стремительные конные набеги против окультуренных земель, сжигая хозяйские виллы и хижины безоружных колонов, угоняя скот и беспомощных поселян в рабство.
По эту сторону горных вершин Атласа три лимитрофных каструма: Ламбесса, Тамугади, Тевеста — прикрывают мирные народы Нумидии от вторжений с юга баваров, бакватиев, квинквегентанеев и прочих неведомых степных номадов. Между постоянными пограничными укреплениями располагается линия летних застав, а военные посты-кентенарии выдвинуты по ту сторону гор.
За горами и заграницей на диких степных землях тоже живут люди, верноподданные кесарей и августов Запада. Но селятся римские граждане на тамошних туземных югерах исключительно добровольно. На свой страх и судьбу бесстрашно обустраивают имения, закупают в эргастулы новых рабов, сеют пшеницу и ячмень, выжимают оливковое масло, растят виноградную лозу, разводят овец, объезжают и укрощают полудиких гетульских лошадей… Но опять же до превосходящего имперские воинские силы вторжения кочевников, подобного на то, когда сто лет тому назад при кесаре Константине Великом взбунтовавшиеся мавры, поддержанные многолюдством номадов, едва не стерли с лица земли древнюю нумидийскую столицу Кирту, вслед за тем восстановленную и переименованную в Константину…
Епископ в который уже раз задумался: кем был на самом деле Каин? Благонравным оседлым земледельцем или же необузданным кочевником? Быть может, наоборот, в стародавний еврейский список Святого Писания вкрался досадный ляпсус переписчика, и убитый Авель являлся-таки не степным скотоводом, а поселянином-седентарием? Или же первоустроитель Града Земного беспутный царь Каин расправился с братом своим по какой-нибудь иной причине? Кто тут кому и чей сторож? Чья жертва более угодна Богу, от старшего или от младшего? Растительная или животная? Где здесь сокровенный таинственный смысл?..
Оставив на будущее всестороннее духовное и дословное истолкование этого странного, весьма загадочного места из Ветхого Завета, право жe, успокоенный присутствием достаточных сил легионеров здесь, сейчас в кесаревом сальтусе епископ уделил должное внимание гостеприимству вилика Каркиона. Тем более и вторые петухи уж пропели, на сей раз несомненно по-настоящему.
Прямо из спальни Аврелий прошел в гостевой тепидарий. Вчера вечером он слышал, как там, стараясь не слишком шуметь и громыхать, наливали воду, разводили огонь…
От чьих-либо дополнительных личных забот о нем и его телесных нуждах епископ, поморщившись, отказался, едва узнав, что в доме прислуживают только молодые рабыни. Уж много лет Аврелий вообще избегает оставаться с женщиной наедине, каким бы ни представлялся невинным и благочестивым повод для такого общения.
Помимо того бесстыдный греческий обычай обнажаться мужчине перед женщинами ему претил. Пренебрег он и сальными околичностями вилика, осторожно намекнувшего о живой грелке в постель для достопочтеннейшего прелатуса Аврелия.
Молоденькую рабыню-гречанку, кому вменили в обязанность оказание услуг по согреванию, епископ действительно обнаружил в углу тепидария на маленькой скамеечке. Видимо, ее прислал все-таки вилик Каркион, а центурион Горс на нее глянул и разрешил поместиться поблизости от спальни епископа.
Рабыня несмело подошла под благословение сурового отца Августина. Епископ осенил единоверную сестру крестным знамением, не спросил имени, наградил отеческим поцелуем в лоб и поскорее отослал прочь, властно и молча указав черным посохом на дверь в атрий.
Оставшись один, он подошел к большому и глубокому бронзовому тазу-лабруму, покоившемуся на трех львиных лапах. Быстро попробовал, сколь горяча парящая вода, убрал исподу жаровню с тлеющими углями и принялся поспешно разоблачаться от воинской амуниции, не позабыв поставить епископский посох поудобнее, в пределах досягаемости.
Сначала Аврелий избавился от тяжелой накидки из толстых кожаных полос, прошитых медными кольцами для защиты плеч и груди. Вслед на мозаичный пол сбросил такую же юбку. Скинул шерстяную тунику с длинными рукавами. Оставшись в одной нижней безрукавке-интеруле, принялся распускать кожаную шнуровку на своем варварском облачении, ниже пояса укрывающем тело от весенних заморозков и других пренеприятных превратностей путешествия по буколическим местностям. Легионеры подобное шерстяное полевое укрытие называют то ли галльским, то ли латинским словом «бракарум».
Носить такой вот чуждый для цивилизованного италийского горожанина или африканского нумидийца наряд, состоящий из обширного мешка для чресел и двух широких труб для ног, Аврелий некогда с трудом приспособился в холодном северном Медиолане. По прошествии двух-трех зим мало-помалу привык и нашел его вполне подходящим для поддоспешного одеяния и верховой езды.
Разобравшись со шнуровкой бракарума, он размотал набедренную повязку и наконец добрался до средней высоты изукрашенного бронзового сосуда, чье предназначение у него не вызвало каких-либо сомнительных и стеснительных колебаний. Справив неотложную малую нужду, закрыв плотной крышкой нужный сосуд, отметил: нечистоты, выходит, прямиком отправляются куда-то в подземную клоаку на вилле. Несомненно, и в деревне кесарево имение снабжено кое-какими городскими удобствами и так же по старому римскому укладу не имеет в жилом доме водопровода-акведука.
В горячей воде, щедро заправленной моющим маслом и сухими лепестками роз, Аврелий долго не расслаблялся, не сибаритствовал, не эпикурействовал философически или как-нибудь гедонистически. Он посыпал мятным аравийским порошком волнистую палочку из мягкого дерева и тщательно почистил зубы. Чем-либо иным банно-термальным не занялся, потому что сразу приступил к ответственной и скрупулезной процедуре бритья, согласно старому римскому обычаю оптиматов.
В противоположность мнению многих, согласных с тем, будто бы растительность на лице украшает мужей, бороды и усов грамматик и ритор Аврелий Патрик Августин смолоду никогда не носил. Уж очень он не желал уподобляться жрецам-служителям нечестивых демонов или походить на языческих бродячих бородачей-софистов, услужающих вкусам невежественной черни и тешащих тех же нечистых бесов бесплодного умствования. Обыкновенно во время бритья он с усмешкой припоминал ироничную реплику умнейшего и образованнейшего афинского иудея Ирода Аттика, говорят, видевшего ой много этаких философских бород и плащей, но философов, к сожалению, в таком неопрятном виде и образе не приметившего.
На сeлле рядом с лабрумом для гостя лежали приготовленные две образцово острые бронзовые бритвы, полированного серебра зеркальце и стеклянные бутылочки с благовонными маслами и притираниями для бритья. Только один раз порезавшись, — всегдашним несчастьем в злосчастной ямке на подбородке, — Аврелий отбрился от жесткой черно-белой пегой щетины. До вечера довольно, а там можно снова воспользоваться сельским комфортом виллы Дилекта.
Ее предержащий владелец кесарь и август Востока Теодосий Секундус вряд ли когда-нибудь здесь лично появится. Разве только ему придется спасаться в Африке от какого-нибудь узурпатора. Но это едва ли, правление внука Теодосия Магнума, подарившего ему этот богатейший и обширнейший сальтус в Нумидии, обещает быть твердым и долгим. Ибо римская цивилизация в Константинополе держится сильнее и крепче, нежели в самом Вечном Риме, куда нынешний кесарь и август Запада Гонорий и носа не кажет, водворившись на постоянное местопребывание средь мокрых болот в хорошо защищенной Равенне…
Аврелий заклеил порез смолистым листиком какого-то бальзамового дерева; насухо и до красноты обтерся грубой холщовой простыней, причесался частым деревянным гребнем, взял со скамьи свежую аккуратно сложенную интерулу и принялся неспешно одеваться, шнуроваться в кожу с ног до головы. Затем он степенно воротился в кубикулум, где достал из платяной ниши, снял с распялки багряную епископскую мантию, за ночь достаточно отвисевшуюся, разгладившуюся и принявшую подобающий вид священнического облачения. Не торопясь облачился, водрузил на голову искусно уложенную красную пастырскую митру-повязку.
За оконными ставнями, смотрящими в атрий, столь же неторопливо занималась, разгоралась розовоперстая заря, и наставал светлый Божий день.
Епископ отодвинул ставни, преклонил колена по направлению к посветлевшему востоку над кровлями высоких строений кесаревой виллы и трижды вслух прочел «Отче наш». Сначала по-латыни на материнском языке, вослед на греческом койне и завершил утреннее моление о ниспослании милости Всевышнего сиро-халдейским словом, каковое впервые предстало плотью, полное истины и благодати. Ведь именно посредством этого наречия Мессия прежде всего обратился с евангельскими словами истинной веры к родным и ближним, дальним и присным, а грядущим обетовав вечное царство славнейшего Града Божия, наслаждающегося бессмертно лицезрением Бога.
Не вставая с колен, епископ Аврелий единоперстно осенил крестным знамением небольшой ковчежец с частицей мощей Святого Стефана и погрузился в Иисусову молитву, соответственно обряду праведных мужей Востока. Тем самым он собирался с духовными силами, готовясь достойно и благочестиво жить, действовать, мыслить от рассвета до заката по воле Божией и собственным предположениям. Во имя Иисуса милосердного также молился в то утро смиреннейший раб рабов Божиих Аврелий Августин.
Обретя необходимое расположение духа, епископ подхватил посох, с благоговением поднял дорожный ковчежец-реликварий и вышел в просторный открытый атрий-перистиль, украшенный мраморным изящными колоннами с юга и севера, центральным бассейном-имплювием и бессчетным количеством растений в глазурованных горшках. Парадную хозяйскую нишу-таблин рачительный вилик расположил у западной стены, а за низким парапетом в глубоком восточном таблине устроил настоящий церковный алтарь, воздвиг немалый крест с терновым венцом в ознаменование крестных мук Спасителя, распорядился возжечь светильник, установил даже картибул с дорогим стеклянным блюдом для воскурения фимиама.
В истовой набожности вилика Каркиона епископ Аврелий глубоко сомневался. Поскольку для лицемерного грека случись что не составит никаких угрызений совести заменить крест из атласского кедра на каменного истукана какого-нибудь языческого демона или демоницы. Наверняка что-нибудь эдакое сокрыл с глаз долой в секретном подземелье. Подобно тому нынче прячут поселяне старых кумиров, идолов, ларов, пенатов, частенько зарывая их под порогом. Если дорвется до империума какой там ни будь безбожный кесарь навроде проклятого Юлиана Апостата, язычники по-фарисейски тут же выставят старые государственные бесовские изображения всем на обозрение.
Хозяина в атрии епископ не обнаружил. Определенно, тот очень занят размещением на постой в кесарском имении внезапно нагрянувшее многочисленное воинство с востока и запада.
Увидав епископа, две молодые кухонные рабыни, набиравшие воду из колодца у имплювия, немедленно бросились на колени. Значительно замешкавшись, их примеру последовал угрюмый раб-привратник у ворот.
Очевидного еретика из донатистов епископ не затруднился милостиво благословить издали. Зато к смиренным сестрам по вере он снисходительно приблизился, обеим дал прикоснуться поцелуем к священной реликвии и позволил почтительно сопроводить себя к алтарному камню для ее достойного размещения.
После чего епископ подозвал поближе неугомонного весельчака и опытнейшего эксплоратора Секста, делавшего хитрый вид, будто сладко задремал, как новобранец на посту у ворот. Притворно позевывая, разведчик вразвалку подошел к прелатусу Августину, мгновенно обрел лихую легионерскую выправку и четко доложил об обстановке в кесаревом сальтусе Дилекта. Получив серьезные указания, испытанный контубернал центуриона Ихтиса и прелатуса Аврелия вернулся к воротам и вновь принялся изображать спящего кота, вполглаза наблюдающего за птичками, мышками и прочей живностью, годящейся в добычу, в провизию, в провиант. Иного смысла существования всех сельских жителей: язычников, еретиков и тому подобных существ — ветеран Секст Ливий Гней Киртак по-христиански не находил. Вон и пресвятейший безгрешный епископ Августин в проповедях говорит, что Бог создал мир для человека, чтобы тот им умел ловко попользоваться.
Возможно, праведнейший гиппонский предстоятель толковал Книгу Бытия несколько иначе, но воин Киртак из народа гетулов, понимал ученого соплеменника именно так. И греха в том не видел, если свято блюсти воинские традиции, исполнять приказы военачальников, знающих, чего от них ждут подначаленные. Если нельзя пустить захваченное селение или город на поток и разграбление, то всласть попользоваться его жительницами можно. С одной из курочек-египтянок разведчик Киртак уже поимел петушиное дельце сегодня под утро, хотя и носит он среди соратников кличку Зимородок, а дома в Гиппоне ходит в отцах семейства, почтенным и уважаемым квиритом, солидным торговцем скобяным товаром. В походе о многом можно позабыть.
Выйдя из северных ворот атрия, Аврелий с удовлетворением припомнил, как греки называют птицу-зимородка. Хотя, каким таким был его ученик Алкион в подростках и в легионерах, он вспомнить не пожелал. Повернул направо к конюшням, принял и ответил на легионерское приветствие двух других контуберналов. С добрым утром его также поприветствовал еще один старый очень даже боевой соратник, с кем он не расставался и когда путешествовал по морям в Тингитанскую Мавретанию или с разодранным ветром парусом плыл в Киренаику.
Помнится, последнее, чересчур бурное плавание коту Гинемаху по нраву не пришлось; пускай к кораблям он относится неплохо и в порту почасту пропадает, честно зарабатывая себе пропитание истреблением крыс. Сейчас, похоже, славнейший Гинемах вернулся после удачной охоты на сельских грызунов, сыто облизывается, хвост трубой, но всей тушей ластится к хозяину, намекая на ежеутреннюю порцию молока.
Даром, что ли, занесло нас в деревню, доминус? Коз, овец, кобылиц, коров в округе видимо-невидимо, несчитано-немеряно. Если охотиться на них возбраняется, пускай хоть молоко дают.
Корову или лошадь Гинемаху, конечно же, не одолеть, но вот задрать овцу или козу крупному лесостепному коту сервалу вполне по силам. Тигриные когти и пасть, полтора локтя в холке, три с лишним локтя в длину, не считая хвоста, вес добрых пятьдесят фунтов — делают его опасным хищником для мелкой дичи и слабосильного человека.
И кличку свою Гинемах, то есть Жен побивающий, он по праву заслужил в кошачьей юности. Ранее он значился Демафилом, поскольку ласкался ко всем без разбора, взятый на воспитание к людям слепым котенком. Но как-то раз некая карга сириянка оскорбила его действием, душевно огрев лопатой. Страшного оскорбления молодой сервал не стерпел, длиннейшими когтями деранул на обидчице гиматий и вырвал клок меха вместе с мездрой из того самого вышедшего у нее из употребления причинного женского места.
К женскому роду вольный лесостепной кот и раньше-то относился настороженно, как к собакам, будучи воспитанным, почитай в мужском, орденском монастыре. А тут эдакое дело, если тебя ни за что ни про что без разговоров начинают охаживать лопатой во дворе собственного дома. Глупой злой старухе повезло, вприпрыжку прибежал сам епископ Августин, ухватил рыже-серого разбойника за ошейник, оттащил, успокоил.
С тех пор Демафил стал Гинемахом, а пищу или молоко принимает только из мужских рук. Хозяину по-собачьи предан и способен защитить его не хуже сторожевого пса, что и доказал достоименный кот пару раз — ночной порой в Каламе и в Картаге.
У конюшен храбрый кот Гинемах приостановился, ушастой головой покрутил в сомнении. Лошадей, принимавших его за дикого хищника, он рассудительно берегся, под копыта не лез, а дружеские отношения расчетливо поддерживал только с вороным епископским жеребцом Коммодом, оттого что ездил у него на загривке. Опять же, если хозяин не берет на поводок, значит, ему там не место и кобылье молоко не про его честь. И от жеребят лучше держаться подальше — люди и лошади страшно раздражаются, когда он безо всякого вам коварства ходит кругами поблизости от лакомого лошадиного потомства…
Погрузившийся в размышления о скотьих повадках Аврелий шагнул из солнечного весеннего утра в сумрак конюшни… и резко отбил посохом удар, направленный ему прямо в грудь. Едва глаза приспособились к полутьме, увидал Ихтиса, поигрывающего виноградным жезлом центуриона и услыхал насмешливую похвалу:
— Вижу, мой славный ученик бдительности не теряет, изнеженным эпикурейцем покуда не обернулся в ученых занятиях.
— Ох не бережешь ты мнения о кротости и смирении имярек достохвального епископа, Ихтис. В пастыря мирного, церковного пестом военным целишь, пугаешь.
— Извини, Аврелий, за центурионские замашки. Привык, знаешь, разное воинство в напряжении держать и учить. Как ближних своих, строго и по-отечески. Прости, прелатус.
— Да я не во гневе, центурион, службу твою понимаю. К тому же разогнал ты всех — так мне, беспечному, видится.
— Твой Коммод опять буйствовал, ровно неукротимый Букефал царя Александра. Пришлось конюшенных рабов восвояси отправить. Они, скоты, и рады не стараться, не трудиться.
— Раз так, сам-один поработай, помогай достопочтеннейшему епископу Августину его боевого коня обихаживать. Не в службу, а в дружбу, мой добрый Ихтис.
— Почту за честь, Аврелий.
О Гинемахе все замечающий центурион Горс Торкват тоже позаботился. Сходил в соседнюю конюшню, принес большую плошку с вечера надоенного кобыльего молока. Вернувшись, ветеран получил давно ожидаемое задание от епископа.
— Ты, надеюсь, слышал, мой Армилий. Вчера Каркион с намеком жаловался на новую партию рабов-иудеев из палестинского Декаполиса. Христа Спасителя хулят, плюют-де нечестиво на святой знак мук Христовых.
Полагаю: они — из какой-либо секты назореев, елкасаитов или того хуже — евиониты. Входить в богословские собеседования с нищими умом нам ни к чему, коли Бог их оставил великой милостью Своей, наказав рабством и подневольными трудами. Но небольшая острастка кичливо безумствующим иудеям, не признающим Иисуса Христа, Господа нашего, Сыном Божьим, думаю, пойдет на пользу. Заодно и прочим чванливым потомкам Евера урок смирения и любви к иноплеменным ближним своим следовало бы преподать.
Моим именем возьмешь два-три десятка кавалеристов из Тевесты. За три часа до полудня окружите с нашими контуберналами еврейское поселение сальтуса. Проведете в домах тщательный поиск еретических писаний, обыскать всех и вся. Все книги и свитки ко мне на просмотр.
Синагогу не крушить и не жечь. Домашний скарб поселян не портить, скотину и птицу не резать, поселянок не увечить.
Коль скоро найдутся какие там ни есть бесхозные ценности, разделишь по справедливости и по рангу. Притворно нищенствующим евионитам и назореям сокровища земные не по чину иметь, собирать.
— Где моль и ржа их истребляют, воры подкапываются? — зло усмехнулся центурион.
— Не кощунствуй, сын мой, — одернул центуриона епископ. — Евиониты и назореи благотворительное богатство в людские пороки облыжно зачисляют, под стать разбойным киркумкеллионам. Да и другие евреи о блаженной бедности ораторствуют без меры, ханжествуя лицемерно, точно гистрионы театральные. Вы же, воины мои, этим трагедиантам и доставите такое вот земное блаженство без лицемерия и лицеприятия.
Ровно в полдень всем нашим добрым контуберналам быть у меня к малой обедне в атрии. Должное богослужение для остального христианского воинства я проведу в повечерии.
— Mнe послушание и повиновение, святейший прелатус Августин!
От конюшен епископ прошествовал в поварню, в простоте отведал свежесваренной сдобренной оливковым маслом густой бобовой каши с овощами и пряными горными травами. Насытившись немудреной пищей, предназначенной для рабов, освятил пышные пшеничные хлебы, с ночи доспевавшие в пекарне. Приказал подать сушеных смокв, легкого сладкого вина и горячей воды в консульский триклиний. Небрежно отмел предложение вилика Каркиона, униженно и многословно приглашавшего преподобнейшего гостя к позднему сибаритскому завтраку в саду на женской половине домуса.
Чему-либо суетному и прочему, кроме раздумий и ученых занятий, до полудня епископ не собирался уделять ни капли лишнего времени. Он глянул на водяные часы-клепсидру в триклинии, достал из дорожной сумы с полдюжины восковых табличек, привычное костяное стило и покойно устроился полусидя на кабинетном ложе у окна, выходящего в тихий сад во внутреннем дворике виллы.
Третий год епископ час к часу, день от дня набрасывал заметки для пространного трактата-опуса, условно им поименованного на латыни «От цивилизации земной к цивилизации Божественной и прогрессе человечества». Если взять по-гречески, то в будущем манускрипте следовало бы трактовать поступательное движение от политики телесной к политике духовной. Труд о людских полисах, гражданствах, царствах, о человеке, стремящемся все цивилизовать и окультурить, сообразно предписаниям Божьим, намечается большим, развернутым — должно быть, в четырнадцати книгах; каждая равна папирусному свитку. Но, вероятно, фундаментальный труд «О Граде Божием» выйдет в свет не меньше, чем в двадцати двух переписанных на пергамент книг-фолиумов с подразделением на многочисленные главы-капитулы.
В то утро никем и ничем не потревоженный епископ уединенно, безраздельно писал, размышлял на латыни, иногда по-гречески об истинном и ложном знании, о бесовском колдовстве и чудотворчестве по воле Божьей, о языческих псевдонауках навроде гадательного звездочтения — апотелесматики и вредоносных искусствах — так называемых теургии и гоэтике. Как обычно с неослабевающим изумлением отмечал: одна и та же словесная мысль рождается в голове и совершенно другой вид, смысл она почему-то приобретает в книжном дискурсе либо будучи выраженной в членораздельных звуках речи человеческой. Подчас неизреченная мысль мнится весьма значительной и умной, будто бы откровение, ниспосланное свыше, но вернее всего произошедшей от грешной плоти или от наущения лукавых демонов. Как подтверждал исторически и философски Лукий Апулей из Мадавры, такой незримый мелкий бес нечто нашептывал на ухо учителю Платона, известнейшему философу-язычнику Сократу, сидя у того на левом плече.
Если это аллегория, то и она правдоподобна; ибо гораздо чаще случается, когда сказанное в знаках изустных и письменных обретает более глубокое ясное правдивое наполнение и содержание, нежели смутное и туманное многомысленное мудрствование про себя. Истинно, ничем не закрепленному мышлению свойственна отвратительная черта забывать кропотливо обдуманное, немилосердно рвать нить рассуждений и всплывать в памяти малопригодными для устной или письменной речи глупыми обрывками и бессвязными фразами.
Епископ вспомнил логий Христов о городе на вершине горы, светящем светом вечной истины, какую нельзя сокрыть, и принялся опровергать сомнительного происхождения чародейства в путаных и ложных толкованиях академиков-платоников. Привлек к рассуждению труды компатриота Апулея из африканской Мадавры, римлянина Порфирия, учившегося у знаменитого Плотина из Александрии Египетской. Немало досталось от него и омраченному сердцем египтянину Трисмегисту.
Завершив вчерне критику темных языческих измышлений, подумал о том, как бы отдать несколько готовых и выправленных томов в переписку и распространение монастырским братьям, но покамест решил благорассудительно погодить. Так как логичное расположение и порядок фолиумов ему самому еще далеко не совсем ясны.
Близился полдень. Наполовину опустел распечатанный кувшинчик сладкого кипрского вина, сполна разбавляемого теплой водой; почти иссяк запас чистых восковых табличек, какие Аврелий к своему удовольствию обнаружил в гостевом триклинии. Здесь им, конечно, не место в столовой зале, но, как скоро вилик постарался угодить ученому гостю, так тому и быть…
Время от времени епископ поднимался с ложа, прохаживался, рассеяно оглядывал фрески на стенах триклиния. Раза два-три поупражнялся с посохом в обороне и в нападении. Это тоже способствует правильному направлению мысли, коль взялся во всеоружии опровергать и критиковать язычников.
Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен!
Следуя апостольскому примеру жертвенного служения и руководствуясь наставлением Христа, специально к церковным службам и к проповедям епископ готовился редко. Разве что на Пасху и на Рождество, когда обращался и возвращался к этой обязанности пресвитера. И о том, что же ему говорить, он не заботился, если слова приходят сами, когда есть вдохновение, поддержанное благостно внимающим пастырю единоверцами. Да и прислуживать ему в евангельской простоте непременно найдутся желающие. Взять того же Секста Ливия, знающего обрядовое благочиние святых молебствий, понимающего старинное псалмопение на восточный лад не хуже иного рукоположенного диакона в Риме или Медиолане.
Епископ Аврелий не обманулся в благочинных предположениях. В атрии его почтительно ожидали. Легионер и ветеран Секст с благостным и серьезным видом замер у алтарного таблина, охраняя хлеб и вино святого причастия тайн Христовых. Давешние набожные рабыни, услужавшие епископу на кухне, украшали алтарь весенними цветами. Паства стеклась в большом числе, включая вилика Каркиона, его дочь, купца из Константинополя и простонародную толпу катехуменов поодаль у ворот.
Объявить себя катехуменами, то есть оглашенными, дескать, рьяно готовящимися принять крещение, многие язычники, украдкой поклоняющиеся низвергнутым с алтарей демонам, сочли удобным и уместным. Таких и в городе предостаточно, но еще больше двоеверия и скрытого язычества в деревне. Недаром же суеверов-язычников с некоторых пор по-латыни начали называть «пагани». Иначе говоря, необразованными сельскими жителями, которые невесть что болтают; причем, поганцы, знать ничего не желают о голосе истины и правоверия.
Сомнительно и мнимо верующих катехуменов епископ не допускал как-либо ко святому причастию, в отличие от сторонников пелагианской ереси, профанирующих христианское таинство кому ни попадя. Однако же правоверным он позволяет причащаться без исповеди, полагая ее исключительно добровольным деянием и потребностью чистых душ, страждущих облегчить бремя плотских грехов и страстей.
В пастырской проповеди епископ поначалу привычно обрушился на языческие телесные суеверия, но понемногу обрел вдохновение и вошел в пристрастные разъяснения касательно отличий демонской магии, чародеяний от подлинных искусств и наук, чье неуклонное развитие и разрастание предопределено Божественным Провидением. Глянул и приметил рослого страховидного катехумена, косолапо переминавшегося с ноги на ногу отдельно от толпы у ворот. То ли одноглазый Полифем со страниц Гомера, то ли просто деревенский кузнец, живущий силой и художеством рабочих рук, навел епископа на оглашение мысли о предопределенном Божьей волей овладении людьми таинствами огненной плавки и ковки металлов, начиная от самородной меди и серебра, поступательно, прогрессивно перейдя к бронзе и железу. Заодно пастырь строго осудил простонародное суеверие, связывающее кузнечное дело с колдовством и демоном Вулканом, коего греческие язычники именуют Гефестом. Тогда как историю из давно минувших времен о Прометее, принесшем-де людям небесный огонь, металлы и оживлявшего глиняного болвана, епископ Августин логично вывел в иносказании злоключений смертного плотского человека, кого преследовали дикие и суеверные поганцы, злодействуя по наущению древнейших демонов-мракобесов — всяких Вулканов и Юпитеров, лжеименно выдававших себя за богов.
Вдохновенно и красноречиво ораторствуя, пастырь всей разумной душой впитывал благолепное внимание паствы. Порой ему казалось, словно бы не он окормляет слушателей, оглашает их словом истины, но все, внимающие увещеванию пастырскому, молчаливо, в душевной глубине и полноте помогают ему, ничтожному проповеднику, обрести неслыханную, невиданную силу апостольского убеждения и католического православия в совместных молениях о спасении душ праведных и благочестивых. Потому он и видел, созерцал в подобные минуты озарения подлинное благочестие кого угодно из оказавшихся тут в сельской экклесии всех рабов Божьих, их религиозные помышления, предпочтения, почитания… Словно бы мысли их и тайные помыслы ему ясно слышны.
Вон вилик Каркион впотай поклоняется идолу египетской Исиды в подземном капище с тремя наложницами и ближними рабами-надсмотрщиками. Его дочь Амальтеа истово верует во Христа Спасителя. Объявившийся вместе с кавалерией из Тевесты константинопольской торговец Кериот, скрытный гонец кого-то из кесарского окружения, — вообще восточный безбожник и скептик-эмпирик. В то же время двоим контуберналам Ихтиса крещение в лоне Церкви Христовой двулично и околично не запрещает совместно пребывать в членах весьма сокровенного, как говорится по-гречески, эсотерического легионерского культа персидского Митры.
Наставь уместно, о Господи, на путь спасения души их!..
Завершив душеспасительную проповедь, где он не чуждался просторечной, едва ли не кухонной латыни, проницательный верою Христовой епископ торжественно, нараспев, путем литании, огласил Никейский символ веры, дабы отделить православных овец от еретических козлищ арианского заблуждения. Затем с братским священным поцелуем причастил в двух видах всех, того пожелавших тех или иных приверженцев истинной апостольской Церкви Христовой.
Исповедовать кого-либо во грехах епископ в тот полдень не намеревался. Грешно, право же, этак пренебрегать пастырским долгом, но уж очень ему не терпелось поскорее заняться свитками и книгами, изъятыми у евреев благонамеренным воинством. Хотя по поводу персидского суеверия он дал себе обетование непременно произнести и принести пастве опровержение.
Однако не так-то просто небрежному и нерадивому пастырю отделаться, скрыться от благочестивейшей паствы. Только-только Аврелий двинулся по направлению к гостевым покоям, как ему решительно заступил дорогу вексиларий Секст Киртак.
— Извини, святейший. Но тебе срочно следует принять исповедь одного хорошего человека.
— Ты, что ли, вздумал покаяться, мой добрый Секст?
— Нет, твое святейшество. Кузнец Марий Гефестул к тебе подойти не смеет. Между тем греческий пес вилик обвиняет благочестивого нумидийского катехумена в колдовстве за изготовление гибкого железа.
— Железо? Какое острее острого??!
— Оно самое, прелатус! Не сомневайся, я ведь гвоздями и ножами-бритвами давно торгую. Гладий-иберик он сковал не очень, но бритва на загляденье, блестит и сверкает!
— Бритва, говоришь? Хорошо, тащи этого страхолюдного Полифема вместе с его железом в консульский триклиниум. Да побыстрее! Не то я вас обоих так прокляну, тот самый Люкифер озадачится, какой вечной адской муке вас подвергнуть, негодников суесловных.
— Послушание и повиновение, святейший!
По пути к ученым занятиям епископ распорядился подать тушеных овощей и вина для легкой трапезы. А у вилика Каркиона сурово поинтересовался: все ли тот уразумел в пастырской проповеди. Ибо прежде вера, засим разумение, не так ли мой добрейший Каркион?
Получив от перепуганного грека утвердительный ответ и ожидаемое подтверждение богословской истины, святейший епископ внушительно и милостиво кивнул, широко на весь атрий единоперстно благословил чад, домочадцев и гостей хозяина. После чего скрылся за тяжелыми дверьми консульских покоев, отворенных ему двумя контуберналами центуриона Горса Торквата, вооруженными с головы до ног, со щитами, в панцырях-лориках и в шлемах.
В триклинии епископу Аврелию отдал четкое легионерское приветствие сжатым кулаком уже центурион Горс, не промедлив и мгновенья с рапортом:
— Проверили и тряхнули иудеев скрупулезно, Аврелий! Сверху донизу.
— Садись, отведай от плодов нашей гиппонской лозы, Горс. И рассказывай.
— Обошлись с иудеями и иудейками милосердно, по-христиански. Пристойность соблюли.
Мужчин обыскивали в синагоге. Даже разрешили ермолки не снимать, чтобы не нарушать еврейский обычай. Все оказались обрезанными.
Мятежников с необрезанной крайней плотью среди них не случилось. Я так разумею, мы искали уклоняющихся от римского правосудия дважды крещеных еретиков, не правда ли, святейший прелатус?
— Истинная правда, сын мой.
— В тот же час женщин отдельно раздели и проверили на другом краю деревни. Мужчин-киркумкеллиан среди них не нашли.
Зато отыскали кое-какие сокровища в потаенных женских местах. Глупые женщины почему-то думают, мол, мужчин их пещерки интересуют только с одной целью. Потому и прячут золото и серебро во тьме, среди непроходимых зарослей, какие еврейки взращивают в промежности.
Мы проверили, прелатус. У всех женские створки ничуть не обрезаны. Чепуху болтают, будто им их режут для плодовитости, лучшей детородной проходимости и осеменения. По правде сказать, чуть подпортили рукоятями кинжалов нескольких девственниц. Но не напрасно: у одной там треснуло, щелкнуло, кровь чуть пошла, а с ней и золотые кругляши.
— Ах мой Ихтис, иногда вы, легионеры, точно дикие варвары в покоренной стране!
— А я и есть грубый варвар, прелатус.
— Не наговаривай на себя напраслину, центурион, коли ты у меня в риторской школе учился, пусть и недолго. Продолжай докладывать.
— Послушание нам и повиновение, святейший прелатус! Все книги, свитки, клочки пергамента и папируса собрали, упаковали, сберегли.
Моисеево Пятикнижие на греческом, видать, часть Септуагинты, думается, можно вернуть в синагогу.
— Посмотрим, может, и вернем. Все-таки евреи остались Божьим народом, Бога истинного первыми почитать стали.
— Да, только лихоимствуют они совсем не по-божески. В этой бедной еврейской деревне Секст Ливий клад обнаружил с золотыми идолами. У него нюх на золото и очень недоброе чувство к тем, кто дерет злые проценты под залог имущества или свободы.
— Выходит, и золотой талант в земле ржавеет, сын мой?
— Будем добрыми менялами, прелатус! Мои контуберналы половину сегодняшней добычи жертвуют Святой Божьей Церкви.
— Пожертвование от чистых христианских сердец вовек угодны Господу нашему, мой добрый Ихтис.
Во время доклада центуриона епископ невозмутимо пролистывал книги и свитки, также ставшие военной добычей. И центуриона рассудил покуда не отпускать. Пусть прежде взглянет на меч, выкованный одноглазым деревенским кузнецом.
О чудесном железе, которое, судя по натурфилософским описаниям, гнется, но не ломается, ученейший епископ Аврелий Августин читал, слыхал, хотя видеть его ранее ему не доводилось.
В гостевой спальне он проницательно исповедал и отпустил глупейшие мелкие семейные грехи катехумену Марию Гефестулу. Выяснил: языческий когномен достался тому от отца, тоже кузнечных дел фабера. Через пень-колоду разобрался-таки, почему могущественный вилик притесняет работящего колона, требуя от него уплаты имперских податей решительно в натуральном виде маслом и зерном, угрожая продажей красивой дочери в рабство, точнее, ему, вилику Каркиону, в четвертые наложницы. А оливы у колона-кузнеца плохо плодоносят, рабы ленивы, пшеницы и ячменя на их прокорм не хватает. И денег-то взять неоткуда, коли все идет рудокопам и углежогам, еврею Исайе тоже немало задолжал.
Маленький осколочек железа в правый глаз угодил. Сначала, оно, вишь, преподобнейший, вроде бы ничего, после окривел, бельмо разрослось…
Пожалуй, кузнец не роптал, не сетовал. Слова из него словно пыточными клещами приходилось доставать. Зато благодарил Бога, позволившего овладеть секретом гибкого железа. Отец, мол, твое святейшество, начал, сын, слава Богу, продолжил.
Как бы нехотя добыл из мошны на поясе блестящую тонкую бритву, выдернул волос из косматой черной бородищи, подбросил и с лету рассек пополам. Второй волос Аврелий выдернул из чернобородого самовластно и не менее ловко уполовинил в воздухе.
Однако гладий, изготовленный кузнецом Марием, центурион Горс Торкват не одобрил. Тяжел у рукояти, лишен баланса и неудобен для резкого колющего удара. Вот если бы сковать нечто наподобие обоюдоострого тевтонского меча, какому Ихтис отдает преимущество со времен стычек с готами в Норике, тогда б другое дело.
Удлиненный меч центуриона кузнец взял, осмотрел и уверенно обещался изготовить его точное подобие до апрельских календ, соблюсти необходимый баланс, отделку, полировку. То есть еще до конца Великого Поста сделать клинок, рубящий железо будто тростник, что он тут же и проделал с гладием Секста Ливия, ужасно смутился, испугался и молча рухнул на колени, покорно ожидая примерного наказания и искупления.
Последнее последовало незамедлительно. Бренные останки легионерского меча выкупил епископ Августин. А за гибкую острейшую бритву и огниво, дающее целый пучок искр, заплатил столь щедро и великодушно, что золота наверняка хватит и на подать для похотливого вилика и на закупку запаса руды, угля на железоделательные нужды. Причем кузнецу строго указано: под страхом адских мук никому не говорить, откуда взялись деньги.
Обомлевшего от внезапного благополучия кузнеца епископ отпустил не сразу. Велел снять повязку и проникновенно осмотрел поврежденный глаз. Задумался, несколько минут сосредоточенно молился, беззвучно шевеля губами, сжав посох побелевшими до судорог костяшками пальцев. После того смочил слюной указательный палец правой руки и помазал незрячее око мастерового…
Чуда не произошло. Кузнец не прозрел, отвратное бельмо никуда не делось.
Меж тем епископ его убежденно напутствовал:
— Иди, сын мой! Вера твоя спасет тебя!
Ошеломленного вконец деревенского фабера, мало чего уразумевшего, выволок из триклиния легионер Секст, повинуясь молчаливому жесту центуриона. Тогда как епископа Горс бережно усадил на кабинетное ложе, укрыл одеялом, поднес неразбавленного вина.
— Спасибо, Ихтис, — выдохнул епископ. — Строжайше предупреди Секста Ливия, чтоб лишнего кузнец не болтал. Не доставало мне на рудниках или в Тевесте столпотворения безнадежных калек, жаждущих излечиться. Я им не апостол Петр Галилеянин, коли все в руке Божьей…
Епископ помолчал, сделал пару глотков и добавил:
— Ах да, мой добрый Ихтис, чуть не позабыл. Сколько сочтешь нужным, возьми из дорожных сумм и раздай семьям, хм, пострадавших девственниц из еврейского поселения.
— Пусть правая рука не ведает, что делает левая, прелатус?
— Именно, сын мой, поелику-посколику…
КАПИТУЛ II
Шестой день в февральские ноны. На пути к железорудным копям близ Тевесты.
Право слово, верховая езда нисколь не препятствовала глубоким раздумьям и отрешенным размышлениям епископа Аврелия в надежном окружении контуберналов центуриона Горса, когда далеко впереди следуют дозорные, а позади идет на рысях полусотенная турма нумидийских всадников, достоименно известных воинским искусством и удивительной храбростью еще с давней Югуртинской войны. Тевеста и при царе Югурте уже была укрепленным римским бургусом, и знаменитая кавалерия нумидийцев учиняла гордым римлянам немало горьких поражений.
Епископ снова вспомнил угодного Богу странствующего номада Авеля, от коего, возможно, начались тяжкие кочевые скитания Града Божьего по старой допотопной земле, под прежним небом, уходящим в непознанные выси и дали. Вслед подумал о том, как не в столь отдаленном прошлом римские завоеватели от слова «номад-кочевник» дали название Нумидия всей африканской стране к западу и к югу от пунийского Картага, покоренного и разрушенного ими по упорному настоянию сенатора Марка Поркия Катона Старшего. К дальнему юго-западу от восстановленного древнего Картага и размещена Тевеста, прикинул исконный нумидиец Аврелий.
Состоятельно, не Тевеста являлась целью неблизкой поездки преподобнейшего прелатуса Августина, епископа из Гиппо Регия на юг, но, так скажем, просьба кесарского викария Африки, августейшего комита прими ординес высокородного Маркеллина расследовать богомерзкие происшествия и преступления, случившиеся на железных рудниках, не доезжая этого лимитрофного города-укрепления. Однако о таком страшном и непонятном деле, находясь в дороге, Аврелий предпочел покамест не думать и не размышлять. Всему нужное время в Предопределении Господнем и в поразительной мудрости боговдохновенных пророков, явившихся предтечами истинной религии.
Вороной жеребец Коммод шел покойной размашистой рысью и не отвлекал всадника от глубокомыслия и теологических рассуждений. Умному коню епископ доверял. Потому и не помышлял своенравного жеребца как-либо направлять, горячить, понукать, если тот отлично знает, как ведущему вожаку-дуксу должно двигаться, увлекая за собой подведомственных его хозяину неразумных животных и далеко не всегда разумных людей — всадников-эквитов.
По виду епископ от ближнего сопровождения не очень отличался. Тот же военный плащ-пенула, посох, напоминающий копье. Разве что на голове вместо шлема с продольной кристой теплый фракийский колпак из плотно валяной шерсти.
Старая от века мощеная римская военная дорога пошла круто в гору, чувствительно похолодало. Да и с утра Аврелий не отметил какого-нибудь слишком уж весеннего тепла на землях кесарского сальтуса Дилекта. Оттого и приятно осязать перед седлом руками, коленями согревательную тушу рыже-серого кота Гинемаха, вольготно свесившего на обе стороны лапы, развалившегося на шее у коня, словно большая меховая подушка.
Поводья епископ легко держал в левой руке, если чистокровный гетулийский скакун Коммод понимает скаковое дело, смолоду приучен к боевым походам и быстрым кавалерийским транскурсам. Правой рукой опытный наездник крепко перехватил высокий черный посох, чуть уперев его в луку седла. Всякому свое в единственно верных местах, им надлежащим и прилежащим.
Какого-либо множественного беспорядка епископ не любил и не одобрял. Говоря по-гречески, всяческий неверный, малопонятный хаос, вызывал у него осознанное беспокойство и недовольство. Ибо он, Аврелий Патрик Августин, с давних пор незыблемо убежден: твердый в истинном вероисповедании разумный образованный человек способен понять и уразуметь все видимые творения Господни. Неисследимы лишь судьбы и побуждения Всевышнего. Тогда как всё и вся под твердью небесной, сотворенное и управляемое Божьей волей, человеку надлежит познавать и употреблять во имя вознесения вящей хвалы Вседержителю. Будь она с небес от ангелов Божьих исходит, или же возносится от низменной поверхности шара земного от верных слуг, соработников Господа нашего в непостижные слабой мысли человеческой горнии дали и выси, — в ответ по милости Вседержителя подчас возможно отыскать сокровенное значение, обрести новое знание, осмыслить пророческие обетования, выявив единую формулу. В то время как сказанное в темноте либо так либо иначе подлежит проповеди в свете ясного дня.
Вот оттого-то епископ в бессчетный раз задумался над тем, насколько же не совпадает словесная мысль неизреченная с тем, что удается высказать, облечь в единственно верную форму выражения. Еще более велика разность, — воистину их разделяет пропасть! — между словом-вербумом, высказанном в пустом сотрясении воздуха, и словом-законом, легитимно запечатленном в каменных скрижалях, на медных досках. В чем сходство и различие между неопровержимо написанным чернилами на пергаменте и папирусе или неряшливо набросанным стилом на восковых табличках? Когда и почему немудрящий болтливый частный вербум превращается в обобщающий довод-рациональность, а рацио вдогон становится премудрым всеобщим логосом? — привычно по-гречески и по-латыни взялся за звенья цепи мысленных рассуждений Аврелий Августин.
Взять хотя бы нынешних евреев, злостно отвергающих благую весть Нового Завета. Что удастся и что можно, должно о них вербально высказать, логически написать для распространения? Притом рационально не смущая слабых в вере катехуменов, не давая пищу злопыхательству закоренелых язычников, а также лишний повод злобствующим еретикам для превратного истолкования слова, изреченного в следовании Премудрости Божьей и его ангелов-вестников.
И заново возникает извечное чисто человеческое земнородное разделение между тем, как мы думаем одно, говорим другое, делаем третье. Известно, опять же говорим и не делаем, наподобие криводушных иудейских книжников-соферимов и фарисеев. Неужто в любом случае прав наш христианский провозвестник и он же великий израильский пророк Иеремия, утверждавший: человек есть ложь? И ничего больше?
С одной стороны взглянуть, — в чем епископ был более, нежели уверен, — обрезанные иудеи в законе Моисеевом суть враги Церкви Христовой. A потому, каким бы заблуждением и какою бы злобою они ни были ослеплены и развращены, если навроде былого синедриона иерусалимского, обретают власть вредить ей телесно, то упражняют ее долготерпение и кроткую незлобивость. Меж тем, коли они предстают супротивниками Церкви исключительно по своему образу мыслей, то упражняют ее мудрость и познание. А так как и враги должны быть нами любимы, за то дают упражнение и нашему церковному благорасположению, а то и благотворительности. Действуем ли мы в отношении к ним убеждающим словом учения или грозою дисциплины, все едино.
Опять же, мы и они от одного семени Авраамова, в коем благословились всякие племена-народы земные. И наш общий патриарх ни в коем виде не был обрезан.
С другого же боку приглядеться, то нельзя не понять, отчего обрезанные в законе евреи, ведущие родоплеменное начало от Евера, есть народ Божий, впервые начавший почитать Бога истинного, неизреченного в тетраграмматоне, во Граде Земном. И храм Иерусалимский стал первой обителью Бога, до тех пор, покуда на него не обрушился гнев Господень, тогда же покаравший неправедных, расточивший евреев силою и властью римских принцепсов по цивилизованной вселенной.
Бог и зло употребляет во благо, и любящим Бога все содействует ко благу, — спосылался с благочестивыми римлянами наш апостол. Но ведь и он, римский квирит Павел из Тарса, когда-то значился чистопородным иудеем Савлом из колена Вениаминова; даже к секте набожных фарисеев был истово привержен.
Кстати приложить, каким образом следует относиться простым верующим к фарисеям, если их позором и поношением заклеймили евангельские логии Христа Иисуса?
Для самого епископа Августина не существовало в богословии неразрешимых прикладных вопросов, насколько им движет правоверие, направляющее умственный взор к истине и к познанию ее. Но каким способом, в каком виде необходимо донести обретенное свыше умозрительное знание, своечастное рассудительное разумение до паствы, доселе нетвердой в истинном вероисповедании? Или прилагать его ученое понимание к двоеверцам-язычникам? Какой образ мысли и действия ему и другим подлинно верующим в каноне церковном требуются, чтобы переубедить, наставить на пути истинные, экклесиальные завзятых еретиков?
К мысли будь упомянуто, тех же еретических сектантов — евреев-назореев и евионитов — неразумных рабов из эргастула Дилекты. Ибо не желают чтить они должным образом Бога-сына, полагая Единосущного всего лишь малым пророком Иешуа бен-Иосифом, едва ли не мелким человечишком от низменного Града Земного.
Бог-отец, разумеется, милосерд и благорасположен, и для того простил Он в вышних беспутным евреям кровь единосущного Бога-сына Человеческого Своего. Но как быть простым людям, читающим и разумеющим Евангелие от Матфея, навеки заклеймившее еврейство? Евреи ведь самовольно там признают, что кровь Христа на них и на их детях. Вот и мы говорим в сердцах нынешним иудеям: вы-де убили Мессию, пускай это сделали их отцы.
Кому как не Матфею, апостолу из 12-ти, иудейскому мытарю это ли не знать? Потому как даже еретики назореи почитают устное Матфеево благовестие на греческом, усваивая его под видом мифического письменного евангелия евреев, какого никто в глаза не видел, в руках не держал…
Всех евреев Августин ни в коем разе огулом и кагалом не воспринимал, как бесчестных христопродавцев, заслуживающих человеческого мщения. Иное дело — обыкновенные благонамеренные христиане. Среди прочих, те же свойские ветераны из контуберналов Ихтиса.
Согнали в синагогу разом низких рабов и свободных поселян-мужчин. Не разбираясь, голых девиц и женщин бесчестили без зазрения совести, не видя в том ни малейшего греха. И попробуй их только укори в этом. Заслуженные легионеры сразу же тебе приведут в пример не канонические Евангелия, а многие кровавые еврейские мятежи против римского мира и порядка. Тотчас припомнят сожженную вместе с прихожанами христианскую церковь в Гадрумете в междуцарствие узурпатора Евгения и кесаря Теодосия. Или те ужаснейшие лютые, свирепые зверства, каковые учиняли иудейские мятежники над безоружным и мирным населением сенатской провинции Африка в более давние времена.
Эти изуверство, лютость и свирепость, о каких он немало слышал и читал, епископ Аврелий мог себе живо вообразить. К примеру, пытку, прозванную взбунтовавшимися африканскими евреями, «погребальные пелены». Говорили, эти изверги, одержимые сатанинской ненавистью, туго заворачивали с ног до головы тело жертвы в ее же сущие кишки, оставляя оскверненную истерзанную плоть зловонно гнить и медленно мучительно умирать под жарким солнцем. Иные же плащом срезали у живых женщин кожу со спины и плеч вместе с колыхающимися грудями, чтобы в таком непотребном виде устрашить защитников мавретанской Типасы, осажденной толпами еврейских бунтовщиков, как писал благочестивейший епископ Александр.
Издавна большое множество жестоковыйных евреев всех без исключения иноплеменников не принимает, не признает и за людей-то, созданных Творцом по образу Своему. Ни один народ в римском доминате не умеет так ненавидеть, бояться и одновременно презирать ближние или дальние цивические сообщества людские. Для иудеев любой, кто не из их рода-племени, есть презренный чужак, с кем можно поступать, как им вздумается не по-христиански безбожно. По всей видимости, маловато у тринадцати колен Израилевых подлинной любви к Богу и человеку.
Что ж, по-видимому, и на то есть соизволение Господне и теологическое объяснение, если Господу угодно познавать своих, карать их, миловать… В большом да в малом… в трудах и заботах человеческих о прогрессе искусств-ремесел с наукой и продвижению к Граду Божьему… Техника, скажем по-гречески… — возникла попутная мысль. Епископ мимоходом глянул на повозки углежогов-колонов, уступивших дорогу вооруженным всадникам. После чего вернулся к цепочке прежних путевых рассуждений.
Меж тем в иные африканские города магистраты до сих пор запрещают ввозить палестинских рабов на продажу. Кое-где, в соответствии со старым Клавдиевым законом, не позволяют обрезанным иудеями, будь они свободными римскими квиритами, селиться вместе с семьями, чадами и домочадцами. Особую подать в кесареву казну с обрезанных сегодня никто не берет, но эдикты кесарей Траяна и Адриана о гражданском нечестии, касающиеся прежде всего иудеев в законе Моисеевом, по-прежнему действительны, не глядя на то, что их мало где на сей день применяют.
Хотя в вавилонском развратном смешении проконсульского Картага нынче обосновалась богатая еврейская община, но в Гиппоне магистраты и не помышляют отменять давнее постановление о запрете пришлым евреям из числа полноправных римских квиритов пребывать в городе более четырех лунных седмиц. Да и сам епископ Аврелий не видит в его отмене какой-либо насущной необходимости. Применительно, ему об этом кое-кто прозрачно намекал, и на церковь довольно щедро жертвовали, едва ли ушлым порочным иудеям возможно подкупить некими сокровищами земными того, кому их незачем копить и собирать.
В соборных проповедях епископ евреев-христопродавцев в общем-то не осуждал и анафеме их не предавал, дабы не вносить излишнее смятение в незрелые умствования очень многих прихожан, поныне пребывающих по уму во младенцах, питающихся молоком, но не твердой религиозной пищей взрослых людей. Со всем тем рассуждать, познавать, писать истину о палестинском и еврейском происхождении христианства нужно, если слово «религия» означает сознательный выбор, а он, смиренный раб Господень Аврелий задумал и начал огромный труд о Граде Божьем, о небесном странствующем Иерусалиме среди царств земных.
Для самого себя Аврелий Августин определил потомков Евера, следующих десяти заповедям великого пророка Моисея, во-первых, как исполу катехуменов, духовно способных обрести святое католическое крещение. Он и сам-перст телесным и духовным обрядом окрестил трех евреев, таким способом лукаво измысливших поселиться в Гиппоне. Во-вторых, напрасно иудействующих, упорно отказывающихся заключить новый завет с Богом, епископ полагал в их душевной половине отступниками, недвусмысленно высказанной пророками Божьей воли, проявленной и доказанной самопожертвованием Сына Человеческого, снизошедшего к людям в телесном уничижении и смирении. По таковой причине спесивых в целом инаковерующих, скажем по-гречески, апостатов-отступников из числа израилитов обязательно требуется вразумить, смирить и убедить тем или иным способом. То есть хоть как-то воцерквить в христианской религии, где нет ни эллинов, ни иудеев. Видать, и первородный народ Божий, не дожидаясь апокалиптически обетованного Страшного суда, стоило бы заставить войти в благословенное общее лоно Авраамово.
Но об этом епископ подробно писать не намеревался, коль скоро все это суть видимые всем повседневные дела церковные, пресвитерские, экклесиастические в его нумидийской епархии города Гиппона совместно с окружающими землями, подвластными городским магистратам.
Пусть бы и заблуждающиеся евреи стали терпимы христианами и любимы как враги. Ибо пока жив человек, иной раз остается малая надежда, что он изменит личную волю по направлению к лучшей общественной жизни, прислушается, наконец, к святому евангелию правды и глаголу-логосу, исходящему из уст Божьих.
Вот оттого-то в знак молчаливого и любящего благоволения смиренного епископа Аврелия Августина всеустрашающий центурион Горс Армилий Торкват вернул несколько фолиумов Моисеева Пятикнижия на греческом тому, кого евреи сальтуса Дилекта почтительно прозывают равви Эсекия. Наряду с Септуагинтой, именуемой по-латыни Семьюдесятью толковниками, также возвратился в синагогу старинный список Книги Чисел и кое-что еще из общей для христиан в совокупности с иудеями Священной истории.
Оно так, но папирусные списки с Пророков, так же исполненные еврейскими квадратными письменами, епископ оставил себе для дальнейшего внимательного изучения и сопоставления с теми рукописями-манускриптами, какие уже находятся в его распоряжении, пребывая в сохранности монастырской библиотеки.
Многочисленные различия, наличествующие во вроде бы одних и тех же христианских и иудейских списках-кодексах, епископу Августину приходилось многажды неустанно разъяснять, истолковывать пастве, братьям-монахам, пресвитерам, диаконам и этим, так сказать, диакониссам. К слову, почему и зачем на полях в святых книгах ставят звездочки-астериски и черточки-обелы, напоминающие значок унции.
Итак, если в Писании мы должны, как и следует, видеть лишь то, что через людей говорил Дух Божий, то все, что в еврейских кодексах есть, а у Семидесяти нет, — все это Дух Божий благоволил сказать не через них, а через пророков. Зато, что есть у тех семидесяти двух переводчиков царя Птолемея Филадельфа и чего нет в еврейских кодексах, тот же самый Дух предпочел высказать через них, а не через пророков, показывая таким образом, что те и другие пророчествовали. Ибо совсем так же одно изрек Он через Исайю, другое — через Иеремию, третье — посредством иного какого пророка, или одно и то же, но иначе, через того или другого, сколь было Ему угодно.
Все, чего мы находим у пророков и у Семидесяти, изрек через тех и других один и тот же Дух, но так, чтобы те предшествовали, пророчествуя, а эти следовали за ними, пророчески их объясняя. Потому что в тех, говоривших истинное и между собою согласное, обитал один и тот же Дух мира, так и в этих, переводивших отдельно друг от друга, как бы едиными устами проявился тот же самый единый Дух…
Имелись у епископа и другие объяснения для разночтений, противоречий, недоразумений, расхождений, разноголосицы и чересполосицы, существующих в разнообразии христианских кодексов. Их он оставлял для тех немногих отборных и мудрых единоверцев, на ком не лежит покрывало Моисеево, кто воистину разумеет, почему буква убивает, но Дух животворит. Ибо не счесть сколько званых, да все же таки маловато истинно избранных, способных досконально понимать предание истины, не подрывая авторитет Церкви и авторитетность религии.
Прежде всего епископ Аврелий Августин избирательно ссылался на авторитетное назидание Святого апостола Павла, неоднократно повторяя из Первого послания коринфянам стих девятнадцатый главы одиннадцатой: «Надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные». Можно, согласно другому греческому списку, истолковать апостола по-латыни и так, что надлежит быть и ересям, дабы объявились испытанные среди слабых в истинной вере.
Если бы Бог-отец почел за благо людское земнородное единомыслие везде и всюду, едва ли вавилонские столпотворители подверглись разделению и перемешиванию языков. В нужное время и Бог-сын не благорасположил буква в букву свыше диктовать под запись какие-либо сакральные каноны первозванным апостолам. И в том, что из храма Иерусалимского навсегда исчезли Моисеевы ветхозаветные скрижали, мы тоже можем увидеть перст Божий.
Нельзя из мертвящей буквы творить себе кумира, чтобы поклоняться ей вместо Бога истинного и живого, уподобляясь нечестивым язычникам, боготворящим мраморных идолов, обожающим медных истуканов, славословящих мертвым гранитным болванам. Ни добронравия, ни благочестия это народам-племенам не прибавляет.
Одна лишь праведная вера, дарованная нам от Бога, неизменно направляет умственный взор к истине, но отнюдь не изменчивые и многоразличные знаки-символы. Будь то памятники или литеры. Какие бы значение и важность люди ни придавали и ни приписывали письменам, безгласные буквы подвержены пресловутому произволу даже не истолкователя, превзошедшего всяческие свободные искусства-науки, но сущеглупого переписчика, ошибающегося по недомыслию, оплошности, неряшливости; либо произвольно по дьявольскому демонскому наущению.
К той же мысли будь помянуто, коли чуть ли не первый встречный еврей-самоучка, кому невежественные единоплеменники облыжно присвоили звание раввина-учителя, посягает внести произвольные изменения даже не в изустные толкования и комментарии, а в письмо. Именно его он переделывает, переворачивая букву изложения, встречается, извращая, самый смысл и дух Святого Писания. Причем лукаво умствуют они, живя не по Богу, но по человеку, не думая о себе скромно по малой мере той истинной веры, какую Господь уделяет каждому, говоря словами апостола.
Из-за их человеческого умствования мы без конца видим, замечаем вопиющие несовпадения христианских святых книг с одноименными рукописаниями горделивых и надменных иудеев, изгнанных из греховного земного Иерусалима попущением Божьим.
В том же грехе допотопной умственной гордыни также оказались повинны те самые семьдесят два переводчика, отправленные в Александрию ко двору македонского царя Птолемея первосвященником Елиазаром. Авторитетным в ту пору учением Платона Афинского, — как, между прочим, и доныне среди язычников, — тогдашние грекоязычные раввины домогались уснастить, разнообразить и разукрасить почти все ветхозаветные кодексы. И трудились они, в противоположность тому, чeгo нам толкует народное предание, весьма и весьма согласовано. Засим, что нам писал ученейший муж пресвитер Иероним из Рима, их коллегиальные труды начали с пиететом переводить обратно на еврейские письмена, превознося кодексы Септуагинты в образе непогрешимого авторитета и превосходнейшего патрона религиозной истины, удостоверенной-де царской властью и первосвященническим саном.
Но до того и Платон немалую толику того огласительного майевтического философствования в саду Академском почерпнул из Книги Бытия и Пророков, ставши ознакомлен со Святым Писанием в путешествии своем по восточным странам. Притом сияющая небесная Премудрость Божия столь ослепила земное умозрение афинского философа, что он почел ее сокровенным таинством, и по таковой причине повелел ученикам не записывать за ним многие эсотерические рассуждения на тему единого Верховного Божества. Оттого и поименовали они по-гречески то, что открыто излагается в наших священных книгах, неким неписаным тайным логосом учителя-корифея.
Все тайное рано или поздно становится явным, — гласят дух и буква евангельского поучения Христова. Иисус Мессия тоже изустно вразумлял званых учеников-эпигонов, когда им еще только предстояло стать причастившимися Тела Его и окрещенными огнем Духа Святого апостолами логоса Божьего. Заставь войти в Царство Небесное всех невежд, дотоле непознавших истину, — было сказано и указано грядущим апостолам-посланникам. Вот отчего благодаря Провидению Господню в наши времена свободно, раскрыто, широко в разумных душах сторонников православной, — выскажемся по-гречески, ортодоксальной, Aпостольской Церкви, — католически возобладает освобождающее слово правоверия.
Вон тот кузнец Гефестул праведно уверовал, и Господь помог ему открыть секрет гибкого железа. Быть может, и еще в чем-нибудь окажет вспоможение и благоволение… Право слово, надо бы окрестить того катехумена… — задумался епископ. Затем, основательно поразмыслив, решил переселить кесарского колона Мария Гефестула с чадами и домочадцами к нему, в Гиппонскую епархию.
В том, почему вилик Каркион не откажет ему в такой маленькой просьбе, Аврелий смиренно не сомневался. Особенно, если ее убедительно подкрепят вооруженной рукой гиппонский магистрат Горс Торкват и военный трибун Проб Никиан из Колонии Маркианы Траяна. Иначе говоря, с воинством прибывшего из древнего нумидийского города Тамугади.
И потом, искуснейшего кузнеца-феррариуса следовало бы поберечь от притеснений мстительного вилика. Да и другие немаловажные причины отыщутся, чтобы благорассудительно убрать этого одноглазого колона с глаз долой из кесарева сальтуса Дилекта.
Важнее того, вчера вечером Аврелий побрился новой острейшей железной бритвой, ни разу не порезавшись, даже в злосчастной ямке на подбородке. Раньше такое вот чудо удавалось лишь опытнейшим брадобреям в Риме и в Медиолане, но отнюдь не самому несчастному обладателю жесткой кабаньей щетины пестрого цвета «перец с солью».
Хотя ближний Укалегон еще не горит, то есть утреннее бритье, на удивление, ему не потребовалось, Аврелий не стал откладывать столь важного дела на потом, ни говоря уж о греческих календах. А кабы ненароком не позабыть о кузнеце Гефестуле в предстоящей вскоре земной суете сует, он распорядился устроить небольшой привал.
Ко всему прочему, судя по солнцу, того же настоятельно требует пройденное скакунами временное пространство по горной дороге, изобилующей крутыми подъемами и спусками.
Прежде всех спешился кот Гинемах. Сервал выпустил длиннейшие когти, сладко потянулся, мигом убрал лапы под себя, сжался в тугой комок, мягко подпрыгнул… чуть ли не беззвучно очутившись на земле, перелетел через голову Коммода. Тотчас же кот принялся тереться о его черные с маленькими белыми пятнышками бабки, словно бы в благодарность за приятную поездку.
Тем временем епископ не спешил покидать седло. Легко перегнувшись, он достал из переметной сумы чистый папирусный свиток с красными восковыми печатями, плотно закупоренный медный сосудик с чернилами, полое остро заточенное костяное стило и принялся на высокой луке кавалерийского седла писать краткое письмо вилику Каркиону. Запечатав свиток личной пастырской геммой с тремя всеми узнаваемыми рыбами, он подозвал вексилария Секста Ливия, коротко переговорил с ним и центурионом Горсом Армилием. И немного спустя предприимчивый эксплоратор отправился с письмом и устным наказом наблюдать за порядком на вилле Дилекта.
Честно говоря, о деревенском операрии Марии Гефестуле стоило б позаботиться еще вчера, — подумал епископ, вновь устраиваясь в седле по окончании привала. Но тогда ему было недосуг, если все его мысли оказались вплотную заняты свитками и книгами, изъятыми у еврейских еретиков контуберналами Ихтиса. Сверх того, Аврелий Августин ни в коем разе не поддавался склонности к принятию необдуманных суетливых и суесловных решений. Чего-либо второпях решать и разрешать вовсе не в его правилах. Все-таки он не суматошный глупый военачальник на поле сражения. И заполошенно торопиться исполнять чьи бы там ни суть распоряжения епископу Августину Гиппонскому нет никакой неотложной нужды, если его духовная власть не от изменчивых мирских властей преходящих исходит, но от вечного и неизменного Господа нашего Триединого и Единосущного.
Вот и сейчас епископ больше задумывается по-гречески о теологических сущностях, нежели о натуре сумбурного мирского окружения в горах ранней весной. Он мельком глянул на уходящие вверх горные склоны, беспорядочно поросшие соснами, не замечая еще безлистых хаотических зарослей колючих кустарников понизу; досадливо поморщился от безмозглых воплей лесных птах, громогласно и похотливо вожделеющих спаривания.
Кстати поразмыслить, насчет подлинности притчи о тунеядствующих воронах, какие не жнут, не сеют, не собирают в житницы, потому что якобы Бог их питает, — Аврелий Августин давно уж испытывает огромный скепсис. Какой ни есть человек все же многократно лучше всякой неразумной твари. В целом ряду греческих кодексов Евангелия от Луки такое вот подозрительное пустословное сравнение людей с птицами отсутствует, а там, где оно есть, эта парабола подобно белой вороне выглядит чужеродной позднейшей вставкой-интерполяцией в тех самых наставлениях о правилах Христовой жизни.
Вместе с тем возможно и духовное аллегорическое истолкование этого птичьего вопроса, если таковыми были подлинные слова Христовы, почти никогда не назидавшего малограмотных учеников вульгарным буквальным образом.
Помимо того, епископ преисполнен непоколебимого пожизненного убеждения, что в правильном образном и образцовом переводе с наиболее достоверных евангелических списков так называемой Нагорной проповеди с греческого на латинский язык блаженством обладают отнюдь не пресловутые (понимаемые убийственно буквально) нищие духом, но кроткие разумом, не позволяющие себе языческого философского безудержного умствования. То есть платонического пустозвучного квазирационализма — определим по-латыни это достойное сожаления умственное заблуждение антихристианских академиков, логически не умеющих отличить истину от лжи.
Еще хуже заблуждаются те, кто ложно в простецком народном словоупотреблении приписывают якобы по-гречески некое блаженство евионитам, безобразно обнищавшим и телом, и душой, и Духом Святым. Потому что в апостольскую эпоху словом «эвион», неверно переводимом с еврейского как «нищий» обозначали кротость и добронравие, чуждые тщеславию, кичливому суемудрию и вещественной гордыне. Но отнюдь не имелась в виду духовная и материальная нищета в словесном абсолюте, сколь мнится скудоумным буквоедам.
Очевидно, почему Церковь Христова католически анафемствует нынешним бездельно нищенствующим безместным донатистам и разбойным киркумкеллионам-нищебродам, час от часу насильственно отбирающие у поселян подаяние, то есть желающие изымать подать на пропитание. Всякие властные разбойники и вымогатели жнут, где не сеяли, собирают там, где не рассыпали, — гласит истинный логий Христов.
Тому подобным разбойным образом поступает и главенствующий среди нечестивых царств земных римский доминат, очень даже походящий на большую разбойничью шайку. Чем начальствующий от восточного империума гот Аларик хуже или лучше некогда облеченного имперской властью на Западе вандала Стиликона? Предводители и военачальники, кесарские комиты не жнут, не сеют… но ведь тоже по-своему трудятся…
Похоже, под видом ханжеского презрения к сокровищам земным и гистрионским славословиям якобы природному тунеядству птиц и зверей нам наново подсовывают неблагочестиво евионитскую ересь, — сделал предварительный вывод епископ Августин, вернувшись от политики к богословскому дискурсу. Сей же час эта вставка о приснопамятных воронах-параситах опять вылезла в искаженном списке едва ли евангелического повествования, обнаруженного у еретиков кесарева сальтуса Дилекта. Написанное на сиро-халдейском наречии оно кощунственно озаглавлено «Евангелие правды». Хотя, насколько убедился епископ при беглом просмотре, в литературной основе транскрибированный список представляет собой обезображенное безграмотным переводом и еретическим неразумием Евангелие Луки.
Мало того, в данном однозначно евионитском тексте епископ не без доли злорадства обнаружил несколько искажений, несомненно произошедших от рук знаменитого азиатского ересиарха Маркиона, некогда отлученного от Церкви за излишние гностические мудрствования и яростное стремление подчинить самоличной власти всех католических епископов Востока и Запада. Богатейшему и влиятельнейшему понтийскому проходимцу повредить вселенскому христианству никоим образом не удалось, но ему взбрело на ум начать очень рьяно и бестолково отделять обрезанных иудеев от христиан. Ересиарх-гностик Маркион напрочь отказался праздновать еврейский песах 14 нисана, ратуя исключительно за Воскресенье Христово, наступающее после весеннего равноденствия. За это его порицать вряд ли годится, коли он предвосхитил католические установления Никейского собора. Однако достойно осуждения то, что ракалья Маркион отрицал пророчества Ветхого Завета, под гребенку отвергал все христианские Евангелия, кроме собственноручно им переделанного сочинения от имени евангелиста Луки.
Теперь вот, поди же ты, спустя триста лет Маркионов типичный произвол переписчика превратился в священный завет для евреев, присваивающих себе звание легитимных христиан, верных последователей пророка Иешуа и его двенадцати апостолов. Вспоминается: апостол из 70-ти, Варнава Киприот пророчески объявил, или же это ему апокрифически приписывают, что не Израиль, а христианство наследует завет Божий…
Тут епископ вовсе не удивился, найдя среди богатой поживы центуриона Ихтиса древний кодекс Дидахe, темно и грязно по-евионитски повествующий о первобытной апостольской жизнедеятельности. Наряду с тем в руки Августина попал довольно любопытный сдвоенный апокрифический опус «Керигмы, периоды и Апокалипсис Петра», также продукт нищих умом и телом немытых эвионитов.
Впрочем, наикурьезнейшей греческой находкой епископ счел евионитское сказание о деяниях иерусалимских апостолов как будто за авторством евангелиста Луки, где нельзя отыскать ни единого упоминания о Павле Тарсянине. Взамен Павла и Варнавы там вовсю действуют, проповедуют и совершают миссионерские путешествия некие апостол иудеев Иаков Праведный и апостол язычников Кифа Галилеянин.
Оно понятно… Известное дело, коли доднесь все иудействующие из различных сект назореев, евионитов люто ненавидят Святого апостола Павла, если он благовествовал о главенстве учения Христа Спасителя над законом Моисеевым и отделении кротких христиан от буйных иудеев.
Столь же показательно, зачем у палестинских рабов сальтуса нашелся кодекс апокрифического «Евангелия Петра», когда в нем скопом осуждены иудейские левиты-христопродавцы и римские власти, зато превозносится столичная иерусалимская чернь, будто бы раскаявшаяся, бия себя в грудь, как вдруг возопившая в горести о пророке Иисусе Назореянине без вины распятом. Едва ли этакого можно ожидать от простонародной оравы негодяев, сбежавшихся будто в амфитеатр смотреть безумное зрелище позорной казни тех, кого им представили преступниками и публичными врагами по римскому закону.
Как и водится, неистовые клики народа есть голос не Божеский, но демонский. Нечестивые демоны частенько забавляются, глядя на бешено вопящих зрителей мерзких театральных действ и гладиаторских представлений.
На взгляд епископа Августина, безумствующие евиониты и преступные агонистики также никак не могут обойтись без апокрифического квазиапокалипсиса «Пастыря Гермаса». Причем скудные умом и Божьей милостью рабы из сальтуса Дилекта зачитывались, заслушивались его переводом с плохого греческого языка на их обиходное сиро-еврейское наречие, для вящей школьной мудрости записанное каким-то иудейским грамотеем латинскими литерами.
Здесь епископ еще раз одобрил свое настоятельное пожелание вилику Каркиону никуда и ни за что не выпускать за пределы кесарского имения новых палестинских рабов. А о том, чтобы даровать кому-нибудь из них гражданскую свободу, не может быть и малейшей речи. Было бы крайне нежелательно, коли с дьявольской подмогой нумидийские и мавретанские агонистики сумеют войти в сношения, снюхаться с родственными им по еретическим суесловиям евионитами и назореями. Ни к чему доморощенным африканским еретикам лишние соблазны, как бишь подтверждающие их ложь в сомнительных и произвольных кодексах, завезенных из жидовствующей Палестины.
В то время как для самого себя и немногих избранных, какие бы там они ни были разноречивые религиозные сочинения, епископ априорно не объявлял подозрительными, темными, недостоверными и подложными. Ибо грамотному верующему человеку, свободно владеющему актуальной грамматикой и ученой риторикой, от Бога дано искусно и научно отделять пшеницу от плевелов, а овец от козлищ в любых манускриптах человеческих. Это искусство даже можно назвать по Аристотелю Стагириту греческим словом «герменевтика».
Поэтому-то во всевозможных странных апокрифах человеку разумному с Божьего соизволения зачастую по силам высмотреть малые горчичные зерна религиозной истины. Если уж в таких книгах слишком мало боговдохновенности и богооткровенности, каковая недостаточность не позволяет им войти в церковный священный канон, то там в достатке наличествуют несомненные богословские, ценные исторические или же политические сведения для людей пытливого ума и рассудительного правоверного понимания.
Правомерно и всемерно, Аврелий Августин отдавал неоспоримое преимущество письменным свидетельствам перед устными. Хотя на собственную память старался не жаловаться. И не уставал благодарить Бога за то, что в дороге ли, в доме своем или во время проповеди ему легко приходят на ум аргументы, акты, факты… Пусть и не всякий раз дословно вспоминается какой-нибудь канонический или апокрифический опус, — епископ начал мысленно перебирать многочисленные буквальные доводы, подтверждающие течение его рассуждений…
К мысли присно помянуто: встречаются в апокрифах тоже истинные логии Христовы, как на грех, не вписанные ни в одну из благовестных священных книг, коллегиально и синодально одобренных епископами к церковному и богослужебному употреблению. Например, достопамятное поучение Спасителя о поселянине, пашущему в субботу свое поле, тем самым нарушая фарисейское предание, каковое сугубо от людского сообщества, а не от Бога, трактует седьмой день. Трудящийся в субботний день благословен, говорит Христос апостолам, коль знает, почему он это делает, и проклят навеки, если не ведает, что творит по невежеству своему. Не человек для субботы, но суббота для человека.
Оттого и просил Сын Человеческий у Бога-отца великой милости и небесного прощения для римских палачей, предавших Его крестным мукам. Ведь их грех и вину глубочайше усугубляли неведение и незнание.
Невежество епископ относил к числу смертных грехов и пороков, присущих роду людскому от ветхого сотворенного Адама, соблазнившегося от незнания того, что добро есть смиренное исполнение воли Божьей, а зло состоит в горделивом противлении предначертаниям Вседержителя. Ибо Древо Жизни, от коего урочно стали отлучены безрассудные Адам с Евой даровало не только бессмертие их смертным телам, но и постепенно приобщало сотворенные из праха земного незрелые и скудоумные человеческие сердца к малой толике необъятной Премудрости Господней, в их потомстве доступной всем разумным душам, так же нуждающимся в определенном образовании и примерном просвещении через пророков, учителей, истолкователей.
Темное людское невежество и безумное отрицание предопределенной Божественной Премудрости были и будут по сути первородными грехами бестолкового человечества, — пришел к заключению епископ, определив по высоте солнца и отклоняющейся тени посоха первый час пополудни. Он одобрительно кивнул собственным мыслям и центуриону Ихтису. К месту дурных событий и суеверных предзнаменований они подъезжают вовремя, соответственно намеченной воинской стратагеме.
Центурион Горс Торкват четко и молодцевато вознес честь виноградным жезлом епископу Аврелию Августину. Он не меньше подчиненных ему контуберналов и командиров тевестийской конницы удовлетворился тем, насколько благополучно, без потерь и происшествий они прибывают в горную долину, где почти что войсковым станом расположились кузнечные и оружейные фабрики близ Тевесты. Если с нами Бог и святой человек Аврелий, то кто против нас?
В свою очередь епископ почти по-военному рассудил несколько иначе. Больше 50 миль за 6 часов по хорошей римской дороге — вполне приемлемо для перехода, не слишком утомившего животных и людей.
И в Тевесту хорошо бы накоротке заехать, чтобы огласить словом истины и миролюбия тамошний клир и притч церковный, повадливых на ереси донтатизма и пелагианства. Сколь уместно вспомнить натурфилософа и метафизика Аристотеля, епископ Фаворин нам, безусловно, друг, но истинная правда стоит дороже иных друзей — лицемерящих донатистов и пелагиан. Вероятно, о философской истине ведать не ведал римский прокуратор Понтий Пилат, греческой поговоркой отмывая руки, обагренные кровью Спасителя. Вон и досточтимый тевестийский прелатус Сильвий Фаворин воистину рад спихнуть нечистоту подале, позабыть о грязнейшем богохульном убийстве пресвитера-миссионера Тротима и трех монастырских братьев.
Для чистых все чисто…
В старом военном каструме лимитатов, ставшем дымным, загрязненным и шумным южным оружейно-кузнечным производством Африки, епископ Аврелий и его внушительное сопровождение надолго не задержались. Поговорив наедине с тощим прохвостом в монашеском одеянии, подобострастно ему кланявшемуся плешивой трясущейся головой, епископ отдал распоряжение всей вооруженной силой двигаться дальше в соседнюю долину на виллу управляющего, ведающего многообразными гражданскими делами, включая людей, животных и рабов, добывающих железоделательное сырье.
КАПИТУЛ III
Шестой и седьмой дни в февральские ноны. Железорудные копи Ферродика.
Благороднейший провинциальный эквит Флакк Секстиллиан Магон превосходно управлял имперскими железными рудниками Ферродики, безраздельно владел необозримыми землями в предгорье и за горами, а также значительной половиной всего тевестийского металла-орикалькума, идущего на оружейно-кузнечные нужды южного лимиса. Потомственный римский всадник-эквит Флакк Магон славился неисчислимым богатством, изнеженным сибаритским образом жизни и, как ни странно, приверженностью ученым натурфилософским занятиям, в том смысле, в каком их определил Лукий Анней Сенека.
Однако достославный Флакк из Тевесты именовал себя отнюдь не языческим философом-стоиком, а последним римским эпикурейцем-эмпириком, практическим физиком и физиологом. Притом столь несхожие по взглядам первенствующий в Нумидии престарелый епископ Мегалий из Каламы и сравнительно молодой предстоятель Тевесты епископ Фаворин вовсе не отказывали ему в номенклаторском звании добронравного христианина и великодушного жертвователя на Церковь Христову.
— …Признаться, мой просвещеннейший прелатус Аврелий, мне не составило неимоверных усилий доподлинными цитатами убедить добрейших епископов Мегалия и Фаворина в том, что Эпикур был гораздо большим и лучшим христианином по сравнению с Платоном, кого наши достопочтенные теологи вот-вот запишут в языческие апостолы веры Христовой либо же уравняют в правах с ветхозаветными израильскими пророками.
Тем не менее тебя, Аврелий, в том уверять я не дерзну. Если с удовольствием, воистину с эпикурейским наслаждением, прочел, как ты око за око, зуб за зуб ветхозаветно распатронил академиков Порфирия и Плотина. Ни-ни-ни, не посмею… не с тобой, мой преподобнейший сотрапезник и собеседник, мне, недостойному и скудоумному, тягаться в богословском полемическом диспуте…
Застольной беседой с образованным и радушным гостеприимцем Аврелий искренне и душевно наслаждался, может статься, и радовался ей в глубине души, не подавая о том виду. Кесарская роскошь и царская пышность жилища Флакка ему не досаждали и не беспокоили. По-настоящему умному человеку можно снисходительно простить очень многое, коли он духом силен, состоятелен и праведен в истинном католическом вероисповедании.
Как мирское богатство, так и апостольская бедность в равной степени дозволительны людям от Бога мудрым, понимающим в познавательном обетовании Его. Ибо богаты они прежде всего духовно и познавательно. Раз так, то и не имеет нарочитого значения прикладывается ли малейшая дробная частица телесного и плотского или же она вычитается из огромнейшей суммы их веры, мудрости и понимания.
Обедали и беседовали два именитых нумидийских мужа Аврелий Августин и Флакк Магон только вдвоем в прихотливо и затейливо разубранном триклинии горной виллы Ферродика. Прислуживали им за столом лишь двое молчаливых рабов — нет, скорее, оба вольноотпущенники. Оба почтенного возраста с важными лицами и пристойной обходительностью, знающих себе цену и достоинство верных незаменимых клиентов могущественного хозяина-доминуса.
В третьих сотрапезниках присутствовал кот Гинемах, но по причине скотьей бессловесности и природной кошачьей сознательности в застольный ученый разговор он тоже не вмешивался, мясных запашистых кусков не выпрашивал, на закуску удовольствовавшись плошкой овечьего молока и летним теплом в доме.
— …У меня дома в Ферродике круглый год царит вечное райское лето, потому что подается термальная подземная вода, и жилые покои отапливаются тождественно тепидарию в моих домашних термах. А холодный водопровод из медных труб и клоака мною проведены и на поварню для рабов…
Насчет того самого гостеприимного патрона умный кот Гинемах крупно ошибся, поначалу приняв его за раба или бедного клиента. Поскольку доминус Флакк вышел встречать почетного гостя с мрачной недовольной миной в кожаном переднике, сквозными дырами прожженном в чертовой дюжине мест, в грязнейшей вонючей рваной тунике, измаранной чем-то дурнопахнущим и для тонкого кошачьего нюха, и отвратительно грубому человечьему обонянию.
Как ни странно, отвратный человек-фабер с явно хозяйской повадкой ничуть не демонстрировал фальшивого рабского избыточного почтения и угодливости к высокочтимому гостю. К тому же нарочно не скрывал лицеприятного доброжелательства к доминусу Аврелию, начал обаятельно улыбаться, поглаживая себе по кругленькому животику, как если бы он уже в меру сытно и вкусно отобедал. Хотя приветственную речь держал без церемоний, с легкой насмешкой:
— Будь здрав, святейшей прелатус Аврелий! Идем поскорее в мои непритязательные деревенские термы. Нам с тобой станет не лишним омыться. Тебе, преподобнейший, — с дороги, а твоему малопочтенному гостеприимцу, небезызвестному рудничному операрию, фаберу, металлургу и демиургу Флакку — после зловонных демонских опытов с камнями, металлами и едкими жидкостями.
Касательно неприхотливости и сельской незатейливости в его банях демиург и воистину тавматург Флакк подпустил немалую риторическую литоту, сколь скоро пренебрежительное уничижение превосходит иную гордыню. Пожалуй, его банное сибаритское обрамление дивно напоминает по убранству и удобствам римские термы принцепса Каракаллы. С той лишь разницей, что тут богатейшее мраморное великолепие, чудесный артистический комфорт, щепетильная изысканность высокой культуры предназначены услаждать присносущий минимум избранных гостей, но совсем не толпы несметные плебеев и патрициев, оптиматов и популяров, по-республикански общенародно и представительно смывающих человеческую вонь, грязь и усталость в самых знаменитых и раздольных банях Вечного Города.
По-легионерски отдавших ему воинскую честь центурионов Горса Торквата и Бебия Рифина, командира тевестийской турмы, Флакк также просил пожаловать к банному отдохновению после утомительного перехода. В термах он на обоих пронизывающе глянул маленькими заплывшими глазками, точно опытный ланиста, покупающий на рынке крепких рабов для гладиаторского обучения.
— Тебя, тевестиец Рифин, знаю. Ты и твоя фамилия — западные белые мавры из рифского племени. Вы вместе с тем черны, худощавы, тонкокосты, с редкой растительностью на подбородке и в паху, — физиологически определился с первым предметом изучения бесцеремонный наблюдатель человеческой натуры.
— А ты кто таков, рыжий волосатый варвар с римским когноменом? — так же бесцеремонно обратился хозяин к Горсу. — Мощным телом и тонким волосом ты похож на тевтона или свева. Но чертами лица — будто бы кушит широкоскулый?
— Я из венедов, светлейший эквит Флакк.
— Понтийский тавроскиф?
— Почти в точку, светлейший. Но родился я в верховьях Борисфена. Себя мы называем племенами родичей-фамильяров и кровичей-сангиалов.
— Желаю всем венедам и маврам здравствовать в мирном доме моем.
Еще раз пристально осмотрев здоровые мускулистые тела воинов, до пота упражнявшихся с набивным мячом в палестре, разминая мышцы после многомильного конного транcкурcа, ученый хозяин передал их на попечение рабам бальнеаторам, полностью утратив к ним какой-либо научный интерес. Потому как в теплом аподитерии, где положено раздеваться перед банными процедурами, его ждал гораздо более интересный и желанный объект далеко не праздной любознательности.
Тем временем Аврелий сам не без интереса сквозь колонны перистиля наблюдал за невысоким толстячком Флакком, мячиком катавшемуся туда и назад.
Со всем тем роскошная обстановка в аподитерии не вызвала у гостя большого любопытства или чрезвычайного восхищения. Штучный коробчатый потолок, обшитый красным деревом и слоновой костью, в квадратах из снежно-белого алебастра с розовыми баснословными птицами оставил его равнодушным. Не впечатлили Аврелия и сверкающая плотно-мельчайшая мозаика на полу, изображающая играющих в морских волнах дельфинов, мифических тритонов, и полированные кипарисовые скамьи с мягкими подушками… Разве только большие потолочные окна в бронзовых рамах с очень тонкими и немыслимо прозрачными зеркально сверкающими стеклами громадного размера ненадолго задержали его взгляд.
Еще менее он склонялся к тому, чтобы чересчур долго в женских подробностях рассматривать на деревянной стене исполненную ярчайшими восковыми красками языческую демоницу Венеру, неприлично оседлавшую двух морских кентавров. Промежное детородное мужество у обоих налицо. Подобно же и венерическая женственность непристойно зияет разверстой темно-красной расщелиной, соотносительно в колорите напрягшимся багровым сосцам мелкого, почитай козьего вымени.
— …Извини, преподобнейший, за малопристойную сатиру в моей банной энкаустике. Но это я в минуту мужнего гнева повелел своему Апеллесу изобразить в живейшем сходстве мою дражайшую супругу Анаскеву Эпону, то есть благороднейшую Юлию Асдрубалику и двух ее записных любовничков. Получилось очень натурально и детально, так как у него достопочтенная матрона Юлия доныне вызывает сходные с моими душевные чувства.
Чуть лучше Апеллес относится к моей персиянской наложнице Катаскеве Эпоне, за милую душу жаждущей быть при мне кем-то вроде многомудрой Аспасии Афинской. Хотя раздвоенное естество промеж бедер он тоже ей полностью обнажил, слегка погрешив против курчавой истины. Зато груди мой искусный Апеллес ни той, ни другой блудницы не преувеличивал и не преуменьшал. Реально видишь, у морской Венеры они в большом дефиците, а шлемоблещущей Минерве ее обнаженное изобилие и за щитом не укрыть. Ни больше и ни меньше…
Заметив, как Аврелий поморщился, Флакк поспешил его уведомить:
— Прошу не тревожиться, прелатус. С обеими ослицами-эпонами ты можешь встретиться лишь в нарисованном образе. Чрезмерно болтливую, грудями потрясающую девицу Катаскеву я отослал в Тевесту. Тогда как Юлия давным-давно удельным домом живет в Картаге и, прямо скажем, благодаря тебе вот уже шесть лет ведет набожный и добродетельный образ жизни.
В один прекрасный день дал я моей Юлии Эпоне прочесть твою величайшую и правдивейшую «Исповедь». Нисколько не ожидал, однако ж моя похотливая языческая ослица одумалась, образумилась, покаялась и вдруг телесно и духовно окрестилась. Истинно переродилась чудотворно! Говорила: ей до скончания времен захотелось стать для нашего сына Гая той, кем для тебя была твоя незабвенная мать, помяни ее Господь в царствии Своем, благочестивейшая Моника Августиана. Нынче центурион Гай Флакк Секстиллиан Магон славно воюет в Дакии, а его некогда блудная родительница значится среди отъявленно ревностных прихожанок базилики Господа Милосердного в столичном проконсульском Картаге.
Не буду надоедать тебе исповедью, Аврелий, — признался многоречивый амфитрион, истекая обильным потом в жарком кальдарии, также отапливавшемуся кипящими подземными водами, — не банное это дело принуждать гостей вспоминать о чинах и званиях.
Однократно хочу тебе сказать, родители женили меня очень рано, считай в несознательном подростковом возрасте. Невесту выбрали по богатству и знатности рода среди старинных пунийских фамилий. Увы, сам знаешь, добродетель и благородное происхождение далеко не всегда одно и то же.
Льстецы-клиенты выводят мой род от некоего тайного незаконнорожденного сына Дидоны и Энея. Надо сказать, эта глупейшая мифология изумительно помогла, когда мой предок, нажившийся на торговле хищными зверьми и черными нубийскими рабами, из африканского Гадрумета переехал в италийский Рим, чтобы стать откупщиком и полноправным римским латинянином. По первости публикан Секст Магон заимел латинское гражданство, а потом ему достало денег прикупить усыновление, родовое местечко в трибе и золотой всаднический перстень во времена 2-й пунической войны.
Мой отпущенник пунийский грек Полигистор Магонион много чего любопытного может порассказать о моих достохвальных предках, не превращая историю в языческие мифы и басни. На то он и Полигистор. Думаю, и о твоей генеалогии он нам поведает за обедом…
Гость не препятствовал искренним излияниям хозяина в бане. Незачем брать нить разговора, если гораздо приятнее отдаться искуснейшим рукам раба бальнеатора, лежа ничком в теплом тепидарии рядом с розовомраморной ванной-солиумом, беспрестанно наполняемой горячей водой тремя бронзовыми данаидами в золотых кратчайших туниках, высоко и бесстыдно открывающих гладкие до блеска отполированные стройные бедра…
Задремавшего гостя энергичный хозяин не посмел потревожить. Вместо этого он беззастенчиво выгнал из лаконикума двух центурионов, блаженствовавших в невиданном и неслыханном для провинции особом банном отделении, куда подается горячий очень сухой пар. Сперва загнав обоих в холодныe вoды фригидария под струи фонтана, мощно извергаемые девятиголовой демонической Гидрой, сверхподвижный Флакк затем заставил разнежившихся воинов играть в «треугольник» тяжелым кожаным мячом. Мавр Бебий с римской игрой, требующей неимоверной ловкости и сноровки, оказался хорошо знаком, зато неуклюжему венеду Горсу пришлось пыхтеть и потеть не меньше, чем в кальдарии или лаконикуме.
За атлетическую доблесть и потакание простительному капризу гостеприимца Флакк сполна вознаградил партнеров по игре. Вскоре явившиеся на звон серебряного колокольчика четыре красивые молоденькие рабыни, одетые, вернее, прозрачно раздетые по образцу египетских флейтисток, увлекли славных воителей в отдельный аподитерий облачаться в свежее платье и на обед, там же по соседству в банном триклинии.
Все и вся замечающий, никого и ничего не упускающий из виду епископ милостиво, без лишних слов простил центурионам их незначительные мужские грехи. Мысленно помолился он и за спасение душ подневольных флейтисток, вынужденных повиноваться любым приказам доминуса, в чьей безраздельной фамильной патриархальной деспотии пребывают все чада и домочадцы виллы Ферродика, их бренные тела и в какой-то мере разумные души. Любой доминус-хозяин-магистрат суть непреложный патриарх и патрон, от Бога пророчески обладающий в патримонии, в имении и владении непререкаемой отеческой властью над грешной плотью, ему подчиненной.
Потому-то не менее душевно отец Аврелий Августин, не чинясь и не возражая, отнесся к старомодной хозяйской прихоти возлежать за обедом в тогах. Ничего не поделать, коли хозяин в доме есть патрон и государь для всех без изъятия клиентов и домочадцев, включая званых досточтимых гостей. Хотя, если припомнить, в последний раз в тогу он, ритор Аврелий, облачался лет двадцать пять тому назад, отправляясь испрашивать рекомендательное письмо у строгого ревнителя языческих обычаев римского сенатора Квинта Симмака. Искомую рекомендацию у сенатора-язычника он тогда получил и предстал профессором-магистром придворной риторской школы в Медиолане.
Теперь вот, исходя из подобного уважительного отношения к чисто человеческим правилам жизни, смиренно не отказался епископ Аврелий отведать предложенных ему изысканных мясных блюд. Пусть по монастырскому обыкновению скоромной пищи он избегает, довольствуясь овощами и фруктами, все-таки ему пришлось отдать кое-какую гастрономическую дань уважения белому мясу страуса, в натуральную величину запеченного и нафаршированного более мелкой дичью.
— …Телесная натура в качестве видимой твари Господней нам многое чего способна подсказать, мой преподобнейший Аврелий, — не прекращал забавлять многоуважаемого гостя мудрой застольной беседой Флакк, никуда не выходя из роли радушного амфитриона. — На меня глянуть — здесь и сейчас видно, — торгаш-пуниец из семитов, типичный сидонянин. Так как мал ростом, толст, волосом черен и кучеряв.
Ты же — смугл, сухощав, поджар и высок, волос прямой. С виду несомненный номад-пастырь из гетулов.
Вот и с посохом пастырским ты и на пиру не расстаешься. Жезлом железным пасет он стада свои. Истинный гетул никогда не оставляет оружие в небрежении, вдали от себя. Думаю, и учительская ферула была в этих жилистых руках не менее грозным орудием умственного труда в твою бытность грамматиком в Тагасте…
До сих пор застольная беседа гостя и хозяина велась в основном по-латыни с небольшими вкраплениями греческих слов. Например, если требовалось эдонэ без италийского придыхания растолковать как наслаждение у африканского компатриота-киренаика Аристиппа, а эвдемонию грека Эпикура привести к латинскому пониманию блаженства у римлянина Тита Лукреция Кара. Однако же насытившись, Флакк цельным образом перешел на хорошее аттическое наречие.
— Радуйся, Аврелий, и позволь познакомить тебя с моими ближними друзьями, вызвавшимися нам прислуживать за столом добровольно. Уверяю тебя, без малейшего принуждения с моей стороны, только лишь удовольствия ради услышать мудрость из первых уст отца и учителя Xристoвoй Церкви в Африке, прeславного епископа Августина Гиппонского.
Так вот, Полигистор Тавтал Магонион — мой библиотекарь, архивист, книжник-переписчик. Полукровный раб-пуниец из Утики, по матери беотийский грек. Когда-то учил меня латинской и греческой грамматике, скрытно от семьи — пунийскому языку и нашему древнему письму. По смерти отца отпущен мною на волю. Страстный собиратель старинных папирусных свитков и новейших пергаментных книг. Ради них частенько способен оторвать толстый зад от мягкого кабинетного ложа и трястись на повозке куда угодно в любую непогоду в самую далекую даль.
Среди моих дальних и ближних рабов и колонов — одновременно Аргус и Линкей. Издалека всех видит и молча сторожит.
Обычно не слишком разговорчив. Но если уж его исторически прорвет, только держись — смоет и утопит в бурном словесном потоке на множестве языков.
Упитанный пуниец солидно поклонился гостю, не нарушив прежнего молчания, и скромно отошел посторонь, уступив место сухопарому седому египтянину.
— Ну а этот старый живчик есть Апеллес Такем Магонион, бывший рудничный раб, ослиный погонщик. Мальчишкой разрисовывал и пачкал все, чего ему под руку подворачивалось — мелом, углем, чернилами, красками. Как-то раз испортил лист ценного папируса, злодейски похитив его у квестора, проводившего людскую перепись в Ферродике. Но был милосердно прощен, потому как изобразил моего отца с очень сильным живым подобием. Нынче мой главный помощник в натурфилософии и физиологии, бесподобный знаток руд и камней, неслабый лекарь-хирург и травник-врачеватель.
Имеет неодолимую склонность к сверхдальним странствиям, едва-едва переносит оседлую жизнь. Добирался аж до эфиопской земли Агисимбы, где начинаются южные болотные леса.
Не смотри, что родом он египтянин. Обращению с восковыми и масляными красками учился у живописцев эллинской Кирены. После же отважно грабил языческие проклятые погребения у египетского пустынного Лабиринта, доказывая, у кого и когда хитромудрые греки позаимствовали живописное художество.
— Радости тебе и блаженства, преподобнейший Аврелий! Но нижайше прошу дозволения не согласиться с твоим досточтимым, но в корне ошибочном мнением о театральном миметическом ремесле. Идеальное подражание жизни и благочестивые анагнорисы очищают людские души от плотской скверны. Ибо катарсис…
— Потом, потом, изложишь твои гистрионические соображения, мой красноречивый Апеллес Такем Магонион — отмахнулся от египтянина хозяин. — Прежде бери, чего тебе приглянулось из еды, наливай до края чашу любого вина и плотно насыщайся. Не то Аврелий нехорошо подумает, будто я тебя голодом морю. Или того хуже: мол, не ест, не пьет, истинно в нем бес.
Евангельскому увещеванию египтянин-вольноотпущенник охотно подчинился. Тогда вперед выступил грек с глубоким церемонным поклоном и длинным свитком в руке.
— Святейший иерарх Аурелиос! Не откажи нам в великой милости, дабы принять в дар нашу «Краткую историю и полную географию Африки». Ибо мы, пунийцы, некогда совершили кругосветное путешествие по приказу египетского фараона… — начал было углубляться в историю Полигистор, но вовремя спохватился, — так прими этот кcениолум, святейший, с небольшим нашим дополнением «Знаменитые мужи Нумидии». Ведь тот, чье имя наш список открывает, достоин безусловно гораздо большего почета…
Чувствовалось, что неимоверно лестный подарок, под стать всему остальному, включая само появление достохвального гостя в Ферродике, изобретательно подготовил и обустроил гостеприимный хозяин-демиург Флакк Секстиллиан Магон. Он же и распорядился:
— Расскажи, мой проницательный Полигистор Тавтал Магонион, будь любезен, чего там тебе удалось разузнать о происхождении достопочтенных куриалов из фамилии нумидийских Августинов.
— Увы, нам, увы, мой игемон Флакк! Весьма и весьма недостаточно для достойного прославления известнейшего и выдающегося содеятеля Церкви Христовой в западноримской Африке.
Если основываться на когномене, святейший прелатус Аврелий, — перешел на латынь ученый пунийский грек, — твое патримониальное наследие берет начало от одного из гетульских отпущенников кесаря Октавиана Августа.
Как известно, принцепс Октавиан повсюду скупал маленьких красивых мальчиков-рабов, чтобы в их простодушном обществе за немудрящей игрой в камешки или в чет-нечет отдыхать от державных забот. О каких-либо посягательствах на их невинность римские историки единомысленно чего-либо предосудительного не сообщают, в отличие от сведений о мерзких забавах с малолетними спинтриями его наследника кесаря Тиверия.
Личные рабы принцепса Октавиана Августа, как правило, получали хорошее образование, и в дальнейшем немалое их число занимало видные дворцовые должности и административные посты в канцелярии империума.
Предполагаю, некий кесарский отпущенник Августин вернулся на родину в Гетулию и затем поселился в проконсульском Картаге. Поскольку ставшая в течение веков нумидийской фамилия Августинов там также насчитывает несколько ветвей, среди которых имеются многоуважаемые куриалы и декемвиры.
В истории города Картага, который готские варвары именуют Карфагеном, многие гетулийцы, например…
— Благодарю тебя, мой Полигистор, — предусмотрительно прервал историка-логографа хозяин и прищурил левый глаз на домашнего художника. И тот его не замедлил уразуметь.
— Думается, Флакк, мне пора начать делать углем наброски для иконографики нашего святейшего и славнейшего гостя из Гиппона.
— Ничего не попишешь, прелатус Аврелий, — подчеркнуто безразлично пожал плечами патрон Флакк, — Апеллесовой черте должно следовать во всякое время, когда Бог ниспосылает вдохновение малым творцам-демиургам от мира телесного.
В это же время мне было бы желательно рассудить о некоторых печальных делах и грустных обстоятельствах, каким я обязан нашему радостному знакомству. Впору нам открыто поговорить о твоей, думаю, душеполезной, изгоняющей скверну епископальной миссии в Ферродику.
Мои верные агенты и секретари Полигистор и Апеллес обо всех наших таинственных рудничных пертурбациях и рекогнициях прекрасно осведомлены, однако им тоже станет нелишним, ибо этого требует дело, повторно выслушать мое познание нашей с тобой сквернейшей проблемы, мой высокочтимый прелатус Аврелий Патрикиан Августин из Гиппо Регия.
Полигистору и Аппелесу известно, почему я нарочито вызвал тебя в Ферродику, воспользовавшись мои давним знакомством с кесарским комитом Маркеллином, августейшим викарием африканским. Да хранит Господь его земные дни и труды!
Да вот еще, признаюсь в душевной открытости, пришло мне на ум лицом к лицу познакомиться с тобой. Да вот подходящего повода для путешествия в далекий Гиппон я никак не мог отыскать по скудоумию своему. Ни тебе ноэтики, ни ноэсиса, выскажемся по-гречески в понятиях Аристотеля Стагирита.
— Я догадываюсь о том, благороднейший Флакк. И о недавнем посещении моей монастырской библиотеки твоим секретарем греком Полигистором, прибегшем к чужому имени, мне также ведомо. Он немало переписал у нас себе на таблички.
Доверие к доверию, обведем в картуш по-египетски, — епископ пристально посмотрел на египтянина с греческим именем. — Твой Апеллес, Флакк, искренне и благочестиво внимал моей проповеди на рождественской мессе, если я не ошибаюсь.
— Ты не ошибаешься, прелатус Аврелий, — подтвердил за вольноотпущенника патрон Флакк.
— С нашими небольшими неприятностями мы бы, наверное, как-нибудь справились и без твоего высокоценимого мною участия. Все же приятнейшая возможность иметь личное общение с тобой и необходимость укрепления святой веры Христовой вынудили меня прибегнуть к твоему всемилостивому содействию, твое святейшество прелатус Аврелий Августин. И церковь Гиппо Регия, на мой взгляд из южного далека, должна в скором времени первенствовать среди католических епархий Нумидии.
Последнее доверительное и панегирическое заявление епископ Аврелий принял к сведению, как-либо опровергать и ханжески отвергать предсказание эквита Флакка не стал. Первоначально стоит подробно выслушать всех свидетелей, оценить свидетельства и лишь потом принимать или решение или же решительные меры по искоренению богомерзкого, предположительно, языческого бесчиния.
— Все началось, Аврелий, в октябрьские иды, когда молодую поселянку из семьи свободного колона-углежога растерзал и пожрал медведь.
Ну медведь, так медведь. Казалось, ничего странного, коли живем в горах и в лесах. Ан нет! Мой рудничный раб-надсмотрщик из крепких ливийцев — хороший охотник и следопыт — усмотрел-таки кое-какие несообразности в таком обычнейшем деле. Он-то и выявил — оказывается, не глядя на обилие медвежьих когтистых следов на земле, орудовали там так-таки люди железными клыками.
Я лично и налично исследовал внешне и анатомически мертвое тело. Действительно, поселянкой всласть неоднократно попользовались по-мужски, переполнив ее глубокий женский сосуд не медвежьим, а человечьим семенем.
Второй жертвой в ноябрьские календы оказался мой тевтонский наемник из рудничной стражи. Его тоже якобы задрал плотоядный медведь. И опять же железными когтями, как определил тот зоркий ливиец.
До общеторгового дня в ноябрьские нундины мой прозорливец не дожил. Его подстерегли и настигли в укромном уголке у теплого источника, когда ливийский раб упоительно предавался мужественным утехам с горячей рано овдовевшей невесткой одного моего пунийского колона-рудознатца.
Обоих сладострастников застали врасплох, связали, заткнули рты их же платьем. Женщине надрезали передний проход, мужчине — задний, и обоим натолкали внутрь куски негашеной извести, хорошо заправив ее уксусом. Оба умерли в страшных мучениях. Но женщина оказалась поболе живучей, нежели мужчина. Червем доползла до дороги, где ее подобрали ночные конные стражники. В предсмертном бреду твердила о каких-то медведях.
Тут уж я всерьез забеспокоился. Четыре человеческих смертоубийства за полмесяца — это уж слишком. Притом заметь, Аврелий, трое оказались крещеными христианами католической православной веры, только тевтонец из ариан.
Слушок пошел среди рудничных, и особенно, промеж кузнечных язычников о медвежьем божестве, питающемся-де христианской плотью. Да и две последние смерти взывали к нехорошим мыслям. Не так ли, мой Полигистор?
— Истинная правда, мой доминус Флакк, если пытку с известью и уксусом применяют агонистики. Они ее каким-то образом переняли от еврейских разбойных шаек, которые бродят в Ливийской пустыне.
Евреи такую свирепость впервые измыслили во время давнего мятежа Бар-Кохбы в правление кесаря Адриана…
— Не надо нам стародавней истории, Полигистор! — оборвал было вольноотпущенника патрон Флакк. — Приступай ближе к нашему отвратному языческому делу.
— О нет! Извини, светлейший, — право жe, не уступил патрону клиент, воодушевившись любимой темой. — Но его святейшеству Августину будет полезно знать, отчего нечестивые евреи назвали тот свой мятеж Йом-кипур, то есть Судным днем. Во многообразии дьявольских изуверских пыток обрезанные иудеи превосходят другие народы. Вон у Иосифа бен-Маттафии мы можем узнать…
— Довольно, о многознающий Полигистор, — на сей раз историка мягко, но непререкаемо остановил епископ, — c тщеславными россказнями римского иудея Иосифа Флавия я давно знаком. Но мне покамест неведомо, хорошо ли ты и твои доверенные люди, пуниец Полигистор, искали еретиков в Ферродике и в местностях, окружающих оружейный каструм?
— К сожалению, святейший прелатус, никого из богомерзких мятежников или их пособников нам не удалось выявить, преподобнейший Аврелий, — огорченно развел руками пунийский грек. — Среди закованных рудничных рабов таких сейчас нет ни одного.
Между тем нищебродствующие на севере киркумкеллионы и бунтовщики-агонистики от посещения наших южных мест старательно уклоняются. Так как здесь их своекорыстно отлавливают горные номады и тех, кто не носит на левой ягодице рудничное клеймо «F», продают далеко на юг за Ливийское болото черным кочевым племенам…
— Со всеми местными горцами-скотоводами у меня договор, Аврелий, — счел необходимым пояснить Флакк. — Зимой в горах никому не выжить, а летом на горных пастбищах номады зорче зоркого стерегут своих овец и лошадей от людей и зверей. Бывает, пригоняют клейменых беглецов или опрометчивых отпущенников и отпущенниц назад с голым задом, если их одежды они берут себе за труды и хлопоты.
Невзирая на то, мой проницательный Полигистор бросился ретиво искать зловредных агонистиков на рудниках и на кузнечной фабрике. То же самое нам ненавязчиво подсказывал и епископ Фаворин из Тевесты.
К тому же, от медвежьих когтей едва спасся отважный тевестийский проповедник Тротим. Услыхал рев горного медведя или еще какого-нибудь зверя и припустил со всех ног. Насилу отдышался, когда добежал до рудничного лагеря готских стражников. Забыл аж, что он донатист, а они — арианской ереси. Налицо злой судьбы он не избежал, но о нем после, если о мертвеце можно изречь мало чего хорошего.
Не знаю, как сказать, усердно постарался, перестарался ли, или же, напротив, не проявил надлежащего усердия мой Полигистор на руднике и в каструме в поисках убийц. Однако среди раскованных рудничных рабов двоих подозреваемых в звериных проделках он сыскал.
В цепях и на цепи у меня работают далеко не все, Аврелий. Притом, согласно обычаю, какой завел еще мой дед, три года честного рудничного старательства дают право на гражданскую свободу всякому, кто ее заслуживает. А неисправимых преступников и бессрочно наказанных хозяевами строптивых рабов я у себя на руднике не держу.
Вольным от Бога даруется воля, а по грехам — рабский труд и страдания.
Таким вот образом от двух галлов под пытками добились признания в бесчестных похотливых насилиях над женщинами и мужчинами. Нашлись и звериные шкуры и медвежья лапа с железными когтями. В Тевесте в эти же шкуры убийц зашили, отдав на растерзание стае голодных пятнистых гиен во время народных гуляний и театральных представлений на сатурналии, как язычники по сей день называют празднества Рождества и Крещения Христова.
Пока одержимых похотью насильников не казнили языческой казнью на радость тевестийского простонародья, ни одного смертоубийства в Ферродике не случилось, — Флакк отпил разбавленного вина из стеклянной чаши на золотой ножке и посмотрел на Полигистора. — Дальше тебе продолжать, о мой вдумчивый историограф современности.
— На третий день в январские ноны ближе к закату на доисторическом жертвенном камне под древним дубом было найдено тело 14-летней девочки, — тотчас же, с недрогнувшим лицом вольноотпущенник принялся живописать подробности еще одного убийства. — Не знаю, живой или мертвой, но отроковицу с разрывом промежности от одного девичьего отверстия до другого тяжко обесчестили. Из-под ребер вырвали сердце и печень, разложили на камне, а все кишечные внутренности растянули по дубовым ветвям.
Спустя пять дней, едва рассвело, в первый день на январские иды на том же камне обнаружили похожим образом освежеванные для ауспиций тела молодой рабыни и ее двухлетней дочери. И та и другая окрещены по христианскому обряду, как и маленькая Лоллия, дочь иллирийского стеклодува, умерщвленная ранее. И опять же вокруг древнего жертвенного камня, священных для язычников источника и старого дуба, в большом числе имелись медвежьи следы, преподобнейший Аврелий…
Словоохотливый пуниец вдруг замолчал, словно бы подыскивая уместные слова.
— Вот так, Аврелий, мы очутились между святыней и камнем, — вновь повел речь патрон Флакк, придя на помощь клиенту, явно затрудняющемуся, что же говорить дальше. — Истинно сказано, когда б к месту воспользоваться излюбленной поговоркой нашего с тобой учeнейшего соотечественника Апулея из Мадавры…
Помрачневших гостеприимцев, погруженных в убийственное изложение, епископ внимательнейшим образом неотрывно выслушивал. Каждого он удерживал участливым взглядом, поощряя к рассказу. Не беда, если ему приходится самостоятельно подливать себе вина, разбавлять его горячей водой из сосуда над жаровней, тянуться за превосходнейшими фруктами, в изобилии украшающими стол. И, само собой, проницательно наблюдать за всеми присутствующими, включая молчаливого, казалось, безучастного египтянина, порывисто хватающегося то за один набросок, то за другой, третий, четвертый…
— Дело в том, мой Аврелий, — неохотно подступился к самой нежеланной и неприятной части расследовательного повествования гостеприимный Флакк, — железистый необычный камень, водоем и дуб, о которых идет у нас речь, суть последние остатки капища пунийцев и священной языческой рощи. Точнее говоря, это есть стародавнее место человеческих жертвоприношений, какие пунийские язычники, мои с Полигистором праотцы и праматери, посвящали Ваалу-Хаммону, верховному воздушному богу солнечного жара и земной богине Ваал-Аштарот, покровительнице войны, мира и женского чадородия.
Ферродика и Тевеста — исконные пунийские колонии. Здесь задолго до первой войны с римлянами наши предки добывали, медь, олово, свинец, выплавляли бронзу…
— И приносили нечестивые жертвы поганcким медным идолам, — чутко и уместно подхватил историческое слово Полигистор, — для них поставили, значится в хрониках, небесный бетил-камень и устроили тофет-кладбище.
Апеллес, между прочим, не верит, что железные камни падают с неба. Но многие натурфилософы это допускают. Среди прочего, где-то далеко и высоко какой-нибудь железорудный монолит из недр земли выбросило вулканом и подхватило бурей.
Вулканических извержений у нас в Ферродике никто не помнит, но его могли привезти черные гетулы, каких пунийские колонисты оттеснили далеко на юг за Ливийское болото. Если вот…
— Забудь об отдаленной географии, Полигистор! И приступай поближе к недавней истории, — довольно резко вмешался хозяин. — Не утомляй нашего многознающего гостя никому не нужными сведениями.
— Хорошо, Флакк. Постараюсь быть краток.
В древности места человеческих жертвоприношений пунийцы называли словом «молк». В завоеванных пунийских городах Утике и Гадрумете римляне их безотлагательно запретили, посчитав изуверской данью некоему Молоху. Но в горной Ферродике сожжение жертв продолжалось спустя долгое время после разрушения Картага. Согласно обряду, сжигали кого-нибудь возрастом до двух лет из четвертых младенцев в семье, но, бывало, богиня Аштарот удовлетворялась женскими выкидышами и нежизнеспособными недоносками.
Собой она представляла рогатую медную статую сидящей на корточках голой титанической женщины с большим животом и длинными отвислыми грудями. В пустотелое брюхо помещали живую жертву, а под седалищем, заполненным углем, разводили жаркий огонь.
Местное предание говорит, что иногда жертвоприносимого ребенка не одурманивали до беспамятства, он начинал кричать, плакать в медном чреве. Тогда Ваал-Аштарот, вероятно, посредством особых бронзовых труб принималась утробно и громоподобно реветь. При этом из ноздрей и ушей идолища валил дым, а из воздуходувной щели промеж бедер сыпались искры. Много рева и дыма принимали за благополучное предзнаменование и благоволение доброй чревовещающей богини.
Ваал-Хаммон, кому поклонялись в древнем Картаге и в Тевесте, выглядел не так ужасно и чревато. В старых пунийских хрониках этот кумир описывается в облике сидящего благообразного бородатого старца в долгополых белых одеждах, с черным высоким посохом. Усыпленных младенцев, порой и детей постарше, умеющих говорить, сжигали у него на коленях. Пепел и кости подбирали и торжественно с пением дифирамбов и гимнов хоронили на кладбище-тофете по соседству с торговым портом.
Надгробные камни и пунийские надписи на них я видел, малая часть из них сохранилась до наших дней. Имена там и впрямь детские, уменьшительные, ласкательные…
— Картаг не должен быть разрушен! — патрон Флакк прибег к старинному пуническому ругательству и вторично пришел на выручку Полигистору. Видать, изложенный им рассказ историк принял слишком близко к сердцу и припал к полусекстарию с неразбавленным крепким каламским.
— Да будут прокляты бездумные разрушители нашего города! — высказался Флакк и сдержанно продолжил ужасающую повесть далее без ярости и бешенства, нисколько не соответствующих его в принципе благодушному облику и культурнейшей обходительности.
— В ходе усугубления кровавого дикого бесчинства, мой Аврелий, мне ничего не оставалось делать после гибели маленькой Лоллии, как без промедления выставить стражу у поганого камня Аштарот. А весь рудничный эргастул заковать в цепи.
Последнюю сборную толпу рабов я закупил двумя партиями именно в Картаге.
— Тебе известно, откуда привезли этих несчастных, благороднейший Флакк? — неожиданно проявил детализированный интерес епископ.
— Большей частью галлы из Аквитании, прирожденные рабы, хочу тебе сказать, Аврелий. Людишки крепкие и чаще всего покладистые, с рудным и кузнечным делом кое-кто и раньше был знаком.
— По природе, с которою Бог изначально сотворил человека, нет раба человеку или греху, — назидательно поправил гость хозяина.
— Истинно так, прелатус Аврелий. Поэтому мною лично обещана свобода всякому аквитанскому галлу, кто ее беспорочно заслужит, не согрешит бездельем либо строптивостью.
— Исповедимо и нередко уничижение приносит пользу услужающим, — равным образом наставительно согласился епископ. — Вели объявить всем, благороднейший Флакк, на закате по окончании повечерия, благословенного частицей мощей Святого мученика Стефана, у часовни Воздвижения Креста Господня я буду исповедовать всех того желающих катехуменов и полнозначно окрещенных.
Хозяину хватило лишь одного взгляда в сторону Аппелеса, чтобы тот тут же отложил рисовальные принадлежности, низко поклонился епископу и оставил триклиний. Тем временем Флакк возобновил внешне очевидное следственное изложение, все еще требующую целого ряда неопровержимых доказательств и непротиворечивых ясных, даже очевиднейших свидетельств.
— Едва ли нам тут стоило полагаться на бдительность тевтонских внутренних стражников, мой преподобнейший Аврелий. Допускаю, два негодяя напились крепкого мерума и до рассвета всю свою четвертую вигилию мертвецки проспали в каверне у теплого источника, когда неизвестные изверги вырывали внутренности у похищенных из моего дома рабыни с дочерью. Оба охломона, кстати, клянутся, как будто некто наслал на них сонный морок, и куда-либо от камня под дубом они ни на минуту не отлучались.
Между тем совсем некстати после убийства маленькой красавицы Лоллии по всей округе поползли тревожные слухи: язычники-пунийцы принялись как бы вновь поклоняться древним кровожадным богам, принося в жертву христианских детей. Указывали и на следы детского кладбища поблизости от кровавого камня Аштарот.
Тень подозрения, естественно, пала и на меня, но более всего на Полигистора, с моего указания присматривающего за тайными язычниками-двоеверцами. В том и моя вина, если мы оба закрывали глаза на суеверные и малопристойные весенние обряды пунийских женщин, напоминающие вакхические мистерии. Время от времени на том же камне-бетиле они суеверно сжигают случающиеся выкидыши, а родовой послед и обрезанную пуповину у наших повитух в обычае зарывать на древнем тофете.
Злополучный пунийский камень я хотел расколоть, расплавить или просто сбросить в пропасть еще в декабре. Но рабы и колоны, христиане и язычники в трагедийном хоре, как один, на коленях умоляли меня не посылать их на работы к проклятому камню. Я и не настаивал, потому что надумал впотай разрушить его едкими жидкостями, да и начал понемногу воздействовать на него. Он у меня уже треснул в нескольких местах.
Но и этой малости мои всезнающие рабыни и Катаскева Эпона меня слезно просили не делать. Не приближаться-де на полет стрелы к злосчастному таинственному женскому камню, наносящему, мол, непоправимый урон крепости мужского естества и детородной силе мужества.
Как видишь, Аврелий, естественных подозрений и демонских суеверий у моих людей предостаточно. А тут еще после убийства рабыни Зенобии с потомством намного раньше подобающего перволетнего времени на старом пунийском дубе невесть почему, необъяснимо появилась молодая листва.
По другим кривотолкам, какие собрал мой Полигистор, выходит, словно бы принесение в жертву христиан угодно древнейшим природным богам. Потому, дескать, демоны или оборотни-медведи, натурально, предприняли охоту на поклоняющихся Иисусу.
Добавило пищи пересудам и новым листьям такое же ритуальное убийство пресвитера Тротима с монахами. Дескать, пунийские боги-демоны замечательно насыщаются христианской кровью, и ауспиции сулят летние дожди, высоченные травы и хороший урожай.
Какими бы они ни были донатистами и плохими католиками, проповедника и его компаньонов тайно и незаметно выкрали из усадьбы, где они остановились на ночлег. Не помогла и готская стража у дома, и часовые у зловещего камня.
Два моих надежных храбрых алеманна, приставленные к языческому жертвеннику, очертя голову рванулись за каким-то медведем. Не то оборотня, не то человека не догнали. По их словам и клятвам, непонятным образом заплутали в исхоженных горах, заблудились, охломоны, в трех соснах. Будучи под пыткой и под замком, непоколебимо стоят на своем.
В то же время готы на пристрастном допросе единодушно показали, что обнаружили исчезновение пресвитера и монахов лишь на рассвете. Причем один из них клятвенно заверяет, будто бы под утро разговаривал с самим Тротимом и получил у него отеческое благословение.
— Новейших христианских мучеников, мой эквит Флакк, должным чином помянем в середине завтрашнего светлого дня. Прикажи, будь добр, собрать к полудню всех без исключений и изъятий стражей, рабов и колонов Ферродики к месту мученической кончины наших братьев и сестер по вере. Завтра я там решил провести молебствие в нагорной евангельской простоте и природном благоволении.
Тем часом для твоих рудничных рабов, добрейший Флакк, соблаговоли наутро объявить отдых и фестивус седьмого дня Господня. Пусть себе вы еще не завели такое христианское милосердное новшество. Ибо продолжаете жить согласно старым языческим нундинам и календам.
— Послушание и повиновение, святейший и преподобнейший Аврелий…
От позднего, скажем на сиро-халдейском наречии, субботнего ужина или же, возьмем по-гречески, вечернего симпосия, епископ решительно отказался. В продолжение третьей стражи-вигилии он в одиночестве молился, укреплялся духом, размышлял, готовясь осуществить созревшее с вечера после заката непреклонное решение.
Да воскреснет Господь, и расточатся враги Его!
Скрытому быть явным, если в Ферродике среди рабов и колонов обосновалась большая шайка издавна и повсеместно в римском доминате запрещенных галльских языческих жрецов-друидов. B том епископ не сомневался и не колебался. Неопровержимо однозначными тому уликами служат предшествующие богомерзкие происшествия и магическое содействие демонов нечестивцам. Остается лишь с Господней помощью и по воле Его распознать всяческих преступников и чародеев, дабы отдать их в руки начальственного правосудия на муки и страдания. Ибо нет радости нечестивым в Граде Божием! Случается, справедливое воздаяние настигает слуг Антихриста и в Граде Земном от вооруженной силы и мышцы начальствующих лиц.
С утра епископ Аврелий Августин попросил к себе в гостевые покои владетельного эквита доминуса Флакка Магона, центуриона Горса Торквата и центуриона Бебия Рифина, облеченного судебными полномочиями тевестийского квестора. Немногословным указаниям преподобнейшего и святейшего прелатуса Гиппонского никто из них не перечил и не прекословил.
Ближе к полудню в достославный день седмицы Господней епископ не преминул лично удостовериться, насколько описание здешней местности, переданное ему очевидцами, соответствует всему представшему перед ним воочию. Истинно свой глаз — алмаз, своя рука — владыка, не без удовлетворения отметил Аврелий старой риторской поговоркой характерные черты места действия.
Посреди округлой ложбины-воронки, пологим амфитеатром вздымавшейся вверх лежал тот самый злополучный жертвенник-белит едва ли не под склонившимся к нему узловатыми сучьями кряжистого каменного дуба. В тридцати локтях от дуба небольшое облицованное красноватым туфом прямоугольное озерцо с парящей водой. За водоемом арочный свод каверны, очевидно, тоже подвергшегося обработке камнетесным инструментом.
Неправильной формы языческий жертвенник также стесан сверху. По бокам выдолблены два кровостока. В длину пунийский камень приблизительно пять локтей, три локтя в широкой части. Изножие наклонено к дубу, в изголовье выжженное место. Жертвенник вытянут с севера на юг. По всей его поверхности расползлась змеящаяся глубокая расщелина с ответвлениями-трещинами.
Отколовшийся, выщербленный, — нет, скорее, разъеденный, — немалый кусок изголовья лежит рядом. Очень заинтересованно этот факт принял во внимание епископ.
Он затруднился определить, покоится ли богомерзостный камень здесь испокон веков еще до всемирного потопа или же привезен сюда позднее. Зато Аврелий почти уверен: этот словно бы амфитеатр вокруг него есть дело стараний человеческих.
Или, быть может, демонский камень с такой силой грянул оземь с небес, что вздыбил вокруг себя исполинской воронкой-кратером скалы и землю? Однако этакое событие под видом стихийного космогонического явления Аврелий Августин определил как метеорологически маловероятное. Если о нем исторически никто ничего не помнит, то и толковать о том лишено здравого элементарного смысла. Да и в «Метеорологике» Аристотеля, ничего подобного вроде бы не упоминается…
Епископ окинул взглядом по всей вероятности рукотворное, обширное, чуть ли не кощунственно театральное местодействие, где начало скапливаться от мала до велика народонаселение Ферродики. В основном любопытствующие взрослые и дети идут своей охотой, некоторые по принуждению готских стражников, свободно или в цепях. Имеются в виду прежде всех пригнанные рудничной стражей угрюмое каторжное сборище рабов и сброд колонов из явно недовольных и боязливых язычников.
Истовые христиане спускались пониже; язычники-гентили почли за благоразумие остаться наверху, опасливо косясь на турму тевестийских всадников и прибывшую из оружейного каструма куну тяжеловооруженных легионеров, совместно оцепивших амфитеатр.
Контуберналы центуриона Ихтиса во всеоружии окружали епископа и настороженно из-под шлемов снизу вверх оглядывали толпу, устраивающуюся поудобнее на склонах, поросших редкими соснами и кедрами. Между деревьями кое-где пробивалась травяная зелень, казавшаяся тусклой по сравнению с яркими молодыми листочками, распустившимися на южной стороне дуба, обомшелого с севера, ближе к языческому жертвеннику.
Именно между камнем и дубом епископ Аврелий благоговейно с крестным знамением на окропленную кровью жертв землю поставил переданный ему Ихтисом ковчег-реликварий с частицей мощей Святого диакона Стефана, в апостольские времена побитого иерусалимскими камнями и злобствующими иудеями.
Кому время разбрасывать камни преткновения и соблазна, а иным время их собирать и строить новый храм Божий. И раздавит камень того, на кого падет он!..
Епископ воздел длани горе. Все христиане нимало не медля опустились на колени. Хотя кое-кому из непонятливых завзятых язычников готские стражники, проворно действуя тупыми концами копий, довольно быстро и популярно растолковали, чего этой публике следует делать, что здесь не театр, но христианское богослужение.
По знаку епископа контуберналы Ихтиса слаженно и звучно запели греческий восточный гимн, переложенный на латынь пресвятым и всеблаженнейшим отцом Амвросием из Медиолана. Торжественную всепобеждающую песнь истовых последователей Христовых, возносящую хвалу Ему, единородному Сыну Божьему, не замедлили подхватить правоверные католики, а за ними вольно или невольно и все остальные, собравшиеся в солнечный весенний полдень на месте древнего языческого капища.
Едва отзвучали слова гимна, как епископ приступил к проповеди. Говорил он о христианских мучениках, первым из которых предстал сам Сын Человеческий. Вековые гонения на экклесии Христовы, неисчислимые страдания и муки единоверцев, многим из них принесшие небесную радость еще на земле и неизменное божественное блаженство на небесах, — упомянул, не пряча прочувствованных слез, преподобнейший Аврелий Августин.
Как бы мы ни оплакивали мучеников, истинные духовные небеса навеки благосклонны к праведным последователям Спасителя. Оттого и помощь, поддержка в вышних поспешают к проявлению.
Почувствовав вдохновенное наитие, подпитываемое, укрепляемое, поддерживаемое единоверными братьями и сестрами во Христе, епископ в свойственных ему религиозных ощущениях сызнова в благословенной свыше неизменности призывал понимание и осознание. И его заново осенило ожидаемое прозрение. Он вновь ощущал, видел, понимал правоверие, противостоящее безверию и суеверию.
Вот оно! Грядет время отделять овец от козлищ, отсекать пораженные члены, а бесов изгонять подале от мирного стада людского туда, во тьму внешнюю, где скрежет зубовный…
Внезапно ниоткуда налетевшая темная снеговая туча, затмившая солнце, нисколько не повлияла на боговдохновенность пламенной речи проповедника. Теперь он грозит яростью Господней, потрясая черным пастырским жезлом, предрекая адские муки, вечный огонь нераскаявшимся грешникам и неверным язычникам, приносящим бесчеловечные жертвы ложным богам-демонам.
Грозно и сурово пророчествуя, пренебрегая повалившими хлопьями снега, епископ предостерегал нечестивых, угрожал пастырским посохом языческому жертвеннику, зияющему темной развратной расщелиной, словно бы по-змеиному корчащейся в адском огне, поджариваясь в обличительных речах праведного гнева.
И сгорит! Приносящий жертву богам, кроме единого Господа, да будет истреблен! И епископ что есть силы вонзает железное острие посоха в богомерзкое разветвление змеящихся трещин…
Впоследствии ни практикующий натурфилософ и физиолог Флакк, ни скептический анналист и архивист Полигистор, ни рудознатец и живописец Апеллес, сколько ни пытались, так и не смогли восстановить в памяти, в долгих оживленных дискуссиях между собой истинную картину произошедшего. Тогда как епископ Аврелий, когда его о том спрашивали, крестом складывал руки на груди, поднимал глаза к небу и кротко поминал неисповедимость бездны Промысла Господня, начисто изгладившего из людских воспоминаний краткие мгновения явленного свыше, должно быть, чудотворения, непостижного слабым и ограниченным умствованиям человеческим.
Вроде бы сначала, смутно припоминал Флакк, из пастырского посоха ударил сноп искр, и каменный жертвенник с грохотом раскололся на множество частей. Доминусу почтительно возражал Апеллес, утверждавший, что сперва ослепительно грянула молния, ударившая в дуб, сжигая дотла ветви и листья на южной стороне дерева. И она же, соединившись с железным наконечником епископского посоха, поразила пунийский камень. В то время как для Полигистора прежде разразился гром, сотрясший небо и землю, так что почти никто не смог удержаться на ногах, потом же всех ослепила молния и оглоушило страшное соударение уплотнившегося воздуха, расколовшее жертвенник Аштарот.
Зато Горс Торкват разительно, на всю жизнь запомнил, как он поддержал пошатнувшегося Аврелия Августина, уцепившегося за посох, застрявший в каменной расщелине, помог его рывком выдернуть из ножен и монолитного жертвенника, тотчас переставшего быть таковым, разом бесшумно рассыпавшегося на крупные и мелкие обломки. Опять жутко полыхнуло, громыхнуло раскатисто в небе и на земле. После того во внезапной тишине бесстрашный центурион услыхал невозмутимое, отчасти ироничное, но непререкаемое указание епископа:
— Поднимай, приводи в чувство наших дорогих контуберналов, мой добрый Ихтис. Покуда преступные нечестивцы и язычники не опомнились, отделим явленных козлищ от непричастных овец. Идем, благословясь мощью Господней, отсекать члены, пораженные скверной бесчиния и безобразия. Давай, Горс Торкват, действуй жезлом центуриона должным образом!
Но и без благословляющего на ратный труд виноградного стрекала сурового военачальника контуберналы, поднаторевшие во всяческих переделках, видавшие немало военных видов до и после сражений, самостоятельно вставали, смущенно подбирали оброненные щиты и пилумы, поправляли шлемы, амуницию…
Затем семь испытанных гиппонских ветеранов во главе с епископом Аврелием и центурионом Горсом, обнажившим длинный германский меч, мерным легионерским шагом двинулись неудержимым обходом по естественному амфитеатру среди собранных и званых, пораженных оцепенением, немотой, слабостью в конечностях и коленях. Пятерых рудничных рабов в оковах, на кого неумолимо указало сверкающее лезвие пастырского посоха, вдруг ставшего боевым копьем, для надежности добавочно оглушали пилумами двойным ударом в затылок. Двух рудничных колонов-вольноотпущенников, трех женщин и одного гота-наемника, дополнительно связав ремнями по рукам и ногам, так же волоком в беспамятстве оттащили под охрану тевестийцев, которых расторопно и немилосердно призвал к исполнению воинского долга центурион Бебий Рифин.
Снова из-за туч выглянуло яркое весеннее солнце. Под его живительными лучами чуть выпавший, не ко времени запоздалый снег растаял без следа, и сухая горная почва тут же поглотила нежданную талую воду.
КАПИТУЛ IV
Год 1164-й от основания Великого Рима.
16-й год империума Гонория, августа и кесаря Запада. 3-й год империума Теодосия Младшего, августа и кесаря Востока.
Год 410-й от Рождества Христова.
Несколько дней в февральские иды. Начало христианского Великого Поста. Гиппо Регий в проконсульской Африке.
Сразу по приезду домой епископ не отличился излишней многоречивостью или красочной риторичностью. Без видимой охоты и наглядного воодушевления вкратце, не вдаваясь в подробности, рассказал он по-орденски ближним и присным своим о весеннем путешествии далеко на гористый юг в преддверии нового весеннего года по старому, совсем не юлианскому календарю. Ему самому еще нужно немалое календарное время, чтобы все скрупулезно обдумать, ретроспективно вспомнить, тщательно поразмыслить наедине с Богом и с самим собой обо всем произошедшем, состоявшемся.
Кроме того, необходимо неотложно решить, как фактически изложить, продиктовать, преподнести, аргументировать свершившиеся Божьим предначертанием знаменательные акты в подробных письмах августейшему викарию Африки кесарскому комиту Маркеллину и преподобнейшему епископу Мегалию Каламскому, чьи противоречивые пожелания и малосовпадающие одно с другим поручения-просьбы он поистине чудом успешно исполнил ко всеобщему удовлетворению. Господи, помилуй!
Епископ Аврелий также убедительно попросил чересчур не распространяться об увиденном и услышанном контуберналов центуриона Ихтиса. Они ему состоятельно вняли — служба есть дисциплина, и наоборот. И потом плести разные басни и небылицы о случившихся чудесах и необычайных приключениях недостойно заслуженных воинов, хорошо вознагражденных за молчание в делах гражданских, церковных и экклесиальных.
Иначе чуть что, для распускающих без меры языки легионеров тут как тут наготове виноградный жезл строгого квестора ветеранов Гиппона городского магистрата Горса Армилия Торквата. Будь то даже в портовых тавернах и лупанарах, не так уж близко находящихся от центра города, славнейший центурион Горс, как бы там ни было, все равно дознается. Знать, болтунам ах как не поздоровится, кто бы и где бы они там ни были.
Он их об этом еще в Ферродике настоятельно предупредил, уведомив, что в Тевесте им делать нечего. Знамо дело, если Божьему человеку Аврелию, кого они призваны оберегать, крайне требуются отдых и выздоровление после приступа весенней перемежающейся лихорадки. Не говоря уж о необходимом излечении болезненных язв, открывшихся у него на бедрах и на шее.
Пожалуй, в Тевесту епископ мог бы и съездить, без кряхтения, стонов, вздохов и стенаний погрузившись в повозку или качалку-лектику. Обычнейшая болезнь на сей раз не доставила ему чрезвычайно неприятных ощущений и отвратительнейшей слабости тела, плотской души, очень бездарно не желающих подчиняться неизменной крепости разумного духа, даруемой Богом. При всем он телесно и душевно избрал за лучшее остаться на три-четыре дня в Ферродике, отдав должное духовное уважение целебному искусству и врачебным предписаниям того, кто его практически излечил.
Во имя Отца, Сына и Святого Духа слабосильная природа человеческая крепостью духа и веры прирастает. А с Божьей помощью физика и физиология тому наиболее способствуют. В познании сила разума коренится!
Коренному, радикальному лечению страждущего Аврелия подверг гостеприимный Флакк. Умный лекарь в том языческом амфитеатре отлично подметил, с каким болезненным и бледным видом его будущий пациент взбирался на коня. Потом же, к несчастью и на беду, два багровых чирья и на шее вспухли. Волей-неволей пришлось отдаваться на хирургическую, скажем по-гречески, милость врачевателей, как нельзя кстати случившихся вблизи бедного и несчастного многотерпеливого страдальца-пациента.
Аврелий в Гиппоне вспоминал физическое лечение Флакка с неизбывной благодарностью и любовью, молясь за его богоспасение и благополучие. Да хранит Господь дни и труды его!
Когда молчаливый раб, осторожно и уважительно поддерживая, сопроводил епископа в светлый термальный аподитерий там их уже дожидались в готовности Флакк с Апеллесом в белых египетских одеяниях, ложе, застеленное белейшей шелковой простыней; подле на столе, согласно медицинскому порядку, разложены необходимые инструменты и средства врачевания.
Апеллес в основном молчал, зато Флакк остался верен себе, не преминув многоречиво по-гречески и по-латыни прокомментировать прогресс, процесс и этиологию оздоровляющей хирургии.
— …Не будь я фабрикантом-металлургом, мой страждущий Аврелий, то беспременно заделался бы хирургом. Так как обе свободные профессии демиургически равнозначны. Медикаменты, железо и огонь готовы излечить любую болезнь в артистических руках человека, созидающего новое бытие.
Кстати, попорченные инкрустации на твоем пастырском посохе починят к вечеру.
Воздействуй от плохого к хорошему, исправляя его лучшим. Твои нарывы, Аврелий, сами созрели бы и прорвались спустя нундины к мартовским календам или к старому весеннему новому году. Но с какой это стати тебе испытывать муки и страсти совсем не Христовы? Вовсе необязательно мучиться горячкой, лихорадкой…
С попутными цитатами из Гиппократа и Галена хирург Флакк добела раскалил над воздуходувным горнилом железное лезвие-ланцет. Но с ходу жечь, резать воспаленную плоть не стал, хотя Аврелий вполне смирился с ожиданием и приходом боли. Помахивая в воздухе ланцетом, остужая его, Флакк указал Апеллесу, к тому времени закончившего промывать язвы и нарывы пациента, на плотно закупоренный хрустальный флакон.
Невыразимое облегчение Аврелий почувствовал едва ли не мгновенно: нет как нет. А голова не тыква! Xотя малость онемела распухшая шея. Зато нигде ничего не болит и не зудит. Потому особо и не заметил, как споро и ловко Флакк вскрыл гнойники на бедрах, обработал, прочистил раны, унял кровь. Между тем Апеллес проворно накладывал и закреплял кусочки болеутоляющего бальзамирующего пластыря на места, все еще пораженные гнойной болезнью. В тождественной процедуре практически безболезненно оба искуснейших хирурга артистично справились и с нарывами на шее.
— Ручаюсь, еще три дня, мой Аврелий, и ты сможешь без каких-либо неудобств ездить верхом. Думаю, и рубцы полностью разгладятся к лету.
Болеутоляющий и заживляющий пластырь Апеллес или приставленный к твоему святейшеству постельничий серв, сведущий в медицине, будут менять четыре раза в день. Секрет испаряющегося охлаждающего раны эфирного масла мой Апеллес вывез из Египта. Я же добавил в него макового сока.
Пока язвы не зарубцуются, ни в коем случае их не мочить. Захочется днем спать — спи. Это и величайший римский врач Гален нам настоятельно рекомендует.
За обедом доктор Флакк продолжил авторитетно отдавать врачебные рекомендации и предписания-прескрипты:
— Если хочешь предотвратить весеннюю и зимнюю гнойную лихорадку, питайся свежими фруктами и овощами. Не менее двух фунтов в день. Когда впрозимь мало фруктов, ешь сырую печень ягненка или теленка. В них тоже имеется природная лечебная сила.
Вижу: мясных яств ты силишься избегать, будто аскет голозадый из индийских гимнософистов. Упражнения в умерщвлении плоти не одобряю, но и не осуждаю. Но не будь тупоголовым ригористом, под стать языческим пифагорейцам-теургам, кто начисто отказываются пользоваться животной душевной жизнью.
Растения, конечно, бездушны, тем не менее, жизненная потенция в них так-таки есть. Вот и налегай усиленно на фрукты. Лучше только-только с дерева, покуда их природная сила совсем не иссякла во время дальних перевозок и долгого хранения.
Попробуй вот эти пальмовые пунийские ягоды. Их мне привозят черные гетулы-пахари с южной стороны озера Тритон. Земляничное дерево там тоже начинает плодоносить в эту пору. Большие и малые гесперидские яблоки растут к нам поближе, но они — осеннего урожая из моих береговых владений к югу от Капсы.
Аврелий с удовольствием взял в руки и аккуратно надрезал одну из крупных гесперид с оранжевой солнечной кожурой и желто-розовой мякотью в белых дольках. На его вкус сочный фрукт с берегов Тритониды оказался намного слаще тех, что нумидийские поселяне выращивают в окрестностях Константины или Гиппона.
В тот день за обедом в тевестийской Ферродике ни радушный хозяин, ни его гость, временно ставший пациентом, ни полусловом не заговаривали о делах вовсе не по причине врачебных предписаний. Не страдали они и глупыми языческими суевериями в дурацкой боязни чего-либо сглазить или как-нибудь накаркать. Всему свое время, коль скоро прежде стоит дождаться вразумительных результатов пристрастного допроса нечестивцев-язычников. Его не без вынужденной предвзятости предприняли Полигистор и центурионы в пыточном подземном застенке.
Надо полагать, — позднее сделал умозрительный вывод преподобнейший епископ Аврелий Августин, — в распоряжении тамошних слуг правосудия имеются в достатке нужные орудия труда и правды, не менее изощренные, чем медицинские инструменты и лекарственные средства благороднейшего эквита и натурфилософа Флакка Секстиллиана Магона.
— Медицина, история и натурфилософия тождественны, аналогичны в стремлении к истине, преподобнейший прелатус Аврелий, — все же после обеда обмолвился, не удержался Флакк, когда им принесли из библиотеки список известнейшего трактата знаменитого целителя Галена «О взглядах Гиппократа и Платона». — Поэтому мой добрейший Апеллес вызвался вначале помочь тебе, а потом и Полигистору, твоему Горсу и квестору Бебию в их благонамеренных попытках достоверно выяснить степень вины нечестивых убийц.
О болезненности и уязвимости бренной плоти человеческой нашему Апеллесу известно немало… Думаю, подозреваемым в преступных деяниях наверняка не поздоровится в его знающих руках.
Ко всему прочему он был очень дружески и творчески расположен к невинно убиенной маленькой златокудрой Лоллии, младшей дочери моего ценнейшего стекольных дел фабера из Иллирика. Говорил мой Апеллес, в живописном представлении именно такой должна быть Богоматерь в отрочестве, писал ее изображение, называя непорочной пресвятой девой.
Очень трогательно, если перед женщинами он благоговеет, до седых волос сохранил мужскую невинность. Это Апеллес, кстати, упросил меня оставить в покое моих пунийских матрон и девиц, предающихся непристойным языческим обрядам в первое полнолуние марта у того самого водоема.
Мальчишкой в любознательную пору отроческого созревания я подглядывал за их женским обрядовым рукоблудием, когда они пальцами нежно ублажают друг дружке груди и влагалища, омываясь после бешеных, скажем, истерических языческих танцев и кружений. Как-то раз наставник Полигистор застал за тем же рукоблудным занятием в ту минуту вожделенно подсматривающего, надлежаще надрал ему уши и отвел к отцовской любвеобильной и пышнотелой рабыне, наказав ей преподать мне уроки совместной техники и физиологии эстетического эроса мужчины и женщины.
В чем у нас дидактика и пайдейя он ей объяснил попросту, по-латыни. Всяких ученых греческих слов она не знала, но кое-чему из усвоенного в лупанарах Картага, научила и меня, грешного…
Ох, Аврелий, прошу простить глупца. Опять я тебе неуместно исповедуюсь…
Однако истина мне дороже, все ж таки ты не прав, без достаточных на то оснований рассуждая о четырех категориях темпераментума у Гиппократа. Ибо надлежащее соотношение индивидуальных черт характера людей строго привязано в генесисе к их географическому местопроживанию. Сейчас я тебе это неопровержимо докажу доподлинными цитатами Гиппократа, которые для нас записал и прокомментировал величайший Гален…
Натурфилософской беседой доминус Флакк развлекал прелатуса Аврелия до самого позднего вечера. Не преминул и покритиковать его труды, какие не так давно предоставил к прочтению патрона библиотекарь и либрарий Полигистор.
— …Ты, Аврелий, вынужден пользоваться при сочинении богословских трактатов расхожими представлениями и заблуждениями. Мне это понятно, иначе невежественная чернь и благородных кровей скудоумцы тебя бы отвергли.
Мне же нет нужды учитывать глупейшие и превратнейшие мнения скопища невежд. Потому я и заявляю: ты физически заблуждаешься, высчитывая по Святому Писанию всего-навсего шесть тысяч солнечных лет, якобы прошедших со времен Cотворения. Тут ты категорически не прав. Мир намного древнее.
В горах нам это виднее. Камни и горы разрушаются и меняются медлительно, веками и тысячелетиями, долгими эонами и эратемами. Однако изменились они с незапамятной древности поразительным образом.
Так, на горных вершинах мне случалось видеть огромные слои окаменевших в единую массу морских устричных раковин. Причем образовались они там отнюдь не в кратчайшее время всемирного потопа. Живут эти устрицы только в соленой воде, растут очень медленно. Следовательно, там, где сейчас горы, когда-то находилось море. Думаю, все возвышенности постепенно, исподволь опускаются, а равнины вздымаются к небу.
Тут несомненно прав Апулей из Мадавры в известном философском рассуждении «О мире». Со временем суша и море постоянно меняются местами…
Вот ты пишешь, будто некогда жили-были высоченные великаны. Брось ты эти языческие сказки и мифы о богоравных людях, титанах, киклопах, гигантах! В древности людишки были гораздо мельче, тщедушнее и ниже ростом, нежели в нынешние времена. Тому свидетельством старые костяные погребения и египетские мумии, какие я лично и отлично измерял вместе с Апеллесом Такемом.
Может, если и существовали допотопные колоссы, то они являлись демонами, выращивавшими себе гигантскую земную плоть. Притом, скорее всего, не человеческую, а звериную. Уверяю тебя, большие окаменевшие кости и зубы, что мы изредка находим, принадлежат не людям, а вымершим животным. В доказательство хочу сказать, что и в нашу просвещенную натурфилософией эпоху ущербные разумом дикари принимают больших африканских обезьян, обитающих далеко на юге, за лесных людей, а стада собакоголовых павианов именуют племенем эдаких кинокефалов-псоглавцев. Почитай-ка, что за вымыслы и нелепости о народах Африки не стесняются серьезно излагать с умным ученым видом древние греки Геродот, Павсаний, Страбон. Им же без каких-либо оговорок и раздумий вторит наивный римский сочинитель и компилятор Плиний Старший. А какие уму непостижные глупости написал о наших африканских землях Саллюстий!
Новые материальные и духовные истины, Аврелий, противоречат лишь дурной людской привычке ничего не знать, но не общечеловеческому разуму, устремленному к истине и познанию. Привычно скудоумные, косные в обыденности понятия, закостеневшие представления-фантазии многим дороже, чем новейшее умопостигаемое опытное знание.
А великаны, гиганты, киклопы и титаны суть безумные выдумки и вымыслы необузданного плотского воображения.
Порой, мой Аврелий, тяжким колоссальным бременем на нас лежит авторитет заблуждавшихся предков и тех, кто бездумно следует старине. Превратны мнения толпы, не умеющей отличать воображаемое от действительного, а прошлое — от будущего.
Вот отчего я пишу продолжение и критику натурфилософской поэмы эпикурейца Тита Лукреция о прагматической физике. По-латыни я ее назвал просто и неприхотливо «О новых вещах», то есть «De rerum novarum». Практика есть прагматика на земле и в небесах.
Вон практически мне бы хотелось научиться использовать силу молний для выплавки металлов. Но, как заставить небесный огонь ударять в нужное место, я пока не знаю.
Явление это природное и случайное. Только скудоумные, обделенные разумом язычники могут верить, будто бы громами и молниями владеет Юпитер Громовержец. Да и путают они звуковой шум грома с искрометным огнем, исходящим из небесных туч и облаков.
Всякая молния, по моим наблюдениям, есть исполинская искра, проскакивающая между нижним небом и землей. Когда молния поражает железорудные камни, то из такого вот сырья получается наилучшее гибкое железо.
— Ты с ним, с этаким железом хорошо знаком, Флакк?
— Более чем. Думаю, и ты тоже, если я тебя сегодня им пользовал. Если, конечно же, ты рассмотрел мой хирургический нож-скальпель.
— Заметил.
— Так вот, секрет его прост: плавим вместе руду и уголь, а силу жара увеличиваем нагнетанием воздуха. Сырой металл опять плавим. Но ковать полусырой металл приходится очень долго. Процесс длителен и трудоемок, требует сугубого кузнечного искусства-техники и умений. Потом еще надо знать, как и чем закаливать это железо, то есть резко и неоднократно охлаждать раскаленный металл.
Оружие и инструменты из него хороши, дебатировать тут нечего. Но где найти столько кузнецов-умельцев, способных вооружить гибкими острейшими мечами и копийными лезвиями хотя бы один малый легион нового времени?
А ведь еще надо уметь обращаться с подобным мечом. Мыслю, твой Горс мог бы этому научиться. Видел я, как он сегодня утром упражнялся в палестре с твоими гиппонскими контуберналами, Аврелий. Могуч, ловок и силен, хотя в треугольник играет слабо…
Во время третьей стражи Ихтис и докладывал терпеливо бодрствующему епископу подробные и достоверные сведения, полученные на допросе от преступных язычников Ферродики. О том, чтобы усомниться в благорасположении Промысла Божьего Аврелий не смел и подумать, но червячок сомнения в понимании настоящего и разумении сущего все же его беспокоил. Поэтому центуриону Горсу Торквату велено было поспешить с докладом в любой час дня и ночи, как только подтвердится уличенность и степень пособничества всех, кто попал под влияние деяний демонских и воздействие богопротивных жрецов-друидов.
— …Мучеников за языческую веру никого из них не получилось, прелатус Аврелий. Кто раньше, кто позже повинились и раскаялись в содеянном.
Отпущенник Полигистор и его рабы-либрарии без малого пять десятков табличек мелко испещрили их подробнейшими показаниями. Главное выяснили и продолжат с рассветом досконально уяснять: для чего, каким образом, когда, где, кто первый, кто последний.
В первую голову Полигистор взял в оборот трех пунийских женщин, благоразумно отделенных от мужчин. Начал с повитухи, усадив ее причинной женской пещеркой на железный приап с шаром на конце. Когда бабенку вознесли машиной повыше, и ноги ее перестали доставать до пола, предмет былого наслаждения превратился в орудие пытки. Так как шар, будучи у нее поглубже, механически растопырился шипами. Продержалась не больше сотни ударов сердца. Похотник ей прижигать или сосцы ущемлять не понадобилось, как эта ларва завыла, заверещала, из глубины воззвала.
Две другие злодейки на то смотрели в превеликом страхе. Как только преступная повитуха возопила и заговорила, их увели прочь. После они правдиво и чистосердечно подтвердили все факты и акты, какие знали. Чуть ли не слово в слово повторяли себя, повитуху, возлагали всякую вину на мужей и полюбовников. Для порядка срамные волосатые щелки факелом им чуток опалили, но женское детородство не увечили. Слегка прижгли железом той и другой по одному сосцу для пущей достоверности и ясности всего протокольно вымученного.
С мужчинами, правда, пришлось повозиться. Покрепче на излом оказались, сквернавцы. Должно быть, друиды-волхвы их заколдовали и зачаровали бесовской силой. Не знаю как, но с магией разделался отпущенник Апеллес. Наверное, Бог помогает благочестивым.
Одному друиду египтянин неуловимо и бескровно вынул левый глаз и сжег его в кузнечном горне. У другого в мгновение ока извлек из мошонки тестикул и тоже его отправил в геенну огненную.
По правде сказать, с этими галльскими нечестивцами египтянин Апеллес обошелся вполне милосердно. Знаешь, всю, воистину спокойную безмолвную ярость, потаенное негодование и пыточное искусство он обрушил на гота. Toт, как выяснилось, надругался над целомудренной отроковицей Лоллией. Ему он воткнул полдюжины тонких спиц в пах и поясницу, заставив испражняться его же внутренностями. Не меньше чем на двадцать локтей выперло кишок из беспутного насильника.
Вряд ли пустопорожний злодей доживет до рассвета. Но остальные живы и относительно невредимы. Посмотрели на подельника и теперь исправно чирикают, поют, щебечут, как птички на дереве. Не иначе никому из них живьем расставаться с наличными потрохами до ужаса нежелательно.
Нам помогавший начальник готской рудничной стражи слезно и гневно просит выдать преступного соплеменника товарищам на расправу. Дозволяешь ли такое, Аврелий?
— Я помолюсь за спасение той преступной языческой, быть может, разумной души, мой Ихтис. Не сомневаюсь, телами преступников завтра поутру надлежащим чином по своему желанию и соизволению распорядится владетельный эквит Флакк…
Несомненно, на следующий светлый Божий день хозяин Ферродики и ближний комит викария Африки Флакк Секстиллиан Магон личной властью отдал необходимые и законные распоряжения, предварительно посовещавшись со святейшим епископом Аврелием Патриком Августином. Десятерых преступников, выживших после первичного дознания, постановили доставить в распоряжение правосудия высокородного Маркеллина в Картаг. Сопровождать в бережении уличенных в тяжких преступлениях рабов, женщин и колонов поручено вольноотпущеннику Апеллесу Магониону и турме тевестийской кавалерии центуриона Бебия Рифина. Все дорожные издержки доминус Флакк возмещает загодя. Отправляться всем в путь до полудня.
Крупные и мелкие обломки железорудного камня-жертвенника пунийской демоницы Аштарот, полностью утратившие женскую волшебную силу, доминус Флакк повелел пустить на выплавку металла для физических исследований.
Полусожженный молнией злосчастный дуб срубили по его приказанию еще до полудня, прежде чем епископ Аврелий Августин приступил к освящению новой часовни Всех Пресвятых Мучеников в старом языческом гроте подле чудотворного целебного источника. Его воды, как он объяснил пастве, отныне даруют благоверным и благочестивым женам излечение от женской маточной болезни, названной им ученым греческим словом «гистерия».
Это епископу Аврелию лекарь Флакк дал такой душевный и телесный совет, процитировав грека Гиппократа. Они же, вдвоем совместно обсудив, приговорили изготовить из горелой древесины срубленного каменного дуба большой крест, должным чином освятить его и водрузить над водоемом, дабы отвадить неразумных, коснеющих в двоеверии женщин Ферродики от языческих рукоблудных непотребств.
— …Ведь в одно и то же дерево молния дважды не ударяет, не правда ли? Или же я опять натурфилософски витаю во мраке заблуждений, мой многоученейший Флакк?..
В последующие четыре дня в февральские иды всем нашлись занятия по вкусу, уму и привычкам. Например, кот Гинемах натурфилософией не увлекался и потому ночью охотился на грызунов в лесах и в горах, а днем дремал поблизости от хозяина.
Доминус Флакк всецело погрузился в каждодневные рудничные и кузнечные хлопоты, заботы, неисправности, неувязки; контуберналы Ихтиса бдительно несли охранную службу, в то время как епископ Аврелий от зари до зари отдавался приятному и полезному препровождению дневного времени в богатейшей научной библиотеке Ферродики. Много читал, писал, а Полигистор и три подсобных раба-либрария усердно переписывали для него редчайший полный список сорока одной книги ученейшего римского мужа Марка Варрона о вещах и древностях человеческих и божественных. Само по себе последнее сугубо в языческом понимании и в философской трактовке.
На пятый день пополудни епископ тепло распрощался с гостеприимной южной Ферродикой и со всеми ее обитателями. Заночевать он намеревался в кесарском сальтусе Дилекта, чтобы с рассветом двинуться домой на север в неблизкий путь в Гиппо Регий. Долго где-нибудь отдыхать в дороге ему без нужды.
В Дилекте Аврелия Августина и его свиту дозором встретил, с хитрецой улыбаясь, вексиларий Секст Киртак. Начальство он высмотрел издалека и первым долгом сопроводил святейшего епископа Аврелия и славнейшего центуриона Горса в усадьбу кузнеца Мария Гефестула.
Вернее вспомнить: со своим ладным сельским домишком и отрадно обустроенной кирпичной кузней одноглазый операрий фактически распростился к тому времени.
— …Нумидийцу родом из номадов собраться в дорогу недолго. Раз-два, и вперед к новой земле под новые небеса, — доложил начальствующим лицам эксплоратор Секст. — Весь домашний скарб, чад и домочадцев Марий отправил с караваном константинопольского купца в Гиппон. Скотину его и полевых рабов мы с выгодой распродали. Большую часть купил вилик, не очень торгуясь.
Кривой кузнец, — опять хитро усмехнулся эксплоратор, — задержался здесь лишь с младшим из сыновей, преподобнейший Аврелий. Без тебя, говорит, ни шагу…
Да и не представал он так уж окривевшим на правый глаз, и кожаная повязка ему отныне без надобности, как заметил епископ. Вон отвратное бельмо, по всей видимости, слава Богу, отшелушилось и отпало.
— …Вишь, вышел, вылез третьего дня осколочек железа, сам собой вышел, твое святейшество! — радостно объявил поселянин, припадая к коленам, быстро спешившегося Аврелия. — Видно покамест мутновато, но сегодня намного яснее, чем вчера.
Исповедуй и благослови меня, Божий человек Аврелий. Истинно чудотворны твои праведные моления за нас, грешных. Богу они слышнее нашего мирского ропота и зряшных прошений.
— И твою молитву услыхал Господь, сын мой. Просите, и вам дано будет. Воистину всемогуще милосердие и благотворение Господа Бога нашего…
Немного спустя благословил епископ Аврелий и маленького сына нового гиппонского квирита и оперария Мария Гефестула. Но молча. Мысленно он также пожелал всей благости Господней непоколебимому правдолюбцу и художнику египтянину Апеллесу, послушав, как центурион Ихтис толково разъясняет мальчику, в чем вопиющая неправильность его детских рисунков на песке.
Вилик Каркион может с торжественной встречей и обедом погодить нетерпеливо, если ребенок нарисовал совершенно немыслимый для взрослого здравого смысла высоченный трехэтажный корабль с тремя параллельными рядами весел, безумно размещенными один над другим. В чем тут безумие и несообразность правде жизни ему и растолковал отец четырех дочерей Горс Торкват:
— …Вскоре ты сам убедишься, Аспар, насколько длинны и тяжелы настоящие морские весла. С твоего третьего корабельного cтрaтумa они же будут в три раза длиннее и тяжелее, чтобы хотя б достать до воды. Будь у каждого весла хоть по пять гребцов на египетский строй, долго ворочать такое вот тяжелейшее бревно они никак не смогут.
Ведь в гребле главное — постоянная согласованность и слаженная неустанная долгая работа гребцов. Потому бывают только однорядные суда.
А биремами и триремами, двухвесельными и трехвесельными, их называют из-за того, что на тирский строй один гребец сзади со своим веслом сидит близко к борту, другой или третий впереди наискосок, чуть поодаль от него. Так они опахалом, двойкой-тройкой и работают, гребут каждый своим веслом. Переднему крайнему загребному слаженно и дружно следуют два других. Тогда как всем гребцам корабля задает темп и ритм кормчий криком, тимпаном или дудкой.
Встречаются также четырехвесельные и пятивесельные, это среди торговых и увеселительных судов, когда гребут большими четверками-пятерками, но не сидя, а стоя на египетский строй. Там прикованные к веслам сервы бегают по призыву вперед-назад по правому и левому борту. Приедем в Гиппон, возьму тебя, Аспар, в порт, там все своими глазами увидишь…
Пока Горс объяснял несмышленышу, в чем физическая невозможность его многоярусной фантазии, Аврелий прикинул по теореме Пифагора Самосского, какой примерно длины, берем его в гипотенузе, могло бы быть верхнее весло у баснословного трехрядного корабля. Очевидно, высотой не меньше, чем со старый вяз, отбрасывающий редкую безлистую тень на хозяйственные постройки и сельский дом бывшей усадьбы кузнеца Мария. Если, конечно же, брать в исходных данных обычные размеры весел и высоту бортов военных и торговых судов.
По правде взять, с вычислениями в уме и на пальцах ученейший ритор Аврелий по-латыни дигитально не справился. Пришлось отойти в сторонку, присесть на лавочку в уютной экседре у дома, достать восковую дощечку, нарисовать чертеж, посчитать все арифметически, выразимся по-гречески.
На него весьма уважительно, с огромным почтением посматривали деревенский кузнец и контуберналы Ихтиса. Ох и мудрые, должно быть, мысли у святейшего епископа! Всю дорогу на скаку думает, мыслит, а как с коня, так сразу за табличку и стиль. А то и не спешиваясь, пишет знай и пишет, размышляет, наверное, без конца о божественном…
По окончании большого вечернего молебствия, состоявшегося в полевом лагере маркианцев, за ужином у вилика епископ был немногословен и задумчив. После заката он навестил в подземной темнице трех изловленных накануне легионерами трибуна Проба Никиана еретиков агонистиков. Увещевал пастырским словом несчастных, подвергнутых жестокому публичному бичеванию. Одного искренне раскаявшегося исповедал, отпустил ему грехи благотворительно. Хотя и его от неминуемого фатального правосудия в Тамугади не освободил. Допустим, это в его пастырской власти, но грешникам лучше-таки надеяться на милость Божию и милосердие тамошних судей, учитывающих сумму преступлений и тяжесть вины, преступивших законы человеческие. Каждому — свое: что в царствах земных, а что будет всем сообща зачитано из Книги Жизни на Страшном судилище Христовом.
В общем и целом пастырский долг и миссию на юге епископ благорассудил полагать исполненными. Насколько хорошо все обернулось, один Бог ведает. Ему и судить, располагать о том в конечном итоге. Тогда как суждения людские временны, преходящи и предположительны, какими бы убежденными в телесной правоте ни были отдельные люди, человеческие сообщества и весь род людской, взятый в целокупности истовых христиан, заблуждающихся язычников, преступных безбожников.
Об изуверах-атеистах и думать-то отвратно, но наверняка такие во множестве найдутся ныне и в будущем, коли Сатана и его присные от Бога отпали, отвернулись. Хотя б вспомнить о константинопольском греке Кериоте, отбывшем в Гиппон по торговому делу.
Надобно сказать о нем Ихтису, — умозаключил епископ. Стоит присмотреться магистратам попристальнее к нечестивцу-соглядатаю, нарочито закупающему меха и кожи африканских зверей. С чего бы это в охранниках у него почему-то сплошь вандалы из Испании?..
От мирских политических озабоченностей, обязательств и духовная пастырская отеческая власть не в силах избавиться, коль скоро она наставляет, исправляет к лучшему суетную жизнедеятельность человеческую. Но вот сообразовываться с веком предержащим и преходящим вовсе ни к чему лицам духовного звания.
Поэтому в заканчивающемся юлианском году епископ Аврелий Августин отказался от прижизненных несообразных почестей, когда отцы города Гиппо Регия было уж измыслили, договорились воздвигнуть ему статую на форуме, как знаменитому нумидийскому мужу, прославленному мудростью и праведной жизнью, известность и публичность приносящему отечеству. Аллилуйя, Тебе, Господи, вовремя о том дознался, пресек недостойный замысел в зародыше, уговорил смиренно… То есть от такой языческой чести и бесстыдной славы императивным образом отмежевался, решительно воспротивился чужому, да и, — что греха таить перед всевидящим оком Господним, — своему собственному тщеславию и любоначалию.
От статуй-кумиров демонских честолюбивых богов и богинь — былых идолов форума — Гиппон давно уж избавлен стараниями блаженной памяти преподобнейшего епископа Валериуса, некогда вознесшего в священнический сан того самого малодостойного и молодого преемника своего, философа Аврелия Августина. А вот многочисленные скульптурные изображения граждан Гиппо Регия как встарь то ли украшают, то ли напоминают о тщетности и суетности всего мирского. Ибо мало кто из современников нынче помнит, кем были большинство удостоенных этаким монументальным триумфом, и чем таким на века превознесли, прославили себя и город эти чванные африканские квириты в римских тогах.
Выйдя из базилики Святого апостола Павла, епископ Аврелий лишь краткое время прогуливался, шествуя в одиночестве по большому форуму Гиппо Регия, не уступающего по размерам и оживленности иным торговым и судебным сходбищам в Риме. Толпящееся, кипящее, шумное, плотное многолюдство вокруг него и перед ним молчаливо расступалось, словно рассеивалось, освобождая путь. Люди отступали на шаг, на два в городской толчее из уважения, почтения, иногда со страхом и боязнью. Никого нет нужды расталкивать, строго осаживать, отгонять окриком, дубинками. Потому пресвитер Эмиллий и диаконы безмолвно шли позади, сопровождая отца Августина по завершении богослужения и кафедральной учительной проповеди.
Епископ неторопливо ступал по направлению к женскому баптистерию, где ему предстоит телесно и духовно окрестить нескольких сестер по вере. Увы, от этой пастырской обременительной обязанности его никто не мог избавить, коль того настойчиво требуют сами катехумены — девицы и матроны, страстно желающие во плоти обнажаться исключительно перед безгрешным и смиренным отцом Аврелием.
C этим ему приходилось мириться, если тем самым удается отечески приобщать распутных и похотливых дочерей праматери Евы к истинной вере. И на деле, как доверительно исповедовались ему некоторые из их супругов, добродетельности и целомудрия у кое-каких женщин после крещения прибавляется. Порой вплоть до пренебрежения супружеским долгом, о чем ему горько жаловались их мужья, эгоистично полагающие Божью заповедь плодиться и размножаться равнозначной удовлетворению их сиюминутной и еженощной похоти.
Равным образом епископу приходилось, — никуда от этого не деться пастырю стад людских, — неохотно разбирать, но с тщанием улаживать среди мирской паствы и внеорденского клира, не брезгующего грехом конкубината, разные брачные свары, дрязги, игры. Играют дети, играют также взрослые, ничуть не меньше животных покорные зову плоти. Спаси и сохрани нас, Господи, от прагматической физиологии, — обозначим это по-гречески. Познаём видимое без покровов посредством невидимого…
Однако крещение было, есть и пребудет духовным сокровенным таинством. Так как Божья истина, ничуть не меняясь, только заповедует разнообразным временам не все свои заповеди сразу, а каждому то, что ему соответствует. Потому и брачное единение так либо иначе сообразуется с веком в гражданских цивилизованных сообществах. Ибо заповедано пророчески — будут две плоти воедино. Но не всегда и не для всех в Граде Земном, прогрессивно движущемся к Граду Божию…
Епископ остановился, обернулся на свиту и, не чинясь, не обинуясь, попросту, не глядя на сан и окружение, присел на ступеньках баптистерия. Немедля к нему подскочил понятливый диакон Гераклий, предупредительно, но с должным достоинством подал чистую табличку и стиль. Новую мысль о распутных языческих богах-демонах, о мнимом громовержце и явном прелюбодее Юпитере, о христианском супружестве и семье пресвятейшему Аврелию требуется обязательно оформить, поскорее обозначить и впоследствии неспешно, содержательно обдумать во благовремении, свободном от текущих архипастырских дел.
«…Как ничего не бывает, так и ничто не начинается, чтобы прийти к бытию, если ему не предшествует созидающая его причина…»
КАПИТУЛ V
Год 1165-й от основания Великого Рима.
16-й год империума Гонория, августа и кесаря Запада. 3-й год империума Теодосия Младшего, августа и кесаря Востока.
Год 410-й от Рождества Христова.
Дни и труды для города и мира. Гиппо Регий в проконсульской Африке.
В майские календы епископ Августин получил братское письмо от епископа Мегалия из Каламы. Предстоятель Нумидии полагал возможным рукоположить в епископы Тагасты пресвитера Алипия, о чем он и сообщал доверительно его другу и учителю Аврелию.
Далее пресвятой брат Мегалий почел нужным в греческих и латинских вокабулах уведомить преподобного брата Августина о том, почему он намерен синодально и коллегиально ходатайствовать о передаче первенствующего статуса от епархии Каламы епархии Гиппона. Ибо преклонный возраст и старческие недуги не дозволяют ему, глубокому немощному старцу Мегалию, и впредь с былой энергией и епископальным пылом отстаивать синодальное дело Святой католической Церкви и экклесиального правоверия в Нумидии. Меж тем наиболее достойной братской фигуры на предстоятельское место, нежели епископ Аврелий Августин, он не видит и лучшего защитника православной вселенской веры не желает.
Спустя Божию седмицу ходатайство и пожелание престарелого Мегалия энергично и властно поддержал августейший викарий Африки кесарский комит прими ординес высокородный Маркеллин Флорид.
В тот же год на одиннадцатый день в августовские иды осадившие Рим соединенные силы варваров, в основном вестготы под военачальством кесарского комита Аларика, хитростью и обманом овладели городскими стенами. И в продолжение трех дней бесчинствовали в Вечном Городе, едва ли не подчистую разграбив все, за исключением святых мест упокоения мучеников веры, христианских базилик и церквей. Сестру августа Гонория, прекрасную Галлу Плакидию, комит Аларик лишил свободы и увез, чтобы выдать замуж за своего родственника, вестготского рекса Атаульфа.
Август и кесарь Запада Гонорий, его приспешники, консулы, комиты доместиков, магистр оффиций непонятным образом бездействовали, отсиживаясь в неприступной Равенне. Казалось, до Великого Рима им не было ни малейшего дела.
Рассказывают, будто бы в Равенне один придворный евнух, исправлявший должность птичника, в слезах сообщил Гонорию о том, что Рим пал.
— Как!!? — вскричал кесарь, — да я только что его кормил из собственных рук!
Придворный знал, конечно, о любимце доминуса преогромном жирном петухе по кличке Рим и поторопился успокоить властительного любителя домашних кур, пустившись в объяснения: горе не беда, твое величество, коли это всего-то навсего готские варвары предали город Рим огню и мечу.
— Вот и хорошо! Вот и славно! — обрадовался глупый кесарь. — А я уж было испугался, что это мой красавчик Рим вдруг околел.
«Такой недотепа, сказывают, был этот император», — выводит мораль вышеизложенной греческой басни хронист VI века Прокопий Кесарийский.
Глупейшую клеветническую выдумку-анекдот о западноримском доминусе (скобками выделим в современных понятиях герменевтики XXI века — злопыхательскую греко-латинскую шутку-каламбур о курах Рим и Рома) Аврелий Августин не включил ни в один из своих трудов. Хотя мог бы придумать нечто более остроумное и оригинальное. Довольно и того, если ее станут настырно переписывать один у одного мифоисторики и литераты последующих эпох, начиная от вышеназванного анекдотиста Прокопия.
Сказано, написано, напечатано с тех пор о падении Великого Рима и слишком много лжи и очень мало правды. Тогда как во мнении Августина из Гиппона, а также многих его здравомыслящих современников, тот трехдневный разбой и опустошение в Риме объяснялись тем, что «римское государство скорее расстроено, чем разрушено; подобное случалось с ним и в прежние времена, до христианства, и оно от такого расстройства оправлялось».
«Не следует отчаиваться в этом и теперь, — далее писал Блаженный Августин в книге четвертой «О Граде Божием». Ибо кто знает относительно этого волю Божию?»
В том же 410-м году от Рождества Христова четыре выправленных первоначальных фолиума «De Civitati Dei» автор отдал в переписку и распространение монастырским братьям. Отнюдь не согласно с Горацием хранить рукопись до девятого года он не стал.
†
ФОЛИУМ ВТОРОЙ. ТРЕТЬЯ ЧАША РИТОРА АВРЕЛИЯ
КАПИТУЛ VI
Год 1136-й от основания Великого Рима.
7-й год империума Грациана, августа и кесаря Запада. 3-й год империума Теодосия, августа и кесаря Востока.
Год 382-й от Рождества Христова.
Город Картаг в проконсульской провинции Африка в сентябрьские календы. Первый день виноградных каникул у школяров и профессоров.
Ощущал ли себя ритор Аврелий от макушки до пяток полностью зрелым мужем, вразумленным прошедшими житейскими годами и профессируемыми учеными знаниями? Этого он и сам-то не знал, не понимал. И зачастую о том не задумывался, имея неполных 28 лет от роду, если в настоящем имеются предметы и темы для размышлений более значительные и существенные.
В сущности, как могут быть эти два времени, прошлое и будущее, когда минувшего уж нет, а грядущее еще не наступило? Разве мы ошибемся, сказав, что время существует только потому, что оно стремится исчезнуть?
Так уж это разумно, правдоподобно и полноценно, будто бы настало второе время-эон смешения добра и зла, материальной тьмы и духовного света, как утверждает безупречный пророк Мани? Да и на юге ли географически размещается источник предвечного зла?
Откуда взялось нематериальное совечное зло, буквально рассуждать нимало не годится, если земля есть глобус и сфера, — обозначим этот предмет по-латыни или по-гречески. Так же сомнительно существование бестелесных субстанций, коли все живое суть плоть и кровь.
Должно быть, ничего бестелесного, бескровного и вовсе не бывает и вообще не может быть никогда. Всякий жизненный дух прочно и полнокровно опирается на материю.
Впрочем, последняя мысль в сумбурных материализаторских воззрениях манихейцев представлялась Аврелию довольно-таки спорной, полемической, дискуссионной, поскольку мироздание и миропорядок когда-то начались и когда-нибудь неизбежно завершатся. Ибо безначален и бесконечен один лишь совершенный Господь, неисповедимый и неизреченный.
О чем речь, если, казалось бы, бесконечная окружность имеет начало и конец? Когда кто-либо или что-либо возьмется за естествоиспытательный труд ее начертать на тонком песке, на папирусе или вообще в натуральном, а именно рожденном облике, глобально и орбитально. Последнее, естественно, выразим на вернакулярной латыни. Притом по-гречески по смыслу-сигнификации будет то же самое, когда б не воспринимать этимологически слово «геометрия» в обличье материального землемерия, геодесии, согласно Аристотелю из Стагиры…
Отвлеченно и материально размышлял и рассуждал ритор Аврелий, глядя на статую Лукия Апулея из Мадавры, давным-давно установленную на форуме Картага иждивением проконсула Эмилиана Страбона, сообразно желаниям картагенского народа и сената. О чем и свидетельствует надпись на постаменте.
Аврелий подумал, научно рассудил филологически и поправился мысленно с определительным варваризмом, если Картаг называют Картагеном и Карфагеном только варвары из готов, тевтонов, вандалов, алеманнов и прочих, напористо стекающихся в Африку из северных краев, чтобы и здесь, сейчас служить наемной воинской силой римскому доминату или состоятельным квиритам.
Со всех сторон Аврелия окружала, напирала на него суетливая людская масса, беспорядочная суматошная африканская толпа; норовили пихнуть, то и дело задеть локтем, едва ли не отдавить ноги. Но в этой форумной толчее, всенародной кутерьме, вульгарной суматохе он обретался совершенно свободным и независимым; безотчетно лавировал, непринужденно уходил, обходил. Его тело само привычно избегало столкновений с окружающими; в то же время он никого и ничего лишнего отстраненно не замечал, погрузившись в размышления посреди городской сутолоки и толкотни. Его и самого можно принять за ожившую статую, величаво, важно, внушительно двигающуюся с осознанием присного достоинства, какое не может не производить соответствующего монументального впечатления на окружающих.
Иначе и быть не должно, если он, Аврелий Августин, нынче учит, то есть профессорствует, точнее, ответственно руководит одной из трех риторских школ столичного проконсульского Картага. Так скажем, утоляет свою и чужую жажду знаний из третьей чаши, когда б вспомнить апулеевские «Флориды», — естественным образом в самом себе продолжилось рассуждение-дискурс, в то время как ритор Аврелий приостановился у скульптурного изображения достославного нумидийского литератора и философа.
Образованные люди, обучая, сами учатся, — находим мы в письмах Аннея Сенеки Младшего. Тогда как Апулей Мадаврский полагает первой чашей знания обучение началам чтения, письма и счета, вторым источником и образовательной ступенькой рассматривает учебу у грамматика, а третьим этапом благородного пития видит обретение либерального образования у ритора. Получается, как бы начальная, средняя и высшая образованность. Однако в людских понятиях и установлениях не все так просто и вовсе не навеки неизменно идет от простого к сложному, от низкого к высокому или от хорошего к лучшему. Случается, и доброе замещается дурным и даже худшим.
В Мадавре Аврелий учился у образованнейшего и знающего грамматика — сицилийца Клодия Скрибона. За это ему причитаются кое-какая благодарность и наилучшие пожелания испытать на собственной своей шкуре то, чего он и его присные выписывали и выделывали на спинах, порой и на задницах подъяремных учеников. После в Картаге Аврелия изощренно наставлял в классическом красноречии нумидиец Эпистемон Сартак, который сейчас готов диким зверем живьем растерзать своего бывшего слушателя и вопрошателя. Вряд ли ритора Эпистемона стоит благодарить за науку, если тот взбешенно злобствует, безумно науськивает и злобно настропаляет всех кого ни попадя против ритора Аврелия Августина, оказавшегося успешным соревнователем и состязателем на ниве образования и просвещения юношей Картага.
В самом деле, прав скифский мудрец и опытный пьяница Анахарсис, коего риторически перефразирует наш Апулей. Несомненно, первая чаша неразбавленного вина принадлежит жажде, вторая — веселью, третья — наслаждению, четвертая — безумию. Добавим: пятая же чаша, целиком уходит в дурнопахнущую речевую блевотину, какую изрыгает злобствующий язычник Эпистемон.
Очевидно, ему неведомы слова Апулея о наличии неисчерпаемого сосуда благорастворенной всеохватывающей философии. Стоики, перипатетики, академики могли бы его кое-чему благолепному научить, когда б учительный глупец Эпистемон умел их читать, а не бубнить на память затверженные, дважды капустные, немыслимые суасории, бездарно вымышленные контроверсии, чудовищно далекие от жизненной действительности и судебной практики на городских форумах. Чего уж тут поминать всуе и вотще о религиозных истинах, неизвестных языческим суеверам, поклоняющимся и приносящим тлетворные жертвы ложным богам?
Правильнее назвать нашего отменно ученейшего Эпистемона, ярого поборника прогнившей языческой старины, Анти-Эпистемоном и литератом-фабуляром. Или, быть может, литератором по-латыни? Нет-нет, лучше и вернее по-гречески грамматистом, если он не брезгует брать деньги за обучение старших и младших подростков, бесцеремонно смешивая грамматику и риторику. Он у нас и не филолог. Потому как истинная риторика призвана давать ученикам натурфилософские и филологические знания, но не разбирать по косточкам и черепкам словесные ухищрения языческих поэтов.
Что нам Вергилий, что мы Вергилию? — часто вопрошал увлеченно внимающих ему слушателей ритор Аврелий. Сколь много отыщется у древних поэтов пленительно прекрасного, но соответственного обновляющейся жизнедеятельности, сообразного новейшим истинам познания? Все-таки намного лучше читать, изучать старых и новых философов, чье мышление и разум не скованы стихотворной метрикой и обыденными телесными чувствами стихотворцев.
Творчески новую современную философию, основанную на неопровержимых прежних достижениях духовной человеческой мысли, познающей божественный миропорядок, прежде всего следует понимать и разуметь. А не трещать, раздуваясь от гордости и самомнения, о десяти категориях Аристотеля, как это двадцать лет кряду пронзительно пищит Эпистемон, слыхом не слыхивавший, что у Стагирита помимо «Категорий» еще имеются «Топика или диалектика», многоученейшая «Аналитика», проницательная «Метафизика».
О двух последних упоминаемых им произведениях Аристотеля Стагирита ритор Аврелий только слышал с чужих слов, если честно сказать самому себе. Но с «Метеорологикой» он отлично знаком, и ему даже довелось подробно изучить неполный список аристотелевской «Физики» в библиотеке картагского сенатора Фабия Атебана.
Жаль, в провинциальном Картаге отнюдь не все известные натурфилософские труды можно отыскать, чтоб хотя бы иметь о них маломальское общее представление. Хорошо бы съездить в Александрию или в Рим. Тем более друг Алипий настоятельно туда приглашает к нему в гости и горячо советует подумать об открытии в Вечном Городе новой риторской школы.
Вообще-то уезжать из Картага, оставлять старую, привычную, налаженную, обустроенную жизнь Аврелию сдается нежелательным. Или все же таки уехать? В этой альтернативе он тоже чистосердечно признавался лично себе. Ибо обманываться есть последнее дело для философа — эмпирика и скептика. Ведь и его, подобно всякому необразованному человеку, страшат непостоянство, неизвестность, неопределенность, далекие от упорядоченного состояния. Космос, гармония и созвучия — это там, в вышних небесных сферах или в заоблачных прекраснодушных философских умозрениях язычников-гентилей, старательно избегающих ответа на вопрос, откуда взялось зло, противостоящее добру. Между тем в действительной жизни все, всюду и везде, пребывает в хаотическом беспорядке смешения всего доброго и злого, истинного и ложного, постоянного и изменчивого, низкого и высокого, духовного и материального, желанного и нежелательного. Где тут причина-альфа, а где ее очередные следствия в греческих пунктах «бета» и «гамма»?
Не хотелось бы Аврелию покидать Картаг и по другим, вполне житейским и материалистическим причинам от альфы до омеги. В первую очередь оттого что из Тагасты к нему переехала давно овдовевшая мать и, наконец, наладила домашнее хозяйство. Теперь есть кому присмотреть за пятью бездельными городскими рабами и рабынями, навести действительную чистоту, уют в доме и в школе.
Да и честно подумать, ежедневная сыновняя повинность выслушивать ее нравоучения и увещевания не слишком тягостна. Пускай тебе ее вечные жалобные разговоры о женитьбе и дотошный, въедливый разбор недостатков и достоинств подходящих ему невест порой бывают очень утомительны и докучны. Лучше бы ей абстрактно осуждать манихейские заблуждения сына, настойчиво призывая совершить христианское крещение, чем назойливо строить конкретные матримониальные расчеты, пытаясь наложить на него брачные узы, кандалы и колодки.
Где там Гай, а где Гайя? Даже римскому другу Алипию, который до сих пор не может оправиться от потери невинности, по-латыни известно: ubi penis, ibi vulva. У насмешника Апулея сказано не столь грубо и прямолинейно, чуть тоньше, элегантнее, с намеком, но тоже похоже на развязную апофегму собачьих философов-киников: «Ubi uber, ibi tuber». То есть, где грудь, там и оттопыренная выпуклость, соблазняющая мужчину. Или же у него самого непроизвольно оттопыривается.
Правда, несколько позже, разочаровавшись в брачной жизни с грудастой старухой Пудентиллой, может, и обессилев к старости, этот выпуклый афоризм Лукий Апулей истолковал по-другому. Мол, и мед каким-то образом смешивается с желчью.
А вспомним, что за прелестная золотая и медовая женушка, говорят, была у Сократа Афинского. От такой супружеской жизни с желчной сварливой Ксантиппой, конечно же, он почел за благодать смертную чашу цикуты.
Ну нет! Пожалуй, философу вовсе не стоило бы связывать себя женитьбой. Да и древние стоики нам это предпочтительно советуют, рекомендуя добродетельное безбрачие, апатию и автаркию, — обозначим их мировоззренческие принципы по-гречески. Даже Эпикур в атараксии понимал наслаждение как отсутствие страданий.
Как глянешь вокруг, то кажется нигде и ни за что не бывает спокойных выдержанных брачных союзов, заключенных исключительно для бескорыстного и безмятежного деторождения. Повсюду страстные любовные связи и чувственная томительная любовь, то есть эрос по-гречески. Никак не меньше тех страстей и страданий, какие изображают, вернее сказать, каким жизненно подражают актеры в театре. Тем часом дети чаще всего рождаются вопреки желаниям мужчины, иногда и женщины, почему-то заставляя себя любить. По крайней мере так по жизни происходит в семьях среднего достатка куриалов и декурионов, не стремящихся заполонить мир присносущим потомством.
У простолюдинов же, напротив, свободные женщины-поселянки из года в год плодовито рожают сыновей-работников и дочерей-служанок, им заменяющих сельских рабов. Потому у иных многодетных колонов их чада и отпрыски живут, спят, едят не лучше рабского поголовья.
Или того хуже: простонародье нередко промышляет малолетними детьми, выставляя их на продажу.
Так и отпущенницу Сабину заботливые практичные родители когда-то продали на рынке в италийской Остии в услужение и рабство, — не мог не вспомнить Аврелий. Ее-то он и поджидал на форуме, пристально и незаметно наблюдая за входом в книжную лавку, размещавшуюся неподалеку.
Хозяин лавки, свободнорожденный грек Капитон, охотно, безвозмездно, что достойно крайнего удивления, предоставляет своему любимому и постоянному покупателю кров, то есть тесную каморку и простое веревочное ложе на втором стратуме для регулярных любовных встреч. Однако вино и простыни требуется приносить с собой. Но это уже такая же забота Сабины, как и воспитание их тайного сына Адеодата, тоже добросердечно отпущенного вместе с матерью на волю благороднейшим Фабием Метеллом Атебаном.
Впервые Аврелий увидел, встретил Сабину, когда она еще была рабыней в фамилии сенатора Атебана. Сталось это более десяти лет тому назад при империуме кесаря Валентиниана Старшего, отца августа Грациана и августа Валентиниана Младшего. В ту пору Аврелий недавно приехал из Тагасты, поступил в риторскую школу и с головой окунулся в безнравственный водоворот жизни большого города, о чем ему сейчас припоминать отчасти неловко и стеснительно. Хотя любящая Сабина, прекраснейшая из всех фурий и эринний, час от часу во время ссор и семейной ругани о том ему не дает-таки позабыть.
Пускай участвовал он в забавах веселой компании «опрокидывателей» и «совратителей» не слишком сопричастно, но о тех шалостях память у него покуда свежа. К тому же нынешние их юные последователи радостно предаются все тем же бесстыдным вызывающим развлечениям. Картагский народный обычай… Так скажем, в наблюдениях за временами и людскими нравами.
Как раньше, так и теперь опрокидывание состоит в том, чтобы, зорко высмотрев на улице ли, на форуме, у входа в термы или на рынке красивую одинокую рабыню, случается, и свободную женщину, как бы нечаянно столкнуться с ней. Два-три шалопая, резво двигаясь навстречу, будто невзначай внезапно задевают ее с двух сторон, наступают на подол туники и столы, подсекают под колени и опрокидывают навзничь. Притом словчась задрать ей платье как можно выше и дальше. А паллой, которой свободные женщины укутывают волосы и голову, надо ловко ослепить и ошеломить жертву нежданного нападения. Иногда кто-нибудь, согнувшись в три погибели, сзади подставляет спину, пока его товарищи в мгновение ока переворачивают матрону или девицу вверх тормашками.
Загодя картагские опрокидыватели, втихомолку хихикая, обычно бьются об заклад, что же они обнаружат, выставят на всеобщее обозрение под нижней туникой у выбранной цели. Почтенные картагские матроны, подвязывающие груди широкой шелковой цветной лентой-кинктой, и чресла свои плотно пеленают пестрыми полотняными набедренными повязками. Зато свободные горожанки из простых в жаркую пору года почитают за удобство не утруждать туловище внутренними покровами. И рабыни, ни дать ни взять, под шерстяной интерулой каких-нибудь иных женских потайных одежд не носят ни летом, ни зимой.
Потому и спорили заранее любознательные вертопрахи-шалуны, будет ли выбрита или выщипана у опрокинутой жертвы ее женственность. Либо ее курчавые секретные заросли оставлены в неприкосновенности в преддверии вероятного мужского откровения и плотского познания.
Особую лихость картагские риторы-школяры видели в том, чтобы проволочить несколько шагов женщину по мостовой, познавательно оголив ее до грудей. И при этом нисколько не ушибить или как-нибудь ей повредить физиологически.
Сорванцы, учинившие киническое бесстыдство и непотребство, сперва отшатывались будто бы в смущении, затем подскакивали, притворно извинялись за неловкость и неуклюжесть, участливо поднимали на ноги, оправляли платье… Учтиво интересовались, негодники, не ушиблась ли она ненароком, предлагали сопроводить к лекарю и оплатить лечение, коли случились какие травмы и повреждения деликатного и нежного женского телосложения.
В подобных публичных школярских забавах и проделках самолично Аврелий участвовал только один-два раза. Так как остерегался судебного преследования и наказания. Редко-редко, но бывало, когда мужья вдруг оскорбленных и опозоренных почтенных матрон, эдак по чистой случайности позабывших перепоясать чресла и подвязать груди в походе на рынок, обращались в суд к магистратам и эдилам за справедливостью.
В такой печальной оказии виновным в нарушении общественного порядка и приличий грозили денежный начет, розги, а иногородним — высылка из города без права возвращения. За безгласных и бесправных рабынь никто не вступался, даже если они принадлежали к важным и влиятельным городским фамилиям. Ибо таков древний картагский обычай. Вот так, как бы невзначай опрокинуть вверх кормой на праздновании языческих сатурналий или матерналий какую-нибудь зазевавшуюся молодку. Бывало такое и в праздной толпе, глазевшей на торжественное шествие жрецов и служителей египетской богини Исиды, якобы верховной матери природы, владычицы стихий и единого образа всех мелких языческих божеств. Не меньше народу доселе поклоняется и фригийской Кибеле.
Так вот и принял глупейшее участие в опрокидывании Сабины и сам Аврелий, когда та отстала от молодой хозяйки у входа в термы Антонина. Она его этим до сих пор попрекает во время ссор. Дескать, страшно сожалеет, зачем убоялась, не упросила сенатора Фабия вступиться за ее поруганную девичью честь и оголенную промежную невинность.
Судебного наказания розгами Аврелий по юношеской опрометчивой глупости не слишком-то страшился. Мало ли его секли в детстве? Перенес, пережил бы и эту порку как-нибудь. Хотя к такому изуверскому ужасу привыкнуть, приспособиться никак тебе невозможно и невмочь. Лучше бы его всеми силами избегать и даже не вспоминать о нем с проклятиями.
Тем не менее начинающим школяром в Картаге, он гораздо больше остерегался, чтобы его недоученного, — Боже, упаси! — не выслали в одночасье из города, чем ужасно огорчится мать, по сю пору мечтающая увидеть сына в блеске чинов, славы и величия.
Как приходится его матери Монике одной, без мужа, — о Господи! — уже десять лет воспитывать, растить младшего брата и совсем маленькую сестру, Аврелий и в юности отлично понимал.
За старшего сына Моника Августиниана в те годы очень беспокоилась, переживала, что и не перестает делать по сей день. Не устает опасаться кривых путей для него и предостерегает насчет опасности связей с замужними женщинами. Потому-то едва успев выдать замуж дочь Юнию и отправить младшего сына Корнелия служить в Испанию, она безотлагательно взяла под неусыпную опеку и материнское покровительство старшего Аврелия, подающего самые большие и добрые надежды в их семье. В своих снах и мечтах Моника его видит не меньше, чем кесарским комитом и викарием какой-либо из римских провинций, глубокоуважаемым отцом почитаемой фамилии.
Неуважительно обижать и огорчать мать Аврелий никак не желал ни тогда, ни потом. Следовательно, и сейчас он старается матери не возражать, не прекословить… И ничего не рассказывал ей о десятилетнем сыне Адеодате и давней сожительствующей полюбовнице Сабине…
Эта ослица картагенская, наверное, и под страхом вечных мук христианского огненного ада никуда и никогда не в силах прийти вовремя! Ждать себя заставляет долгую вечность!
Верно поэтому, Аврелий припомнил: как лихо и молодецки они сам-друг со Скевием Романианом когда-то зацепили и опрокинули богато принаряженную, кичливо задирающую нос пышногрудую и узкобедрую красавицу рабыню, обликом несомненную сабинянку. Выиграл Аврелий в тот момент также спор против завзятых опрокидывателей, подзуживавших на скандал двух новичков. Получил целую кучу полновесных денариев, точно угадав, насколько ухожена и кропотливо обработана ее женственность в промежности в соответствии с этрусским обычаем, принятом в Риме.
Во вторую очередь увесистости и солидности тогдашнему выигрышу добавила его наблюдательность. Аврелий сделал большую ставку на то, что, по его наблюдениям, каждая женщина, лежа навзничь, прежде чем оправить платье и подняться, широко раздвигает бедра по причинам женской физиологии, темперамента и телосложения. Точно так и вели себя все те, кого опрокинули в тот день.
Что характерно, кое-какие женщины вставали нехотя, все свое тайное долго показывая явным городу и миру. Ведь, согласно нелепым женским суевериям, в день так называемой Великой матери богов Кибелы нечаянное обнажение телесных таинств сулит счастливое супружество, богатое чадородие, существенное облегчение тягостей беременности и родовых мук.
Так что веселой работенки в тот языческий праздник всем опрокидывателям хватило с избытком. Женщины сами того, видимо, хотели, а мужчины на это смотрели или сквозь пальцы или же таращились во все глаза на обнаженные как будто случайно женственные соблазны и прелести.
Что там и как у Сабины соблазнительно-прелестного под нижней туникой в тот раз Аврелий толком рассмотреть не успел. Светловолосую рабыню друзья немедля поставили на ноги, впопыхах одернули на ней дорогую столу, накинули на голову паллу, постаравшись побыстрее привести в более-менее пристойный вид от возмущения онемевшую северную красотку. Важнее того, и ее молодая хозяйка, похоже, собралась во весь голос вознегодовать, возмутиться той наглостью, с какой обставили ее прислужницу. Как ни посмотреть, связываться и выступать поперек христианской, сплошь благонравной фамилии властного и строгого сенатора Фабия Метелла Атебана никому не с руки и не по плечу.
В результате какие-никакие благоприличия и благопристойность проказники-школяры кое-как соблюли, и обе девушки молча приняли насмешливые извинения озорников. Поднимать брань, ругань, скандал никто не домогался…
Аврелий еще больше набрался великого терпения, каким требовалось непременно запастись в ожидании Сабины, тяжко вздохнул, снова глянул на мраморную статую серьезного автора легкомысленных «Метаморфоз» и опять взялся припоминать воистину малоприличные для зрелого мужа проказы и шалости шумливой юности, все эти нечаянные и отчаянные былые опрокидывания, совращения… Как-никак он уже не так молод; не тот, что прежде.
По истине подумать, в настоящих совратителях Аврелий нисколько не состоял. В отличие от сообщников, к их хвастливому ряду, стремившемуся повторить приапический тринадцатый Геркулесов подвиг, ничуть не причастен. Несметными мужскими победами над юными девственницами напропалую не бахвалился, как прочие. И ни разу не покупал в складчину девственных дочерей и рабынь на продовольственном рынке у отцов сельских семейств, вывозивших на городское торжище совокупно с плодами земными и девичью плоть. Девственностью поселяне торговали по старинке, с повозок, и она всенепременно находила сбыт, похотливых покупателей, да и по сей день обнаруживает спрос у расточающей родительские средства молодежи Картага.
Раскошелившийся на большую арендную плату совратитель, лежа под занавешенной повозкой, снимает девственные сливки. Его они еще называли кондуктором-проводником или инвентором-открывателем. Остальным же двум-трем его последователям, заплатившим меньше, достаются не кости, но вполне готовое к углубленному твердому мужскому проникновению мягкое женское промежное естество. Больше чем на два-три совокупления с их ценным товаром рачительные отцы и хозяйственные владетели деревенских чад вкупе с домочадцам ни в какую не соглашались. Естественно, городским повесам и соблазнителям купленная внаем женственность обходилась весьма дорого.
В портовых лупанарах она, известное дело, стоит дешевле, но там постоянно имеется опасность подцепить неприятную и постыдную греческую болезнь. Поэтому школяр Аврелий продажного женского уличного естества берегся и по лупанарам с овацией не шастал, а стать совратителем, — в том он откровенно, автономно признавался, — у него не имелось достаточных средств. К тому же не очень того и жаждал, если скаредный дядюшка Дефил, выдававший ему фамильные деньги на мелкие юношеские расходы, раз или два раза в месяц подсылал ему отпущенницу-гречанку Волюптию, обладательницу малоощутимых козьих грудей, широченной кормы и густопсовой чернявой растительности в паху.
Иначе говоря, брат матери милостиво удостаивал племянника, как патрон клиента, полной противоположностью светловолосой и голубоглазой Сабине из дома сенатора Фабия. Расхожего греческого типа женщин, подобных на статую дебелой языческой демоницы Афродиты в канонах Праксителя, ни тогда Аврелий не боготворил, и теперь не жалует. Поэтому естественным юношеским образом страстно возмечтал о стройной Сабине, в основном в горячих и влажных ночных сновидениях.
Вскоре ее хозяйка обручилась. Меж тем школяр Августин изловчился проникнуть в дом сенатора Атебана, чего он очень и очень возжелал, поскольку тот был счастливым обладателем многих списков преславного римского оратора и философа Марка Туллия Кикерона. Кикероновского «Гортенсия» к тому времени Аврелий прочитал, изучил и ему до невозможности захотелось ознакомиться с иными философскими трудами именитого древнего римлянина, именуемого на варварский «цекающий» обиход Цицероном.
В богатой личной библиотеке сенатора в третий раз в жизни он и встретил Сабину, пришедшую за списком сатир Ювенала для своей хозяйки. Правда, потом она утверждала, будто он ее беспрестанно преследовал по всему городу и в сенаторском особняке нигде проходу не давал.
В действительности же, это она как-то исхитрялась повсюду попадаться ему на глаза. Хотя, сколь запомнилось, вела рабыня Сабина себя скромно и пристойно; всякий раз он ее видел с опущенными долу взором, лишь изредка замечая ее безучастный, порой презрительный холодный взгляд непроницаемых густо-синих глаз.
Что у женщины на уме, то у нее и на языке в минуту запальчивости и гнева. В спокойном расположении духа истинная дочь праматери Евы неизменно хитра и сдержана. Как она его соблазняла, почему, отчего развязала Венерин поясок, в том Сабина сама ему помимо воли однажды призналась, когда они, словно неуступчивый муж и взбалмошная жена, начали громоподобно и громобойно ссориться, браниться в каморке над портиком книготорговли грека Капитона, обожающего тихие философские беседы с умными посетителями.
Благо ее извечные непристойные вопли никоим образом не касаются покупателей внизу, коли дневной торговый гам, шум, гул голосов на форуме заглушают неподобающие приличному книжному заведению шумства. Сама сказала: когда они в первый раз соединились, все губы себе искусала, чтоб не орать от наслаждения…
Аврелий мог бы скоротать время, обождать Сабину за приятными, усладительными, спокойными разговорами с Капитоном, но не дерзнул. Иногда мужская мудрость, умственная книжность Сабину чудовищно раздражают, и несвоевременно выводить ее из себя Аврелию нисколько нежелательно. Лучше явиться чуть позже, умно прикинувшись опоздавшим, чуточку виноватым. Уступай женщинам в малом, тогда в большом они обязательно уступят тебе, — умозаключил ученый ритор Аврелий.
Но предохраняться от вековечного женского коварства всякому мужчине следует неукоснительно. Тому пример хотя бы ветхий еврейский праотец Адам, соблазненный и обольщенный в райском саду праматерью Евой, но вовсе не иудейским Сатаной, как бы оно там ни получилось, действовавшим через женщину.
Столь же дьявольски коварной оказалась и Сабина, возжелавшая подняться на ступеньку выше в доме сенатора Фабия Метелла, и потому тишком положившая глаз на школяра Аврелия Августина в библиотеке. У того благословенного входа в термы Антонина она их с Романианом издали высмотрела, пускай и не признавалась в том, что по своечастному почину пошла им навстречу, нарочно отстала от хозяйки. Так ей казалось выгоднее и способнее — предстать опозоренной и обесчещенной.
Доносить на него Фабию ей не было никакого резона, если она хитроумно решила стать пользующейся влиянием и почетом кормилицей для намеченного, предзнаменованного в пророческом сне ребенка хозяйки, к тому времени благополучно вышедшей замуж.
Стучите, и вам откроется. Зачали детей они обе практически одновременно. Одна честь по чести от законного супруга, картагского магистрата; другая — «в беззаконии от бесчестного и бессовестного любовника из риторских школяров», со слов Сабины.
Сенатор Фабий выбор дочери одобрил, если ее молодая служанка отроду владеет большим молочным богатством, присущим всем сабинянкам. Недаром древние римляне похитили не кого-нибудь, но женщин из племени сабинов. Наверняка, мол, такой-сякой Сабине, Бог с ним, с ее распутством, крупных сосцов физически хватит выкормить и двойню и тройню, а коль скоро Господь сподобит, то и большее число новорожденных. Ибо по-христиански заповедано свыше плодиться, расти и распространяться. По крайней мере так филогенетически предписано в греческой ветхозаветной Септуагинте, переведенной с древнееврейского.
Таким методом у хозяйки и ее верной рабыни сыновья родились в один и тот же день. Одна разрешилась от бремени в ранний утренний час, другая же — поздним вечером.
Как после Сабина объяснила Аврелию, подчас умные женщины методично знают о благоприятных для зачатия днях. Скажем, физиологически спустя пять-шесть дней после месячной кровоточивости, когда жар в женском влагалище слегка ослабевает, наступает самый благоприятный для плодовитости период. Длится он не больше десяти дней. Потом жар в детородном проходе опять усиливается, и зачатие становится маловероятным или вовсе невозможным.
Об этом Сабине еще в детстве рассказывала ее бабка — деревенская знахарка и повитуха. Насколько ей стало известно, старуха умом помешалась, когда ее ученицу и любимую внучку продали далеко в Африку, хотя и в хорошую добронравную фамилию… Между прочим, нумидийское имя Адеодат их сыну дал сам сенатор Фабий, а отпущенницу Сабину не без иронии наделил когноменом Галактисса…
Сабину Аврелий заприметил издалека — видна богиня по походке. Гордую прямую поступь и выдающиеся женственные стати бывшей кормилицы, а нынче властной домоправительницы в сенаторском доме трудно пропустить даже в густой форумной толпе. Примечательнее того, вышла-то она из лектики, несомой четырьмя рабами-фракийцами. Почему бы почтеннейшей и степеннейшей отпущеннице сенатора Фабия Метелла не полистать задумчиво некую книжную новинку, покойно устроившись где-нибудь в уютной нише у окна в лавке грека Капитона?
Замечательные груди у нее малость обвисли после выкармливания двух мальчиков. Но в подвязанном состоянии по-прежнему смотрятся молодо, дерзко и вызывающе.
Кормилицей, — нельзя не вспомнить, — Сабина предстала великолепной и изобильной. Тут Фабий нисколь не ошибся. Она и любомудрому Аврелию давала несколько раз вкусить от своих щедрот, прямо-таки натурфилософски объяснив, что так или иначе ненужные младенцам излишки сладкого женского молока надо обязательно сцеживать, чтобы груди не прогоркли.
Одним словом, Галактисса, — усмехнулся Аврелий.
Иное женственное естество-сосуд, побывав однажды распечатанным и раскупоренным, тоже не терпит долгого застоя, а женское здоровье мужними силами поправляется. Об этом физическом аспекте Аврелию также поведала Сабина, когда они отдыхали от любовных утех, а он набирался новых сил и стойкого твердого желания.
То же самое утверждают христианские библейские сказания, сколь скоро Сатана соблазнил Еву отнюдь не божественной мудростью, но каверзным познанием демонической похоти. Когда б ни читать еврейский Ветхий Завет в убийственно буквальном смысле, но взять немного иносказательно, то выходит не искушение чечевичной похлебкой, но Адамово соблазнение Венериным яблоком плотской любви. Ибо что для женщины суть познаваемые добро и зло, как не та самая физиология, от натуры помещенная у нее в промежности, в лоне, в чреслах, в сосцах?
Не зря говорят, тот же Сатана дал способность Еве и ее дочерям в женском потомстве получать от мужчин намного больше удовольствия и наслаждений, нежели они сами способны им дать. Спрашивается, отчего женщины, а наша пылкая Сабина не исключение, так громогласно и сладострастно вопят в оргазме?
Хорошо еще, что узкое, под самыми черепицами, оконце в каморке Капитона выходит на форум. Потому как на широкой площади, бывает, раздаются вопли гораздо громче в горести и в радости после судебного присутствия. Меж тем углубленным в чтение манускриптов покупателям снизу никак не разобрать, откуда до них доносятся нечеловеческие дикие крики и стенания. Наверняка с улицы, тем более, если какого-нибудь несчастного там, снаружи наказывают розгами или бичеванием…
Аврелий распрощался с Сабиной после недолгого, но счастливого блаженного свидания, так как о невозможном супружестве она нимало не заговаривала и очень куда-то торопилась по каким-то скучным домоправительским денежным делам. Он так же нисколько не заинтересовался сценой судебного жестокосердного наказания какого-то бедолаги-преступника. Прямиком с форума в распрекрасном расположении души расслабленной неспешной походкой он направился ближе к берегу моря в термы кесаря Антонина Благочестивого, открывающиеся для публики в третьем часу пополудни. Там он наметил встретиться с друзьями, не менее усладительными способами продолжив первый каникулярный день.
Перед близкими друзьями, не говоря уж о малознакомых людях, Аврелий никогда не похвалялся женскими статями и любовной изощренной премудростью Сабины, неистощимой на эротические выдумки, когда у нее на то хватает времени, хотения, желания в соответствующий период, не способствующий зачатию. Побок, рука об руку с ней его никто ни разу не видел, хотя разгульные аттические ночи с подругами и флейтистками они нет-нет да и устраивали. Но и в таких случаях Аврелий всей душой хранил верность супружескому ложу с нераздельной Сабиной, не глядя на дружеские подначки и насмешки.
Друзьям и возлюбленной Аврелий добродушно прощает их мелкие колкости, если он неизменно находит в них намного больше крупных достоинств, чем не суть важных недостатков. Взять хотя бы в обе ладони продолговатые женские груди Сабины, похожие на две прекраснейшей формы виноградины, стократно, нет-нет, тысячекратно умноженные.
Тогда как в дружеском мужском общении можно тысячу раз насладиться обсуждением прочитанных умных книг, когда один учит другого и сам от него учится, когда редки краткие размолвки, а небольшие умственные разногласия лишь приправляют пряной остротой согласие в длительной взаимной благожелательности.
Так и у него с Сабиной. За обоюдной горькой ссорой неизменно следует сладкое примирение и взаимодейственное блаженство двух тел, сторицей дарящих друг другу невыразимые словами радость, восторг, упоение…
Разве мы любим что-нибудь кроме прекрасного? А что такое прекрасное? И что такое красота? Что привлекает нас в том, что мы любим, и располагает к нему? Не будь в нем приятного и прекрасного, оно ни в коем разе не могло бы подвигнуть нас к себе. Каждое тело представляет собой словно бы нечто целое и потому прекрасное, но в то же время оно приятно и тем, что находится в согласовании с другим. Ибо прекрасное есть соответственное…
Первые две книги трактата «О прекрасном и соответственном» картагский ритор Аврелий Августин написал пару лет назад и сейчас обдумывает их продолжение в третьем фолиуме, затрагивающем философские рассуждения о монаде блаженного согласительного разума, противоположного диаде порочной неразумной разделенности, в невежестве порожденной раздором, хаосом и неразумной безрассудной несогласованностью.
Отсюда следует, что Всевышний Благой отец, как скрытая сила неисповедимый и неизреченный, должно быть, есть сверхразумный гармоничный субъект собственного величия и своей красоты, будучи в калокагатии сопряженным сам с собой, наподобие природного тела. Но так ли это на самом деле? Ведь многое, о чем мы, может статься, и не помышляем, действительно истинно. Меж тем тело вовсе не является великим или прекрасным потому, что оно тело: меньшее или менее красивое, оно все равно остается телом.
При всем том, мужское телосложение необходимо упражнять тождественно разуму постоянными занятиями, укрепляющими взаимодействительные задатки того и другого к самосовершенствованию. Следовательно, Аврелий, войдя через палестру в аподитерий прибрежных терм Антонина Пия, по-быстрому сдал на хранение рабу капсарию свои одежды и вещи; не дожидаясь бальнеатора, самостоятельно натерся маслом и без промедления присоединился к сообществу игроков в гарпастон.
Небридий ему еще издали помахал рукой и показал два пальца, сообщив, скольких игроков им не хватает до комплекта. В жесткой и суровой мужской игре, состоящей в погоне и форменной свалке за ускользающим маленьким утяжеленным мячом, они вдвоем проявили свои панкратические способности должным образом.
Хорошенько размявшись, приятно утомившись в борьбе и в плотной гуще скользких тел, Аврелий и Небридий пошли в тепидарий к бальнеаторам, которые скребками добросовестно и умело счистили с их тел пот, грязь и масло. Затем оба окунулись в теплой проточной воде глубокого лабрума, немного утолили голод жареными в масле пирожками с рыбой во фригидарии.
Пусть вам от него этого ждали, но к многоученой натурфилософской беседе: что производит мысль, сердце или мозг? Что есть душа в понимании Аристотеля? — ритор Аврелий Августин с ходу, с налету, наобум подключаться не пожелал. Без долгих физиологических разговоров он вернулся в палестру, где принялся ретиво сражаться деревянным мечом против обшарпанного бревна, примитивно изображающего голову и торс врага. Вот теперь-то можно посетить и жаркий кальдарий, заставить тело досуха пропотеть, после уж побеседовать, подискутировать о чем придется.
К тому же, как он уяснил чуть послушав, никто из тех, кто во фригидарии досуже разглагольствовал о человеческой душе и об Аристотеле, соответствующий трактат афинского мыслителя не читал. Это ему сразу же стало понятно. Его ученикам тоже свойственно с глубокомысленными ужимками и пошлыми ораторскими жестами шевелить пальцами, рассуждая о том, чего они не знают, не понимают, не удосужились прочесть или хотя бы с пониманием выслушать толкования наставника.
Хорошо подвешенный язык и складные речи в научной риторике отнюдь не есть все, друзья мои! К ним в добавку необходимы и письменные книжные знания, какие наилучшим образом определяют аргументы, акты и факты.
Но лучше всего иметь каникулы, когда ничего не надо никому втолковывать. И не вскакивать затемно, кабы поспеть к началу урочных часов. Спи, лежи себе безмятежно, хоть до полудня! Даже если спать, валяться в кровати в принципе не хочется, но одолевают приятно-томительная лень, нега и сладкая дрема.
Просыпаться, подниматься с нагретой постели в пору глубочайшей петушиной ночи Аврелию никогда не было по душе с самого раннего школьного детства. То ли дело праздники и каникулы! Наверняка оттого он избрал профессию грамматика и ритора, коли благословенный отдых от учебных трудов суть единодушное удовольствие, наслаждение, блаженство — как для учителя, так и для его учеников. Во имя этакого благого дела годятся абсолютно все праздничные неприсутственные дни: какие ни есть языческие религиозные, христианские или городские, установленные картагскими декурионами и магистратами…
Воротившись из кальдария, Аврелий повторно ополоснулся в теплой текучей воде лабрума, отдался на милость и артистичность банного эпилятора, стойко вытерпел болезненную процедуру бритья, попутно прислушиваясь к жаркой дискуссии, развернувшейся в прохладном фригидарии старых терм кесаря Антонина Пия.
Немалое число слушателей и диспутантов сосредоточил вокруг своей особы какой-то заезжий из Рима рыжебородый софист. По всей очевидности кичливый грек не очень-то скрывал, насколько чванливо он презирает африканских варваров и спесиво превозносит сверх всего и вся аттическую мудрость, мол, от природы свойственную уроженцам Афин. При этом заносчивый языкатый италийский афинянин высокомерно позабыл или не сообразил, что ораторствует он не просто в римском, а в пунийском городе. Не лимитрофный бургус, но все-таки…
Аврелий едва дождался, покамест цирюльный артифекс не налепит ему пластырей на порезы (без резаных ран, ай-ай, бритья не бывает) и подозвал знакомого разносчика с вином. Тот сноровисто и гладко снес широкое гипсовое горлышко глиняной бутылки-лагены, долил ее водой, с поклоном протянул премного уважаемому и кредитоспособному покупателю, а между делом получил тихие риторские указания для передачи их шепотом веселым сотоварищам и старшим ученикам магистра Августина, затесавшимся среди слушателей. Зарвавшегося греческого софиста требуется образцово наказать в пунийском духе.
На всякую хитромудрую голову довольно простодушия, и грек легко поддался на подстрекательское предложение подробно и последовательно изложить личные философские взгляды об элементарных первостихиях и взаимопереходах первоначал. Как и предполагалось, разом будто бы уважительно замолчавшие оппоненты его отчасти смутили. Тем самым стало понятно, что ему категорически необходимы утверждающие или отрицающие, порицающие театральные реплики вовлеченных в полемику слушателей, подобно многим другим софистам-гистрионикам.
К монологической лекторской декламации красноречивый грек оказался не очень-то способен в молчаливом и недоброжелательном окружении. В то же время ни поддакивать банному оратору, ни возражать ему никто не собирался, если вскорости кто-то безусловно возьмется за логический словесный труд рационально, аналитично опровергнуть приезжего краснобайствующего наглеца и нахала.
Поначалу Аврелий думал тактично промолчать, спокойно попивая каламское винцо. Пусть кто-нибудь другой укажет заносчивому греку на его истинное афинское смрадное место, где тому надлежит быть и не оскорблять зловонно многоуважаемых картагских квиритов, философски образованных не меньше, может статься, и побольше иных высокомерных афинян.
В римском праве предъявляемое обвинение и апология защищающейся стороны есть монолог, какой сродни прочтению вслух, намного превосходя по смысловой и образовательной значимости майевтический диалог древних греков-сократиков, — учил и постулировал картагский ритор Аврелий Августин. Тождественны развитой римской монологической образованности и любая развернутая лектура: чтение книг, загодя размеченный ученический письменный лекцио, расписанная предварительно декламация поэта.
Вопреки и вспять, в диалогическом устном споре противоборствующих противоречивых мнений истина не рождается, но гибнет, запутавшись, заблудившись, в пышных и буйствующих диких словесных дебрях. Зато по всем правилам упорядоченной письменностью диалектической риторики монологи обвинения и защиты выявляют истину и соответствие правдивой действительности притязаний тяжущихся сторон. Ибо лишь в монологе воистину проявляются как мудрость, обоснованность, так и глупость, безосновательность той либо иной противостоящей позиции.
Монолог есть речь, умственно подготовленная к рациональной записи в ипостаси судебного постановления, эдикта или закона. Не случайно мы утверждаем, что общие, относящиеся ко всем гражданам конкретные законы пишут, а не произносят их и не декламируют, провозглашая абстрактно неизвестно кому и не разбери-поймешь для кого.
Между тем любой неписаный как бы закон есть не более, нежели местный обычай, непригодный в общегосударственном употреблении. Потому что в какой ни возьми туземной местности бытуют своеобразные оригинальные обыкновения, привычки и нравы, называемые в генесисе устными народными традициями-преданиями.
Потому и религиозные сюжетные установления нарицательно именуются по-латыни легендами. То есть тем, чего нам следует по существу прочесть и по сути узнать о житиях святых, божественных угодников либо о божествах демонической природы, как предполагается, покровительствующих, скажем по-гречески, деспотическим полисам и разумным людям, в них обитающим.
— Рассуждаем мы здесь, разумеется, легитимно филологически, вне приверженности той или иной религии, мои умнейшие коллеги, без чего немыслима судебная либо сенатская совещательная риторика…
В профессорских рассуждениях с учениками ритор Аврелий ставил перед ними достаточно много филологических проблем, антиномий и этиологий, но ни разу не касался того, сколь существенно, иногда даже апорически, письменное выражение человеческого рассудительного мышления поразительно и феноменально отличается от устного изложения вроде бы одних и тех же словесных понятий. Коли на то пошло, если и кому дано писать, ясно излагая свое понимание, то это уж дар свыше, так же, как и умение талантливо читать, понимая, чего же в конечном итоге жаждал описать, выразить или изобразить автор-творец, осененный множеством мудрых мыслей.
Есть ли в ком-либо Бог, или же неведомый неизреченный Всевышний не благорасположил присутствовать в отдельном разуме человеческом, определяется чаще всего в видимом, осязаемом творении людском, а не в пустословном сотрясании воздуха. Ибо лишь написанное и сотворенное остается какое-то время в цивилизованной памяти.
Кто бы из нас чего-нибудь знал, помнил о стародавней Троянской войне, если б не безвестная фигура письмоводителя, положившего в алфавитных знаках письменных устные авторские песнопения Гомера? Мало ли было громких войн в древности? Возможно, где-то кто-то воевал не в пример серьезнее и основательнее по сравнению с легионом ахейцев, осаждавших Илион.
Тождественно тому, кто бы нынче упоминал древних языческих философов-краснобаев, кабы у них не имелось учеников, прилежно записывавших речи тех самых так именуемых учителей мудрости?
Для самого себя Аврелий образно, фигурально сравнивал мудрость письменную и устную, представляя их, как рассмотрение чего-либо непосредственно глазами и наблюдение за отражением того же предмета посредством зеркала. Предметная идея-эйдос одна и та же, но зеркально видится по-разному. Ты поднимаешь левую руку, твое отражение тянет правую. Ты двигаешься влево, твой зеркальный двойник уходит вправо. И наоборот. Ты отходишь от зеркала, и все, что в нем отражается, начинает уменьшаться.
То же самое и при чтении, когда видишь и понимаешь значительно больше, сравнительно с тем, чего услышишь. Наверное, из-за того однажды написанное и зачитанное вслух воспринимается яснее, — отменно видно, где правда, а где ложь, — в сравнении с устным рассказом, почасту затемняющим смысл дела, побуждения и намерения повествователя или тех, о ком он тебе передает.
Божественный дар речи, включая изустное понимание, дан кому попало, по природе умным и глупым, кроме неразумных уродов, скудоумно душевнобольных, а также немотствующих от рождения или по увечью. Однако письменная книжная духовная мудрость дается далеко не всем встречным-поперечным.
Нет ничего проще, чем обучить разумного ребенка либо взрослого выводить буквы на восковой табличке, — знал Аврелий по своему плодотворному опыту грамматика в родной Тагасте. Так же точно, — хоть бы и вопреки желанию обучаемого! — любого можно научить складывать буквы в слоги, нанизывать их в слова, а из слов составлять осмысленные фразы. Вместе с тем вовсе не всякий сумеет в дальнейшем без учительской ферулы, розог и подсказок самостоятельно, связно, вразумительно что-либо развернутое написать, описать. Либо прочитать и дословно уразуметь нечто написанное другими.
Вот отчего ритор Аврелий зеркально различал умы письменные, непосредственно черпающие первичные знания из кладезя книжного общечеловеческого разума, и умы изустные, получающие вторичные сведения о бытии и понимание его исключительно посредством попутных разговоров, праздной болтовни и чужих толкований кем-то когда-то прочитанного. Такова, кстати сказать, вся древнегреческая философия, сплошь и рядом относящаяся к разговорному жанру, за исключением величайшего книжника Аристотеля Стагирита, пожалуй, знавшего, как различать то, что следует сказать для временного ученического употребления, а что должно написать на века для потомков.
Об этом аристотелевском различении Аврелий Августин не распространялся всуе ученикам, потому как относил его к своему собственному тайному оружию, способному обеспечить большую победу в эристических дебатах, в судебных словопрениях или в философском диспуте. Тем более, если суетливо болтливый противник нимало не подозревает, не догадывается о его существовании, не понимая, чем таким его больно бьют и целесообразно побеждают.
То, что многоречивый грек не умеет самостоятельно читать, Аврелий сообразил немного погодя, когда тот, прежде заявив о себе как о стоике, нечаянно, сам того не разумея, принялся упоенно резонерствовать в типичном модусе собачьего философа-киника, вульгарно объясняя все упорядоченно сущее некоей природной целесообразностью, которой, дескать, следует неуклонно подчиняться. А в оппортунистическом следовании требованиям телесной природы этот банный краснобай находил, — подумать только! — несомненную стоическую добродетель.
Нет, скорее нужду выдавая за добродетель. Ох метаморфозы… Вот уж воистину мудрость золотого осла!
Когда же грек наконец не исчерпал разговорные доводы, но попросту утомился, и в горле у него порядком пересохло, ораторское слово взял ритор Аврелий, воспользовавшись безмолвием аудитории, ни мало ни много однако ошеломленной каскадами и водопадами устного краснобайства афинянина.
Вульгарно спорить с киником о тени осла Аврелий Августин ничуть не намеревался. Вместо того он приступил к поэтапному, последовательному, аподиктическому, в аристотелевском духе эмпирическому опровержению первоисточников, на какие опираются пестрые эклектичные воззрения тех говорунов-платоников, от кого изустно на форуме, на агоре, под портиками-стоями перенял доводы, аргументы и полемические приемы грек Гипат. Последний в конце концов все же удосужился представиться вежливо, обходительно внимавшей ему благородной картагской публике.
С первых же латинских слов греческого оратора известный картагский декламатор и ритор Аврелий Августин не преминул отметить: его потенциальный оппонент есть гордящийся книжным невежеством язычник-политеист из простонародья. Стало быть, без нужды им прибегать к авторитету каких-либо сакральных непререкаемых-де писаний. Потому, начав возражать и опровергать, Аврелий обошелся без прямых ссылок. При том и сам-то грек словно нарочно на месте подставлялся, напыщенно цитировал косвенные, перелицованные, искаженные пошлым простонародным зазнайством философские знания древних. Без малейшего упоминания об исходном авторстве, беззастенчиво присваивал чужие умопостижения и мыслительные достижения, издревле находящиеся в популярном словоупотреблении.
Будучи истинным магистром и фабером риторики, Аврелий мог бы и не опровергать Платона Аристотелем, а наоборот, доказать их несомненное представительное единство во взглядах. Однако же с киниками следует и обращаться кинически. Как они говорят, природосообразно и повсеместно.
Из-за того признанный ритор и декламатор Аврелий Августин, увенчанный лаврами победителя не в одном поэтическом состязании, коварно, исподволь, плавно, логично завел каверзную речь об именах и званиях, сбивая с толку и раздражая оппонента использованием по методу Саллюстия малоупотребительных старых слов и подзабытых книжных выражений. По форме они навроде бы понятны, латынь есть латынь, но в их иронический смысл и насмешливое содержание требуется вникнуть, что весьма нелегко для тех, кто привык к поверхностному говору, зачастую противоположному углубленному чтению.
Оттого ритор Аврелий очень уместно, красноречиво прикрыв глаза, словно бы мысленно читает, воспроизвел в деталях велеречивую старинную легенду, возможно, греческую басню о том, как аттические женщины, одним-единственным политическим голосом победившие при выборе названия новообустроенного города, некогда демократически нарекли этот полис именем языческой Афины-Минервы.
Тут уж оскорбленный в мужской гордости грек, может быть, в пароксизме афинского патриотизма не выдержал, выдал издевательскую ремарку на классической латыни, доказывая, дескать, и ему в древностях ведом толк:
— И вам безутешная царица Дидона предрекла, почему Картаг должен быть разрушен!
Ему же в ответ немедля взревел хор доброго десятка возмущенных картагских голосов:
— В клоаку нечестивца!!! Гипата в клоаку! Дерьмо к дерьму!
А те, кто промолчал, суеверно по-христиански скрестили пальцы.
Тотчас несчастного, ничего не понимающего опрометчивого грека десятки рук подхватили, подняли на плечи и с улюлюканьем потащили вон.
Понятное дело, коли по недомыслию никем не предупрежденный Гипат допустил непростительную оплошность, высказав самое что ни на есть дурное предзнаменование и злобное проклятие жителей Картага, каким со времен последней пунической войны является историческая пресловутая фраза о разрушении их родного города.
Сказать так картагцам есть то же, что и во всеуслышание пожелать похоронной процессии счастливого пути и благополучного возвращения. Увечить и убивать не станут, но беспременно побьют, больно ему всыпят, постараются чувствительно выколотить дурь из невежи и грубияна, обладателя скверного языка, невместно предсказывающего неоднократные смертные несчастья.
Чем больше злого дурака отлупить, тем меньше сбывается зловещательная примета, — обыкновенно берут за непреложную истину суеверы-язычники.
Потому невежественного Гипата на всякий случай примечательно и непреложно, будто исполняя священный обряд, повлекли за перистиль на берег моря к большой городской клоаке туда, где она соединяется с отводом нечистот из терм. Подняли со скрипом ржавую тяжелую решетку и дружно спустили треклятого бедоносца вниз, стремглав подале, а с ним и предреченные беды-горести пускай благолепно смываются, проваливают. Для надежности железную решетку здоровенным камнем сверху привалили благочестные картагские квириты.
Благо по причине ведренной осенне-летней, истинно виноградной солнечной погоды клоака значительно обмелела. Утонуть нечестивый грек не утонет. Ну и прекрасно, нечего брать на душу грех нечаянного смертоубийства, будь то по-христиански или в языческой традиции.
Оттуда у горемыки два надежных пути. Либо двинуться короткой дорогой вверх по вонючему течению, пройти каких-то полсотни футов и вернуться в термы, поднявшись по склизким ступеням через отхожее место. Либо, кинически проклиная грубых африканских варваров, по колено в мерзком дерьме брести полстадия с лишним под уклон под каменным сводами клоаки к ее устью.
Куда собственно потащится на свет посрамленный в диспуте грек, никого не интересовало. Сам же ведь он дискуссионно утверждает: то, что внизу, то и наверху. Скажем, повсеместно всячески…
КАПИТУЛ VII
Картаг и окрестности в сентябрьские календы на виноградных каникулах у школяров и профессоров.
Сколь ни хотелось Аврелию подольше задержаться в термах, радостно, тщеславно принимая многие поздравления и чин чинарем бесплатную выпивку от благожелательных картагцев, тем не менее нужно поспешить домой на обед к Монике. С собой, по настоятельной просьбе матери, он пригласил только двух старых знакомцев — Дамара Небридия и Романиана Скевия, тоже уроженцев Тагасты.
Благодаря материнским настояниям и ее неустанным рачительным усилиям, во время чинного обеденного застолья, намечавшегося из различных перемен вкусных разнообразных блюд, их также ожидает благороднейшее чтение, призванное услаждать слух и упражнять разум званых гостей. С этим Аврелий Августин по-хозяйски фамильно согласился; напрасно женщине не перечил, чтобы и литературу ввела в домашний профессорский обиход да в семейный уклад почтеннейшая тагастийская матрона Моника Августиана.
Сегодня за обедом им предстоит приступить к фабульным перипетиям-переломам «Узнаваний» в десяти кратких, удобных для чтения вслух, книгах сомнительного авторства Климента Римского. Эту хитросплетенную словесность набожной Монике отрекомендовал какой-то христианский пресвитер то ли еще в Тагасте, то ли уже в Картаге. Тогда как Аврелий, ранее ознакомившийся с этим греческим текстом под титулом «Анагнорисы», счел его произведением скорее антихристианским и еврейским, допустим, и речь в нем идет будто бы о христианах-римлянах из августейшей семьи.
Являясь почтительным и уважительным сыном, как-либо разочаровывать мать он не пожелал. Семья остается семьей, пусть себе он ее глава, старший в роду, если брать в номенклаторском смысле и в фамильном установлении. Лучше после когда-нибудь в либеральной дружеской беседе с Небридием и Скевием подробно размозжить, разгромить, раздраконить, раздробить те самые авантюрные «Клементины», какие некоторые малосмысленные в ученом правоверии христиане чтут в ложном качестве духоспасительного чтения.
К тому же с возрастом у матери явно ослабело зрение, хотя она и раньше-то плохо различала вблизи даже крупно выведенные слова в слитных строках на пергаменте и папирусе. Зато ее доверенный глазастый раб-чтец Клар четко видит и выразительно, с цезурными паузами, читает при свете масляных светильников, когда солнце заходит, а обед по-римски все еще продолжается.
Плотно и продолжительно обедать Аврелий предпочитал за час или за два до заката и никогда не любил разрубать надвое светлый день, предаваясь сну в пополуденное время. Эту восточную сонную привычку по-всякому не принимает его телесная душа.
Ясен свет, спать-то надо темной ночью, по крайней мере очень ранним летним утром. А полноценные дневные часы во всякую пору года должно всецело посвящать деятельному мыслительному бодрствованию. Такова жизненная потребность любой достаточно разумной души.
Может быть, на обеденное чтение как-нибудь подсунуть Клару «Жизнь Аполлония Тианского»? — по поводу мимоходом принялся размышлять Аврелий.
К упомянутому творению Флавия Филострата и ко всевозможным языческим теургам картагский ритор Аврелий Августин относился весьма скептически. Но его матери оно должно определенно прийтись по душе и по сердцу. Или где там еще, в каком органе или членах тела у человека поэтически зарождаются конгениальные мысли перед обедом?
— Игитур, направим поскорее наши стопы, друзья мои, к общему застольному предложению! Ибо всяческое брюхо гораздо активнее, нежели достопочтенные сенаторы, голосует ногами за ежедневное пропитание. Литургически выразимся по-христиански: хлеб наш насущный подайте днесь! — иронично провозгласил Аврелий.
Какой-либо дорожной дискуссии на животрепещущие религиозные или политические городские темы между тремя друзьями не возникло, поскольку все трое словно врасплох проголодались. Посему они ускорили шаги, на ходу перебрасывались незамысловатыми шутками насчет встречных надутых магистратов, — тощих и толстых — должно быть, также торопившихся к семейному обеду по завершении сущих общественных обязанностей, торговых и пекуниальных дел.
По африканскому обыкновению жители Картага в жаркий полдень не обедают, но лишь слегка утоляют голод. Да и то не все и не всегда. Но вот ближе к закату наступает всеобщий праздный обеденный час и для торговцев съестными припасами. Хотя к разносчикам горячей пищи это не очень относится, и они деловито перемещаются от Верхнего и Нижнего рынков, от форумной площади поближе к жилым многоярусным инсулам, где многие жильцы не утруждаются поваренными хлопотами и не выносят отвратного поварского чада в частном тесном жилье.
Когда-то Аврелий в таком вот общежитейском модусе чаще всего питался, обходясь немудрящей готовой провизией в разнос. Теперь же другое дело при Монике и наличествующем искусстве их умелого тагастийского повара Апикиана. Можно и друзей надлежаще угостить на славу, до отвала…
К мысли будь помянуто, провальным пороком чревоугодия лично Аврелий Августин вовсе не подвержен и не повадлив на многоядение, наподобие древнего принцепса Вителлия. Почасту обходится малым и не испытывает мифологических танталовых мук вследствие отсутствия горячей и жидкой пищи. Он вполне способен продовольствоваться утром и в полдень парой киафов молодого кислого вина да куском сухой ячменной лепешки с ядрено-пахучим гарумом.
Не то чтобы он полностью равнодушен к еде. Но обычная нехитрая снедь или же, берем в развитии, щепетильные изысканные яства стоят у него далеко не на первых местах среди наслаждений и удовольствий, даруемых жизнью и Вседержителем.
К повальному безудержному пьянству он, Аврелий Патрик Августин, тоже вроде бы не привержен вплоть до неподобающих излишеств. Например, до окончательного положения риз в разгульном коммисацио, когда всякий в состоянии утратить разумный человеческий облик и цивильное подобие. Бывает, и того хуже, если безрассудно алчущий винного веселья и забытья понемногу превращается в покорного раба питьевого греха и дурного неотвязного привыкания к избыточному винораспитию.
Соблюдающему меру и умеренность в телесных удовольствиях, намного большее наслаждение, воистину не сравнимое с чрезмерной едой и чрезвычайным питьем, Аврелию доставляет умственная привычка к неограниченным размышлениям и свободным рассуждениям. Причем вольно рассуждать и размышлять возможно и устно и письменно, в беседе и за чтением. Или же, если сам-перст чего-либо сочиняешь, небрежно, своевольно набрасываешь в знаках письменных ради вящей ясности излагаемых так либо иначе рациональных мыслей, резонных доводов и вдумчивых силлогизмов.
А для таких молчаливых раздумий оптимальнее всего подходят вечерние часы — от сумерек и светильного факса до упокоенной пополуночи. Вот отчего этим вечером до утра распростившись с друзьями, пожелав Монике благополучных и благоприятных сновидений, Аврелий удобно устроился на ложе у себя в комнате с чистыми табличками и острым стилом, не забыв подложить повыше две подушки.
Он не затруднялся писать при малом коптящем свете масляного фитилька, если письмо помогает ему думать. И в потемках правая рука знает, не глядя, чего ей надлежит делать. Тогда как перечитать, стереть ненужное круглым концом стиля, выправить написанное можно и после, при ясном свете белого дня.
Сколь же неясны и разноречивы представления людские о времени!.. Для кого-то, кто по старинке ежевечерне следует луне, новый день начинается с ее восходом. Тем временем по солнцу в современном летоисчислении любой из 365 дней настает лишь с рассветным появлением прекрасного дневного светила, что и отражается зеркально, двойственно, соответственно в сакральном писании христиан словами: был вечер, и было утро — берем их из книжной премудрости бытия в генесисе. Спрашивается, определяет ли само бытие как сущее наше разумное его осознание вo времени и пространстве?..
Вопросительно отметив эту посылку, Аврелий не стал развивать ее далее в силлогизм, потому как непрошено припомнил, почему к мыслительному препровождению именно вечерних часов он привык, приспособился, живя в инсуле на четвертом ярусе. Тихая приглушенная ночь, она ведь для раздумий, а громозвучному яркому бодрому дню соответствует бурлящая, кипучая, порой бессмысленная бессознательная деятельность.
Скажем, суета сует и всяческая суета день за днем в общем равенстве никому не дают покоя, начиная от гордых древнейших царей и кончая нынешними распоследними рабами — чистильщиками и черпальщиками отхожих мест. И первые становятся не лучше и не хуже последних, в пешем строю быстро ли медленно поспешая в равно всем нужное заведение или к ночной посудине на сон грядущий.
После в переполненной людьми и рабами инсуле мало-помалу смолкают иные надоедливые шумы: досужая болтовня, жадное чавканье, похотливое чмоканье, ритмичное хлюпанье, хриплые вдохи-выдохи, хрюкающее сопение, сладострастные стенания. Сонный глухой храп и присвистывание во сне не так уж досаждают, чего никак нельзя сказать о звуках, производимых совокупляющимися мужскими, женскими членами тел или праздными, столь же бескостными сущеглупыми языками.
Теперь, когда Моника приобрела небольшой домус-особняк в Нижнем городе, бездумный животный и рабский галдеж не так уж раздражающ по вечерам. Но все равно утомителен, коли ты не глух как пень, хотя и потише, чем в инсуле, битком набитой человеческими телами.
Неспроста образцовые и хваленые римские поэты-язычники отдавали предпочтение глухой деревне перед шумным городом, одержимом перенаселенностью. От сельской безлюдной тишины и покоя, думается, происходят их греко-латинские буколики, эклоги, идиллии. Потому-то у них утренняя розовая демоница Аврора-Эос, чуть глаза продрав, водит лесбийское дружество с пандемониумом из девяти аллегорических муз, опекающих-де искусства и науки.
Между прочим, в древнееврейской Книге Бытия буквально согрешивший похотью ветхий Адам аграрно наказан деревенской жизнью и возделыванием полей в поте лица своего. В самом прямом тебе смысле, если пшеничные ростки натурально глушат волчцы и терние, а провеянное зерно надлежит еще евангелически отделить от плевелов.
Тождественно, ветхозаветно выходит и в познании бытия, в гносеологии, запишем по-гречески. Испокон веков умных слов устных и письменных, просторечных и книжных много-много, им тесным тесно; бессчетно они налезают друг на друга без промежутков и пауз. Зато глупым мыслишкам чересчур просторно, коли они суть немудрящие полторы-две навязчивые идейки, какие крутятся, вертятся, гуляют вам на широком пространстве неисчислимых книжных страниц, на форумах, под высокими сводами общественных зданий в обширных и бескрайних речах. Как исторически началась бесконечная политическая говорильня у греков, так и доселе она не кончается, бессмертно возвращаясь на круги своя.
Вернее сказать: болтливые языки новые, а мысли-то старые… Вот они где наши риторика и красноречие!
Прекрасное есть соответственное и своевременное. Кому раннее ребячье утро, иным же поздний старческий вечер придают мудрости и понимания. Опять же: был вечер, и было утро…
Поутру Аврелий Августин в большом дружеском сообществе, как и было заранее договорено, отправился за город на виллу к одному из родственников Скевия Романиана на праздник сбора винограда. Словом, начало повсеместных виноградных каникул необходимо отпраздновать по традиции где-нибудь в сельской глуши.
Для того, чтобы в частности выехать по утреннему холодку, можно вообще-то и подняться с постели спозаранку, ни свет ни заря, вразрез законной празднолюбивой каникулярности в эти сентябрьские календы. И одолжить на три-четыре дня в цирковых конюшнях умеренно пожилую буланую кобылу Психею.
В ярых и бешеных поклонниках конных состязаний Аврелий ничуть не состоит, цирк посещает не всякий раз в общегородские дни ристаний, но лишь в доброй компании, поддавшись на уговоры. Кстати, к партии «зеленых» его полноценно и безоговорочно приписал Скевий Романиан, чья фамилия издавна поставляет прославленных гетулийских скакунов и подготовленных нумидийских возничих в многочисленные конюшни римского домината на Востоке и на Западе.
Против зеленых цветов Аврелий нисколько не возражал, если эта символическая партийность позволяет ему регулярно за небольшую помесячную плату брать какую-нибудь отбракованную лошадь для упражнений в верховой езде и коротких загородных прогулок.
Там же в закоулках и кладовых цирка, экономически и автономно, отметим по-гречески, принадлежащих «зеленым», он соответственно экипировался, а также вооружился более-менее приличной кавалерийской спатой. Звание и обязанности полноправного картагского куриала ему вполне позволяют иметь и носить любое оружие. Хотя дома ни меча, ни копья, ни доспехов он не держит, не хранит — в городе-то воинское снаряжение без надобности. Тем не менее в сельской местности, кто вооружен, тот считай и предупрежден в какой-то мере против возможных дорожных неприятностей и разбойных неожиданностей. Тем более завтра они намереваются двинуться дальше в малонаселенные предгорья к истоку сверхдальнего акведука кесаря Адриана, снабжающего свежей водой проконсульскую столицу.
Здесь вам не там, в упорядоченнном законами метрополисе. При виде беспечной и безоружной жертвы всякий нищий, оборванный и убогий поселянин в дикой деревне может в момент непринужденно обернуться разбойником с большой дороги. И сверх того, на узком проселочном пути между имениями и виллами, если где-нибудь в засаде пристроились, залегли его сообщники и пособники.
Тогда как с вооруженным человеком сборища тунеядствующих колонов и праздношатающихся рабов связываться зачастую не очень-то осмеливаются. Потому что неизвестно, насколько он умел, искусен в обращении с мечом, копьем, луком. Более того, когда цивилизованный человек, способный с честью носить оружие, путешествует отнюдь не в одиночку. Оптимальнее втроем, впятером или же в большем оружном числе совершать долгие полевые поездки за укрепленными стенами бургуса, каким по сути является любой город южного лимиса римского мира.
Не втуне и не вотще повозки с шатрами, постелями, утварью, с пиршественными припасами, включая старое вино и молодых женщин, сопровождает дюжина умелых и крепких вооруженных до зубов доверенных рабов ланисты Константа Фезона.
Конечно, профессия ланисты, обустраивающего, обставляющего рабами, людьми и зверьми гладиаторские зрелища, у добропорядочных квиритов обыкновенно числится малопочтенной, сверх того, презираемой и ненавистной, особенно среди рьяных христиан. Но добрый приятель Романиана ливиец Фезон есть совершенно и явственно другое дело. И у Аврелия он не вызывает излишне неприязненных чувств, пускай кровавые игрища в цирке и в амфитеатре ни в малейшей мере не состоят в перечне его неимоверно любимых развлечений.
Будучи владельцем передвижного зверинца и странствующей от города к городу гладиаторской школы, Констант — довольно необычный ланиста. Ведь у него на арене добровольно, без принуждения травят зверей, преступников и сражаются только свободнорожденные или же те бывшие рабы, кого он самолично отпустил на волю по окончании длительного обучения непростому воинскому искусству.
Среди преданных ему людей сражения до триумфального конца, до смертельного исхода, один на один или в группе, Констант не поощрял и всячески стремился их не допускать при заключении договоров с устроителями гладиаторских игр, чистоганом оплачивающих его довольно дорогостоящие услуги. Профессионалам такое ни к чему и лишнее, когда почитай во всяком африканском городе раз к разу найдутся приговоренные к публичной смерти отъявленные преступники, против кого можно выставить опытных искусных бойцов, умеющих налицо обеспечить трогательную зрелищность и увлекательную театральность.
Хороший благоустроенный каменный амфитеатр в столице проконсульской Африки наличествует, но своей постоянной гладиаторской школы в Картаге не имеется — как-то в последние времена ни у кого не сложилось, не залучилось, не получилось. Поэтому отцы города и состоятельные декурионы часто и охотно прибегают к профессиональному содействию ланисты Константа Фезона. Ведь дух захватывающие зрелища и развлечения гражданам всякого рода-племени, сословия и состояния любо-дорого требуются не меньше хлеба насущного и ежедневного мытья в термах.
Если хочешь заиметь всенародную популярную любовь и демократическую поддержку квиритов, то обязательно устраивай побоища смертников-гладиаторов, смертоубийственные цирковые скачки квадриг, строй и обновляй бани или, на худой конец, надолго обеспечивай из наличных средств бесплатное мытье и горячую воду в термах, — республикански умозаключил Аврелий Августин, нимало не возражая, чтобы Констант Фезон деятельно и посильно присоединился к их идиллическому виноградному путешествию.
Скажем начистоту: таковы природа и человеческая грязная жизнедеятельность, коль скоро повсюду от рождения до смерти полновластно господствуют живая смерть и мертвая жизнь. Любое бренное и тленное тело рано или поздно приговорено и обречено на умирание. Из праха в прах.
На природе от грязи и пыли на проселочной дороге тоже никак не избавиться, а потому лучше далеко обогнать пылящие повозки, затем пустить лошадей шагом и предаться неспешной попутной философской беседе. Не во грех и не в ущерб, если в ней немного поучаствует ливиец Фезон, знающий что почем в театральных и цирковых представлениях.
— …Простому зрителю ой как хочется возомнить себя там внизу, на арене со львами, привидеться самому себе великим и могучим воителем, бесстрашным удалым охотником на диких зверей, отважным колесничим, ухарски нахлестывающим шалую квадригу. Хотя для того заурядный жирный завсегдатай конских состязаний и гладиаторских спектаклей не обладает ни доблестью, ни храбростью, нет у него самых примитивных навыков, сноровки или маломальской подготовки.
Смерть на арене всегда привлекает только тех, у кого сердце заплыло жиром, — глубокомысленно итожил личные театральные наблюдения за низменной людской натурой ланиста Констант Фезон. Даром что ему приходится физически взирать на публику снизу вверх, видимо, морально оценивает он ее с высоты настоящего положения, профессионализма. И мнение у него о ней складывается весьма низкое, как и у немало искушенного в своем деле человека, кому свойственно воспринимать пренебрежительно болванов и профанов, не посвященных в таинства, трудности и подоплеку его искусства или ремесла.
Августин как-то не ожидал подобного глубокомыслия и проникновенного понимания от старого пройдошливого ланисты, насилу увязавшегося за молодыми философами, поначалу пустившими лошадей резко вскачь, чтобы поскорее оторваться от медленно плетущегося каравана. Зато Романиан посматривал на друга Аврелия с некоторой гордостью и самомнением: знай, мол, наших — цирковых да конюшенных мудрецов.
Понятно, чeгo наш дорогой друг Скевий имеет в виду, если когда-то у его отца ливиец Констант в молодости великолепно объезжал и укрощал зверских и свирепых гетулийских жеребцов.
— Действительно, — вдумчиво согласился с умудренным опытом ланистой Константом молодой ритор Аврелий, — в театральных действах многие зрители миметически, подражательно так же ставят себя на место актеров, переживая вместе с ними чужие чувства, какие автор вложил в исполнителей творческих замыслов и вымыслов.
— А я о чем вам говорю, мои дражайшие коллеги? — риторически подхватил Констант. — Мои доблестные гладиаторы, как бы их ханжески ни поносили болваны и профаны, — те же актеры, по-своему подражающие сражающимся на поле боя славным воинам. Да и военные действия здорово смахивают на театр, когда б кто-нибудь смог воочию окинуть их взглядом со стороны, находясь где-нибудь на безопасном удалении от кровавых схваток. А именно, за барьером, на скамьях амфитеатра…
Ритор Аврелий ничего не имел против того, чтобы ланиста Констант самовольно записался в его коллеги. По сути дела, их ремесла, профессии, искусства обоюдно соответствуют одно другому, если оба они создают условия, готовят, обучают ответственных учеников для участия в ристаниях на том или ином жизненном достаточно театральном и публичном, порой истинно трагедийном, поприще.
Потому он и продолжил обмен мнениями в том же откровенном ключе:
— …Почему человеку так хочется печалиться при виде горестных и трагических событий, испытать которые он сам отнюдь не желает? И со всем тем он, как зритель, хочет испытывать печаль, и сама эта печаль для него наслаждение. Удивительное безумие!
Человек тем больше волнуется в театре, чем меньше он сам как-либо защищен от подобных переживаний. Но когда он мучится сам за себя, это называется обычно страданием. Когда же мучится вместе с другими — состраданием и сочувствием.
Но как можно сострадать выдумкам на сцене? Слушателя ведь не зовут на помощь, его приглашают только печалиться, и он тем благосклоннее к автору этих вымыслов, чем больше печалится.
Когда старинные или вымышленные бедствия представлены так, что зритель не испытывает печали и гнева, то он уходит, зевая и бранясь. Если же его заставили печалиться, гневаться, сопереживать, то он сидит, поглощенный зрелищем, и радуется, наслаждается, восхищается…
Сродни трагедии также гладиаторские зрелища в амфитеатре. Как только увидит зритель кровь, он тотчас невольно упивается свирепостью. Пусть себе до того он был трижды предвзято предубежден и предупрежден. Теперь он не отворачивается, а глядит, не отводя глаз. Он неистовствует, не замечая того, наслаждается опаснейшей борьбой, пьянея кровавым восторгом. Он уже не тот независимый человек, пришедший посторонь взглянуть на занятное представление, но один из вовлеченной тысячеглазой разгоряченной толпы, которая исступленно вопит и безумствует в едином слитном порыве во все многотысячное горло, каковое, кажется, у нее одно на всех.
Такие вот мысли мне намедни навеяло исповедальное письмо нашего общего друга Алипия из Рима…
Путники и не заметили, как за увлекательной дорожной беседой прибыли в пригородное пунийское имение Мильката, двоюродного брата Скевия Романиана. Успели вовремя, чтобы застать разгар хлопотливых приготовлений к послеполуденному празднеству сбора нового урожая картагской лозы.
Конечно же, земли в окрестностях Картага не те, что в Каламе или в Гиппоне, дающие вина не хуже, может статься, и получше, чем черный, поэтически бессмертный фалерн или же именитое светло-золотое цекубское. Однако и продукт от земнородных щедростей красной африканской лозы, взращиваемой под пылающим южным солнцем вблизи большого города, иногда бывает достоин искренних похвал, непритворных славословий тонких ценителей и признанных арбитров хмельного пития.
Далеко не случайно таким вот записным арбитром-магистром, к тому же отменным виноделом оказался Милькат из многоуважаемой фамилии тагастийских Романианов. Он и объяснял гостям кое-какие особенности проведения трудового страдного виноградного праздника у него на вилле Акирамус.
На пологом спуске у ворот к тому часу установили и закрепили два огромных высоченных глиняных чана, похожих на циклопические греческие кратеры без ручек. Не меньше десяти локтей в высоту и шести в ширину. Сейчас к ним подводят лестницу-подиум и плотно присоединяют деревянные трубы-отводы к отверстиям в нижней части каждого прессовального сосуда. Скрупулезно, чтоб ни пролилось ни капли винного сусла, замазывают щели свежей сосновой смолой. Приготовлены понизу, рядком лежат полдюжины собственно виноделательных больших двуручных амфор с крышками. Парочку уже поставили острым концом в землю, в полной готовности принимать смешанные соки земли и солнца.
— …Все в точности, как делали мои отдаленные сидонские пращуры в пунийской Низинной долине на берегах Леонта, мои достопочтеннейшие гости, — профессионально комментировал Милькат. — Нашу леонтийскую лозу мы и привезли через море на Запад: в Грецию, Испанию и сюда, в Африку. Ведь это мы, пунийцы, научили темных апеннинских и пелопоннесских варваров-пеласгов просвещенному солнечному виноделательному искусству, наше вам почтение…
От пунических горделивых древностей хозяин тут же озабоченно отвлекся, как только стали прибывать запряженные быками скрипучие повозки, тяжело груженые полновесными тростниковыми корзинами с новым урожаем. Начали подтягиваться и прочие участники вместе с любопытствующими зрителями виноградарского торжества.
Словно священнодействуя, каждую из виноградных корзин искушенный винодел придирчиво досматривал, по локоть запускал в них обе руки. Какую утварь отправлял в правый чан, иную опорожняли в левый, что-то негодящееся велел унести прочь, властно указуя рабам и колонам, слушавшимся его беспрекословно и благоговейно. Пару корзин негодующе вывалил прямо наземь.
Хозяин и сам не гнушался таскать наверх груз, помогая работникам. Затем, ополоснув у домашнего прислужника кроваво обагренные соком руки, он утер платком пот со лба и поведал гостям:
— Вот так нам достается акирамская «Кровь девственниц». Именно потом и кровью, наше вам почтение.
После того кстати объявились вышепоименованные юные поселянки, медленно, величаво ступая, взошедшие на пьедестал, засим вставшие по трое рядом с винодельными давильнями. Будучи на высоте, юницы сначала надменно подбоченились, но потом по-простецки заулыбались, раскланялись, всем богам рассылая вокруг воздушные поцелуи. Безнравственно подоткнули повыше туники, насколько у кого хватило стыдливости и бесстыдства. А по отмашке достопочтенного винного фабера Мельката резво запрыгнули на виноградные горы.
— Все как одна невинные девственницы без обмана, у всех сейчас месячные очищения, в самом соку девы. Знающая старуха повитуха проверила, убедилась, — вошел в профессиональные разъяснения демиург виноградарь. — Вот так на их целомудренных кровях чудным благорастворением девичьего цвета начинает помалу вызревать наше пурпурное выдержанное пятнадцатилетнее акирамское.
Под ритмические рукоплескания и песнопения собравшихся полуобнаженные снизу девушки принялись за ритуальный винодельческий танец, динамично смешивая силы, прибавляя человеческое телесное естество к энергии растительной жизни. Тотчас в заблаговременно подставленные горлышки амфор стала по капле сочиться, вослед потоком хлынула общая природная кровь земли, неба и человека…
Истомленную долгой обрядовой пляской первую шестерку девушек извлекли из давильных чанов. Ее сменила вторая, к тому времени довольно разгоряченная группа. И еще быстрее, еще энергичнее взялась за дело, без минимального стеснения на краткий миг полностью обнажившись, прежде чем нырнуть, скрыться за глиняными стенками…
По истечении нужного времени и оптимального количества сока артифекс виноделия Милькат приказал залить выжимки ключевой водой и добавить на десятую часть недобродившего вина из недавней августовской закладки. Оба давильных чана, защищенные плотными деревянными крышками, так и остались стоять недвижимо у ворот имения.
— У нас в Акирамусе, своим и пришлым, никому не возбраняется снимать пробу, как там вызревает общенародная девственная лора в смешении стихий воды, воздуха и земли, — философски объяснил еще одну особенность виноградных празднеств в тамошней сельской местности искусный демиург Милькат Романиан.
Вечером после заката достопочтеннейшего радушного сельского хозяина в их черед уже гости из Картага развлекали городскими танцами и музыкой. Поскольку Скевий Романиан прихватил в увеселительное буколическое путешествие трех свободных гадитанских танцовщиц, славных изяществом и гибкостью, а также четырех ионийских флейтисток. Ради хорошего эротического и музыкального сопровождения пришлось в довесок согласиться с малоприятным обществом богатого грека, работорговца Koлoбона Тессалита — нынешнего владельца этих гречанок.
Впрочем и между прочим, надутый спесью богач большей частью благорассудительно помалкивал. В присутствии ритора Аврелия Августина слишком знающим и умным не выставлялся, наверное, памятуя о том, что не далее как вчера лихо макнули в картагскую клоаку чрезмерно говорливого софиста Гипата, чему он был невольным свидетелем. На его тессалийское счастье, большой клоаки в пунийском Акирамусе нет, но угодить в отхожее место виллы было бы еще печальнее.
Этого греческого скрягу туда б да поглубже с радостью, с любовью отправил бы ливиец Фезон, с кем Тессалит верно по жадности давеча не сторговался насчет двух киликийских рабов-мальчиков, — пришел к уверенному умозаключению Аврелий Августин. Лопающийся от денег и жира грек ему тоже активно не нравится, но у друга Скевия с прощелыгой Колобоном значатся совместные денежные интересы и немаловажные торговые расчеты. Вблизи и вдали купля-продажа имеет место происходить.
Ближе к упокоенной полуночи от оплаченных вперед добровольных или вынужденных любовных услуг Аврелий категорически отказался. Причем вроде бы нисколько не заинтересовали его призывные ласковые взоры высокой, стройной, розовеющими сосцами потрясающей гадитанской танцовщицы Вириосы, начальствующей над подругами.
Храня незыблемую верность Сабине, пошел он себе спокойно спать в кубикулум, выделенный им на двоих с Константом, добропорядочным христианином и вдовцом, недавно оплакавшем вторую жену. Лучше-таки послушать на ночь глядя охотничьи рассказы старика, чем обманывать в мелочах любимую женщину. Она, эпона ревнивая, сказала, будто во сне неминуемо узрит, увидит, если ему, «бесчестному и бессовестному растленному развратнику», вздумается изменить ей.
— …Видишь ли, мой Аврелий, это что, пустое, как говорится, дело. Степных пятнистых пардусов-бегунков или их древолазающих сородичей за Тритонидой можно ловить десятками, при желании, должной сноровке и снаряжении подходящим числом вооруженных всадников. Но вот когда мне наказали доставить в амфитеатр Капсы носорога, чтобы показательно разделаться со взбунтовавшимися гладиаторами, тогда пришлось неслабо помучиться, потрудиться. Это тебе не рыбка из пруда.
Носорог — та еще тварь Божья! Поди, удержи его в сетях и в клетке. И жрет этот проглот толстокожий никак не меньше слона…
Дикой неокультуренной природой Аврелий Августин никогда и нигде особо не восхищался, беспредельной философской гармонии в ней не видел, поминутно в экстаз не впадал от внешнего облика бездушно растущих в неподвижности, душевно пресмыкающихся, свободно ползающих, вольно бегающих, млекопитающих и где попало летающих тварей. Красоту и гармоничность он, как цивилизованный, то есть городской философ, больше видел в человеке, нежели в природных малоупорядоченных обстоятельствах, которые в основаниях-стихиях некрасиво и аполитично людям враждебны. Порой безмерно и непомерно, кажется, без какой-либо разумной меры, числа и веса в большом или в малом выступает невозделанная природа наперекор человеку.
Несоизмеримо, несопоставимо больше человеческий глаз физиологически радует и веселит гармоничное сложение тел и отношений людских, физически исполненных, соразмеренных мерой, числом и весом, когда б на то космогоническая воля и предустановленные замыслы Всевышнего. Взять хотя бы к частному слову и в общественный помин взаимоотношения мужчин и женщин.
Кому-то предназначено быть, состоять воинственными пастухами, пастырями, иным предписано пребывать в качестве и количестве пасущихся на выгуле мирных скотов, коих стадами, отарами, табунами, гуртом гоняют от пастбища к водопою и обратно. Оттого, по всей вероятности, стадные женщины повсюду буколически, то есть в пастырском смысле подчинены мужчинам. Но вовсе не по причине первородного познавательного, просвещающего-де греха, как буквально и несостоятельно утверждают ветхозаветные древнееврейские сказания. Либо это в невежестве своем так ложно проповедуют их сущеглупые христианские толкователи, ратуя полоумно за нищету ума и духа.
Вероятно, у всякого крепкого телом и духом всадника непреложно возникают пастушеские, истинно буколические мужественные мысли, рассуждения, толкования, если его средство передвижения в пространстве-времени идет шагом, а тряская рысь или безумный пробег не препятствуют благорассудительной мужской беседе. Ведь не просто так возник древнейший языческий миф о кентаврах, но в обозначение того, что человек и послушное ему животное сливаются в двуединое нераздельное целое.
— …Женщина пастырем стад людских и скотьих быть не может, потому как ее природное естество и телосложение не дают ей никакой физической возможности ездить верхом, — убежденно заявлял Небридий Дамар, целиком полагая существование амазонок пустословной выдумкой древних греков.
— Почему же? — отчасти не соглашался с ним купец-лошадник и коннозаводчик Скевий Романиан. — Клянусь яйцами Леды! В далекой древности воительницы-амазонки могли существовать, коль скоро дочерей им рожали и вскармливали рабыни.
Аврелий больше слушал и в основном не вмешивался в греческую дискуссию, развернувшуюся между двумя эпистемонами-знатоками лошадей и женщин. К тому же следовало поберечь старушку Психею, потому они далеко не сразу сумели нагнать горячих гетульских скакунов Скевия и Небридия.
Подъехавшему Константу, еще больше благонамеренно и милосердно по отношению к своей лошадке замешкавшему на крутом и тягучем подъеме, оба друга с жаром, взапуски бросились объяснять, в чем у них спор.
— …Женщине, как бы у нее ни приютилось причинное женское место, повыше там, пониже, физиология не позволяет безвредно, даже краткое время, передвигаться верхом…
— Посади женщину в седло, она всю дорогу будет ерзать, елозить, сотрясаться, тереться о него любовным устьем, как если бы у нее в промежности машина для рукоблудия. Из-за того она преисполняется бесплодной похотью, утрачивает природное влечение к мужчине и продолжению рода…
— Верхом у нее физиологически необратимо повреждается вся женственность. Ученые доктора говорят: дорожная тряска лишает многих женщин способностей к зачатию здорового плода, так как чересчур разогревает их детородные органы.
— Если женщина уже удовлетворилась механически, какая из нее потом любовница? Притом без любовного влечения и прирожденной женской ненасытности нормальное оплодотворение ее мужским семенем невозможно.
Ответь и рассуди нас, мудрейший муж Констант Фезон, — настойчиво потребовал Небридий.
По поводу тряской механики любви Констант заметил, что есть всевозможные различные позы и способы делать детей у разных народов. И в амазонок врaзумленный мужскими годами, женами и любовницами ливиец тоже ничуть не верил, подобно Небридию Дамару. Потому что в преобладающем большинстве женщины от природы слабосильны и не способны удержать в руках тяжелое боевое или охотничье копье, натянуть тугой лук, нанести неотразимый удар мечом, усидчиво сжимая бедрами седло.
Традиционный довод о том, будто бы в старину люди, в том числе и женщины, жили-были сильнее и крепче, Констант насмешливо отверг, обозвав его баснословной выдумкой выживших из ума долгожителей.
— …Им все, чего ни случись дотоле, мнится лучшим. И жены у них будь здоров как воевали, если они сами не помнят, из памяти выветрилось у них, каково быть мужами.
Необычайную посадку женщины верхом, широко и неприлично раздвинув бедра, Констант Фезон определил, как противоестественную похоть, навроде содомского соития в задний клоачный афедрон.
Из наличного опыта и личных наблюдений он авторитетно и докторально указал, что в кочевьях черных гетулов-номадов, равно в племенах кочевых ливийцев и зенетов, женщины на конях никоим видом, подобием и обычаем не ездят. А на верблюдах они, между прочим, усаживаются боком перед горбом животного, свесив обе ноги на левую сторону.
— Случается, на Востоке какой-нибудь старой карге дозволено в раскорячку громоздиться на осле. Понятно, у ослов круп невелик, да и старухи уж вовсе не женщины, коли к детородству не годны, не способны. Пустое у них, в дряхлой промежности, дело, — веско, экспериментально и кафедрально, по-мужски подвел итог дискуссии Фезон, в его 49 лет казавшийся сущим стариком молодым коллегам.
Однако же коллега Скевий Романиан на том не успокоился, не угомонился и на вечернем привале, покамест караван африканских пилигримов, обозначим по-латыни, устраивался на ночлег, учинил он, негодник и опрокидыватель картагский, натуральный физиологический эксперимент. Он все-таки усадил противоестественно на незлобивую кобылу Психею распутную египтянку Меропу, весьма падкую на то, чтобы в любой момент раскинуть врозь и пошире растворить бедра, если какая там ни будь немыслимая поза славно оплачивается серебряными денариями. Она и совсем догола порывалась рассупониться, но последнее венерическое опоясывание Скевий ей снять не разрешил.
Невиданная картина женщины, сопряженной с лошадью, чтоб получился гинекентавр, — соединим вместе два греческих корня, — никому из публики, пожалуй, не пришлась по вкусу. Меньше всего ритору Аврелию. По его мнению, женщинам любого звания все же стоит вести себя скромнее и благопристойнее на людях, пусть у них и аркадский разгульный симпосий по-гречески на лоне природы…
На следующий идиллический день, неторопливо путешествуя между спелыми виноградниками, созревающими оливковыми рощами, пшеничными полями, засеянными вторым заходом горохом и бобами, картагские пилигримы добрались до конечной цели — старого языческого водного храма-нимфея в предгорьях Восточного Атласа. Отсюда начинается акведук кесаря Адриана Антонина, повелевшего и разрешившего большое строительство, в знак чего и был заложен знаменитый нумидийский красно-желтый мраморный нимфей, а также принесены торжественные жертвы водоносящим девам-божествам.
Спустя двести с лишним лет христианнейший кесарь Констанций Старший жесткими эдиктами наложил вселенский имперский запрет на дневные и ночные жертвоприношения язычников. Впоследствии языческие обряды то дозволяли, то вновь строго-настрого запрещали в бытность империумов последующих кесарей. Нынче ритуальное язычество вроде бы тоже формально непозволительно, однако не всегдашним порядком, не везде и не для всех, — пришел к логичному умозаключению Аврелий, индуктивно поразмыслив.
Стало быть, чтобы упорствующие язычники публично не поклонялись таким-сяким мифическим якобы природным божествам, у нимфея Адриана выставлена стража из трех бдительных и очень благодушных легионеров. Помимо того им вменена не слишком обременительная обязанность охранять нимфей от посягательств неких разрушителей из последнего разбора вконец одичавших христиан-агонистиков. Этих-то дважды крещеных обалдуев здесь и днем с диогеновским киническим огнем не сыскать. Потому как вокруг сплошняком обитают пагани, то есть суеверные поселяне-язычники, втихую, украдкой домогающиеся приносить демонские жертвы кому попало и где придется.
Судя по всему, ночные селянские тайные жертвоприношения водяным девам славные римские воины самовластно соизволяют. Само собой не на даровщинку, но за натуральную доступную мзду. Кто-то из окрестных пейзан расплачивается доступом к прилежащей женственной промежности, с кого-то берут питательный выкуп идоложертвенным мясом животных. Ибо языческая религия суть традиции и общественные связи, но не с богами, а с людьми.
Явных язычников среди путешествующих в увеселительных целях жителей Картага не нашлось, и своекорыстным распорядительным легионерам чего-либо не обломилось. На статуи водяных божеств и мраморную облицовку стен нимфея, окружающих с четырех сторон полукруглое храмовое водохранилище под открытым небом, никто тоже не намерен вредоносно покушаться. Тогда как омовение в прохладных водах никому не возбраняется в зачин отдохновения от дорожных неудобств и тягот.
Смотрите, глядите и потом не говорите, будто ничего не видели.
Прекрасно понимая, какого непринужденного представления от них ждут властвующие мужчины, им подчиненные женщины не торопясь в собственный почин разоблачились, до колен вошли в воду, взялись за омовение телесных искушений и соблазнов, которыми располагает женская плоть от Создателя всего и вся, от природы, отроду или от породы, от их кровного рода-племени.
На взгляд Аврелия, в соблазнительной красоте и соотнесенности с женским родовым предназначением расположено первенствуют три гадитанки галльских иберийских кровей. В их пользу красноречиво свидетельствуют тонкие талии, пышные чресла и относительно изобильные груди. Западные и северные женщины явственно превосходят восточных соперниц в соразмерности членов прекрасного тела.
Египтянки, очевидно, не уступают им в выразительности обильных бедер и чресел, но груди у них столь же крепкие и налитые, все же значительно меньше в объемах, необходимых для здорового младенческого млекопитания и мужского осязания.
Пунийские груди побольше египетских, но пунийкам не достает детородной ширины в чреслах, а о стройности и наличности пунических талий вообще говорить в очевидности не имеет смысла.
Совсем неприглядно предстают гречанки, сроду не имеющие ни выразительных грудей, ни ярко выраженной талии, у которых вся женская природная стать тяжеловесно скапливается понизу в дряблых раздутых чреслах, в обвисшей утробе и в толстомясых ляжках.
Истинно такими по традиции, видимо, в силу жизненной правды соответственно и низменно изображают обожествленных женщин греческие ваятели и скульпторы в родоплеменном конкретно людском облике языческих богинь, харит, нимф, наяд, нереид. А римские эпигоны-подражатели бездумно и бездарно во плоти перенимают у греков, ложно принимаемых за учителей-корифеев, все их громоздкие несуразицы и дебелые нелепицы, явно не заслуживающие именования канонов высокой красоты и телесной сообразности.
Недаром физиологически утверждают — женщинам от природы дана повышенная чувствительность и восприимчивость к тому, чего и как думают о них мужчины. Словно бы постаравшись войти в соответствие с эстетическими размышлениями Аврелия, статная гадитанская танцовщица Вириоса, покачивая всеми холмистыми оливковыми округлостями, вышла из воды, благочинно прикрыв ладонью гладко выбритое женское местечко. Прицельно огляделась в храме, повела напрягшимися розовыми сосцами, затем направилась, изящно, невесомо ступая на носках, к стенной нише, выбрав себе в соперницы одну из обнаженных беломраморных нимф.
Смотрите, сравнивайте в состязании да в понимании прекрасного и соответственного!
Соблазнительному примеру иберийской красотки Вириосы немедля последовали прочие нагие купальщицы; в подбор встали возле храмовых изваяний в соответствующих скульптурных позах. Естественно и объяснимо, почему заслужили они громкие, бурные рукоплескания мужчин, их без преувеличения неистовые крики восхищения живой картиной смешения женской красоты — трепетной подвижной плоти и застывшего в веках мрамора. Причем каждый энтузиаст мог увидеть прекрасное там, где ему заблагорассудиться, как его научили, рассказали, чему он верит, чем восторгается и в чем почасту готов убеждать, наставлять всех, кто не согласен с его мнением.
Насколько повелось доисторически, о вкусах и предпочтениях междоусобно спорят; дискутируют и дебатируют о том веками и тысячелетиями…
И нет между ними и всеми нами прекраснейшего согласия от века и во веки веков.
КАПИТУЛ VIII
Проконсульская африканская столица Картаг. Сентябрьские ноны в последний день виноградных каникул у школяров и профессоров.
Августин частично соглашался с Эвгемером из Мессены, утверждавшим, что все языческие боги и богини суть не более, чем обычнейшие люди, чрезмерно превознесенные на высоту Олимпа и Парнаса малыми человечками, не столь выдающимися из простонародного ряда вон. Следственно и непосредственно: как бы ни веровать в разномастный пантеон язычников, это равнозначно тому, чтобы слепо, бездумно доверять будничному и заурядному людскому мнению.
Исповедовать многобожие свойственно непросвещенным простецам-невеждам, наделяющим все нежилое, бездушное, естественное и физическое сверхъестественными, сверхчеловеческими качествами и даже метафизическими признаками. Гром гремит, значит, небожитель Юпитер-Зевс Громовержец воодушевленно огненные стрелы мечет, гневается… И так далее и тому аналогичное в бесчисленных ложных и мнимых, бездуховных, грубо анимированных, плоско воображаемых, бездумно вымышленных персонификациях несомненно вульгарного генесиса.
Будь оно скопом или поодиночке, найдется ли иное безумное несчастье для человека, позволяющего властвовать над собой своим же собственным вымыслам?
Истинное безумие какому-нибудь изрядному суверенному философу генетически и гентильно, сервильно, рабски, бездумно следовать на поводу у невежественной толпы-вульгуса в духовных религиозных вопросах. Разве только это не вызвано лицемерным к ней приспособленчеством или же преследованием особых, как философствующим язычникам-гентилям мерещится, мнится, каких-либо высших соборных, синодальных интересов и коллективных, коллегиальных целей. Дескать, со всеми этими богами, с их содействием римляне выстроили, обустроили огромнейшую политическую или, выделим по-латыни, цивилизаторскую городскую империю от Геркулесовых гадитанских столпов на закате до вавилонских рек на восходе, от британского океана на севере до африканского лимиса на юге. Будто бы завоевание этих обширнейших земель и удержание их под властью Вечного Рима в немалой степени произошло в силу преклонения сотворенным людским кумирам и гениальному обожествлению кесарей, наделенных-де Юпитером Капитолийским харизматическим, обозначим его по-гречески, воинским властительным империумом.
Мол, ослабла государственная политическая вера-апофеоз, и римский доминат стал разрушаться, когда традиционная религия, органично вбирающая в себя разноплеменных божеств, перестала быть общественной уздой для разноязыких и разноречивых племен и народностей. Дескать, старинное многобожие является исконной и посконной сверхценной традицией истины, проверенной временем, подтвержденной историей, потому подлежащей бережному сохранению и увековечиванию.
А что вечно под сводом небесным, позвольте полюбопытствовать? Этакое неумирающее материальное время в орфических гексаметрах? Но ведь и оно когда-то началось и когда-нибудь непременно, неукоснительно закончиться. Все и вся, предопределенно динамически по поводу или безмотивно рожденное и сотворенное, имеют начало и конец.
Умирают в сердцах людских и старые боги, созданные невежеством, неразумием, самомнением, ныне становясь мелкими бесами и незначительными демонами. Если, — резервируем ментально, сделаем мысленно устную и письменную оговорку, — эти божества в истинном мнении духовные бессмертные существа, а не почившие в бозе люди, чем-то, например, какими-либо подвигами и свершениями, превышающими обыденное понимание, некогда заслужившие людскую признательность и потому не совсем изгладившиеся из сумеречной исторической памяти человеческих сообществ…
В общем и в частном приверженность языческим верованиям Августин относил к разряду смутных традиционных предрассудков, впитанных с молоком кормилиц предвзятых мнений, предубеждений в лучшем, аристократическом случае. Либо соблюдение обрядов устарелого нежизнеспособного многобожия просто-напросто представляет собой набор порочных демократических суеверий обезличенного охлоса, то есть стадного простонародья с заскорузлыми руками и косными сердцами.
Лично сам он рос и душевно воспитывался в христианской фамилии достопочтенных куриалов, мало в чем подверженной язычеству. Даже скептически воспринимавший разнообразную религиозную обрядность Патрик Августин, его родной отец, остаток жизни формально пребывал в экклесиальных катехуменах и так-таки полнозначно окрестился, наверное, за год до смерти. И умер он, вспоминается, незадолго до того, как был зачат в скотском грехе и пороке его внук Адеодат.
Едва ли отец так уж одобрил тот еще неблагородный способ, каким продолжилась родословная тагастийских куриалов Августинов. Но обязательно посмеялся бы саркастически над потомством, какое, знай, плодится и размножается по заповеди Божьей в любой позитуре всяких любовников любого рода, звания, достояния и состояния.
Любимейшей темой, нельзя не вспомнить, были у отца тому подобные риторские этиологии, за обеденным столом частенько вгонявшие мать в краску…
Аврелий вновь из глубины души добросердечно задумался о том, как бы поаккуратнее поведать Монике об Адеодате: мол, радуйся, достойнейшая матрона Августиниана, у тебя достославный внук растет в доме благороднейшего сенатора Фабия Атебана. Но, как обычно, малодушно оставил, отложил, отогнал было подале не прошенную к философским размышлениям мысль о личных семейственных, то есть фамильных, по-латыни, неурядицах и неувязках.
Где Адеодат, там, естественным образом возникает, увязывается, увивается Сабина побок с ее постоянными намеками, жалобами, стонами, ссорами насчет замужества и отцовской ответственности за неприкаянного отпрыска фамилии нумидийских Августинов. А тут рядышком и материнские увещевания слово к слову о женитьбе сына, которому-де требуется добродетельно остепениться, зажить добронравно, греясь у семейного очага. Слава Богу, без кумиров языческих ларов и пенатов, коих напрочь отвергает христианская вера, какой истово привержены Моника и Сабина.
Еще одно благодарение Богу, если среди ближних манихейцев никто не строит в отношении его матримониальных расчетов. Безбрачие и целомудренность верные последователи пророка Мани блюдут, ценят и уважают побольше христиан, аскетов-пифагорейцев или гностиков из валентиниан, чья община также довольно влиятельна в Картаге. Зато всеми презираемые за явное и скрытое многоженство иудеи в законе Моисеевом общинно полагают безбрачие безусловным пороком, а бездетность — Божьим наказанием за грехи.
А Всевышний-то один, един для всех даже в путаных воззрениях пифагорейцев, признающих главенство первого бога; он же у них высший разум-нус. И все, за исключением евреев, склоняются к троичности. Троице истово поклоняются правоверные христиане. И Мани выделяет, гипостазирует Иисуса, Гаутаму, Зороастра, с кем он якобы духовно и душевно встречался, со всеми троими порознь, общался сверхъестественно, получив от них некое благословение и целую кучу познания бытия.
К манихейцам Аврелий в последнее время начал относиться по-философски с большим-большим скепсисом, однако тесных связей с их многочисленной общиной нисколько не порывал. Надо ведь человеку где-то состоять коллегиально и экклесиально?
Все же он остается в статусе рядового слушателя-аудитора и от возвышения до избранника-электора, посвященного, — надо же! — в сокровенные таинства, под различными благовидными предлогами до сих пор отказывается, отнекивается, не усматривая в том посвящении ни малейшего рационального смысла.
В самом-то деле, чего таинственного от них можно узнать, кроме теогонических буквальных небылиц и противоестественных нелепостей?
Например, им ничего не стоит довести до сведения уши развесившего простодушного прозелита абсурдную бессмыслицу, будто винная ягода, когда ее срывают, и дерево, с которого она сорвана, плачут слезами, похожими на молоко. Если какой-то, так сказать, святой бодхисатва съест эту самую смокву, сорванную, конечно, не им самим, а чужой преступной рукой, и она смешается с его внутренностями, то он выдохнет из нее за молитвой, воздыхая и рыгая, ангелов, или вернее частички некоего божества.
Эти частицы как бы истинного и вышнего божества так и остались заключенными в винной ягоде, кабы святые избранники не освободили их зубами, кишками, испражнениями…
Выходит, такая вот вера требует быть жалостливее к земным плодам, нежели к людям, для кого они растут. И если б голодный, — Боже, упаси, не манихей! — попросил есть, то, пожалуй, за всякий кусок стоило бы наказывать смертной казнью.
Настолько же невежественные, этак сказать, христолюбивые проповедники иногда столь похоже призывают разноименно, дискуссионно уверовать в букву всевозможных абсурдных и нелепых вещей. К примеру в то, будто бы как по писаному всемогущий и всеведущий Вседержитель, так физически переутомился, изнемог, изнурился, уморился в развитии шести календарных дней сотворения мира, что прилег отдохнуть, в честь чего буквально и дословно запретив людям всякий труд в седьмой день. (Не понять только в какой, шестой, еврейский или все-таки седьмой, христианский?)
Притом, случается, пресвитеры, монахи неистово спорят до синего удушья, оплевывая друг дружке неопрятные бороды, когда же начался тот самый пресловутый праздный день. С восходом луны? Не может быть! С рассветом дневного светила? Никак нет! Вдвоем мерзко клянутся, чем попало, на чем и свет не стоит. При всем при том оба почему-то забывают, что, согласно заимствованным ими древнеиудейским сакральным представлениям, солнце и луну един свят Господь поместил в небе отнюдь не в самый первый день творения.
Святое Писание и творческие послания кое-каких разумных авторов из старых первоначальных христиан Аврелий Августин читал, изучал; с догматами католического православия он прекрасно знаком с детских лет. И мог бы с большего, без какого-либо отъявленного лукавства и форумного лицедейства, объявить себя не манихеем, а христианским катехуменом по семейным обстоятельствам и благочинному отцовскому образцу. Тем не менее, от этого он воздерживается, хотя в публичные диспуты и ожесточенные перепалки с присяжными христианами уже не вступает, не желая лишний раз выслушивать слезные материнские попреки, упреки, укоризны, в чем он самому себе сегодня честно, исповедально сознается.
Целиком и полностью к христианской общине Аврелий принадлежать ничуть не желает; не терпел того ни раньше, ни теперь. Ибо ему там предлагают осознанно смириться, согласиться с невежеством и верованиями умственно недостаточной, спесивой, необразованной ученической черни, надменно, облыжно убежденной, будто она постигла истины, недоступные ученым книжникам, мудрецам, учителям. Так уж ли разношерстное, беспорядочное собрание-экклесия неуков и неучей, нищих духом и телом есть церковь, то бишь тело и обитель Божия?
Если манихейским и гностическим простецам отчаянно не достает здравого научного смысла, то христианское зазнавшееся простонародье излишне привержено приземленному рассудочному восприятию бытия, исходя из поверхностного натуралистического понимания явлений духа и материи. В этакой мелочной кинической натуралистичности скопище христиан весьма сходно с язычниками, тоже готовыми бездумно поверить во все что угодно, лишь бы оно шло якобы от естества, природы и отвечало их материальному телесному существованию.
Рай им обязательно подавай такой, кабы жрать в нем от пуза. Раз так, то светопреставление накануне Страшного суда у них беспременно ознаменуется тысячелетним изобильным земным царствием, где праведным, естественно, предстоит, ничуточки не умирая, заживо, живьем начать наслаждаться плотской жизнью. С ликованием есть, пить, петь и всячески веселиться. Точь-в-точь, словно на Елисейских полях язычников или же на райских островах блаженных.
Вот отчего полуязыческую христианскую паству веками необходимо без умолку уверять, проповедовать — телесная смерть и воскресение Иисуса Христа не суть нелепость и глупость. Наш вон приснопамятный африканский компатриот, пресвитер-расстрига Квинт Тертуллиан из Картага в том все никак самого себя не мог убедить риторически, не то что других ему подобных поганых киников, хилиастов и монтанистов, — в сердцах припомнил Аврелий известный ему спорный опус «О теле Христовом».
Между тем сам Аврелий Августин ничуть не находил чего-либо парадоксального, нелепого и невероятного в общепринятом христианском догмате о воскресении. Действительно, будь оно свершившимся метафизическим образом или же путем реального исторического факта самопожертвования Сына Божия, то и другое нам бесспорно требуются с целью дать несомненный пример превосходства бессмертного духа над смертной плотью.
Хотя стоит присмотреться, приглядеться пристальнее в идеальном рацио, вникнуть духовно поглубже, не столь в естестве поверхностно. Какое может быть вне воскресения во плоти истинно блаженное бессмертие праведников в пакибытии или в посмертии бессрочное наказание грешников вечной смертью-умерщвлением?
Иным же мнится невероятным и невозможным историческое повествование Ветхого Завета о вавилонском столпотворительстве, если на первый поверхностный, естественный взгляд Господь устрашился никчемных строителей кирпичной лестничной башни, как будто способной достигнуть тверди небесной, и оттого якобы их проклянул, дезорганизовал, учинив сумятицу, смятение и разделение библейских говоров и наречий.
Но, может статься, единый, единственный общечеловеческий язык есть далеко не организующее благо, но умственное проклятье и сатанинское зло, идущие от первородного греха обобществленного зазнайства и объединенного невежества? На одном ли едином якобы древнееврейском языке обращались к Богу, говорили между собой номад Авель и седентарий Каин, хотя бы они и кровные братья?
Один да один суть два и двое. А дважды два — четыре или четверо.
Так, нам от Бога дарован отдельный сущностный язык чисел, обособленный от буквенной речи. Звуки — знаки смутной телесной речи, а цифры — символы чистой незамутненной мысли. Знаки вещей — имена, — находим мы у Аристотеля.
Именно подчас встречается, когда одну и ту же рациональную мысль удается вернее, точнее выразить на греческом научном языке, нежели прибегая к материнской латыни. Ученые аттические слова узаконенным строгим образом яснее, однозначнее, чем простонародное хаотическое приблизительное словоупотребление.
Вовсе не напрасно он, ритор Аврелий Августин, пытливо берет языковые уроки у пожилого иудея достойного равви Баруха, чтобы в оригинале разбирать старинные прямоугольные еврейские письмена. В отличие от соплеменников, праведный Барух довольствуется только одной женой и говорит, что в других женщинах он и в молодости не нуждался. Тогда как обрезание и многоженство, по его словам, непостижимый Господь никому из евреев изначально не предписывал.
Действительно, в любом сакральном письме мы должны увидеть Бога и представить невообразимую личность Его. Тем временем устные разговоры о Нем ничем не лучше и не хуже людской обыденной болтовни о чем угодно человеческом, естественном и приземленном.
Скажем, прислушиваться к пунийскому наречию и понимать его некто мальчик Аврелий из тагастийских Августинов натурально и миметически приспособился с детства от ровесников.
K слову, свой собственный, далекий от наивных детских представлений личный символ веры в Бога единого, философ Августин до сих пор не пытался рационально сформулировать в логичной изреченности.
«Какая мне в том польза, если я думаю, что Ты, Господи, Бог истины, являешь собой огромное разумом светящееся тело, а я есть частичный несчастный обломок этого тела?»
Кстати изречь, несчастьем или двумя несчастьями, возможно, и тройным несчастьем Аврелий счел давеча затеянное Моникой строительство дополнительного крыла к их домусу. Принялась мать за пристройку исподтишка, когда сын беспечно и беспечально уехал развлекаться в паломничество на юг. Поэтому сейчас волей-неволей приходится телесно отвлекаться от божественных и возвышенных материй, плотью по градусам опускаясь к низменному земному стихийному материализму, каковой заключается в грохоте, в криках, в грязи несусветной, чем не может не сопровождаться буйная громогласная домостроительная жизнедеятельность своих и чужих работников.
Касательно, чем бы полезным занять празднолюбивых городских рабов, это ей Сабина рачительно присоветовала, надоумила. Предпринимай-де вплотную большую стройку, достопочтеннейшая, чтоб потом повыгоднее перепродать особняк.
Тут тебе вторая беда, если предприимчивой, оборотистой Сабине удалось хитро, ни слова ему не говоря о том, смекалисто познакомиться и втереться в доверие к матери. Как он третьего дня узнал, они нынче вместе бок о бок по-язычески поят винищем и закармливают нищих тунеядцев на христианском кладбище. Да и в базилику на ежедневные молебствия деловая изобретательная Сабина подозрительно зачастила, чего раньше за ней в принципе и в элементе не водилось.
Третьим несчастным совпадением стоит записать элементарное первостихийное пожелание нашей любящей родительницы Моники выстроить для сына в отдельном крыле семейные брачные покои. Или же это любимая Сабина по случаю предпринимательски устраивает будущее семейное гнездышко? Это тебе неминуемо грядет четвертое стихийное бедствие, если все их женские хитрости, житейские ковы и козни в одночасье как вскроются и раскроются!
Спрашивается, куда деваться бедняге городскому философу в дополуденное время? Само собой понятно, в библиотеку или в книжную лавку, а после в бани, куда всяким хитрозадым женщинам нет доступа. Быть может, и напрасно, если у них есть, между прочим, на что взглянуть… Физически и физиологически, спереди и сзади…
Впрочем, начитанный грек Капитон приглашал к себе в лавку глянуть на прелюбопытный список «Великого построения» Клавдия Птолемея, где величайший александрийский математик убедительно и победительно опровергает некоего Аристарха из Самоса, доказывающего, будто бы это земной шар обращается вокруг солнца. Надо же!!? И все это, как посмотреть, откуда, относительно чего брать точку отсчета и центр мироздания, если многим небесным телам отнюдь не присущи, не предначертаны Всевышним мертвая неподвижность и погребальное упокоение…
Прежде чем выйти из дома, Аврелий занес в то сентябрьское утро на таблички кое-какие свои, некоторые созвучные ему мысли иных авторов о Боге, который для него и для других религиозных философов суть первопричина, первосмысл и первоначало всей природы, высший создатель духа, извечный спаситель всего живорожденного, неустанный творец неодушевленного мира, созидающий и спасающий без усилий, прародитель никем не рожденный, не ограниченный ни местом, ни временем, не подверженный изменчивости, лишь немногим умозрительный, но для всех в конечной теологической сумме от прошедших веков до современности неизреченный, неведомый и невидимый.
В ту мимолетную пору молодости как самое замечательное творение Божие и великолепнейшее созидание Августин рассматривал видимое всем звездное небо и ночью и днем. Ведь и в ярчайший солнечный полдень довольно забраться в глубокий колодец или в темную пещеру с отверстием поверху, чтобы убедиться в постоянном зримом присутствии подвижных и неподвижных звезд, сияющих как бы на самой тверди небесной или позади нее.
Не то что некоторые, те же манихеи, бездарно и ненаучно судящие о том, что им неведомо. Книги их полны нескончаемых басен о небе и звездах без минимальных доказательств истинности. Манихейские сектанты бессмысленно блуждают глазами по всему своду небесному, не умея, не зная, каким методом опереться на опыт ученых натурфилософских изысканий и очевиднейших доводов разума.
Слабость, безосновательность, недоказуемость их писаний, измышлений манихеи ощущают как никто другой. По этой причине они, сомневаются во многом и так нуждаются в риторических ухищрениях проповедующих авторитетных учителей.
Вспомним хоть б нашего красноречивейшего манихейского пресвитера Фавста. Все уши о нем прожужжали, тысячу раз вмертвую услышал, прежде чем вживе лично увидел. Хотя в общении он лицеприятен, далеко и глубоко не заносчив. С ним хорошо посидеть вдвоем в совместном немудрящем литераторском чтении…
В то же время самоуверенные поборники разноречивых христианских вероучений, разделенных на противоборствующие секты и ереси, очень часто толкуют самоучительно и грубо сотворения и судьбы Господни. Нередко без тени сомнения кто-то из них изрекает самодеятельную ложь от себя, как от человека, выдавая ее за истину от Бога. Они упорно ссылаются на священные книги, оправдывая ими довольно обыкновенные человеческие мнения, наизусть приводят обрывочные книжные изречения, которые им кажутся свидетельством в свою пользу, пожалуй, не понимая ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают.
В ответ манихеи им беспомощно и сконфуженно замечают: ваши-де святые писания безбожно фальсифицированы, искажены, скажем по-латыни, — рассуждал Аврелий по дороге из Нижнего города на форум, взбираясь по уличным ступеням. Действительно, чтобы подняться, до того надо опуститься, хотя б на рудиментарный уровень понимания простецов да невежд и прежде всего взглянуть на видимые творения Господни их взором.
А видят они в невежестве своем неподвижную плоскую землю и уплощенное небо, не замечая ни выпуклости земной поверхности, ни движущихся сфер небесных, где перемещаются звезды. Очевидны, зримы для невежественной черни только движения луны и солнца, да и то лишь потому, что есть календарные числительницы. Ибо верят они не тому, чего узрят их глаза, но тому демагогу, кто им об этом сказал ранее. То ли от приземленной жизни, то ли из-за низкого рождения судят нищие умом простолюдины вкривь и вкось, кривые и косые на оба глаза.
Звезды для присно помянутых отроду недоразвитых и тупоумных кривотолкователей вульгарно бесчисленны, хотя любомудрый Птолемей Александрийский прекрасно подсчитал общее количество обозримых небесных светил, соответственно определив их совокупность знаменательным числом 1028. Причем вычисления Птолемея неопровержимо предрекают появление и положение на небосклоне любой блуждающей звезды, что подтверждают столетия тщательных наблюдений математиков от времен древнейших до нынешних.
Вовсе не в суеверии и в суесловии, но признательно вычислительную апотелесматику ныне именуют по-гречески математикой. Именно говоря — наукой всех наук!
Доверяя подтвержденным на практике вычислениям величайшего македонского мужа достоименного Клавдия Птолемея, как философ-эмпирик и образованный ритор, Аврелий Августин в то время верил предсказаниям звездочетов, находя в них рациональный смысл. Если каждый человек рождается под какой-либо звездой, то взаимное месторасположение этих светочей в вышних, должно быть, многозначительно указывает на людские судьбы, не так ли?
Вот отчего Аврелий не преминул заказать у нескольких незнакомых друг с другом математиков гороскоп для новорожденного Адеодата. К его удовлетворению и гордости за блестящее будущее сына, прогнозы, скажем по-гречески, математических провидцев в основном совпадали и сулили мальчику долгую счастливую жизнь, изобилующую богатствами, почестями и доброй славой у потомков. Быть может, кто-нибудь вспомнит об Адеодате из Картага спустя сотни и даже тысячи лет?
По мысли Аврелия, дополнительным подтверждением научной достоверности предсказанного Адеодату стало и то, что его молочный брат Эпифаний имеет сходный гороскоп. О том он как-то раз беседовал с многоуважаемым декурионом Фабием Атебаном. Оба они сошлись в ученом мнении, что судьбоносная апотелесматика есть опытная наука, потому станет нелишним понаблюдать, сравнивая предреченную биографию младшего внука сенатора с предстоящим жизненным путем сына его отпущенницы Сабины Галактиссы. Коль скоро мальчики родились в один и тот же день, угодив под самое Рождество Христово, то и в обоюдных судьбах должны быть значимые совпадения.
Тем временем за смехотворные пророчества и лживые провозвестия языческих гадателей-гаруспиков что-то выискивающих и вынюхивающих в потрохах идоложертвенных животных Аврелий никогда не дал бы и медного обола. Раз один такой лжец предложил ему устроить особые дорогостоящие ауспиции и обещал чародейную победу на состязаниях декламаторов, наслав порчу на соперников. От предложенного мерзкого колдовства ритор Аврелий с негодованием отказался, напомнив корыстолюбцу, каким образом по римским законам XII таблиц, подкрепленным эдиктами кесарей нового времени, подобное демонское вредоносное чародейство влечет за собой судебную ответственность. А злоумышляющим преступной магией закон грозит тяжкими карами. Включительно: те, кто ее производит, извлекает какие-либо выгоды из нечестивых манипуляций или о том ему стало известно…
Как раз в ту минуту, — быть может будущее провозвещает знамением? — молодой профессор Аврелий важно шествовал, проходил мимо картагского Одеона, где он был-таки увенчан пифийским венком победителя, невзирая на категорический отказ прибегнуть к языческому бесовству и волхованию. Поэтому о той победе вдвойне приятно вспомнить, коли здравый современный смысл и философия неоспоримо берут верх над суевериями древности.
Глупейшее старомодное идолопоклонство уходит, а наука, современная человеческому развитию, остается. О Птолемее и Аристотеле в будущем людям уместно напомнят их достославные научные достижения и блистательные умственные постижения. Меж тем, разрешите поинтересоваться, кто сегодня не запамятовал о той превеликой ораве, о том диком сборище древнейших богов-демонов у различных племен и народностей в давно прошедшие темные времена? Ну-ка, здесь и сейчас перечислите их всех поименно! За ушко да на солнышко демонов и демониц!..
Нисколько не забывая о язычески поименованных людьми пяти блуждающих звездах, чей блеск в жаркий сентябрьский полдень затмевается солнцем, Аврелий, философски размышляя, пересек безлюдный, пожалуй, в неприсутственный день форум и вошел в прохладный сумрак книжной лавки грека Капитона.
Как у них повелось, перво-наперво книготорговец, всему на свете предпочитающий философскую беседу с каким-нибудь образованнейшим и грамотнейшим покупателем литературных знаний, встретил его заготовленным впрок мудрым аристотелевским вопросом о неподвижном перводвигателе.
— Добро пожаловать, мой милейший и долгожданнейший Аврелий! Радуйся и ответь мне, не есть ли время всего лишь движение солнца, луны и звезд?..
Капитон состоял в христианских катехуменах, но языческой философии ответственно не чурался, так как, по его мнению, метеорологика, физика и физиология отличным образом дополняют религиозные истины, если правильно разуметь различие между духом и материей.
Материально различить, отделить свое добро от чужого зла порой просто невозможно. А в духовном измерении это запрещено самим Господом и являет собой первородный грех неразумного непослушания, о чем ясно свидетельствует Святое Писание, — был убежден Капитон.
Касаемо религии Аврелий никогда не вступал в диалектические диспуты или эристические дебаты с Капитоном, желая сохранять с ним приязненные отношения. Как-никак каморка под крышей с веревочным ложем им с Сабиной требуются довольно часто, а это есть неоспоримое добро, когда б его рассматривать в виде золотой аристотелевской середины между пороками крайней любовной распущенности и ригористичного умерщвления плоти, доведенного до извращенного душевного любострастия.
В тот день философствующий продавец и покупатель ему под стать этических проблем вкупе и влюбе с риторическими этиологиями не касались. Поэтому от перводвигателя космоса они перешли к сообразным рассуждениям на тему: находил ли Аристотель небосвод вечным и бесконечным физическим телом. Согласившись, что в трактате «О небе» Стагирит весьма неясен и непоследователен, они в единомыслии присоединились к постулату величайшего натурфилософа древности и современности о естественности сферической формы для неба и земли. При этом немного подискутировали: 37 или только 24 умозрительные небесные сферы насчитал Аристотель в обозримой вселенной?
Разошлись и во мнениях о длине окружности земного шара. Вместе с Аристотелем Аврелий полагал возможным, что она достигает 400 000 стадиев. А головастый грек Капитон настаивал на цифре, не превышающей 250 000.
Как водится среди умных людей, к каким не без оснований себя причисляли оба книголюба-библиофила, умственные рациональные разногласия только способствуют взаимной благожелательности. Логично обличай мудрого, и он возлюбит тебя, — библейски цитировал по этому поводу Капитон, и Аврелий ничуть ему не противоречил, придирчиво цепляясь к словам. Логика есть логика, когда налицо причина и следствие.
Спорить ради спора Аврелий Августин никогда не спорил, даже если бессмысленные и бесплодные диспуты многие его ближние и дальние наивно принимают за подлежащие уважению упражнения в научной риторике и в истинной софистике. Да и победить в дискуссии совсем не означает, будто победитель и побежденный самолично познали истину, как скоро определяет правоту и вручает победную награду кому-либо из дебатирующих сторон совершенно постороннее лицо, согласно нормам естественной справедливости.
Право слово, дискутируют, полемизируют, естественно, лишь для третьего лица, каковое в данном соревновательном казусе не является ни лишним, ни исключенным, — пришел к индукции Аврелий. И уселся у окна в удобной нише, душевно взявшись за список Птолемея Александрийского, предложенный ему на ознакомление и определение подлинности пергаментного кодекса, по оказии доставшегося Капитону.
К мысли будь отмечено, дорогие фолиумы, исполненные на пергаменте, Капитон бережно хранил поодаль от мышей в крепко запертых больших книжных ларях, обитых железом. Папирусные свитки он разместил повыше на стенных полках. Для вящего книжного предохранения также держал двух злющих египетских кошек и не уставал умолять покупателей, как можно бережнее, осторожнее обращаться с книгами, из которых всякая ценна не столько оформлением или трудами переписчиков, сколько заключенным в ней бесценным содержанием общечеловеческого знания о людях, землях и небесах…
Из книжной лавки Аврелий вышел в великолепном состоянии духа, содержательно, обстоятельно продолжая воистину все еще витать мыслью в астрономических вышних эмпиреях, полнящихся звездным огнем…
Увы и ах, где высокое, здесь тебе и низменное тут как тут, откуда ни возьмись подстерегает человека, слишком глубоко погрузившегося в размышления о небе и о земле, о телах, некогда безвидных, но затем обретающих конечную форму… грузное естество… и бренную плоть, нежданно подверженные отвратительным неприятностям, незадачам, неудачам…
Он-то не сразу сообразил, почему вдруг все перевернулось — верх и низ поменялись местами, голова устремилась оземь, ноги ушли в небеса, а тело от сильного толчка понесло вспять. Хотя тут же до него дошло — его самым дурацким образом опрокинули и проволокли по мостовой в рыбных рядах Нижнего рынка.
Причем опрокидыватели и не думают извиняться, стоят напротив, нагло ухмыляются, откровенно напрашиваясь на драку, полностью готовые к потасовке, скандалу и тому подобному развитию событий, отвечающему их гнусным замыслам.
Такого удовольствия охломонам без чести и совести, зато в синих кушаках и того же цвета колпаках, Аврелий не доставил. Страшных проклятий и ругательств на повинные головы «синих» не обрушил, но мысленно выругал себя за то, что в день безумных цирковых состязаний, не шибко-то подумав, надел подвернувшийся под руку зеленый пояс. Потому молча, невозмутимо встал на ноги, отряхнул приставшую к тунике рыбью чешую.
Право жe, страх как оскорбительно, если его, словно зазевавшуюся рыночную фефелу, кувырнули вверх тормашками. Однако бранное столкновение с нахальной кoмaркой «синих» тебе же дороже обойдется. Пускай поборники «зеленых» вокруг тоже изготовились к атлетическому зубодробительному и кровопролитному побоищу. Брось только клич, а удальцы и ухари в Картаге завсегда наготове отстаивать кулаками или подручными орудиями правоту и преимущества своей скаковой партии, конюшни, а также цвета безумно любимых колесничих.
Потом же, как им это положено, эдилы добросовестно примутся искать зачинщиков общегородских беспорядков и членовредительства. А свидетели, в чем не приходится сомневаться, первым долгом радостно укажут на профессора Августина из партии «зеленых». Для того и все ждут, жаждут в нетерпении, чтоб он дал отменнейший повод к войне и драке.
Ну уж нет, дудки! Мои дражайшие веселые сограждане! Чтобы после на суде ритор Аврелий убедительно доказывал, показывал, как его, подобно неуклюжей матроне, разъевшейся поперек себя толще некуда, непристойно перевернули молодые озорники и весельчаки? Извольте потешаться над кем-нибудь иным. Если вам налево, то нам направо или вообще в обратную сторону, потому что не мешало бы переодеться. Какая-то срань навозная, ослиная, клянусь всеми яйцами Леды, мерзко прилипла к спине…
Смейтесь-смейтесь… мы тоже когда-нибудь посмеемся где-нибудь в другое время и в другом пустынном месте. Сделаем, чего нам сделали… По закону и по праву оскорбленного мужа.
Прежде чем уйти, Аврелий, многозначаще прищурившись, запоминая наглые хохочущие рожи, внимательно оглядел тех, у кого очень чешутся кулаки и языки. Двух великовозрастных смешливых обалдуев из учеников ритора Эпистемона он отлично, протокольно заприметил.
В довершение рыночных невзгод гордо удалявшийся с места происшествия, далее не смотря ни на что и ни на кого, Аврелий чуть не упал, поскользнувшись на рыбьем пузыре. На ногах удержался, — он вам не баба-кулема с громоздким непомерным задом, — но взмахнул неловко руками, вызвав новый взрыв издевательского хохота у досужих наглецов.
Пришлось, насилу сдерживаясь, выслушать громкие ехидные ремарки в спину о зеленых замшелых мехах, не умеющих-де держаться на плаву и дырявых винных бочках, напивающихся в любое время, коли найдется, чем их заполнить. Однакось всех перекрыл откуда-то вывернувшийся пронзительный голосишко ритора Эпистемона Сартака, противно завопивший, завизжавший ему вослед:
— Смотрите-смотрите, добрые квириты!!! Это наш ученейший ритор Аврелий Августин так набрался, что и на ногах не стоит, руками себе помогает! Вот чему он учит юношество славного Картага! Едва полдень, а он уж пьян без меры и рассудка…
Дома овладевшее им дурное настроение Аврелий и не мыслил как-нибудь хорошенько разбавлять вином. В термы он благорассудил пойти как только сменил изгаженную тунику. Пусть все родители его учеников, почтеннейшие куриалы и декурионы, однозначно увидят благонравие ритора Августина, вовсе не падкого на предосудительное пьянство до заката солнца вопреки цивильному модусу.
Не без опасений, весь начеку, как бы чего неприятного и неожиданного с ним вновь не случилось, не злоключилось, настороже он вышел на улицу. Зловещим предчувствиям и дурным навязчивым мыслям ни в коем разе поддаваться нельзя, несчастную судьбу следует ломать решительно через колено, как сухие дрова. Оттого он и двинулся в любимые бани Антонина не напрямик, а сначала завернул на рынок, где все вроде бы напрочь забыли о недавнем конфузе, приключившемся с глубокоуважаемым, несмотря на молодость, профессором Аврелием Августином.
Тем не менее зеленым кушаком в последний день виноградных каникул он на всякий несчастливый случай больше не опоясывался. Зачем, скажите на милость, нарываться, без толку напрашиваться на оскорбления от разнузданных «синих»? Подумывал он также о том, кабы для надежности захватить с собой пару рабов покрепче, но делать этого не стал. Чего доброго решат, будто ритор Аврелий кого-то боится средь бела дня в добропорядочном Картаге?
КАПИТУЛ IX
Год 1136-й от основания Великого Рима.
7-й год империума Грациана, августа и кесаря Запада. 3-й год империума Теодосия, августа и кесаря Востока.
Год 382-й от Рождества Христова.
Столичный Картаг в провинции Африка. Ноябрьские иды и последующие дни в завершении консульского года.
Личный день рождения под астрономическим знаком Скорпиона в самый первый день ноябрьских ид Аврелий никак не числил среди счастливых дат. Ни телесно, ни духовно большой удачей, подлежащей безудержному, беспорядочному, беспримерному и непомерному хвалебному празднованию, его осеннее появление на свет он не считал.
Похваляться тут нечего… Не такое уж это в конечном счете преогромное счастье родиться леденящей душу мрачной осенью, когда день ото дня теплое светлое время становится все короче и короче, а ночь от ночи холодная, волглая, знобящая тьма удлиняется и тяжелеет вплоть до зимнего солнцестояния, когда обретают некий метеорологический смысл легкомысленные разговоры о весеннем возрождении и воскресении природы или человека. Ведь не случайно же условные даты рождения Иисуса и Митры относят на один и тот же двенадцатый день в декабрьские иды? Хорошо им в ликах-ипостасях, берем по-человечески, если их накануне еще не было. Лиха беда печальное продолжение, когда оно непременно хуже, чем веселое начало, думать не думающее о грустном конце…
Аврелий нередко предавался хмурым и унылым раздумьям, одновременно страдая от изжоги и похмелья после вчерашних чревоугодных обжорных излишеств и непотребного переизбытка подогретого вина. Ни телу, ни душе столько не надо, а человек все жрет и пьет, лопает, лакает, будто не в себя, словно в последний раз в жизни, а завтра ему уж вовек ничуть не удастся утолить голод и жажду.
Много это ли или мало употребить до петушиной пополуночи пять-шесть-семь, даже восемь, секстариев вина, из которых два последних вовсе не были разбавлены?..
Ох тяжелы воспоминания о том, сколько вчера выпито и съедено… Говорите, мол, вчерашнего добра брюхо не помнит? Как бы не так! Еще как оно его, подлое, наутро не забывает. Не понос, так запор или сразу то, другое, чего-нибудь непотребное, в одно и то же время на больную голову. Синхронно, определимся сугубо по-гречески…
Все бы ничего, но болезнетворные утренние страдания Аврелия в нагрузку ко всему сейчас отягчаются нравственной немощью, обычной для него в деспотической перемене времен года, когда с северо-запада задувает зловредительный экирон, принося с собой снеговые мокрые дожди, дурную погоду заодно с мерзопакостным упадком сил и духа. Оттого, наверное, начиная с ноябрьских календ, его порой одуряюще одолевают скверные обессиливающие приступы перемежающейся лихорадки. Зимой-то, в декабре, в январе к этому отсыревшему безобразию и простудному времечку как-то привыкаешь, приспосабливаешься, хотя и не без отвращения…
Но до того-то в отвратном варианте привычного осеннего недуга ни читать, ни писать, ни говорить, ни чего-либо определенного встать и сделать самым решительным образом невозможно. Было бы совсем замечательно никого и ничего кругом не видеть, не слышать…
Должно быть, хорошо стать аскетом, пифагорейским или манихейским. Принимаешь обет молчания, сам молчишь и никто к тебе с глупейшими разговорными словесами не лезет.
Одно плохо, коль запрещено аскетическим обычаем принимать пищу и носить одежду животного происхождения. В таком вот поганом укладе без шерсти, мяса и рыбы возможно совсем пропасть от холода. А вот когда ешь вдоволь, то и согреваешься получше, чем от угарной жаровни в спальне или под толстым и колючим шерстяным верблюжьим одеялом.
Когда б не лихорадка с мерзостным ознобом, то и холод, осеннюю промозглую сырость можно было бы пережить, перетерпеть. Но тут еще на тебе! Получи слабость души и дрожь плоти, ни в какую не желающие подчиняться настоятельным требованиям здравого смысла и трезвой памяти. Напротив того, слабовольное тело самовластно указывает подчиненному уму, что ему делать, вернее, чего не делать. Хотя эта жизнедеятельность чувствительно важна, сверх того, решительно жизнетворчески необходима.
Удобная, что ни говори, эта штука перемежающаяся лихорадка. Ею вроде как разрешено прочувственно оправдать какое угодно безделье, тунеядство и праздномыслие. Пускай тебе не такое уж у тебя совсем никуда негодное самочувствие. Но вдруг опять приступ до помрачения чувств и утраты памяти? Тогда вот вполне позволительно на худший случай остаться в постели, чего нам и ученые лекари внушают, кабы избежать усугубления болезни.
Однако ж от того, что нерешительно валяешься денно и нощно недвижимым пластом, лучше нисколько не становится. Хуже того, от бездельного и праздного, инертного, выразимся на отеческой латыни, препровождения лежачего времени и здоровье портится, и дух ослабляется дальше и глубже некуда. И опять же афористично продиктовано: раньше, чем подняться, прежде должно опуститься на самое дно.
Встать, что ли, с мягкогo ложа? — мельком подумалось Аврелию. Но зачем, если и без того пролежал и проспал все что можно и нельзя?
Незаменимая вещь, кстати и некстати, ко всем иным невзгодам, эта перемежающаяся лихорадка, особливо для самоуспокоения и самооправдания. Нечего, скажем себе, поделать, если был болен и не в силах самому себе помочь в противных житейских пертурбациях и перипетиях, — уместно выразимся одномоментно по-латински и по-гречески.
К месту будь упомянуто, и диктатор Юлий, ставший первым историческим кесарем, и его наследственный патримониальный преемник Октавиан, положивший долженствование римским августам, диадохам в наследии — тоже немало страдали, мучились от перемежающейся лихорадки и осенне-зимних холодов. Октавиан одевался, как можно теплее, укутывая тело в многослойные согревающие покровы. Юлий же по обыкновению предавался в холодную пору года лихорадочной и горячечной деятельности, принесшей ему политическую славу в веках. И оба они боролись с периодической слабостью духа посредством умственных писательских упражнений. Ибо вне письменности не существует имперской цивилизованности.
По существу их достославному примеру и образцу спустя столетие с лишним опосредовано следовал кесарь и август Марк Аврелий Антонин в постоянных поисках императивного самообладания, но отнюдь не философской стоической истины. Пожалуй, его замечательные «Думы наедине с собой» фрагментарно, отрывочно написаны с исключительной целью избавиться от постоянно, сплошь и рядом, везде его преследовавших пароксизмов слабодушия, усугубляемого, выразимся медицински по-гречески, психической патологией.
Обладателям властительного империума воистину психологически расслабляться и распускаться вовсе не следует. Иначе в одночасье возможно лишиться и власти, и жизни, и здоровья. Никакая медицина не поможет. Разве что волшебство какого-нибудь чудотворца-теурга навроде Петра Галилеянина или Аполлония Тианского.
Зато простому человеку и без чудес живется несколько проще во здравие. Хотя и не столь вознесенному высоко над людьми и обыкновенным человеческим бытием подобным же образом можно немало пострадать, претерпеть от слабосилия, болезней, хворей, недугов, сумрачной душевной немочи, помутнения рассудка.
Например, некто картагский ритор Аврелий Августин по своей глупости и духовной немощности вдруг ни с того ни с сего лишился солидной городской дотации на содержание своечастной школы высокого красноречия-элоквенции в проконсульском Картаге. Поганец Эпистемон Сартак, наконец-таки, дождался удобного часа и обратился к пекуниальным квесторам с подлой жалобой на предосудительное поведение своего соревнователя и состязателя на благородной стезе высшего образовательного просвещения юношей африканской столицы.
Дескать, так, мол, и так, ненавистный Августин и предосудительно пьян частенько до полудня и буен бывает во хмелю, жестоко избивая ни в чем неповинных благонравных (перечислены негодяем пофамильно!) учеников, предпочитающих обучаться у других глубокоуважаемых согражданами почтенных профессоров греко-римского политического цивилизованного красноречия. Верх нелепости! — вновь возмутился наглой ложью Аврелий, едва не вскочив с ложа вопреки болезни и расслабленному обессиленному состоянию телесной души.
Нелепые и абсурдные аргументы этого лживого клеветника и доносчика он конечно бы с легкостью отверг, повергнув в прах омерзительные Эпистемоновы обвинения. Ан тебе нет, на заседание коллегии квесторов не явился, послал вместо себя своего риторского помощника Небридия Дамара, сославшись на тяжелую болезнь, что подкрепил свидетельством достопочтенного проконсула Виндикиана — многоуважаемого всеми ученого медикуcа.
Подумал Аврелий тогда в душевной слабости о том, как же ему станет неудобно и стыдно передавать, повествовать: негодяи из «синих», так-растак их! Его нарочно по наущению хорошо известного им лица оскорбили, подковырнули, позорно опрокинули, словно женщину на рынке. Тогда как Эпистемон, ублюдок, не преминул самолично появиться перед этими чинодралами и принялся публично, многословно распространяться, изъясняться по поводу того самого доношения, поношения и якобы возмутительного, бесстыдного поведения странно отсутствующего оппонента и соперника.
Доказывать ложь о пьянстве ритора Аврелия Августина клеветнику и доносителю Эпистемону Сартаку долго не пришлось. Квесторы немедля почли за благо ему поверить на слово, голословно, — мол, будто бы и тогда, по окончании виноградных каникул обвиняемый был так горестно пьян, на ногах толком не держался, постоянно стремился кувырком полететь носом или затылком об землю. И в тот самый день заседания с постели подняться был не в силах вследствие горького непрестанного пьянства и по дурной привычке безрассудного опьянения неразбавленным крепким каламским вином. Подумать только!..
Квесторы сочли визгливые облыжные доводы профессора Эпистемона весомыми и достоверными. Следовательно, с их точки зрения, ритора Аврелия могли бы принести на заседание в носилках. А они уж сумели бы отличить пьяного от больного не хуже старого доктора Виндикиана при всем уважении к его медицинским познаниям и проконсульскому статусу.
Общежитейскому и вескому мнению трех картагских должностных лиц и немыслимому визгу Эпистемона, очевидно, слегка растерявшийся от потока клеветнических измышлений Небридий не смог риторически-красноречиво противопоставить чего-либо убедительного. И достохвального учителя, руководителя не в службу, а в дружбу должным образом защитить, к сожалению, не сумел.
К тому же неявку профессора Аврелия Августина квесторы коллегиально восприняли, как проявление непростительного неуважения к их служебному сану и благонамеренным заботам о нравственном облике картагской молодежи…
Все же напрасно он поддался жалкой душевной немощи и не прибыл живьем, чтобы опровергнуть чего там ни будь так либо иначе касающегося той беззастенчивой лжи и бессовестной клеветы присяжного наветчика Эпистемона, лицемерно клявшегося всеми поганскими богами.
Ко всему прочему надо все-таки, по правде и по совести говоря, признать кое-что. Неслабо, вернее, на материнской латыни, капитально и специально перепало трем-четырем школярам из Эпистемоновых выкормышей, когда однажды на исходе месяца октябрьским праздничным полуднем в закоулках цирка злопамятный Романиан и его наездники гетулы подстерегли зловредных «синих», оскорбивших достославного ритора Августина. Как на грех Аврелий случайно, уступив просьбам друзей, желавших его отвлечь от мрачных осенних мыслей, пошел на скачки и потому невольно поучаствовал в потасовке на конюшенном дворе. А там и люди ланисты Константа Фезона подоспели — на подбор славные и атлетические ратоборцы, профессионально владеющие панкратией. Они в то время снова квартировали в столичном цирке. И доброжелательный Констант немедленно послал их на выручку другу и партнеру Скевию Романиану. А правая рука Константа — наш с ним Нумант Иберик — благоразумно выдернул не в меру разъяренного патрона Аврелия из самой гущи кулачного боя.
В общем зачете «зеленые» в тот знаменательный боевой и яростный день одержали над «синими» полную, неопровержимую, безоговорочную победу на цирковой арене и вне ее, где враждебной партии досталось и в хвост и в гриву, да в гроб и в саван. Доблестно и памятно, надо отметить, в тот прекрасный солнечный денек канальям обстоятельно намяли уши и холку. Истинно отметелили!
Побоище под высокой южной стеной цирка не закончилось в один момент или присест. По-другому не вышло, если к нему не замедлили подключиться взбудораженные состязаниями зрители, каким-то уму непостижимым образом прослышавшие о дополнительном развлечении, где можно и на других порядочно посмотреть да и самим покрасоваться вместе со всей удалью и физической формой. В результате разводили и разделяли вне себя распалившихся борцов и бойцов две центурии городских стражей порядка в полном вооружении.
К счастью, зачинщиком массовой драки и цирковых беспорядков Эпистемон никак не мог объявить и обвинить Аврелия. Потому что рукопашные схватки между «синими» и «зелеными» у стен цирка есть старая добрая картагская традиция, отчасти дозволительная по окончании конных ристаний, если горячее панкратическое дельце ограниченно случается в пределах территории ипподромных, — выразимся по-гречески, — подсобных служб и не выплескивается безлимитно, беспорядочно, безобразно на улицы города, обходясь без случайных жертв и беспричинных увечий посторонних квиритов, куриалов, пришлых варваров или рабов-сервов.
Об этом казусе Аврелию намедни достопочтенный доктор Виндикиан подробно и детально толковал, обоснованно предлагая обратиться за справедливостью к суду магистратов. Вот-вот грянут выборные комиции декурионов, а вдогон, не за горами после декабрьских сатурналий и Рождества Христова в январские календы наступит новый консульский год. В том и в другом политическом случае апологическое дело Аврелия Августина без сомнений выигрышное, если на его стороне множество достойных доверия, докторальных свидетелей и очевидцев.
Действительно, многие могли видеть, как ритор Аврелий Августин и сенатор Фабий Атебан степенно беседовали, пешком возвращаясь из цирка. Оба явно не принимали какого-либо участия в кулачном толковище «сине-зеленого сброда», а за лошадиными ристаниями наблюдали исключительно в силу общественной обязанности, осуждая, порицая несдержанность и неумеренность проявления стадных и хищных простонародных чувств, какие нередко вызывают языческие зрелища в театре, в ристалище… Несомненно, судили они о том, по-христиански с любовью к ближним своим, согласно просили Всевышнего простить толпе язычников ее неразумие и безрассудность, заслуживающие поучительного и огорчительного сожаления.
Аврелий охотно соглашался с навещавшим его во время болезни декурионом Фабием и доктором Виндикианом, в один голос советовавших ему попробовать силы на судебном поприще. Сначала стоит защитить свои честь и достоинство, вернуть денежное благорасположение квесторов, а там, глядишь, и профессионально заняться апологической практикой, традиционно приносящей в римском доминате чины, славу и богатства.
Не перечил Аврелий и Монике, настойчиво предложившей для сокращения расходов переместить риторскую школу в новообустроенное крыло их особняка в Нижнем городе. Если уж не хватает в достатке средств, чтобы поддерживать ученую гордость, достойно размещаясь поблизости от форума, то довольствуйся малым и будь доволен тем, что имеешь. К чему нас и священные апостольские книги, мол, призывают, настоятельно рекомендуют.
Со всеми добросердечными советчиками Аврелий в ноябре благодушно и слабодушно соглашался. Пускай ему с легким сердцем не составило бы изрядного труда риторически возразить на каждую, из поставленных ими проблем и этиологий, он ни с кем не пререкался, никому не противоречил, не прекословил. Зачем, скажите на милость, болезненному человеку понапрасну тратить слабые духовные силы, умственные усилия и ораторское искусство на ближних или дальних? Пускай жизнеустроительство идет случайным чередом, плывет, куда ему вздумается без кормила и ветрила. Наверное, в самом деле правы христианские проповедники, утверждающие, будто блаженны нищие духом, как бы их есть царствие небесное. Либо на все и вся в подлунном мире имеется воля Божья.
Без молитвы и обращения к Всевышнему с просьбой даровать крепость духа и физические силы философ и ритор Аврелий Августин в то сумеречное ноябрьское утро как-то скептически обошелся. Все же таки он выбрался из-под одеяла, покинул нагретое уютное ложе, заставил себя умыться, одеться… Однако потом опять расслабленно улегся, укрыл ноги потеплее и принялся размышлять, чем таким ему следует сегодня, здесь и сейчас заняться. Может статься, не сходя с места…
С минуты на каплю соберутся ученики. Можно их, конечно же, всех, недоумков тупоголовых, разогнать по домам под удобнейшим и универсальным предлогом тяжкой хвори учителя. Или же сегодняшние занятия прекрасно сможет провести Небридий, получив соответствующие учительские и дружеские указания.
Хоть таким способом, но деньги все-таки надо зарабатывать. Не то последние толковые ученики разбегутся. И без того Аврелий кое-кого из обучаемых уже недосчитался. Одним не захотелось, честно говоря, иногда без толку таскаться в далекий Нижний город. Другие же, точнее, их родители, предусмотрительно решили отказаться от услуг профессора, обвиненного в неблаговидном образе жизни, и посему, — им, глупцам, очевидно, — якобы утратившего благоволение городских властей.
Оно, видимо, и к лучшему, если самые толковые, а также старательные, добросовестные и преданные аколиты и акусматики остались… Никуда не делись, обормоты пытливые. Вон скоро будут в сборе, припрутся всей cинaгoгoй, олухи…
Может статься, — раздумывал весь в сомнениях и колебаниях Аврелий, — распорядиться, кабы Небридий продекламировал избранные и заблаговременно подготовленные отрывки из Тита Лукреция? А затем, допустим, воспроизведет подлинные древние гексаметры Эмпедокла из Акраганта, какие спустя века упомянутый довольно образованный римлянин натурфилософски развил и продолжил.
Причем научную поэзию вполне по силам и уму более-менее выразительно зачитать домашнему рабу-чтецу Клару, а помощник Небридий с удовольствием походя ее переработает и с ходу импровизировано исправит неудачные, на его взгляд, строфы у стародавних поэтов. Ему такая филология по душе и по вкусу.
Наверняка половина наших слушателей мало что поймет архаично по-гречески, тогда как остальные не сразу сообразят что к чему классично по-латыни. Вот они и примутся вплоть до полудня наперебой объяснять друг другу неясные места и строчки под неусыпным присмотром Небридия с его уместными ироничными комментариями.
Тем временем выздоравливающему Аврелию позволительно поспать, чуток вздремнуть… Или того оптимальнее, самому чего-нибудь этакое умственное написать, сочинить? И книга третья трактата «О прекрасном и соответственном» ждет-пождет своего часа.
При всем том особого духовного расположения к творчеству он в то рассветное утро не ощущал. Кое-какие две-три свежие, в оригинале и генесисе, мысли безусловно найдутся, но ведь их еще требуется изложить письменно, привести в удобочитаемый облик. Между тем интересно послушать, как его любимые до изнеможения ученики станут составлять риторские многоречивые парафразы, перелагая в расширенную ритмическую латинскую прозу краткие стихотворные метры Эмпедокла и Тита о природе вещей.
Да и общая соответствующая тема намеченных на сегодня занятий, заранее сформулированная Аврелием, предполагает интереснейшую дискуссию и оживленную полемику, если ученикам предстоит ответить на два вопроса. Как-то: способствует ли древняя и современная натурфилософия ниспровержению ложных богов? И насколько успешно она развенчивает суеверное языческое многобожие и многобесие?
Небридий же с нейтральной, но ответственной стороны самостоятельно определит, кому отстаивать данную основополагающую гипотезу в рамках риторической катаскевы-утверждения, а кому ее вещественно критиковать, развивая анаскеву-отрицание. К религиозной теогонической тематике он весьма пристрастен и сумеет по достоинству оценить глобальную и орбитальную постановку архипроблемы учителем.
Тут профессор Аврелий еще немного подумал и оставил эту подготовленную схему занятий до лучших или до худших будущих времен, — в зависимости с какой исторической точки зрения на них посмотреть. Ведь не все так плохо, как кажется в душевной и телесной слабости? Можно ведь потрудиться, а от здоровья нисколько не убудет, коль скоро самолично провести настоящий урок. Значительнее того, без личного присутствия, как ни думай, не обойтись, и давно под стать заготовлена соответствующая нынешнему горестному положению профессорских дел оригинальная латинская контроверсия Апулея Мадаврского.
Известно: не только во «Флоридах» наш знаменитый нумидийский соотечественник упоминал Протагора из Абдеры, того самого древнего софиста, полемически заявлявшего, будто человек есть мера всех вещей, включая существующие, потому что они существуют, а не существующие, что они не существуют. При всем при том тот же Протагор софистически сомневался в языческих богах, о которых он не может знать, есть ли они, нет ли их, ибо слишком многое препятствует такому знанию, — и вопрос, мол, темен и людская жизнь коротка.
Намного яснее предстает судебная коллизия, произошедшая с самим этим софистом, о чем нам рассказывает достославный Лукий Апулей. Кое-какая актуальность и связь эпох в ней по настоящее время присутствуют и просматриваются.
Итак, софист Протагор, по словам Апулея, человек обширнейших и разносторонних знаний, отличавшийся среди изобретателей риторики сущим красноречием, согражданин и сверстник известного натурфилософа Демокрита, у которого он, говорят, заимствовал свое учение целиком — этот самый Протагор назначил некоему ученику Эватлу непомерно высокую плату за обучение, однако, с одним необдуманным условием. Эватл лишь в том случае обязывался уплатить деньги учителю, если выиграет свое первое дело в суде.
Черeз некоторое время Эватл, грек от природы изворотливый и хитрый, с легкостью изучив всемерные способы вызывать у судей жалость, всяческие эристические ловушки, какие противные стороны ставят одна одной, научившись, всевозможным словесным уловкам, решает, что с него достаточно, он уже знает все, чего хотел знать, прощается с Протагором. Затем он начинает отлынивать от выполнения договора, ловко измышляет отсрочку за отсрочкой, водит учителя за нос, отказываясь в течение долгих месяцев ни взять на себя ведение какого-либо дела, ни уплатить долг.
Наконец, разгневанный Протагор вызывает бессовестного ловкача в суд, где докладывает об условии, на каком он принял Эватла в число учеников. Причем многоученый профессор делает вывод в форме софистической дилеммы.
— Коли я выиграю, — заявляет софист, — тебе, мой прижимистый Эватл, придется отдать мне плату по приговору суда, а если выиграешь ты, все равно придется тебе развязывать мошну. Все в соответствии с нашим соглашением: ведь тогда окажется, что ты выиграл это вот первое дело в суде.
Таким образом, выиграв, ты подпадаешь под действие договора, проиграв, — под действие приговора.
Тем не менее Эватл постарался опровергнуть Протагора. Недаром он был среди его лучших учеников и вывернул шиворот-навыворот профессорскую дилемму.
— Ничего подобного! — глазом не моргнув, воскликнул он. — Ни в том, ни в другом варианте я не должен тебе того, что ты требуешь, Протагор.
Истина перед вами, дорогие сограждане! Либо я выигрываю, и тогда решение глубокоуважаемых судей освобождает меня от всех обязательств. Либо проигрываю, и тогда моя правота устанавливается на основании соглашения с уважаемым Протагором, в котором черными чернилами по белому папирусу записано: я ничего не должен платить, если проиграю мое первое дело в суде, то есть нашу сегодняшнюю тяжбу.
Таким видом, я в любом случае буду оправдан: проиграв — условием с Протагором, выиграв — судебным определением мудрых судей…
Спрашивается, — намеревался красноречиво вопросить уже собственных учеников Аврелий Августин, кто из тяжущихся в данной правовой коллизии сторон должен по закону и по совести одержать риторическую победу? Да и каково правовое и справедливое разрешение этого казуса, затеянного двумя лукавыми и каверзными греками — охломонами и демагогами?
Несмотря на в целом почтительное отношение к греческой учености, собственно, к грекам нумидийцы пунического происхождения не питают чрезмерно добрых чувств. И ученики ритора Аврелия отнюдь не являются исключением из этого общежитейского популярного, скажем по-латински, правила. Так же, как и другие жители столичного Картага не исключаются и далеко не выходят из этого ряда вон. Хитрозадый грекулюс, он и в Африке грекулюс…
Стало быть, апулеевская контроверсия всем чрезвычайно понравится. Особенно в той ее части, где два хитроумных грека сами себе козни подстроили, согласно неопровержимым установлениям и уложениям римского права. Эту антигреческую контроверсию обязательно станут со смехом упоминать на форуме судебные ораторы.
Потом, глядишь, в дальнейшем можно будет ненароком представить Эпистемона Сартака, как имеющего сомнительную греческую родословную. Потому что неспроста же у него то ли кличка, то ли имя Эпистемон, что в переводе на общеупотребительную имперскую латынь означает «знаток»? Интересно, он сам-то об этом знает? Имя есть знамение, но иногда оказывается очень дурным, одиозным предзнаменованием.
Риторически домыслить можно всякое. И во время учебных занятий, порой и в судебных прениях, оно только приветствуется. Знаменательно, коль не случайно существуют такие словесные упражнения в научной риторике, как вымышленные характерные речи-этопеи и придуманные разговоры-мелеты на заданную тему, какие можно приписать кому угодно.
Не зря ведь у известнейших древнеримских и древнегреческих историков для обрисовки характеров знаменитые исторические деятели произносят как бы от первого лица бездну знаменательных пространных речей. Эту показательную словесность, поистине говоря, никто и никогда за ними не записывал по горячим следам, горячими руками прямо на месте событий, но ее по своему хладнокровному произволу, разумению или же необдуманному недоразумению вкладывают им в уста общепризнанные хронисты и анналисты.
При этом в учебных, отнюдь не в историко-политических целях риторским школярам, их учителям-магистрам вполне дозволительны значимые парадоксы и сравнительные контрпозиции. Хотя полития по Аристотелю нисколько не исключается из урочных, обучающих судебному и совещательному красноречию жизненных материалов.
К слову, умным и образованным картагцам пунического рода-племени очень пришелся ко двору суасорий Аврелия о войне римлян с Ганнибалом, где его ученики активно, не без иронии упражнялись в роли полководца Фабия Кунктатора, страстно уговаривавшего римский сенат и народ побыстрее да поскорее закончить военные действия почетным миром, для чего выделить ему побольше людей и денег.
Сколько же фунтов в Ганнибале, ритор Аврелий сатирически многозначительно взвешивал в другой раз.
Не меньшим риторским интеллектуальным успехом также пользовался измысленный Аврелием суасорий о беотийском ораторе Демосфене, призывавшем афинских архонтов и ареопагитов, долго не кобенясь, подчиниться благодетельной гегемонии молодого македонского царя Александра. Вполне политически допустимо, чтобы этот прославленный в веках древнегреческий демагог, хорошенько поразмыслив на склоне лет, творчески перешел от пламенных антимакедонских филиппик к верноподданнейшей «Александрии».
Историческая и юридическая практика то и дело подкидывают для риторского обучения в затейливых замечательных контроверсиях или в менее изощренных суасориях неожиданные казусы, акциденции и прецеденты. Меж тем то, что могло случиться, при изменившихся обстоятельствах в состоянии произойти вновь, но с прежней натурой людской, прискорбно сохраняющей порочные склонности и предпочтения. Впрочем, извечные людские добродетели тоже мало подвержены изменениям, — рассуждал в ту пору молодой Августин, обдуманно и почтительно опираясь на признанных и авторитетных историков, натурфилософов и физиологов, издревле этически глубоко изучающих взаимоотношения людей между собой и с окружающим нас мирозданием.
В преподавании риторики Аврелий в первейшую очередь руководствовался учеными изысканиями и мудрыми умозаключениями уникального Аристотеля, какие ему посчастливилось изучить и уразуметь. «О софистических опровержениях» и «Топику» он прилежно проштудировал от альфы до омеги, время от времени заново обращаясь к собственноручно переписанным кодексам великого афинского мыслителя родом из Стагиры.
Аврелий Августин теоретически всему научился у аналитичного диалектика Аристотеля Стагирита и практически обучал вдумчивых слушателей-приверженцев, как логично, последовательно, поистине рационально противостоять довольно распространенным ухищрениям лжеименных софистов и софистики, где рассуждают лишь ради спора и стремления одолеть соперника.
— Порой не стесняйтесь, мои дорогие коллеги, обращать против чрезмерно разговорчивых мнимых мудрецов их же личное оружие! А именно, когда они тщатся добиться пяти софистических сомнительно магических пентаграмматических целей. В главном лучевом пункте — создать видимость того, будто они нечто действительно опровергают; во втором луче хитро показать, что собеседник якобы говорит неправду; третье — каверзно привести его к тому, что не согласуется с общепринятым; четвертое — подспудно заставить его совершать погрешности в речи, то есть коварными доводами вынудить отвечающего говорить подобно чужестранцу-метеку; наконец, в-пятых, обречь неискушенного оппонента на повторение одного и того же, без логичной нужды прибегая к пустословию и убогости однообразных мыслей, какие отличительно видимы со стороны…
Поздний ноябрьский рассвет застал Аврелия в постели. Но тунеядствующему праздномыслию он по всей видимости не предавался, как бы там оно ни выходило со слабоволием и вчерашними праздничными излишествами. Итого, прежде чем объявились ученики, он оказался полностью готов к уроку, собравшись воедино духом и телом.
Слава тут Богу, далеко идти не нужно, выходить в осеннюю хмурую мерзость и невыносимую сырость, если работаешь дома.
Правда, новый, только что выстроенный придел справа от вестибула еще предстоит обжить, обогреть, обсушить теплом жаровен и горячих человеческих тел. Зимой-то и осенью в нем жить нисколечко не хочется, неуютно и зябко. Но поработать здесь так-таки можно, сколь скоро не сидишь неподвижным истуканом на одном месте, а в перипатетическом оживлении воодушевленно расхаживаешь перед аудиторией, уважительно внимающей обширной профессорской книжной мудрости учителя-магистра и его лекторскому красноречию-элоквенции.
Следи глазами за красноречивыми мыслями и плавными жестами учителя! Слева направо, справа налево.
Досадная болезнь и осеннее нездоровье, как видно, ему не слишком-то мешают оставаться лучшим из лучших образованнейших риторов Африки, быть может, и всего великоримского домината.
Досыта накормив учеников не только словами, но и щедро угостив по-домашнему прандиумом, то есть легким полуденным завтраком, Аврелий с блеском продолжил занятия по судебному красноречию. Знай о том и трепещи, подлый клеветник Эпистемон!
Назавтра профессор Аврелий велел ученикам не приходить, основательно, скажем точнее, фундаментально и индивидуально каждого озадачив самостоятельным библиотечным аналитическим чтением и заготовкой тематических декламаций.
Сам же он намеревался в тот день в ноябрьские иды после полудня приятно-блаженно свидеться с Сабиной. А с утра кое-куда заглянуть невзначай, коллегиально, как-нибудь глянуть, как там поживает, овладевает знаниями его тайный сын Адеодат в грамматической школе, куда здорово подросший мальчик поступил этой осенью.
О сыне Аврелий в общих чертах наслышан, потому как потаенно и встречался и регулярно переписывался с Сабиной через посредничество услужливого книготорговца Капитона. Ведь письмо довольно удобно вложить в свиток или фолиант, а в каких-нибудь не очень ценных манускриптах, какие Сабина или Аврелий вознамерились продать ли, купить, незаметно добавить от себя нужные условные слова и фразы. Их потом деликатный Капитон аккуратно выскоблит после успешно доставленного секретного любовного послания. Что называется, приведет в христианский вид с любовью и благожелательностью к ближним своим.
Болезнь зови болезнью, но жизнь идет своим порядком, и отнюдь не вся сверху донизу мужская душевная плоть раскисает, слабеет и нехорошо размягчается. Так-то оно так, но твердого желания добиться справедливости в суде Аврелий Августин все еще не испытывал. Весь ноябрь, откровенно говоря наедине с собой, побаивался он выступления перед магистратами с апологией, то есть с убедительной речью в защиту самого себя, тщательно записанной, вычитанной, выверенной, выправленной…
Тут как нельзя уместно в Картаг на декабрьских календах приехал, право слово, бесстрашно преодолев морские зимние бури и непогоды, гонцом из Рима по служебным и фамильным надобностям прибыл Алипий Гауда Адгербал. Имперский да сенатский податной чин у него по правде не велик, но репутация какого ни есть полномочного представителя высшей кесарской власти подлежащей многому способствует и многих обязывает.
Первым долгом он навестил любимого учителя и старшего друга, разузнал что к чему и почем. Затем, словно бы театральный бог из машины, благословеннейший Алипий урегулировал, разрешил вовсе не риторическую, а всамделишную проблему Аврелия с дотациями из публичного пекуния.
Как сметливо выяснил Алипий, местным пекуниальным квесторам тоже не очень-то желательно в открытую выносить разный мелкий сор из служебных потайных клауструмов в публичное судебное присутствие. Субсидию ритору Аврелию Августину втихую восстановили и даже всемилостиво вернули ноябрьскую недостачу.
«Какое же великое дело делается, делается публично, на форуме пред лицом законов, назначающих сверх платы от учеников еще плату от города!»
Жаль, и мед по жизни мешается с желчью. Потому окольно, через того же обходительного римлянина Алипия картагского жителя Аврелия влиятельнейшие отцы города предупредили и бесстрастно поставили ему на вид недопустимость впредь какого-либо предосудительного порочного образа жизни. Подобно исторической жене кесаря Октавиана Августа он, многоуважаемый профессор и магистр высокой риторики Аврелий Августин, обязан быть вне малейших подозрений в низменных пороках и прегрешениях, довольно простительных кому-нибудь иному, но не ему, воспитателю молодежи, ученейшему квириту и умнейшему куриалу.
Иначе нечаянному, но эвентуальному нарушителю неизменного традиционного картагского благонравия и благочиния не миновать-де строгих мер пресечения вплоть до неумолимого, хотя и негласного, предложения благоразумно покинуть город во избежание бесславной высылки по суду и вселенского орбитального позора.
Очень многое в ханжеской предубежденной политичной жизни, как и в непредвзятой натурфилософии, остается недосказанным, однако предельно ясным не меньше, чем аристотелевские логические энтимемы. Разумеется, и первое и второе рационально понятны лишь тем, кто желает их аналитически уразуметь. Умному да ученому зачастую достаточно малого для намека и зарока на будущее…
На декабрьские ноны с началом продолжительных зимних каникул Аврелий обстоятельно задумался над тем, как бы ему изловчиться, изобретательно перебраться в Рим, открыть там для понимающих риторскую школу. Или, быть может, преспокойно вернуться в родную тихую Тагасту, к безмятежным и малобременительным занятиям грамматикой с понятливыми детьми, оставив неблагодарный Картаг? Там — прошлое, здесь — настоящее… А где оно, это будущее? В астрономических календарях математиков?..
Пройдет не так уж много календарного исторического времени до той поры, когда благочестивый епископ Августин Гиппонский станет с отвращением, горечью и покаянием, стыдясь, насильно и посильно вспоминать в «Исповеди» годы той риторской молодости в африканском Карфагене.
Да не солжет ему память его!
«Минуло десять лет, в продолжение коих я валялся в сей грязной бездне и во мраке лжи…
До двадцать восьмого года жизни моей, я жил в заблуждении и вводил в заблуждение других, обманывался и обманывал разными увлечениями своими: открыто — обучением, какое зовется либеральным, втайне — тем, что носило обманное имя религии.
Там была гордость, здесь суеверие, и всюду — пустота. Там я гнался за пустой известностью, за рукоплесканиями в театре на стихотворных состязаниях в борьбе ради венков из травы, там увлекался бессмысленными зрелищами и безудержным развратом; тут, стремясь очиститься от этой грязи, подносил так называемым святым и избранным пищу, из которой они в собственном брюхе мастерили ангелов и богов.
Я был ревностным последователем всего этого и соответственно действовал с друзьями своими, совместно со мною и через меня обманутыми…»
Еще более нелицеприятно, даже неприязненно Августин отзовется в зрелости, вернее, ближе к старости о собственном достаточно благополучном детстве, имея в виду незабытые для него ужасающие психологические реминисценции. Пусть себе мимоходом, но весьма эпатировано и патетично, вопросил он в двадцать первой книге «О Граде Божием»:
«Да и кто бы не пришел в ужас и не предпочел умереть, когда б ему предложили на выбор или претерпеть смерть, или снова пережить детство? Начиная свое появление на свет не смехом, но плачем, дитя тем самым неосознанно дает наперед себе знать, в какие бедствия оно впало…»
†
ФОЛИУМ ТРЕТИЙ. ЗАПОМИНАТЬ И ЗАБЫВАТЬ
КАПИТУЛ X
Год 1114-й от основания Великого Рима.
7-й год империума Констанция Младшего, августа и кесаря-магнума Востока и Запада.
Год 360-й от Рождества Христова.
Нумидийский городок Тагаста на западе проконсульской провинции Африка в декабрьские иды на зимних ученических каникулах.
Шестилетний мальчик Аврелий очень любил слушать, как взрослые и большие умиленно предаются воспоминаниям, каким же послушным, хорошим, умным ребенком он был в младенческие дни и в раннем малолетстве. Тогда от растроганных родителей, то есть от Патрика и Моники, ему, несчастному, намного меньше перепадает всяких-яких болезнетворных неприятностей и обидных наказаний. Наверное, в память о былом, с надеждой на возобновление прежнего послушания и благонравия, они к нему так благосклонны и снисходительны.
Самого себя в далеком наглухо забытом младенчестве он ни на зету, ни на ипсилон не помнит. Зато сейчас ни на мгновение ока старается не позабыть о том, как чуть что от беременной матери можно огрести раздраженную оплеуху, затрещину наотмашь, а от озабоченного делами гневного отца — пренебрежительный тычок двумя жесткими пальцами в лоб. Или же, ой, германским ремнем пониже спины, еще больнее. Но каждый миг обо всем этом как-то не очень вспоминается.
Вот бы иметь неизгладимую каменную памятливость! И словно Господь Всеведущий помнить все про все и про всех. По крайней мере, так утверждает мать…
О как же трудно маленькому досконально запомнить, случайно не позабыть то, чему его учат и наставляют большие!
Все ж таки, — у него это очень даже хорошо улеглось в голове, — наставительно и назидательно, на долгую память пороть его начал только учитель в перголе на форуме — долговязый носатый Папирий. Начались эти учительство и мучительство очень давно, еще жаркой виноградной осенью, а это, пожалуй, лето.
Его еще не отправляли в постель с курами и петухами по приходу ранней медлительной темноты. За городом на вилле засыпаешь быстрым летним вечером сразу, в один миг. И ничего страшного, ужасного, если припомнить, ему вроде как не снилось. Теперь же в Тагасте он ночь к ночи боится заснуть, чтоб не привиделся какой-нибудь противный кошмар, от которого не остается ничего, кроме страха, как бы он опять не повторился, не вернулся.
Спать зимним вечером Аврелию вовсе не хотелось. Оттого он принялся от нечего делать или, вернее, на всякий болезненный случай припоминать, воображать, как выглядят, как звучат, палочки и черточки родного латинского алфавита.
— Повторяй, повторяй и запоминай, неслухи! — зудит, злобствует Папирий, угрожая беспамятным, непослушным и невнимательным жуткой учительской ферулой. Каникулы каникулами, но такое не забывается, скоро опять в перголу к этой палке и к пучку гибких розог в глиняном горшке рядом с кафедрой…
Под одеялом Аврелий согрелся, ему стало уютно, хорошо; он взялся рассматривать отблески от углей узорчатой бронзовой жаровни и причудливые, еле видимые тени на потолке. Темноты, неизвестности он не боялся — его больше страшило известное и понятное, когда отличительно знаешь, осознаешь, какая неминуемая беда тебя ждет, если что не так, не по нраву, не по вкусу, не ко двору тем, кто тебя взрослее годами, сильнее телом, старше званием и вообще умнее.
Кормилица Эвнойя, летом возвращенная к заботам об Аврелии, придет еще не скоро. И он в этом ничуть не сомневается. Прежде, чем улечься на войлоке по эту сторону порога детской, она сначала будет долго шушукаться с другими рабынями у поваренного очага. Потом пойдет на конюшню к своему мужу Икелу, как она говорит масляно улыбаясь, для исполнения супружеского долга и Божьей заповеди.
Всяких заповедей у Бога очень много, всех их и не запомнишь с бухты-барахты, если не бубнить, вторя учителю, нудно и утомительно. Поэтому маленький Аврелий, нисколько не допытывался у толстухи Эвнойи, чего же ей там заповедано делать по ночам.
Вот потому-то Аврелий предусмотрительно, — как бы не забыть ненароком! — принялся про себя повторять звучащие буквы. К тому же ему страшно хотелось, как можно поскорее стать грамотным, умным и взрослым. Потому что свободных взрослых людей наказывают розгами очень редко, да и то по приговору суда магистратов. Меж тем детей и рабов секут помногу, почасту и очень больно.
— Познаете истину, и станете свободными, — как-то раз назидательно зачитала ему мать из толстой священной книги. Она еще называет ее Божьей Библией.
Не иначе как Божьи истины и правда нашим рабам неведомы, из-за того они постоянно врут хозяевам и придумывают невесть что о злых духах, кровавых привидениях, передавая друг другу в поварне страшные истории о несуществующих взаправду ламиях, эмпусах, ларвах.
Отец откровенно говорит, ничего такого нет, оттого что он ни разу в жизни никогда не встречал какую-нибудь мифическую нечисть. Боги и демоны, может, и есть, но живут они слишком далеко от людей и ничуточки не интересуются людскими делами.
Патрику нужно верить, если даже Моника с ним не очень-то спорит, когда он начинает рассуждать о религии и божественном. Отец семейства должен все знать, уметь, понимать и настаивать на своем, а все, кто в его власти, обязаны его слушаться и ему подчиняться, — объяснила она сыну.
Потому что Патрик у них самый старший и самый взрослый в их фамилии тагастийских Августинов. Понятно, не по возрасту, а по статусу в вышних от Бога и от начальствующих людей на земле, то есть в городе. А называется отеческая власть авторитетом.
Новые умные слова Аврелий с легкостью запоминал, а когда ему не совсем ясным было их значение, то не стеснялся об этом спрашивать всех подряд. Потом же, оно как-то само получалось, он сопоставлял и разумно сравнивал между собой ответы. Понимать грамотность и образование он учился так же естественно, как и разговаривать на латинском языке отца и матери, то есть вернакулярно.
Совсем тебе другое дело за белыми холщовыми полотнищами в начальной и грамматической школе у Папирия на тагастийском форуме. Там тебя силком всему заставляют и учат, учат, учат… Через силу и насилу…
Значительно позже, сколь уразумел Аврелий, уже в Мадавре по-настоящему обучаясь грамматике по-гречески и по-латыни, включая пролегомены и примитивные градусы к дидактике и риторике, тот Папирий из Тагасты нахально прилепил звание грамматика, самоуправно уселся на стуле с высокой спинкой, чтобы добиться денег от городских магистратов и вооружиться ужаснейшей магистерской ферулой.
Ее-то Аврелий, должно быть, до конца дней своих будет помнить. Не забудет, не простит этому Папирию Недромиту тех грехов пыточного изуверства и мучительной угрозы в любой момент издевательски метко схлопотать этой линейкой-ферулой по уху. Или как рубанет по кончику носа. Заруби себе на носу! Вот так ухо или там тебе нос чуть ли не на весь день нехорошо распухают.
Потом дома родители обидно смеются и насмешливо поздравляют с достойной ученической наградой — мол, ясно видимы успехи в овладении грамотой и учеными знаниями. О дидактических методах Папирия они знают, по-видимому их одобряют, поскольку со времен их школьного детства эта самая ферула ни на мелкую линию, ни на малый градус не изменилась.
Длинная, больше трех футов, то есть на три стопы взрослого человека, она являет собой полукруглую с одной стороны толстую трость, украшенную цифрами, а с другой она плоская с глубоко вырезанными делениями. Вырезают ферулу из молодого ствола горного орешника, хорошо вымачивают в лошадиной моче, после полируют, наносят арифметические и геометрические обозначения. Ферула суть учебное наглядное пособие, измерительное устройство и знак, признак учительской, иначе говоря, профессорской авторитарной власти, господства и превосходства магистра-корифея над эпигонами-алюмнусами. Ибо ученик не выше учителя.
Вышеизложенные греко-латинские мысли и интеллектуальные соображения пришли к Августину гораздо позднее, пятнадцать лет спустя в его будущность грамматиком в Тагасте и ритором в Картаге. В шестилетнем же возрасте он изо всех ребячьих сил силился не запамятовать вызубренные назубок, вытверженные на слух прямой и обратный порядок классических двадцати трех букв в латинском алфавите, а также числа от 1 до 20, согласно количеству пальцев у человека.
Затвердить, закрепить можно многое. Потому устным повторением наименований литер, цифр в разбивку и навскидку с любого места прежде, нежели что-то показать, пресловутый Папирий его порядком измучил и едва не навязал неизбывное отвращение к учебе, как оно доселе отвратно происходит по прошествии веков и тысячелетий. Miserere nos, Deus!
Раньше, чем что-либо один раз увидеть, незадачливым ученикам у всяких-разных приснопамятных Папириев, непременно требовалось сто раз мизерно услышать и тысячи раз бессмысленно повторить нечто с чужого голоса. Предполагалось и доныне навязывается, вязнет в ушах, будто бы таким устоявшимся доисторическим методом укрепляется и обостряется память, но не тупоумие и бездумное скотское подчинение словесным командам или механическое повиновение устным приказам вышестоящих, что имеет место быть в реальности.
В шесть лет, ко своему дню рождения-наречения Аврелий худо-бедно, через невмоготу, но затвердил так-таки на память, накрепко сигнальные звуки от о «A» до «Z». Однако же, что собой представляют их графические изображения, он мог только догадываться по разнообразным надписям тут и там в городе. Везде имеются таинственные мелкие объявления, каракули на оштукатуренных стенах домов или крупные, красиво выведенные вывески торговцев. Последние ему иногда удавалось сметливо понять и сообразительно соотнести с действительностью.
В то же время уразуметь, почему, по словам отца, на пальцах левой руки располагаются единицы и десятки, а на правой — сотни и тысячи вещей, у него нисколько не получалось.
Что такое двадцать три буквы, он кое-как смекнул, отсчитав их на двадцати пальцах рук и ног и вообразив третью руку. Но ведь в жизни такого по правде не бывает? Тем не менее взрослые насчитывают и говорят о десятках, сотнях, тысячах, о каких-то уму невообразимых миллионах вещей и предметов от первого до последнего…
Пересчитав себе пальцы, Аврелий удовлетворенно уснул, и с утра школьная премудрость ему на ум никак не шла, не приходила к этому каникулярию вплоть до самого вечера. Уже в постели он испугался, что ему вдруг опять привидится какой-нибудь кошмарный сон, и потому поневоле припомнил о незабываемых изустных буквах и числах, заново принялся повторять про себя алфавит. Не то как вернется он в школу к злоехидному Папирию, да как снова ему достанется розгами за забывчивость…
По правде сказать, за беспамятность его Папирий ни разу покуда не наказывал. Он, Аврелий, из многоуважаемой фамилии тагастийских куриалов Августинов, ничего не забывает, исправно отвечает, повторяет то, о чем его спрашивают. Других же учеников и учениц час от часу больно секли вследствие тупости, лени, невнимательности, тугоухости, а его нет, умного и разумного.
Особенно, — наблюдательно подметил ученик Аврелий, — учителю Папирию доставляло видимое удовольствие самолично сечь кого-нибудь из трех глупых девчонок, учившихся грамоте и счету вместе с младшими мальчиками-минористами в одной перголе-пристройке к ювелирной лавке, какой владеет важный тесть Папирия Недромита.
Этих девчонок учитель Папирий не доверял наказывать рабу-помощнику Фринонду, но собственноручно вытаскивал за волосы перед всеми, приказывал задирать выше задницы длинную тунику и порол розгой, наглядно, громко, выразительно отсчитывая удары. Мольба, визг, писк, плач и вопли голозадых наказуемых в расчет не принимались.
Подчас неумолимый наставник дает команду остальным ученикам хором повторять за ним латинский счет воспитательного сечения. Фринонд в это время обычно занимается греческим языком со старшими мальчиками-майористами в соседнем помещении за тонкой дощатой перегородкой.
Уши и вспухшие зады у выставленных на позор девочек и мальчиков при этом одинаково краснеют, словно петушиный гребень. Хотя Папирий в продолжение порки никого не бьет ферулой по ушам или по носу. Он ее бережно укладывает на учительский стул-кафедру.
По окончании экзекуции он вновь брал в руки магистерский жезл, а некоторым наказанным в дополнение повелевал напоказ стоять голозадыми в углу, не опуская туники. Как он говорил:
— …Чтобы из голого ума нерадение и непослушание выветривались, бестолочи! Убедительно и показательно! Укрепляй умственность через зад снаружи, раз так и спереди изнутри разумение и понимание закрепятся…
Понятное дело, Аврелию очень не хотелось оказаться среди тех, кто задним умом крепок. Хотя однажды и он пострадал, последним прибежав после перерыва, — в кустах на заднем дворе отыскивал закатившийся мяч уже после призыва Фринонда воротиться к школьным занятиям.
— Сказано было вам, неслухи, — похолодев, услышал Аврелий ехидно-злорадный голос Папирия, — опоздавшим достаются и кости, и в кость, и горячо по мягкому голому месту. Два жгучих, пять горячих, Августин!
За плач и рыдания Папирий его оставил в углу проветриваться. Но вскоре смилостивился, неожиданно, едва-едва не застав врасплох, велел наказанному продолжить алфавит от латинской буквы «Р». Благополучно добравшемуся до зеты зареванному страдальцу, было разрешено сесть на его место на длинной скамье за столом, однако запрещено ерзать и егозить. А вдогонку под веселенькие, но опасливые смешки товарищей афористически указано:
— Чесаться побыстрее лишь, когда зовут, а не там, где сдуру чешется…
До сих пор Папирий им не демонстрировал ни литер, ни цифр, всего только говорил, интригующе намекал о существовании письменных знаков, морща лоб, закатывая глаза, глубокомысленно указуя двумя перстами в потолок.
Уже осенью он стал учить их складам и слогам, вынуждая вслед за собой трагедийно по-гистрионски завывать: аба-ба, ада-да, ба-ба-баб, бе-бе-ме… В общем, его и бе, и ме, и ку-ка-ре-ку, бум-бум, гав-гав, вар-вар, гыр-гыр — ни дать ни взять походили на утреннюю зычную перекличку скотины и рабов где-нибудь на сельской вилле.
Чего-либо человеческого, цивилизованного, разумного Аврелий и в несмышленом детстве, очевидно, не находил в том, как же бездарно, безбожно по старинке его обучали началам-принципам грамоты, письма и счета.
«Горе тебе, людской обычай, подхватывающий нас потоком своим! Кто воспротивится тебе? Когда же ты иссохнешь?»
Впоследствии Августин по книгам и на практике самостоятельно осваивал дидактику, отчего в благорассудительном и здравомысленном противопоставлении приобрел заряд проницательного интеллектуального недоверия к закостеневшим заурядным мнениям и предвзятым представлениям, утвержденным предрассудкам, привычным пережиткам. Ибо все старое, нажитое, устоявшееся отнюдь не всегда равнозначно всему хорошему и наилучшему.
В подтверждение этой истины можно припомнить, как нежданно-негаданно разумный мальчик Аврелий в лучшем виде выучился письменным буквам и цифрам неделей позже на сатурналии. Но не самоучкой, потому как помогли ему в том без принуждения или, наоборот, без особых просьб дружок Скевий и старший раб-повар из фамилии Романианов.
Как само собой разумеющееся, если в семье кто-то учится чтению и счету, не дожидаясь отдельных указаний, на хозяйской поварне у богатых и хлебосольных Романианов испекли множество букв и цифр из сладкого сдобного теста. Они-то и пошли на праздничное угощение заглянувшего в гости сына-наследника достопочтенного куриала Патрика из фамилии Августинов. Причем друг Скевий напропалую хвастался перед другом Аврелием, насколько хорошо он знает буквы и умеет складывать из палочек цифровые знаки.
Младший из Романианов Скевий Вага по календарю и по жизни старше Аврелия Августина на целый год и целых три месяца. Итого: он и взрослее и умнее. Но в учение его отдали домашнему наставнику грамотному греку Месодему по обычаю лишь после того, как ему исполнилось полных семь лет.
— До того, — объяснял Скевий, — старик Месодем тихо и безбедно бездельничал виликом в одном из небольших фруктовых имений отца. А после виноградных каникул ему стало приказано вернуться к основной профессии и службе.
Таким вот подобием в дидактике, — говоря по-ученому, по-гречески, — Скевий как бы стал ровесником младшему Аврелию. Но теперь-то он наверстал свое, разудало гордясь тем, насколько хорошо ему отныне известны буквы, как-то удалось научиться читать по слогам. И даже, — знай наших! — отдельные слова у него сейчас на одном дыхании прочитываются…
Аврелий его слушал да втихомолочку ел, покуда толком не распробовал весь родной латинский алфавит от «А» до «Z». Слоги и слова в книжке, какую притащил хвастливый Скевий, он тотчас опознал, узнал…
По правде отметить, совершенно незнакомые ему никогда неслыханные слова в сплошных слитных строчках слева направо у него никак не выходило распознать. Как ни напрягался, ни задирал брови и уши, наподобие учителя Папирия, чего-либо осмысленного во многих строках он не обнаружил.
Впрочем, и Скевий Романиан этой блистающей вершины вернакулярной латинской грамоты тоже покамест не постиг.
Дома радостный Аврелий, ликующий и сияющий, словно медный лабрум на солнышке, немедля похвастался отцу, как сам по себе непринужденно, непроизвольно приучился читать знакомые слова. И получил от него помимо легкого одобрительного подзатыльника, а также шутливой эпиникии уже всерьез благонамеренное общежитейское отеческое наставление ни в коем разе не выставлять, не выпячивать свежеиспеченную грамотность перед учителем Папирием, не бахвалиться ею перед соучениками.
— …Зависть и ревность, сын, до добра никого не доводят. Но еще худшая, воистину злая участь ждет того, кому смертельно завидуют или ревнуют к его успехам и удачам, коли раньше он был будто все. И ничем таким выдающимся до того не выделялся из ряда вон.
Совет отца Аврелий не слишком-то понял, но ему внял, потому что к старшим и главенствующим надо прислушиваться, их внимательно слушать и слушаться. О том и мать ему неустанно твердит.
Тут ему на мысль пришли давние разговоры взрослых, как еще весной, до христианской Пасхи, родители совсем было собрались купить ему греческого учителя. К счастью, для этого у них громадных денег не хватило, — сказала кормилица Эвнойя.
Да и грек оказался изряднейшим надувалой и пронырой вместе c его фиктивным будто бы хозяином. На рынке он с выкрашенными в белое ногами бойко и складно, со школьным напевом декламировал латинский и греческий алфавиты, похвалялся и прочей грамматической ученостью. Как только ему дали в руки «Илиаду» Гомера, тут же принялся ее читать слово в слово с первой страницы. Потом словно бы наугад открыл и с выражением и паузами перечитал какие-то строфы из самой середки. Так же, перейдя к латыни, он взялся считывать и Виргилиеву «Энеиду».
После же выяснилось: на самом деле пройдоха и слогов-то на письме не видит, все наизусть, по памяти шпарит. К тому времени и след простыл его бывшего владельца, уволокшего с собой огромнейшие деньжищи, уплаченные за лукавого греческого раба. Но злосчастный читака-обманщик удрать не успел.
Обманутым покупателям эдилы, при всем том, по справедливости возместили нечаянный убыток, тогда как проходимца (кстати, не раба, а отпущенника) суд приговорил к пожизненным общественным работам — качать воду для орошения городских садов и пальмовой рощи кесаря Александра Севера. Когда преступника бичевали на форуме, этот прощелыга-грекулюс во всю глотку вопил, орал, возмущался: первое ученое дело, дескать, знать, а читать, писать вовсе не обязательно.
В обязательности и необходимости всеохватной умственной книжной письменной грамоты для всех без исключения римских куриалов Патрик Августин был непреложно убежден. Но изрядно сомневался во всем, что касалось расхожих воззрений, общепринятых людских обычаев, нравов, верований и народных традиций. В молчаливом демократическом единогласии толпы или в анархическом безмолвствии народа он слышал голос не божеский, а дьявольский…
Чтобы нечто подобное содержательно изложить и сформулировать, куриал Патрик из нумидийской Тагасты не был настолько образован. Тем не менее старшего сына отдал в учение наперекор доселе ходячим и бродячим мнениям, когда тому было менее шести лет от роду.
По смыслу и содержанию к вышеизложенным умозаключениям в зрелости пришел сам Аврелий Августин, стремясь исповедально вспомнить об отце и своем детстве. Притом без излишнего раздражения и придирчивой, обидчивой неприязни к прошлому, будь оно его личным, родным и близким или же полузабытым, очень далеким в отчужденных пространствах ушедшего безвозвратного времени.
Отец полагал сына готовым к школьным занятиям, если тот самостоятельно, без страха перед высотой держится в седле, хорошо освоился с тем, как управлять голосом и поводьями хитро-ленивой, но смирной и ласковой лошадкой Лептоной. В противоположность горячим гетулийским сородичам, ей никогда и никуда не хотелось мчаться, обгоняя ветер, и ее почти невозможно заставить перейти с неспешного шага на рысь.
В то лето Патрик также учил Аврелия обращению с нумидийским, хоть и маленьким, но боеспособным кавалерийским луком и настоящей воинской пращой. К метательному оружию его сын не проявил большого интереса и врожденного умения, но с легким детским копьецом управлялся довольно умело, на ходу постигая отцовские инструкции и военное искусство.
По недостатку досужего времени Патрик поручил воинское образование и воспитание сына пожилому рабу Аннею, который немало послужил вспомогательной рабочей силой в лимитрофных каструмах. Анней и Аврелий с ходу нашли общий язык, и раба вроде как собирались взять в город в качестве дядьки при мальчике. Но тот чем-то нехорошим провинился, выказал строптивость, его наказали и по древнему обычаю посадили как пса на цепь привратником в усадьбе, а угодливой кормилице Эвнойе вернули должность няньки Аврелия.
Старый оруженосец Анней, между прочим, в момент показал и научил маленького Аврелия, каким образом неустрашимо держаться на глубокой воде, не тонуть и плыть, живо работая руками и ногами. А вот от женщины Эвнойи ничего такого полезного и мужского не дождешься, кроме глупых сказок-страшилок на ночь. Но их Аврелий наяву нисколечко не пугается, а что же такое страшное ему снится по ночам, по утрам почему-то вмиг забывается. Кабы его помнить, то он, может быть, перестанет по-глупому, по-детски бояться темных ночных кошмаров. Или же начнет их страшиться и опасаться ясным понятным образом, по-умному, как взрослые и старшие. Они-то ведь, даже отец, не говоря уж о матери, по-настоящему живут со страхом, чтобы их не дай Боже, не наказал, не покарал самодержавный судьбоносный Господь Всемогущий и Всесильный. Бог им понятен, насколько ему доступны желания и приказы взрослых, сильных и умных, мигом готовых по голове и по заднице враз растолковать непонятливому и непослушному что к чему, кто кого главнее и разумнее.
Вон один нумидийский послушный мальчик время от времени пытается научить членораздельной речи большого белого красноногого попугая, привезенного отцом из-за гор. Неразумной бестолковой твари с круглыми зелеными глазами Аврелий как учитель настойчиво твердит разные вразумляющие слова, по-хорошему предлагает повторять вслед за ним. И больно, должно быть, щелкал резным прутиком по желтому клюву. В ответ же хохлатый неслух сам злобно щелкал клювом и строптиво, — вот где глупец! — ни за что не желал и до сих пор не чешется произнести что-либо внятное, по-человечески всем понятное и разумное. Ну и сиди, дурак, в клетке!
Иное дело — собаки, кошки и лошади. Они хоть и не способны к людским речам, но понятливы и благорассудительны, быстренько схватывая, чего для них есть добро, а что — худо. Наверное, и у высокогорного орла не больше соображения, чем у деревенского петуха на заборе. Раз так, то почему орлы на древках у имперских римских легионов?
Дав себе слово обязательно спросить у отца, отчего оно: такие знаки, признаки — маленький Аврелий на сон грядущий перешел к другим, почти взрослым размышлениям. О них ритор, грамматик и философ, а по прошествии немалого числа лет теолог, пресвитер и епископ Аврелий Августин станет неоднократно вспоминать, рассуждать, раздумывать. Как в молодости, так и в старости он альтернативно и дихотомично многажды размышлял, говорил, писал о психологических и соматических взаимоотношениях и взаиморазличиях между людьми — будь они христианами или язычниками, хозяевами или рабами, богатыми или бедными, взрослыми или детьми, мужчинами или женщинами.
Животные одной и той же породы принадлежат к единому виду и весьма сходны внешне и внутренне между собой. Но насколько же многоразличны люди! Даже если они состоят в том же мужском либо женском роде, каждый или каждая из них действует, чувствует, выглядит чужеродно и разделено по отношению один к другому.
К мысли будь упомянуто, и давний случай памятен, когда аккурат на те языческие сатурналии кормилица и нянька Эвнойя повела Аврелия в женский день мыться в городские термы. Почему это так, ему понятно, ведь во время сатурналий по древней традиции как бы не бывает разницы между свободными и приневоленными. Рабам разрешается сидеть и праздновать за одним столом с хозяевами. Да и работу и службу в эти декабрьские иды накануне январских календ и нового консульского года с них спрашивают не так строго и поменьше, в контраст с обычными будничными днями.
Поэтому дома нянька Эвнойя не стала специально греть воду для мытья воспитанника и решила с разрешения домины-матроны Моники отвести малолетнего в бани, совместив приятное удобство с воспитательной служебной необходимостью. В теплом аподитерии, раздевшись и раздев Аврелия, она тут же о нем позабыла, плотно расселась на скамье, расставила толстые ляжки и принялась взахлеб болтать с другими голыми рабынями, предоставив своей мелкой необходимости самой всюду шастать в познавательных целях по знакомым городским термам проконсула Поллиния.
В палестре Аврелий сначала наблюдал, как несколько старых, толстозадых, распаренных докрасна женщин неуклюже и как-то лениво перебрасываются мячом, по-лошадиному подрагивая крупом и мясистыми грудями. Но намного интереснее и разнообразнее было во фригидарии, где присутствовала всякая верхняя и нижняя женственность в гораздо большем количестве и в разнообразии возрастов, размеров, женских и девичьих обнаженных форм.
Вон у той левая грудь большая и тяжелая, свисает книзу, а правая поменьше, смотрит прямо вперед. У кого-то раздвоенная женственность прячется промеж ног, а этой все ее выпуклое и гладкое наружу и вверху…
Любознательного наблюдателя и обозревателя почти никто не замечал. Разве что кто-нибудь пренебрежительно, мечтая о большем, мельком оглядывал, что у него самого малозаметное имеется там в паху, и равнодушно отворачивался.
Лишь в горячем кальдарии, касательно чего он тут любопытствует, заметила какая-то белобрысая девчонка, наверное, тремя-четырьмя годами старше него. По меньшей мере пухлых женских грудей у нее еще не имелось, узкая плоская щелка промеж ног реденько курчавилась и покуда не требовала бритья или выщипывания, — как впоследствии припоминал Аврелий.
Зато поскорее превратиться в женщину, чтобы иметь много всего округло женственного, ей уж стало зажигательно невтерпеж. И мужские продолговатые различия ее, очевидно, привлекали принципиальной несхожестью с женским естеством.
Поначалу она смутилась, отвернулась, покраснела, но искоса, украдкой все же рассмотрела изучающе зачаточные мужественные признаки любопытного мальчишки. А он ее и сзади изучил. В отместку она скорчила рожу хуже задницы, приставила руки голове, показала двумя ладошками, как он хлопает ослиными ушами. Потом набралась отчаянности, совсем развернулась к нему лицом, приложила кулак к промежности и развратно пошевелила большим пальцем.
На ее беду, может, мать или, — кто она там ей? — строгая наставница неприличный эротический жест незамедлительно отметила и пресекла. Аврелия ввиду его малолетства и малоразмерности источником неприличия широкогрудая голая тетка ни на палец не сочла, но девчонке она высоконравственно всыпала на обе круглые половинки. Согнула ее пополам на толстом колене и как начала звучно отделывать широкой, будто лопата пекаря, ладонью по филейным частями да еще с душевным назиданием о том, что кому-то покамест чересчур рано бесстыдно взирать и вожделеть мужчину.
Вокруг них прочие добродетельные голые женщины воспитательное зрелище с карательными хлесткими мерами сопровождали одобряющими возгласами, словно в амфитеатре. И вскоре бедная, опухшая от рыданий девчонка стала похожа на обезьянку с ярко-розовым намозоленным задом.
Видя такое дело, Аврелий почел за оптимальность ретироваться пошустрее от греха подальше — как бы и ему не перепало от вошедшей в негодующий раж могучей толстомясой тетки с трясущимися дынными грудями. Все что угодно может случится под горячую руку от широты души и крепости ладоней. Уж ему-то об этом хорошо известно. Очень больно бывает!
В ту пору он нисколько не задумывался о чувственной сладострастной стороне детородных отношений мужчин и женщин. Как и откуда берутся человеческие младенцы, ягнята, телята, жеребята, отлично знал, но сакраментальный вопрос: зачем и отчего это нужно? — перед ним отнюдь не вставал в любовном томлении. В этом возрасте похоть и вожделение мало кого волнуют, беспокоят, тревожат по несознательности незрелых лет.
Да ведь еще за это неосознанное можно схлопотать болезненно от взрослых и сильных, если дюже любопытствовать о том, чего малым детям знать преждевременно, не положено до поры до времени. Вон у учителя Папирия сначала устные буквы, числа, и только потом чтение, письмо, счет. А тем, кто нарушает его учительский режим-распорядок, или ферулой по уху или розгами на обе корки. Очень, знаете ли, болезнетворно и приснопамятно.
Видать и знать: для маленьких и глупеньких по-другому не бывает.
КАПИТУЛ XI
Год 1115-й от основания Великого Рима.
1-й год империума Юлиана, августейшего кесаря-магнума Востока и Запада.
Год 361-й от Рождества Христова.
Нумидийский городок Тагаста на западе проконсульской провинции Африка в декабрьские иды на зимних ученических каникулах.
Без малого по истечении года от начала обучения грамоте группы минористов царствующий и правящий у них в школе учитель Папирий, внушительно потрясающий магистерским скипетром-ферулой, взялся преподавать им наглядное чтение и письмо. Наконец-то!
К тому времени ученик Аврелий невыносимо скучал и маялся на урочных занятиях. За что ему немало перепадало жесткой ферулой и гибкими лозинами от большого поборника постепенного изучения тогдашних когнитивных принципов вкупе с поэтапным подходом к актуальной эпистемологии. Иначе излагая, так вот учительствовал, наделяя учеников коммуникативными навыками, умениями и побоями, Папирий Недромит, официально ставший вторым по старшинству профессором-грамматиком в Тагасте.
Вместе с тем куриалы Патрик Августин и Вага Романиан весьма скептически, вернее, эмпирически отнеслись к новому высокому и громкому званию Папирия, ставя под сомнение его профессорство и профессионализм. Как втихаря подслушал Аврелий в термах конфиденциальный разговор двух отцов, грамматик Папирий никудышный, хотя в начальном образовании ему ведом кое-какой толк. Кабы не безответный грекулюс Фринонд, не бывать мавретанскому дураку и невежде Папирию профессором, если он по истине не осведомлен ни в орфографии и орфоэпике, ни в поэтике, говоря научными греческими словами.
— Клянусь приапом Геркулеса! Аве эт хайрэ! — показал вниз большим пальцем Патрик, а Вага одобрительно рассмеялся.
Аврелий шутки и много всего другого не понял, но негромкую беседу в бане двух образованных тагастийских мужей хорошо запомнил, включая и то, что ускоренному обучению письму, совмещенному с чтением, он обязан новомодным дидактическим веяниям, приверженностью к старым богам кесаря Юлиана и бесстыдному поклоннику мужской платонической любви греку Фонемону.
Вельможный грек, ставленник недавно назначенного викария Африки, заезжал в Тагасту по дороге из Картага в Мадавру. Аврелий видел напыщенного Фонемона на форуме в окружении городских магистратов и декемвиров. Тот гордо носил выхоленную черную бороду, длинные завитые волосы и синий плащ-паллий, указывающие на его нарочитую принадлежность к сословию академских философов-платоников и магов-гоэтов, пользующихся нынче неимоверным почетом и влиянием при дворе нового кесаря Юлиана.
Сановный философствующий Фонемон заглянул в перголу к долговязому Папирию, вдруг переломившемуся в поясе, раболепно сложившемуся вдвое. Презрительно свысока все оглядел, малость послушал, как Фринонд, по обыкновению притоптывая, выпевает, декламирует по-гречески. Потом повелел распустить всех учеников восвояси. Оставшись с Папирием и Фринондом наедине, даже без свиты, он взялся, наверное, учить их уму-разуму по горбу и по затылку, но слегка, если у него в руках цитрусовый благоухающий посох.
О дорогом цитрусовом дереве маленькому Аврелию вечером рассказал отец, а Фринонд на следующий день доставил в перголу увесистые деревянные буквы латинского алфавита. И Папирий приступил, зануда, к разъяснениям. Подробно, детально, тягостно, муторно…
К несказанному изумлению непоседливого и нетерпеливого Аврелия, по окончании наглядного объяснения учитель Папирий, — вот тебе раз! — неожиданно отделил памятливых и сообразительных от беспамятных и тупоголовых. Первых он усадил за длинным ученическим столом перед кафедрой по правую от себя руку, вторых — слева. Тесно сидящему тугоухому левому большинству он велел повторять за ним слоги по традиции, а правостороннему меньшинству сказано новаторски составлять из деревянных букв то, что они услышат.
Однако ударами ферулы по ушам правых и левых он наделял в общем-то равномерно, равнозначно и традиционно. Да и по носу побудительно получали у него правые вместе с левыми в равной мере и пропорции. От расхаживающего за их спинами учителя с жезлом богини Стимулы в руках одним подобающе доставалось за невнимательность, другим — за нерасторопность, ободряюще.
Тогда Аврелий сподобился поощрения по уху за составленное словцо «дурак». Ну и правильно, нечего лезть поперед продвинутой великой дидактики в самое пекло зазнайства и верхоглядства. Отец же его предупреждал насчет смирения и гордыни!
На другой день Папирий сосредоточенно и стимулированно повторил упражнение — включительно разделение по уму и знаниям. Равенство-то, оно равенство, низлагая гордых, щадить смиренных, но касаемо равноправия в настоящей учебе… Дайте подумать… Быть того не может! Коль имеются первые ученики и последние. И это правомерно…
Вспоминая школьные занятия, перед тем как уснуть, к политическим и цивилизационным обобщениям маленький Аврелий, что закономерно, не прибегал. Но факты и акты запоминал превосходно, чтобы по прошествии десятилетий обращать их в неотразимые аргументы и рациональные силлогизмы. И детство свое он характерно и отличительно помнил в зрелости без прикрас и прекраснодушных измышлений, свидетельствующих о наступлении старческого слабоумия у тех, кому оно видится в золотом или в розовом тумане.
Было бы безумием обо всем детском упоминать вслух, без умолку о том ораторствовать; либо расписывать вычурно то, о чем и думать-то постыдно, неловко, неудобно. Поэтому очень многое о детстве остается у нас недоговоренным в фигурах умолчания. Может, зря, а, быть может, и нет, дабы заново не впасть в него ненароком на старости лет.
Тождественное умозаключение касается отрочества и юности. Не дай Бог, чтоб они повторились, если повторение не мать учения, но порочный круг и застойное безнравственное коловращение, исключающие благодетельное, предписанное в вышних познавательное движение от ничтожного и порочного к великому и безупречному.
До подростковых неизбежных пороков и беззакония Аврелию было еще далековато, но как отстаивать свое право и настаивать на своем превосходстве он прекрасно понимал. Твое добро должно быть с крепкими кулаками, а чужому злу лучше не подворачиваться под руку, коли силенок покамест не хватает, чтобы дать достойный отпор. Хотя примерно равным тебе по силе и возрасту ничто и никто не мешают примерно вломить, врезать им, гадам, поколотить, отдубасить, отделать или еще как-нибудь утвердить лично и налично первенство, главенство в играх и в учебе.
Оно тебе панкратион называется по-гречески. И отец поощряет, показывает, как сильно давать под дых и в глаз с правой или с левой, кулаками и ногами. И действовать в борьбе и драке следует с умом, прицельно, понапрасну не распаляясь, а хладнокровно стремясь нанести противнику наибольший урон и ущерб.
А для того надо многое знать и всему учиться, в том числе чтению толстых книг и счету до миллиона и даже дальше.
Тут Аврелий помнил, как после виноградных каникул к произнесению вслух бессмысленных слогов из деревянных букв учитель Папирий добавил письмо. Тем же самым правосидящим первым ученикам, среди которых он, Аврелий, вовсе не самый последний, следовало самодеятельно прикладывать деревянные фигурные прописи-прорези к восковой дощечке и аккуратно обводить буквы острым стилом из твердого дерева, составляя таким умным модусом письменные слоги.
В то же время остальных бестолочей и обалдуев учитель натаскивал, учил писать сам, по-старому. По очереди хватал каждого за руку и указательно водил пятерней по табличке, мало-помалу моторно приучая к начертаниям латинских букв.
Писать всем приказано и указано отчетливо, но неглубоко, не процарапывая насквозь тонкий восковый слой. Тогда как неумелые и непонятливые тотчас зарабатывают учительскую оценку по ушам ферулой-линейкой. Ею Папирий много чего такого измерял и оценивал, соизмеряя силу ударов и битья.
— Ан розги у него для ровного счета, — прокомментировал Патрик дидактику Папирия и посмеялся над очередной попыткой сына пожаловаться на несчастную судьбу. — Привыкай, мой терпеливейший наследник… если сегодня тебя бьют, то завтра ты непременно дашь сдачи… не тому, так другому.
За битого да ученого раба можно целый эргастул неученой скотины прикупить. И бить это самое быдло хозяину все равно придется, иначе оно ни тпру ни ну… где сядешь, там и слезешь…
Сыновние ребячьи жалобы Патрика только смешили. Не глядя на учительскую малообразованность отпущенника Папирия, он все-таки отдал сына к нему в обучение, потому что никак не мог отказать этому бывшему магистратскому писцу в добросовестности, скрупулезности, въедливости и наличии полезного для дела типично учительского занудства. К тому же и плату за обучение Папирий просит скромную и умеренную.
По прошествии, истечении десятилетий и Аврелий Августин признает некоторую фундаментальную правомерность полученного им начального образования по сравнению с грамматическим обучением. Хотя он неизменно останется далек от пошлых неискренних славословий и ханжеских фальшивых, тошнотворных благодарений за выучку в огород тех, кто его обучал в детстве и отрочестве, как мог и как умел, как было тогда общепринято. Ибо слово «педант» спустя века по аналогии произвели в новых языках от исходных метаморфированных антикварных вокабул-реалий: «педагог» и «педель».
Вот и античный Папирий морфологически педантично трудился не за страх, а за совесть, положительно не спустя рукава туники; они, кстати, по тогдашней моде были коротки и не достигали локтей.
Начиная со второй осени, как полагается, наставник добавил уроков для младших, в полдень отпуская их перекусить на время прандиума с приказом возвращаться ровно через час по солнечным часам на форуме. Равным образом, всех опоздавших и обжору, прибежавшего последним, немилосердно ожидали розги.
Ход времени Папирий им предварительно растолковал, показал, а деревянные цифры начал демонстрировать вслед за буквами. Потом в aктa диурнa какой-нибудь ученик бегал на форум к солнечным часам и проникновенно докладывал учителю о точном времени, в пасмурную погоду сверяясь с мелкими циферками-делениями на клепсидре, выставленной в окне книжной лавки.
В малолетстве Аврелий не очень вникал, что же такое медленное ли быстрое, истекающее, исчезающее, ускользающее время, и ничуть о том не задумывался. Но ему было более чем понятно, зачем в урочные присутственные дни едва рассветные сумерки, ежась от холода, он уже должен неукоснительно сидеть в потемках в перголе у благорасположенного к дидактике профессора Папирия.
Положа руку за пазуху его ученикам стоило бы признать: в принципе дидаскаликус Папирий Недромит не был круглым или недостаточно квадратным невежественным дураком. Не всякий день и час его уроки длились и продлевались нестерпимо скучно, тягомотно до затемнения в рассудке и потемнения в глазах. Ведь бубнежку звуков, слогов, складывание, вычитание на пальцах изустных чисел он подчас перемежал увлекательными рассказами о чужедальних странах, о природе окружающих вещей, о старинных курьезах и приключениях стародавних знаменитых мужей, героев, древнейших богов Греции и Великого Рима.
Очень скрупулезно со всем великоримским упорством и серьезностью наставник Папирий приступил также к делу подготовки к письменным артикуляциям, манипуляциям и манускрипциям. Он загодя рассказал и показал, что представляют собой различные виды вощеных табличек, папирусных свитков, фолиумные листы разного пергамента; как все это изготавливают рабы в домашних условиях, где и у кого приобретают на рынке, если требуются ремесленные изделия более качественные и искусные.
Столь же подробно он растекался мыслью и словами о разнообразных орудиях письменного труда. Например, почему деревянное стило с одного конца заострено, а с другого имеет круглую гладкую головку. Ведь стиль надо часто перевертывать и стирать, изглаживать неудачно и неуместно написанное. Да и сам стиль необходимо править, заострять, когда он по небрежности нерадивого писателя становится тупым не с той стороны. Или же начинается и заканчивается не с того конца, ежели писака сам тупой.
Небрежные рукописания плотничьими и лошадиными гвоздями Папирий не одобрял и запрещал, если стило следует выбирать по руке и по уму. Стиль стилем, а гвоздь гвоздем!
А правильный, легкий стиль никак не должен быть железным или медным в силу тяжеловесности таковых материалов.
— …К слову, править деревянное стило, как и железо, лучше на точильном камне, — возвещал Папирий. — Точь так же, как и письменные принадлежности, сделанные из слоновой кости, ценных пород дерева или полых птичьих костей, какими пользуются те, кто в совершенстве овладел грамотой. Знайте и помните это, тупицы!
Потому как костяное трубчатое удобное стило, к которому привыкла рука пишущего, одинаково пригодно для письма на восковых дощечках, на папирусе и на пергаменте, если его обмакивать в специально приготовленные чернила. Меж тем на сплошном дереве и на гладкой меди чернила не удерживаются, нехорошо пачкая папирус или пергамент.
Конечно, для письма часто используется и тростниковый стиль-каламус с полым нутром. За каламус не надо платить операриям и фаберам, его легко заточить ножом. Но тростник недолговечен, ломок… Он — несчастливо непрочная поделочная материя соотносительно с костью и деревом…
Эй ты, осел по кличке Августин! Опять ушами хлопаешь, бестолочь блаженная? Вороньи крики считаешь? Бери вон ту тростинку, авгур недоделанный, вот так наискось режь и точи себе стилус-каламус. Да смотри, чтоб было у меня в зачин аккуратненько и красивенько. Вот тебе образец, обалдуй Геркулесов!..
По счастью, ученик Аврелий избег розог и участия в кропотливом производстве чернил, каковое учинил учитель Папирий через некоторое время. Потому что многописьменное ремесло требует и таких вот умений и навыков.
Искусство и техника изготовления чернил (что плеонастически одно и то же по-латыни и по-гречески) оказались еще сложнее и мудренее, чем тонкая заточка элегантного писательского стиля. Так как для их получения необходимы разные сложносоставные ингредиенты.
Последнее техническое слово Папирий распорядился несколько раз повторить всем хором без запинок и на всю жизнь запомнить. Тогда как двое запинающихся бестолочей, получив по носу и по уху ферулой, усердно принялись толочь в ступках особые чернильные орешки-галлы, превращая их в тончайший порошок.
— …Практически галлоидные чернила не должны быть ни слишком жидкими, ни чересчур густыми, — авторитетно растолковывал прочим неслухам и неучам Папирий писцовую премудрость. — От жидких и текучих случаются страшные кляксы, приводящие в полную негодность и непотребство важнейшие документы.
Законно и справедливо, что густые вязкие чернила хорошо, клейко ложатся на папирус и пергамент. Но в клейкой густоте чернильницы стиль застревает и надоедливо вязнет, писчая полость затыкается. Поэтому приблизительно один квадранс весовой части аравийской гуммы или иной смолистой камеди, лучше и меньше того, добавляем очень осторожно и умеренно, подогревая водную смесь чернильного порошка на медленном огне…
Где вырастают чернильные орешки на дубах, как их собирают, Папирий им тоже сообщил. И настоятельно рекомендовал варить чернила самим, но не покупать сомнительного качества товар на рынке у шорников и кожевенников, ни на «u», у-у не понимающих в письмоводительском артистизме.
— …Чернила у этих охломонов из грязной угольной сажи! С комками! Ха-ха!!!
Столь же теоретично и фундаментально Папирий поведал ученикам об изготовлении долгожительствующего книжного пергамента из тонко выделанных поросячьих и телячьих кож, а также о фабрикации из обработанного нильского тростника прочных папирусных лент, не размокающих под дождем. Самостоятельно и фактурно производить эти искусные писчие материалы он их, тем не менее, не принуждал.
Разве что однажды заставил всех кряду в целях практического и технического образования рачительно соскабливать прежние чернильные записи на кусках и рваных клочках старого, траченного мышами пергамента. Видимо, брал он их из канцелярии декемвиров, — позднее сделал конкретный вывод Аврелий Августин, к тому времени став незаурядным писателем и отменным книжником-либрарием, с юных лет до глубокой старости переписавшем, положившим на письмо тысячи и тысячи страниц своих и чужих сочинений.
Цифрами в воображаемом абстрактном виде десятков, полусотен и полутысяч на первом и втором году обучения чтению, письму и счету маленький Аврелий так же овладел через наглядность. Теперь он уж знает толк в десятках, двадцатках и сотнях, если летом видел, считал стада и табуны в имениях фамилии Августинов.
Не столько уж это много и бессчетно, когда родители стабильно жалуются на бедность их семьи. Потому и тысячи, коров, лошадей, овец он наглядно представляет, как то, о чем вслух мечтают, фантазируют, воображают отец с матерью. К десяти прибавляем еще десять, еще десяток… и так далее, пока ряд, стадо, табун, отара не становятся реальностью, противоположной воображению.
Все взаправду! Клянусь Геркулесом!
Миллионы вещей и предметов тоже имеют право на существование, когда б нашлось место в действительности или в воображении, куда их поместить. Пространство и промежутки им можно выделить на пальцах, вытягивая и загибая их, а, прикоснувшись к плечу, получить полусотни или полутысячи того, что взаправду существует.
На пальцах, если они тебе известны и сосчитаны, возможно дигитально складывать, вычитать, умножать, делить, возводить в степень, извлекать квадратный корень…
О двух последних математических операциях ученик Аврелий наслышан от профессора Папирия, производить их пока не умеет, но знает: ему предстоит их освоить, если у того сначала идут звуки, слоги, слова, а потом — дело. То и другое у Папирия далеко и надолго не расходятся между собой.
К примеру, обещал научить считать белые и черные шарики, нанизанные на абаке. Вот, извольте-позвольте, он, Аврелий Августин, как ныне способен пользоваться этой сложнейшей вычислительной машиной не хуже, чем пальцами. И воображать значения огромнейших чисел намного легче, когда двигаешь туда и сюда шарики-символы по тонким гладким жилкам, как струны туго натянутым в рядки на красивой полированной раме из кедрового дерева…
Осенью Папирий Недромит значительно пополнил ряды учеников. Прибавилось число как старших, так и младших, потому что эдиктом кесаря Юлиана воспрещено всем учителям-христианам обучать кого-либо грамматике и риторике. Стало быть, для пущего раболепного порядка тагастийские магистраты поставили под тотальный запрет и начальные школы грамоты, где учительствовали образованные христианские пресвитеры или диаконы.
Об этой религиозной тоталитарности Аврелий узнал из случайно подслушанного бурного родительского диалога. Патрик самодовольно хвалил себя за предусмотрительность, что доверился предсказаниям авгуров и не отдал умнейшего старшего сына в учение тем, кто исповедует презренное еврейское единобожие. Моника же, против смиренного обыкновения, страшно бранилась, гневно проклинала нечестивых язычников-гентилей, призывала на их головы тучи и кучи несчастий, болезней, ужасных мук по жизни и по смерти.
Ту давнюю перебранку взрослых Аврелий не позабыл, но о том, что у него родился и нынче где-то как-то имеется в обиходе чуть живой младший брат-недоносок, припоминал очень редко. Если тот еще не умеет говорить, ходить, читать, писать, то записывать его в число людей покуда рановато.
Зато он впервые призадумался над тем, что отец-то у него публично стоит на стороне старых богов-демонов, мало отдавая кому-нибудь из них предпочтение. «Протухшим семенем идолопоклонников» обругала тогда Моника своего мужа.
А мать-то исповедует христианство, причем называемое католическим, никейским; вдобавок за милю обходит большую базилику, где тоже кучкуются христиане, но какого-то непонятно-сомнительного донатистского толка.
Его, Аврелия, — он это помнил, — Моника записала в православные католики катехуменом, как только он взялся усиленно ее расспрашивать и внимательно слушать пояснения, толкования о самом главном Боге. Патрик же ничуть не возражал против этого огласительного катехизиса и религиозного воспитания.
В том, что наипервейший и наиглавнейший Господь так-таки есть, Аврелий не сомневался. Везде ведь кто-то один главный, — а?
Следуя авторитетному примеру главы их семьи, чего-либо немыслимого и невозможного от Бога он не требовал, чудес и знамений не выпрашивал, не вымаливал. В самом-то деле, если всесильные бессмертные боги, большие и малые полубоги, мифические герои вечно живут высоко и далеко, какое им дело до смертного человека, взрослого или ребенка? У всех свои дела, заботы, хлопоты; и взрослые заняты совсем не тем, что дети.
Мать убеждала его в обратном, много чего занятного говорила о Христе Спасителе, о Троице, но он ей не очень-то верил. Потому как женщина в семье вовсе не самая главная материя.
А решать в конечном счете решает лишь бог-отец, чего нужно делать и как себя вести богу-сыну. Тем временем ангельскому божеству, которое есть-де душа святая, позволительно лишь дарить любовь, благодать и блаженство.
Такое вот блаженное толкование Троицы во имя Отца, Сына и Святого Духа услыхал Аврелий от кормилицы-рабыни Эвнойи, подобно подавляющему большинству чад и домочадцев фамилии Августинов, тоже причисленной к христианам католического православия. Хотя насильно крестить никого у них не крестили и ежедневно молиться в церкви не заставляют. Ведь ее со дня на день могут закрыть, коль скоро в Риме империумом владеет кесарь-язычник, а в римском сенате декурионы сплошь из язычников предписывают нам законы.
— …И опять всем праведным в катакомбы, — с горестным печальным вздохом произнесла мать семейства.
Что бы это могло значить по-латински, Аврелий уже не отважился ее спрашивать, законно опасаясь с маху схлопотать воспитательную затрещину за неуместное любопытство к нехорошим греческим словам. Или же и того горестнее и печальнее.
Вспомянулось: как-то раз он наивно и невинно поинтересовался у нее доступным истолкованием выразительного возгласа «приап тебе в афедрон!» По тому самому месту, какое столь опрометчиво имелось в виду, ему и досталось уже от отца на обе половинки, «вздвоенно, на шесть-двенадцать от асса», широким военным ремнем из толстокожей шкуры угря.
Употребленное арифметическое выражение Патрик ему по-отечески разъяснил, но со всем остальным малопристойным, имеющимся в родной речи и в чужеземных наречиях, предупредил не соваться к женщинам и не подкатываться, коли они сами того не пожелают.
— …И вообще, кое-какому любопытному отпрыску раненько об этом думать, когда у него самого еще не начали расти волосы, как у всех людей от лысого до лысого.
В том отцовском наставлении Аврелий разобрался чуть позже. Образный латинский язык, как видно, тоже не всем и не во всяком виде понятен, доступен.
Все познается в развитии, если помнить и знать, что с чем сравнивать.
Когда осенью Аврелию исполнилось семь лет, его отец обрел доходную должность жреца-управителя в храме Геркулеса Египетского. Вопреки ожиданиям домашних, громогласной ссоры в доме не сталось, а мать ходила тихая, задумчивая, печальная. Дня три она страдальчески ковыляла, как будто бы ей здорово перепало толстым отцовским ремнем на обе седалищные половинки за нехорошие бранные словечки.
Нянька Эвнойя называла ее новомученицей за православную веру, призывала Аврелия быть кротким и послушным. Боже, упаси, чтоб не рассердить и не разгневать доминуса Патрика!
Над глупостью рабыни Эвнойи и тупостью других, ни с того ни сего вдруг притихших и присмиревших городских рабов, Аврелий мог лишь посмеяться, недоумевая.
Чего им бояться, дурачкам и дурочкам?
Ведь его отец — добрый хозяин их фамилии. Неизменно пребывает в отличнейшем расположении духа, много шутит и даже простил наследнику, оставил без последствий нечаянно располосованную от ворота до пояса сверхновую праздничную тунику из тонкорунной шерсти. А вот раньше-то сына за такое вот бесчиние и безобразие непременно бы отходил ремешком так, что потом три дня ни сесть, ни встать, не почесавшись за поротое место, откуда у глупеньких детей ноги растут и задний ум обретается.
В том и Геркулесом и Христом можно было бы поклясться, если родители сызмальства, с незапамятных времен к бережливости сына приучают. Этакая экономия, скажем по-гречески, уж верно не забывается до самой невменяемой старости и дряхлости.
Разговорные греческие и пунийские слова Аврелий слышал от сверстников и взрослых, чаще всего отменно понимая, что же они означают, конкретно по ходу дела, игры или иного связующего общения людей посредством естественной речи. Натурально и органично другие языки дополняли родную латынь до тех пор, пока в школе его не начали принуждать со слуха повторять и наизусть запоминать отрывки из гомеровской «Илиады».
Вон у белого попугая повторять непонятное не получалось. И оттого, должно быть, бестолковая южная птица в одночасье околела, если питья и пищи ей в клетку давали предостаточно, — сделал вывод Аврелий, соответствующий его наблюдательному уму и пытливому возрасту.
Поэтому, когда в школе у него внезапно начались страшные колющие боли, схватки и рези в животе, он решил, что эта неизлечимая хворь вследствие греческого языка; наверняка настал его последний смертный час, о каком ему талдычили, которым его постоянно стращают мать и нянька. Не на шутку перепуганный его душераздирающими воплями бледный грек Фринонд побыстрее, рысью вскачь, на закорках унес захворавшего ученика к нему домой. Немедля рабов послали за отцом, за лекарями.
Потом ему об этом поминать стало неловко и совестно, как он безумно испугался смерти и того, что умрет малым и глупым, так и не достигнув полноценного взрослого состояния. Господи, помилуй!
Не столько из-за колик в животе, сколько из приступов панического животного страха, он хватал мать за колени, умоляя, чтоб его здесь, сейчас окрестили. Иначе, мол, не видать ему жизни вечной и свободной, даруемой добрейшим боженькой Иисусом, Спасителем нашим.
С мольбой простирал к отцу руки, истошно вопя, просил его бежать со всех ног в храм к статуе милостивого олимпийца Геркулеса, резать овцу или барана, ой, принести очистительную жертву за умирающего сына. Ой, не суждено ему вырасти большим и сильным как Геркулес, ай погибаю…
Так взывал он и завывал во все стороны ко всяким богам, покуда не пришел недовольный хмурый лекарь. Кисло посмотрел на громозвучно вопящего и скорбящего недоросля, грубо ощупал вздувшийся живот пациента, силой влил в него не меньше двух секстариев теплой кипяченой воды, резко сыпанул на язык горчайшего порошка, принудительно уложил на правый бок. И велел всем духовно уповать на милость Божью. Правда, не уточнил, от какого достоименно божества она должна исходить.
— …Пока эфорбиум не начнет действовать, — добавил он непонятной докторской натурфилософии к неопределенной религии.
По истечении нескольких минут продолжающихся мук, воплей, корчей и содроганий то ли лечение подействовало, то ли очищающее милосердие свыше. Спереди и сзади у больного, как прорвало и порвало! Через рот прочистило выпитым и съеденным недавно, а через афедрон, сперва твердо, затем жидко, фонтаном рванулось многое что, дотоле употребленное, чем невзначай отравился ваш боязливый страдалец.
Наверное, именно таким был диагноз, поставленный врачом-греком, видимо, склонным к профессиональной мизантропии и приверженности к безжалостным методам оздоровления. Но Аврелию, моментально успокоившемуся и обретшему прежнее здоровье, больше запомнилась ремарка Патрика.
— В час добрый к удаче, фактум эт фатум, — саркастически отрезюмировал отец, — вот сейчас нашего оглашенного дристуна и засранца нужно смело нести в католическую церковь и отмывать дерьмо в крестильной купели, дабы окончательно очистить от первородного греха отхожей надобности.
На ядовитый сарказм главы фамилии его благоверная супруга никоим образом не отреагировала словесно, лишь горестно вздохнула и возвела очи горе. А крещение их старшего сына Аврелия Августина было отложено до лучших христианских времен.
Вероятно, по-другому и быть не могло в недолгую эпоху римского кесаря, вошедшего в историю человечества и христианства под именем Юлиана Апостата, то есть Отступника, отринувшего истинную веру, в которой он был воспитан, ради устаревшего язычества и безуспешной попытки преобразовать его в обновленную государственную религию.
КАПИТУЛ XII
Год 1118-й от основания Великого Рима.
1-й год империума Валента, августа и кесаря Востока. 1-й год империума Валентиниана, августа и кесаря Запада.
Год 364-й от Рождества Христова.
Незабвенные Нумидия и Тагаста в декабрьские календы и в детские годы.
Помнится, мать блаженно радовалась, когда кесарь Иовиан начисто упразднил все противухристианские установления и уложения Юлиана. Притом гонений на язычников-гентилей при Иовиане и его кратком империуме Аврелий что-то не припоминает…
Наша благочестивейшая матрона Моника неисчислимые горести и бедствия для поганцев уверенно предрекла и уговорила, словом Божьим и святой душой безгрешной убедила мужа оставить нечестивые жреческие обязанности в капище римско-египетского Геркулеса. Об этом благостном факте в тому подобных словах Аврелию поведала нянька Эвнойя.
Но вот отец как-то в сердцах проговорился — его вынудили уйти проклятые завистники и недоброжелатели.
С тех пор он стал прижимисто скуп, очень гневлив, легко впадал в ярость по пустякам, безжалостно наказывал рабов и всячески обзывал плохими словами тунеядствующих отпущенников-клиентов. Со всем тем, в общении с сыном и присмотром за ним, в обращении с неустанно беременной женой оставался по-прежнему, по-своему терпим, добросердечен и отходчив; сердца на них долго не держал.
Пожалуй, чтобы в бешенстве выпороть собственное старшенькое чадо от чресел своих за ремень хватался не так уж часто. Вон в школе Аврелию перепадает не в пример чаще и болезненнее от розог в горшке по правую руку от кафедры профессора Папирия.
Папирий отца, по всей очевидности, побаивается и не очень злоехидствует относительно его сына. Истязание розгами отпрыска и наследника сурового куриала Патрика Августина в театральное зрелище не превращает, а воспитательное его сечение поручал рабу Фринонду, когда тот низко сикофантствовал, доносил, скотина, будто бы обиженно жалуясь на нелюбовь ученика Аврелия к греческому стихотворчеству.
Итого: получается на обе стороны, дробно, в семис или секстанс на шесть двенадцатых от целого асса, как любит говорит отец, берясь за ремень. Арифметика, она без песен, почесывай осязательно и вразумительно…
Может, Фринонд в чем-то и прав, если ему, Аврелию Августину, гораздо больше нравятся сложные и результативные вычисления с дробями, чем пустопорожняя и занудная словесность древних греков. Если они так много впустую эпически говорили и пели, то понятно, отчего очень героически долгих десять лет ну никак не могли одолеть стен Илиона, несмотря на подмогу бессмертных богов. И Улисс совсем не хитромудрый, когда домой, как ни старался, все попасть не мог. Столько болтался, носило его, будто дерьмо по морю так, что близкие люди перестали узнавать бродягу непутевого.
Но вот поганых параситов-женихов он поделом перестрелял. Так им и надо негодяям-обольстителям!
Вот оно как у Гомера. Возвращается герой с войны и узнает, что чуть было не стал опозоренным мужем. Понятно, почему василевс Одиссей так разозлился, рассвирепел. И действовал хладнокровно, с умом, как истинный царь одного из народов моря.
Нумидийский гетулиец Патрик тоже страшно разбушевался, но без горячки, внешнего спокойствия духа не утратил, когда злоязычная бабка Ливилла обозвала его нехорошим греческим словом, оскорбительным для мужей. Прямо за обедом при детях и клиентах упрекнула, будто он за женой и рабами плохо смотрит. От собственной матери, обстоятельно приложившейся к чаше вина, многое чего приходится терпеть. Уж Аврелию-то оно хорошо известно…
Затем отец с матерью терпеливо расспросили протрезвевшую Ливиллу, откуда она это взяла, кто наплел, кто пустил. Вздорная старуха им и выложила разные слухи и разговорчики среди болтливых не в добрый час рабов и наушничающих рабынь, восстанавливающих свекровь против невестки. Она Патрику и своих говорунов-сплетников выдала с потрохами.
Вот тут-то отец разошелся всерьез. Полтора дня, на асс и секстанс, ходил громовержцем всюду, потряхивая страшной треххвостой плетью. От зари до зари, даже ночью расследовал дело о гнусном навете. В конце концов обнаружил первоисточник позорящей фамилию выдумки — а именно: трясущуюся от страха прислужницу Моники, несовершеннолетнюю злобную дуру Кафлу.
Ей-то он и ввалил, словно лошади, на конюшне. Но не увечил, наказал больно и воспитательно, крепко вздул толстокожим ремнем по голому мягкому заду. Так от века положено учить неразумных детей, рабов и животных. Правда, проделывал отец эту учебно-воспитательную процедуру в течение трех дней. Отводил он душу и давал волю с трудом сдерживаемому бешенству утром, в полдень и на закате.
Все это время голозадая Кафла жила привязанная руки вверх к перекладине над стойлом. Как лошадь спала стоя, кормилась, воду пила, под себя испражнялась на солому в деннике и, естественно, трижды в день неслабо огребала вожжой под хвост и по крупу. Потом дуру набитую с вымазанными мелом ногами отвели на продажу.
— …Домашние человека — враги его… — Моника во всеуслышание зачитала по этому скандалезному поводу глубокомысленное назидание из Библии.
Аврелий не отважился тогда ее спрашивать, кого благовестно имел в виду Христос, говоря так. Близких ли родственников или же всех ближних рабов-домочадцев, живущих в одном доме, в одной фамилии?
Мало ли как оно обернется на всякий болезненный случай? Ближе к телу каждый не без греха, и лишь один Бог безгрешен. Он же и бережет береженого.
Скандал и отцовская гроза из-за лживой и лукавой рабыни Кафлы случились то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году. Когда же это было, Аврелий точно не помнит, коль скоро в детстве никого не тревожит прошлое, напрямую не связанное с настоящим и будущим.
Дети живы единым днем нынешним. Иногда думают о наступающем времени и событиях, какие им обещают взрослые. Зачастую живут они с радостным волнующим предвкушением, но порой и с тревожным ожиданием. Вдруг кое-что минувшее, тайное, плохое станет явным в неумолимо грядущем?
Поэтому-то Аврелий беспокойно опасался, ой как бы не раскрылись и не выявились какие-нибудь его прошлые проделки и проказы. Оттого и о глупой горничной девке Кафле не забывал.
Ведь вроде бы совсем недавно по его милости немало досталось от отца всем домашним рабам без вины виноватым. О том и позабыть нельзя и вспоминать боязно, если некто мальчик Аврелий исподтишка вытащил у матери ключи, впотай пробрался в кладовую, отрезал солидный кусок от свиного окорока и обменял его у другого мальчика, сына плотника, на дивную резную повозочку, запряженную двумя дрессированными белыми мышами.
Юлий, по прозвищу Арка, — по-пунийски и по-гречески он тоже откликается на кличку Сундук, — предложил ему данный обмен и даже заказал вес копченой свинины. Смотри, мол, чтоб было не меньше двух фунтов.
Аврелий и раньше, помнится, потихоньку, по мелочи бесхитростно таскал для дружков провизию из родительской кладовой, выменивал ее на красивые гвоздики, камешки, резные палочки, колесики… Воровством и кражей это никак не предполагал, если мать благостно назидает о человеколюбивом благотворении, какое состоит в том, чтобы накормить голодного, а отец, вовсе не скопидомничая, провозглашает, указывая на их дом: тут все твое, мой сын и наследник.
Теперь же отец разозлился, дико рассвирепел из-за сущего пустяка весом ну три или четыре с половиной фунта — два плюс два асса и семис. Среди рабского поголовья учинил лютое расследование с треххвостой плетью в руках. Выпорол даже свою кормилицу, жирную старуху Гекалу, доискиваясь, кто из них, скотов безрогих, воровским образом расточил хозяйское добро, сожрал целых пол-окорока, объедала и дармоед.
Истошные вопли истязуемых рабов Аврелий особо не смутили, если он был в то время очень увлечен игрой с повозочкой и ездовыми мышами. Не в том, так в чем-то ином рабы-прохвосты обязательно провинились. Но все-таки страшновато, как бы Патрик случаем не дознался, кто же на самом деле злоумышленно располовинил окорок.
Правды об окороке отец не добился, всех признавшихся в различных мелких проступках сослал в Тартар, на рога, к виликам, в деревню, а прочих по сей день злопамятно грозит отдать внаймы на южные рудники или качать и носить воду для полива.
Бывает, отцы собственных детей продают в рабство, — время от времени с ужасом думал маленький Аврелий и тут же гнал прочь страшные мысли. Но не навсегда и не насовсем.
Тем самым по прошествии полутора десятка лет картагский ритор Августин в пику капустным классическим банальностям Сенеки Старшего разработает контроверсию, гласящую: молчание вовсе не равносильно признанию. Тем менее оно является знаком согласия, когда без нужды начинает оправдываться подозреваемый, логично становясь виновным в содеянном.
В злодейской мясной краже Патрик сына и не мыслил подозревать, если тот равнодушен к разной вкусной еде и выкармливать его частенько приходится насильно под угрозой ремня.
Совсем другое дело Сундук, втихаря, с хитрыми предосторожностями, ни с кем из кучи братьев и сестер не поделившись, в одиночку заглотивший целые фунты аппетитной свинины. Жрать толстозадому хочется днем и ночью, но руки у него продуктивные, работящие. И фабером он станет получше своего отца, если, воспользовавшись его инструментами и указаниям, сварганил искусную повозочку-двуколку, а дареных ему белых красноглазых мышей выездил и выдрессировал на удивление.
Хитрозадый Сундучище живую игрушку торжественно подарил Аврелию при свидетелях. А бесценный подарок объяснил тем, будто бы тот благодетельно помогает ему разобраться с дробями и заковыристыми арифметическими задачками.
Аврелий действительно как-то растолковывал этому олуху, почему три унции составляют квадранс, а четыре — триенс. А Сундук, дурак, ничего не понял, а просто это запомнил наизусть.
Расчувствовавшийся Патрик велеречиво расхвалил обоих мальчиков. И Сундукова отца поклялся взять собой на дальний юг в будущем году строить усадьбы на новых землях Августинов и Романианов…
Много чего всякого такого произошло детского и взрослого в этом году, в прошлом и позапрошлом; все и не упомнить. Хотя вон на минувших нундинах, вернувшись с сыном из терм консула Поллиния, отец торжествующе объявил матери: дескать, у его любимейшего наследника начали расти волосы в паху.
«От лысого до лысого!..», — Аврелий чуть было радостно не процитировал во весь голос неприличную поговорку Патрика. Но скромно, тактично промолчал в присутствии матери, которая болезненно не выносит детородных непристойностей и телесного бесстыдства. После ему и вовсе стало не до полового созревания, когда отец в ознаменование возмужалости сына объявил, что берет его с собой в путешествие на юг на мартовские календы в следующем году.
Геркулесом поклялся!
Отцовское многозначительное обетование требовалось всесторонне осмыслить, чем вовсе не занимался Аврелий по приходу из школы, позабыв весь свет. Он возился с белыми мышами и повозкой, заставляя их путешествовать из одного угла комнаты в противоположный, где их ждали вкуснейший корм, свежая вода и благословенная передышка.
Понемногу до него дошло: его ведь тоже ожидает долгий отдых от школы и древнегреческой литературы! Ух, раз, и-и-ить, щелкает бич, но-о-о! Ноехали, пошевеливайся, клячи!
Аврелий тотчас отставил насовсем за ненадобностью их с Аркой-Сундуком хитрую задумку наловить много-много серых мышей, затем кошек и собак. Сначала, как говорится в греческой басне-фабуле, запрячь в большую колесницу мышей, к ним вслед припрячь кошек, за кошками в упряжь поставить собак. Ух, весело и дружно, должно быть, поскачут вперед мыши от кошек, кошки от собак? А собак-то и погонять не надо, если они по жизни сами за кошками гоняются.
Теперь все это не нужно, если глупый Сундук остается в Тагасте, зато умный мальчик Аврелий будет в дороге править парой лошадей. Это отец ему тоже пообещал. Мышей же можно оставить на сбережение Сундуку. Он не кот, их не сожрет, в мышах для Сундука мало мяса. Воробьев-то он не ест, пускай в силки и сети их заманивать ему ловко удается.
Вот поутру у них намечено пустить привязанных за лапки птиц таскать лодочки по большой зимней луже за городской стеной. В перголу к Папирию им не надо, завтра неприсутственный день, праздник какого-то божества перед магистратскими комициями. И все взрослые, кроме набожных христиан, отправятся смотреть гладиаторские игры и казни преступников.
Он, Аврелий, покуда маленький, чтоб хоть одним глазком туда проникнуть, просочиться, подсмотреть, как сражаются гладиаторы и проходят звериные травли!
Ничего, вскоре он вырастет, если Патрик сказал: его грамотный сын почти что, без малого, в длину и толщину, — достойный муж нумидийский. А встретившаяся им по дороге из терм старшая сестра Скевия Романиана от этих горделивых и значительных слов отца жеманно захихикала, прикрыв рот ладошкой. Чего ей тут смешного?
Вникать в людские отношения и разного рода связи до самой их жизненной телесной сердцевины Аврелий Августин научится далеко не сразу. Пока же он принялся прикидывать, сколько ему остается прожить до мартовских календ. Много это или мало? Долго ли коротко?
По месяцам вроде бы оно скоро. Один, два, три… декабрь не в счет… тут тебе и март наступит. В нундинах получится больше и дольше: умножаем на пальцах три на три, добавляем еще одну. Зато предстоящих часов такое великое множество двенадцатикратных ассов, что их и подсчитывать неохота, это ведь так долго… Глаза слипаются… спать хочется…
Утром Аврелия разбудил Нумант, его новый раб, принес воду и полотенце для умывания. Личных рабов сын Патрика никогда раньше не имел и поэтому только привыкал им пользоваться.
Нумант появился у Аврелия, когда Патрик дал полную отставку няньке Эвнойе. Мол, сын вырос, и прислуживать ему должен мужчина. Тут Эвнойя возьми да и предложи ей в замену своего шестнадцатилетнего старшенького сыночка. Нуманта лупоглазого спешно вызвали из деревни, и отец отдал его в полное распоряжение наследника. Даже с правом наказывать, сказал Патрик, коли деревенский увалень и разиня в чем-нибудь провинится.
Непростительных провинностей за Нумантом покуда Аврелий не находил, но розги для себя его новый прислужник уже заблаговременно срезал, благонамеренно приготовил и поставил в горшке в углу детской комнаты. Потому что ему, обалдую аграрному, очень желательно стать настоящим городским жителем и по-цивильному выучиться грамоте.
Он, разинув рот, выпучив глаза, выслушал несколько страшных историй доминуса Аврелия о школе и уразумел: без розог полнозначного учения не может быть, если всякий человек задним умом крепок, и память у него не в голове или в сердце, а в поротой заднице. Почешешься, так все сей же час упомнишь, чему тебя, темного, умные люди учили.
Буквам, цифрам, чтению и счету Аврелий великодушно обещал обучить стремящегося к свету знаний слугу в ближайшем будущем — не сейчас, так спустя нундины. Но с письменными знаками им следует повременить, покамест Нумант выучиться делать восковые таблички, точить стилусы, варить чернила и скоблить обрывки пергамента. Потому что чистого папируса им никто не даст, и взять его негде.
Обещания у Аврелия не разошлись с делом, что положено и расположено хорошему учителю. Немедленно за полдюжины обещанных яблок и полкуска жирного тукеттума вечно голодный как Тантал работящий Сундук подрядился изготовить буквы из коры пробкового дуба. Если кораблики, ходящие под парусом, он из нее делает, то и литеры сумеет вырезать по-быстрому.
Dictum factum: из игрушечных легких букв Нумант уже умеет составлять и благоговейно читать личное имя.
Его ему дал отец, первый муж Эвнойи, который очень давно, говорят, десять лет тому назад сбежал из имения и опять подался в балеарские морские разбойники. Там, на северных островах, как утверждает Нумант и клянется Геркулесом Египетским, его свободнорожденного отца римляне когда-то захватили в плен и беззаконно продали в рабство.
Нумант верит, будто в буквах сокрыто могущественное колдовство, каким под силу овладеть лишь грамотному человеку, коль он задастся такой сверхъестественной научной целью. Потому-то, ему представляется, люди доверяют священным книгам, а записанные пророчества непременно сбываются. Тогда как имя указывает на судьбу человека. Вот отчего он готов заплатить любую цену, чтобы узнать, чего же означает его имя и другие магические пророческие имена, какие с благословения богов люди дают всему живому и неживому.
Между тем Аврелий ничего выдающегося и драгоценного в своем имени не видел, если так называли очень многих до него и будут именовать после. Мало ли кого и как зовут?
Филология — наука скучная, как ее ни назови по-гречески или по-латыни. Бубни, тверди, и больше ничего. Наверное, какому-нибудь афинскому мальчику так же тоскливо запоминать наизусть латинскую «Энеиду», как римскому мальчику гундосить «Илиаду», если он с незапамятного младенчества не слыхал ни одного греческого слова…
— …Что Вергилий, что Гомер, единозначно горьки и слезоточивы в корнях научения, но плоды грамматического образования сладки и приятны, — издевательски наставляет Папирий тех, кого Фринонд сечет за недостаток усердия и прилежания.
Хотя обучение арифметике у наставника Папирия тоже не слаще выходит. Разве что география и геодесия интереснее?
— …И полезнее для жизни… — это в свой черед говорит Патрик.
Вместе с отцом они наметили, расчертили на песке по четырем сторонам света стратагемы их будущего путешествия. Сперва вниз на юг в Константину, затем в предгорья в Тамугади. По правую руку на закате останутся Гетульские озера, по левую, на восходе горные вершины. Им же нужно спуститься еще дальше, еще южнее в степи.
Как только наступит тепло, они отправятся в путь. Чем дальше на юг и ближе к горам, тем становится холоднее. А на южных вершинах весь год лежит снег, а под ним лед.
Вследствие чего Патрик распорядился, чтобы отныне Аврелий, потому как уже большой мальчик, и его раб Нумант, ставший без малого воспитанным горожанином, под нижней туникой всегдашним порядком опоясывали чресла набедренной повязкой.
— …Чтобы висячее мужество в горах печальным образом не отмерзло, — сказал отец.
Нумант с ними тоже поедет. Зато Скевия Романиана на юг не отпускают. Ему велено оставаться дома, ходить в церковь и заучивать на память по-гречески священную Септуагинту о легендах и мифах древних евреев. Их его заставляет изучать грек Месодем. И домашних отцовских розог достается Скевию ничуть не меньше, чем Аврелию в школе за «Илиаду» и древних греков.
Отец Скевия желает его видеть христианским пресвитером, тогда как отец Аврелия предопределил сыну и наследнику карьеру судебного оратора и магистрата. Об этом Аврелию с негодующими ругательствами рассказал бешено ему завидующий Скевий.
Они чуть было не подрались, но мигом помирились. И оба сошлись в едином мнении на отцовскую власть-авторитет. На нее не обижаются, если отцы могут еще все передумать и перерешить по-новому. Среди прочего, Аврелий научится риторике, ораторскому искусству, много чему другому и переубедит доминуса Вагу. Тем временем Скевий изучит досконально святое христианское Писание и уговорит красноречиво и благочестиво доминуса Патрика. Особенно, когда б ему действовать апостолически и экклесиально, — припомнил Аврелий еще два ученых греческих слова, — то Скевий сможет снискать уважение у Моники…
Как ни подходи, без словесности в этой жизни никак не обойдешься. Определенно, их отцы во многом правы, если они старше и умнее…
Право слово, Патрик Августин никого не посвящал в то, что он давным-давно задумал и предуготовил для своего сына Аврелия. Здесь Вага Романиан, его старший партнер по деловым начинаниям в южных степях, являлся определенным исключением из общего ряда. Но и ему Патрик всего не сообщал суеверно. То же самое и другим — как бы не навели порчи из врожденной человеческой зависти и природного недоброжелательства.
В благоприятные гадания гаруспиков и гороскопы математиков ему тоже слабо верилось. Так как о них известно многим, а боги нечеловечески завистливы ничуть не меньше людей, беспрестанно желающих ближним своим и дальним одного лишь зла. Потому будущее сына следовало бы поберечь от сглаза и будто бы благих пожеланий, то и дело оборачивающимися от противного дурными предзнаменованиями.
Поэтому, в противоположность обычаю, сына Аврелия он отдал в учение неполных шести лет от роду. При том имея в виду приостановить его учебу, когда мальчик достаточно повзрослеет и кое-чему научится.
Грамотность — это одно, а жизнеустройство, личное и гражданское, суть и есть нечто другое в разноплановых риторических контроверсиях, какие подбрасывают человеку зложелательные боги, злопакостная слепая Фортуна и сквернодействующие от природы слишком зоркие людишки.
Год свободной жизни без школьного занудства, женского порченого домашнего скудоумия, этого, того самого рабского христианства не повредит, а пойдет на пользу, во благо будущему знаменитому мужу нумидийскому из гетулийской фамилии Августинов. Отнюдь и вопреки всему мальчик станет жизнеспособнее, крепче духом и телом.
Коли не выживет, что вряд ли случится, то подобающе его отплачем, горючие слезы ототрем. Что ж, всесильное неумирающее время и бессмертные сильные боги судят иначе, чем того желают себе слабые смертные люди… Сообща или поодиночке смерть всех нас встретит и приветит в конце пути.
Вселенски о том, почему он вместе с сыном решительно намерен задержаться на диком дальнем юге не меньше года, Патрик никому не собирался сообщать, извещать… И менее всего следует об этом знать ближним его, исповедующим христианство. Нехоженые, неезженые пути-дороги на юге длинные и продолжительные, а вести идут долго.
Затем по возвращении в благоустроенные и обжитые приморские земли можно будет подступиться к продолжению грамматического и риторского образования Аврелия Патрика Августина. Скажем конкретно, отправить достигшего почти двенадцати лет нашего отпрыска и отрока в Мадавру к Скрибону Младшему, подобно своему отцу также овладевшему свободными искусствами в научных видах грамматики и диалектики в Сиракузах, плюс натурфилософией, физиологией, математикой, музыкой…
Патрик Августин очень давно не встречался с Клодием Скрибоном; пожалуй, с тех пор, когда обучался в грамматической школе у его отца. Но достохвальные отзывы о многознающем профессоре Клодии из Мадавры имел самые обнадеживающие.
Оставался, право же, больной вопрос о чрезмерной плате за обучение, какую по слухам сдирает этот злосчастный сквалыга Клодий. Но тут Патрик справедливо надеялся поднакопить денег, значительно урезав расходы, пребывая в сельской местности, будучи поодаль от неизбежно расточительной, прискорбно политической, общественной, городской жизни.
Кстати упомнить, и скупердяй Папирий тоже нынче испрашивает, негодяй, непомерную плату за недостаточные общеобразовательные услуги и усилия. Многих учеников христиане у него отобрали, с проклятиями, с кулачным боем и анафемой. Других ему взять неоткуда, если из ничего ничто не происходит, когда первоэлемент сам-один ничто и ничтожество.
Кое-чему элементарному, путному сына выучил и довольно. На том тебе, недостойному, родительская благодарность звонкой монетой, скряга проклятый и малознающий!..
На предмет обретенных у Папирия знаний Патрик экзаменовал сына придирчиво и основательно, сравнивая с тем, чего сам знает и помнит из школьной премудрости. Голова не тыква. Действовал отец ненавязчиво, осторожно, как бы невзначай выясняя, с интересом расспрашивая сына о том, о сем во время семейных обедов. Регулярно накануне нундин брал с собой в термы, где хвастался, как смекалисто его наследник умеет умножать, делить, загибая пальцы. Бывало, и просто так разговаривал с сыном как будто бы не о чем, но, между прочим, подбрасывал арифметические задачи из повседневной хозяйственной жизни и денежных расчетов.
Иногда просил почитать ему всякое разное вслух, притворно сетуя, будто у него к вечеру отвратно устают глаза. О мой сын, с годами приходит опыт, но, ох-хо-хо, уходит здоровье… Старость — не радость… Хотя он никакой тебе не старик, да и никогда таковым до самой смерти не был.
К весне отец еще больше укрепился в мысли — его сыну у Папирия дальше делать нечего. В то время как сыновняя сомнительная учеба давно уж стала напрасной растратой денег и времени. Все равно что дым покупать.
Дроби и проценты Аврелий подсчитывает на абаке немногим хуже прожженного рыночного менялы. В написанном умело размечает мысли и фразы; при всей разгильдяйской нелюбви к словесности хорошо видит мужские и женские склонения, спряжения, приставки и падежные окончания.
В конце-то концов не грамматиком же и литератором ему быть! Лишь в речах судебного оратора школьные грамматические знания обретают бессмертие и общественно значимое благо, какие по жизни становятся частными благами и благодатной данью признательности сограждан.
Бери напротив, сколь скоро малообразованного краснобая люди чуть что вполне могут одарить всеобщим презрением, пренебрежением. И ненавистью, если он оскорбит чьи-нибудь общественные чувства или нанесет болезненный урон кошелькам напрасно доверившихся ему квиритов.
Из истории известно: те, у кого в достатке красноречия, но маловато мудрости, обычно плохо кончают, наподобие Катилины у ворот Рима.
Оттого опасался Патрик, как бы в дурацкой школе у самопровозглашенного профессора Папирия Недромита его умнейшему сыну не привили сдуру вредоносное, бедственное отвращение к учебе и обретению новых знаний. Стало быть, год или немногим больше пускай сынок проветрит ум-разум в горах и в степях. А там, глядишь, на свежую голову и учение пойдет с большим интересом и любознательностью.
Чего забудет за год, то наглядно вспомнит у Клодия Скрибона Младшего в Мадавре. Потому как общественное мнение едва ли ошибается, называя профессора Клодия достойнейшим преемником и многоуважаемым продолжателем достославного дела знающего отца. Коли некто Патрик Августин из Тагасты до седых волос сохранил уважение к знаниям и к науке, то и Аврелий пойдет по отеческим стопам. И, быть может, несоизмеримо превзойдет благородных предков в учености и мудрости, заслужив тем самым долговременную славу благодарных потомков.
Время в запасе у Аврелия Августина имеется, благодаря предусмотрительному родителю. Самая пора настанет для наследника на двенадцатом году жизни приступить к полноценному грамматическому обучению вместе с младшим сыном Ваги Романиана.
Пусть Скевия наш Вага прочит в христианские священники, это не повредит. Да и Моника не станет безудержно скорбеть и поджимать в неудовольствии губы, когда Аврелий в Мадавре будет жить сплошь среди благочестивых христиан никейского вероисповедания.
Помимо всего прочего и это они с Вагой заблаговременно обсудили в деталях, договорились, еще кое-что фамильно предрешили соответственно для чад и домочадцев. Будущее непременно покажет и подтвердит их правоту, предвидение, предусмотрительность…
Побуждения отца, его намерения и действия, вынужденное согласие матери и многое прочее Аврелий Августин позднее проанализирует, допустимо раздумывая о характерах родителей, их поступках. Многое, хотя и не все, по мере возможности он исповедально сопоставит с детскими неустойчивыми чувствами и полустертыми воспоминаниями…
Из годичного путешествия с отцом и пребывания на юге, наполненных разнообразными, но преходящими впечатлениями, он возвратится существенно окрепшим, подросшим, но отнюдь не возмужавшим, оставаясь в душевной сущности и в органической телесности еще ребенком. На том его детство в семье Патрика и Моники благополучно завершилось, наступило отрочество. С того времени до пятнадцати-шестнадцати лет ему предстоит взрослеть, жить и учиться вдали от любящих родителей.
КАПИТУЛ XIII
Год 1121-й от основания Великого Рима.
3-й год империума Валентиниана, августа и кесаря Запада. 3-й год империума его брата Валента, августа и кесаря Востока.
Год 367-й от Рождества Христова.
Сравнительно большой город Мадавра на крайнем западе Нумидии в сентябрьские календы на виноградных каникулах.
Неудержимой, возлюблено притягательной привязанности к Тагасте, к семейному очагу, к отцовским манам, ларам и пенатам, к материнскому христианству Аврелий Августин не чувствовал, не ощущал ни в первоначальные дни появления в Мадавре, ни после, когда все его соученики в радости и веселии распускаются, расходятся, разъезжаются на каникулы по домам. Не испытывает он тягостной тоски по родительскому дому, и дудки вам!
И бесчувственным поганским истуканом его не надо обзывать, даже если с полнейшим безразличием он воспринял известие о смерти младшего брата, ставшему к тому времени средним, и последнюю тагастийскую новость о пышных похоронах бабки. Первый и разумным человеком-то по существу не стал, вторая же, выжив из ума, перестала им быть. Безумие брата и старухи неприятно впечатлили и ужаснули Аврелия, когда он вернулся с дальнего юга.
Из рассказа друга Скевия ясно: мать Аврелия теперь замкнулась в исступленной набожности, позабыв о новорожденном сыне, полностью, со всеми пеленками переданном на попечение кормилиц. Не говоря уж о первенце, отданном в учение. Отец же, — о том он и сам знает, — вечно в делах. Специально приезжать, навещать, чтобы пообщаться с сыном, писать и посылать с оказией письма ему некогда и недосуг.
В общем и частном, школяра-грамматика Аврелия ничто и никто домой в маленький городишко Тагасту не тянули удавкой на шее. Гораздо привлекательнее свободно жить без скотской привязи в большом городе Мадавре.
Школярам-пролазам, пусть они и младшие из грамматиков, ничего не препятствует браво проникать в цирк к поворотным столбам. Хочешь — протискивайся, проскальзывай вперед туда, где сбоку стоячие места для зрителей в театральных трагедиях и комедиях. Или извернись, провернись, чтоб пробраться на верхние ярусы деревянного городского амфитеатра, а там уж вольготно сесть где-нибудь в проходе. Конечно, взрослые и большие юрких мальчишек гоняют, но не слишком. Наверное, помнят, каково им самим приходилось в малолетстве.
Скучать по дому или тосковать по детству Аврелию даже мало-мальски не приходится, если он живет и учится в Мадавре. Причем и в театр и на стихотворные состязания они с другом Скевием нынче гордо ходят с полным на то правом на втором году обучения грамматике в славной образцовой школе глубокоуважаемого профессора Клодия Скрибона Сикилиана.
Тут-то Аврелию вспомнилось, каким классическим образом в прошлом году летом, точнее, в июльские каникулярные дни их встречал этот надутый и важный Сицилиец. Его так кличут по отцу, тоже потомственному учителю грамматики. Клодий — урожденный мадаврский куриал в пятом колене, как он напыщенно им поведал в первые же минуты прибытия новичков, не без робости очутившихся в просторном, гулком и пустом атрии грамматической школы.
Перво-наперво прямо в дворовом открытом атрии он им со Скевием устроил головомойку-экзаменовку, угрожающе вооружился ферулой. А их отцов, — немало смущенных Вагу Романиана и Патрика Августина, — вежливо, но нетерпящим возражений тоном отослал прочь: долой пошли, прогуляйтесь, мои достопочтеннейшие, пару часиков по форуму. Отцы послушно и беспрекословно, словно малые дети, согласно закивали и ушли. Оно вам тотчас понятно, кто тут кого старше и главнее.
Аврелий совсем уж приуныл, обреченно приготовился получать ферулой по обоим ушам и по носу. Если злоехидный Клодий отцов без обиняков выгнал, едва ли не взашей вытолкал, то детей наверняка не помилует, не пощадит по горбу и по затылку. Потому как это у него, злодея, для порядка и дисциплинарности. Знаем-знаем, у мавра Папирия было то же самое. Да и грек Месодем в наставительном рукоприкладстве особо не стеснялся, судя по бледнолицему виду дрожащего от страха Скевия.
Да и сам-то Аврелий, по правде припомнить, не сразу сообразил: ферула в руках у злобного Скрибона служит вовсе не для битья и побоев, но для красноречивых взмахов и раздачи руководящих учением указаний. Последнее гораздо чувствительнее, хотя этот дидактический факт и тот еще учительский аргумент ему станут известны несколько позже.
Тогда же наблюдательный мальчик Аврелий еще с праздным таким интересом простодушно изучал профессорскую указку-ферулу, пока Клодий с пристрастием допрашивал Скевия, выясняя градусы начальной подготовки новичка-минориста. Треугольников и цифр на ней не имелось, и была она много короче, чем линейка Папирия, чуть больше локтя. Зато на феруле Клодия, — вот это да! Оказались, искусно вырезаны знаки планет и созвездия зодиака.
Кое-какие из них начинающий грамматик Аврелий распознал, потому что однажды вечером в степи у костра Патрик рассказывал ему о блуждающих звездах и неподвижном звездном небе, рисовал значки палочкой на выжженной земле и соединял в созвездия воображаемыми линиями ярчайшие разноцветные мерцающие светила у них над головой.
От костра тоже сыпались, выстреливали красивые звездочки-искры, Аврелий чувствовал себя в тепле и уюте, ночного холода вокруг не замечал…
Но вот в сумрачном таблине на селле в учебном атрии у Скрибона он зябко подрагивал, нимало не ощущал горячий летний полдень на дворе, предчувствовал… Вот-вот и ему будет жарко не меньше, чем тупице и бестолочи Скевию, красному, как вареный рак, взмокшему от пота, запарившемуся отвечать на въедливые профессорские вопросы, едва не забывшему, как читать, как считать…
Простейшей арифметической задачки наш осел Скевий осилить не умеет. А хвастался-то как!..
Вконец загоняв одного приступающего к грамматическому обучению, профессор Клодий не менее пристрастно взялся за того, кто поменьше и помладше, но хорохорится, наглец, будто бы ему все нипочем. Стреляет по сторонам глазами, нахально рассматривает профессорскую ферулу и держится, словно первый ученик, превосходящий всех по уму и знаниям, и потому беспредельно презирающий отсталых соучеников.
Таким итогом, перца и горчицы Клодий задал Аврелию нисколько не меньше, чем Скевию. Может, и побольше…
Зато при вступительном собеседовании, предъявленные ему знания и умения некоего Скевия Романиана профессор Клодий Скрибон оценил в образе и подобии никуда не годных. С ними не то что в чистый христианский ад, но даже в обгаженный языческий Тартар ни за что не пустят.
— …Что есть очень хорошо! Поистине превосходно! — экспансивно взмахнул указкой-ферулой Клодий и объяснил, чего у него тут почем и зачем, в каком-таком режимном порядке-распорядке.
— Всему нужному и полезному я научу вас заново, мои юноши! Забудьте все то, чему вас якобы грамматически учили необразованные домашние рабы-учителя или то, чем вам нагадили в череп и помочились в уши скудоумные наставники-грамматисты в начальной школе.
Засим Клодий дал общую оценку школьным познаниям Аврелия Августина, определив их в качестве удовлетворительных, посредственных, срединных. Но этически прозорливо отнес его ученические знания и умения, а также присущее ему эвентуальное отношение к учебе не к золотой метриопатической середине, а к дерьмовой. И строго предостерег относительно необоснованной гордыни и безосновательного самомнения.
— …Посоли свое дерьмо и съешь, — далее без философских экивоков посоветовал ему профессор Скрибон.
— Не то худо будет и горько, мои недоделки и недоноски. Надолго или навсегда, — сурово и многозначительно добавил он для невместно хихикнувшего Скевия.
Невзадолге воротились «родители и производители недоумочного Романиана на пару с обормотом Августином». С некоторым трепетом душевным достопочтеннейшие отцы явились, чтобы выслушать вердикт профессора о счастливом зачислении или отчислении с порога недоделанных отпрысков. Вопреки их худшим опасениям, Скрибон, сладко улыбаясь, витиевато расхвалил и перехвалил обоих сыновей; поименовал, льстец, новых учеников юношами, подающими несомненные добрые надежды на грамматические триумфы под его мудрым и благодеятельным процессуальным руководительством.
Каким образом руководит учебным процессом мадаврский грамматик и ритор Скрибон, в тот же день вечером Скевию с Аврелием трепетно поведал их новый знакомец мальчик Паллант, сожительствующий с ними в одной комнате в доме почтеннейших христианских матрон Кальпы и Абинны. К тому часу отцы поспешили отбыть в Тагасту к фамильным делам и хозяйственным хлопотам, удостоверившись удовлетворенно, что их дети, прислуживающие мальчикам домашние рабы благоустроены и находятся под надежным, достаточно бдительным присмотром в школе и после учебных занятий.
— …Ибо за теми и другими надобен глаз да глаз. Бди и соблюдай тихонравие и добролюбие слабых и малых от мира сего, — при первом знакомстве объявила Аврелию со Скевием благочестивая вдова Абинна Диаконисса. И привела им в пример смиренного благонравного Палланта, уже с весны учившегося у Скрибона Сицилийца.
С одного взгляда тщедушный и немощный нумидиец Паллант Ситак супротивно не приглянулся Аврелию. Но ему немного понадобилось времени, чтобы душевно и вдумчиво полюбить этого тихого, кроткого, умного, мечтательного мальчика. Пожалуй, Паллант — единственный из соучеников, кого ему вроде чуть-чуть недоставало, когда тот как теперь уезжал на каникулы в имение к отцу, услужающему в должности вилика-виноградаря у мадаврских Романианов.
На сей раз этот вилик-отпущенник пригласил в попутчики Скевия. Тому непременно нужно почаще ездить на поклон к богатейшему дядюшке, к чьей фамилии принадлежат Паллант и его отец. Потому что от вероятного наследства никому отказываться не стоит. Всякое может статься. На то и соответствующие законы Великого Рима прописаны.
Аврелий недавно начал с интересом изучать гражданское законодательство, которое им под запись диктует Клодий в школе. Аврелий и прислужнику личному, Нуманту бестолковому, кое-что по пунктам разъяснил, когда тот начал его упрашивать продать себя рабом в гладиаторскую школу для овладения военным искусством.
Ему, Аврелию Августину из Тагасты, этого никак нельзя совершить, так как он еще не достиг гражданских лет и не является налицо юридическим владельцем некоего раба Нуманта. Даже Патрик, кому по закону вещественно принадлежит Нумант, может это сделать лишь с разрешения городских магистратов Мадавры, письменно попросив их о том. Притом у Нуманта строгий судья станет допытываться, с чего бы это ему, лишившемуся последнего рабьего ума, загорелось податься в презренные гладиаторы. Ведь он благодатно, ему подобающе живет-поживает в достоименной фамилии, по совести обращающейся со своими и чужими рабами?
Если умалишенец соврет или его объяснения покажутся путаными и неубедительными, то ждет нашего полоумного пытка с целью добиться всей правды. Тогда как матроны Кальпа и Абинна, дознавшись о том, бесперечь потребуют от Патрика продать презреннейшего соискателя гладиаторского звания на рудники. Это, конечно, не по закону, но так им велит христианское благочестие, а против него не попрешь, не то Бог накажет. Так написано в их Библии.
В христианского неведомого трехкратного бога Нумант не очень верит, но письменные книжные доводы признает неоспоримыми и неопровержимыми. Коли в святых книгах многократно написано, то быть ему, Нуманту, рабом у Аврелия, пока тот не достигнет совершеннолетия, чтобы поступить по закону и по справедливости.
Правоту Нуманта Аврелий отчасти допускает, если эта орясина надеется получить свободу, став непобедимым гладиатором, ее достойным. Но для этого сначала следует стать искусным умелым бойцом, а не мешком с отрубями, на котором отрабатывают кулачные удары.
— …Еще раз, остолоп, явишься с расквашенной до неприличия рожей, Геркулесом и Христом клянусь, зверский фактотум Пуэр Робустус тебя высечет на оба семиса, на полный афедрон в три дюжины, — вспомнил Аврелий свое зловещее предостережение орясине Нуманту. — Целых девятнадцать лет оболтусу, а соображения меньше, чем у петуха на заборе!
Иначе сказать, не выбранить осла никак нельзя, если ученику Аврелию профессор Клодий поставил на вид неприличный облик раба, сопровождающего его в школу. Неровен час и самому достанется розгами не за что и ни про что из-за не в меру драчливого петуха Нуманта, упорно и усердно упражняющегося в панкратии в гладиаторской школе на основании поддельной просьбы и настоящих денег, заплаченных за его обучение будто бы куриалом Патриком Августином из Тагасты.
По правде заметить, наличных, частных, живых, никому неподотчетных денег у Аврелия и в заводе никогда еще не было. Но у Скевия подвижные деньжата водятся, если раз в нундины у одного рыночного менялы тот получает серебро на мелкие обыденные расходы. Однако больше всего денежных средств в их совместный пекуний-копилку приносил в клювике прохвост Оксидрак — пронырливый, оборотистый и вороватый раб Палланта.
Двадцатилетний Оксидрак с виду такой же тощий и худосочный навроде своего мелкотравчатого хозяина, но очень жилистый и верткий. Может и ужалить коротким кинжалом, смертоносно и молниеносно, подобно змее в густой траве. Хорошо дерется руками и ногами.
Оксидрака, случается, славно дополняет его ровесник — здоровенный слонище Турдетан, личный раб Скевия. Хотя этакому, с виду полнейшему дуботесу и бурелому, как ни странно, намного больше по нраву тихонько сидеть, слушать в уголке на грамматических занятиях в атрии, чем кому ни попадя выдубить шкуру, отмолотить сорокафунтовыми кулачищами, истоптать слоновьими ножищами.
Нумант же, орясина, кое-как овладев примитивной грамотой, о просвещении и образовании позабыл, деревенщина аркадская, идиллией его по афедрону…
Вот и все их три раба-педагога, — само по себе пришло на ум недавно услышанное слово по-гречески. Педагог, то есть крепкий раб, отводящий ребенка в школу, и еще кое-что должен делать, кроме как защищать малолетнего и слабосильного от нехороших взрослых негодяев, развратников да насильников.
Вот сейчас педагог Нумант принесет умываться и чего-нибудь поесть проголодавшемуся дитяти. Поскольку негодный мальчишка Аврелий безбожно проспал утреннюю молитву по распорядку Абинны и Кальпы, какие непоколебимыми Геркулесовыми столпами стоят на своем, пожрать ему никто не подаст до самого полудня. Не то ой худо будет…
А вот к Нуманту, несмотря ни на что, отчаянные рабыни-стряпухи очень даже ласковы и признательны, как говорится, за неутомимую крепость чресел и силу мужества. Тем более в доме, где нет нормальной мужской прислуги. Дряхлый старик привратник не в счет, не в зачет.
Добродетельные матроны Кальпа с Абинной полагают не слишком высокого и крупного Нуманта сущеглупым мальчишкой-драчуном, не стерегут каждый его шаг, в отличие от пролазы Оксидрака, — наверняка не напрасно, — и мощного Турдетана, женщин сторонящегося. Насчет этого флегматика они обе определенно заблуждаются…
Отругав блудника Нуманта за нерасторопность — ждать себя и других заставляет, и похвалив — это за добычливость: провизии хватит и останется, чтоб потом и в полдень перекусить, — хозяин распорядился бегом отправляться за город. Солнце уж высоко, а им еще бежать да бежать от крепостной стены до Болотных холмов, кабы вовремя отпраздновать первый день виноградных каникул истинно мужской потехой — боевой олимпийской игрой в гарпастон.
Опоздать, подвести соратников никоим образом не годится. В противном случае к решающим играм между грамматическими школами больше не подпустят ни на стадий. Смотри-де, увалень-копуша, издалека, как люди боевито сражаются, отстаивая честное имя доблестных мужей нумидийских.
А уж о том, какая это превеликая бойцовская честь, когда старшие приглашают в игру младшего, только-только начавшего второй год учебы, и уточнять-то не стоит.
Время точность любит. Иначе стыд и позор, как быстроногому Ахиллесу, не догнавшему черепаху…
— …Уразумел, Нумант черепаший, что будет, коль не поспеем? По шеям накидают, в афедрон сошлют, руки в школе не подадут… В проскрипции внесут опозоренного… Ну-ка, давай-ка ходу, колченогий!..
Требовательному доминусу Аврелию вовсе без нужды подгонять и понукать раба Нуманта. Тот все отлично понимал, если страстно желал, жаждал предстать таким же свободным доблестным мужем нумидийским. А потом в палестре, на равных! Вальяжно перебрасываться мячиком в гарпастон с другими полноправными куриалами. И даже с декемвирами!
И правила игры в гарпастон Нуманту превосходно известны, вернее, их отсутствие и условность, исходящие из договоренности по обстоятельствам на местности. В частности, кoмaркa Аврелия сегодня по уговору ожесточенно осаждает лысый холм, который обороняет противная сторона, стремящаяся не допустить, чтобы жесткий набивной мяч оказался внутри малого круга на вершине. Тем временем осаждающие высоту ни за что не должны позволить кому-либо из соперников выбросить мяч за пределы большого круга у подножия холма. Это равнозначно поражению, поношению и позору, потому что игру нападающие начинают с мячом в руках.
Между двумя кругами — территория сражения, где дозволены любые воздействия руками и ногами. Пропустил раззява сильнейший удар, скажем, пяткой в челюсть — значит, сам виноват: сногсшибательно, умопомрачительно и зубодробительно…
Гарпастон — игра для сильных духом и телом мужчин. Вот сегодня неприсутственный день-фестивус. В цирке аж четырнадцать заездов квадриг от зари до зари! Весь город там. Но ради гарпастона ревностные грамматики отказывают себе в удовольствии побывать на ристалище, если они сами состязаются, соревнуются.
Кое-кто из старших грамматиков от домашних каникул отказался. Хотя с младшими и средними по той же каникулярной причине недобор, — справедливости ради отметил Аврелий, чтобы не очень возгордиться и возноситься, понимая, почему его взяли в сегодняшнюю игру. По дороге на Болотные холмы он даже начал суеверно, мнительно опасаться: как бы ему не ошибиться наспех, не сыграть оплошно или плохо распорядиться мячом, прохлопать неожиданную передачу от партнеров…
В пути Аврелий и Нумант не задержались, ничуть не припозднились, прибежали раньше, нежели к полю будущего сражения неспешно подтянулся вслед за ними кое-кто из старших игроков, предпочитающих не вскакивать заполошенно чуть-чуть свет во время благодатных виноградных каникул.
Майoристы, они везде такие, с ленцой, поспешают медленно, оттого что старше и умнее, — рассудил Аврелий, пока Нумант тщательно натирал его тело скользким маслом. А перед схваткой можно и слегка расслабиться в охотку, если заранее размялся быстрым бегом.
Тут Аврелий немножко пожалел, что нет с ними соседской девчонки, легконогой Кабиро, той самой, с кем бегал наперегонки, кто прошлой осенью приохотила его к игре в гарпастон. Девчонкам здесь не место, потому что атлеты по старой олимпийской традиции состязаются совсем голыми. Пускай это ей совершенно безразлично. Всякого-якого, такого-сякого жрица Кабиро насмотрелась в личной жизни. Большим и малым обнаженным мужеством ее не удивить, не поразить…
Поразительно, как много попутных мыслей, частичек воспоминаний, переходящих прошлых впечатлений мелькают в голове, если расслабляешь мышцы! Или же, напротив, в те краткие мгновения, когда ты напряжен и к бою готов, еще быстрее движется ускоренное мысленное время!..
Конечно же, к сложнейшим рассуждениям о частном человеческом и общечеловеческом историческом времени в неполных тринадцать лет Аврелий Августин еще не подходил, не подступался проницательно и проникновенно. В ту пору мальчик Аврелий вскользь, словно камешек, пущенный по гребням морских волн, мог припомнить: с Кабиро его свел общительный прохиндей Оксидрак.
Надо же! Паллантов раб очень тебе баснословно утверждает, будто он сын немыслимо знатных родителей-индусов, и его младенцем будто бы в Индии похитили каппадокийские купцы — разбойники и работорговцы.
Вот этот педагог-пролаза, демагог-охмуряла Оксидрак хитро надоумил Аврелия, как хозяйского милого дружка, держаться со сверстницей-девицей Кабиро на короткой ноге. Мол, очень пригодится в скором будущем. Потому что эта красивая девочка не только родная дочь богатой матроны-домины, владеющей самым почитаемым и дорогим лупанаром в городе, но и пифагорейское воплощение одноименной нимфы.
— …А также она… — с драматической паузой понизил голос до благоговейного шепота Оксидрак, — есть и пребудет высокой степени посвящения маленькой жрицей Великой матери богов фригийской Кибелы и приобщена к высшим мистериям владычицы всей природы египетской Исиды…
До разноименных языческих богинь, богов Аврелию тогда было мало религиозного дела, если не учитывать того, что изучается в книгах и на учебных табличках в школе на грамматических уроках у Клодия. Но гибкая, стройная, стремительная как ласка, золотоволосая Кабиро ему понравилась не чем-нибудь, но плавными, способными неимоверно ускоряться движениями.
В ней ни на зету не наблюдалось девчачьей отроческой угловатости и вихляющей разболтанности в мосластых локтях и коленях, какие свойственны недозрелому женскому естеству. От природы Кабиро прекрасно владеет собственным телом, ловким и увертливым. Будь то при игре в пятнашки с подоткнутым подолом туго подпоясанной по-мальчишечьи туники или в беге взапуски, одолеть ее не так-то просто.
Как-то под вечер после уроков она вызвала Аврелия соревноваться за городской стеной среди колючих зарослей. Отправились они туда вдвоем — Нумант с дубинкой не считается, ему не бегать, если он их оберегает и защищает.
Там Кабиро быстро избавилась от обеих туник, сдернула повязку с узких бедер… Оставшись совсем нагишом, насмешливо глянула на Аврелия. Подразумевалось: так и побежишь, цепляясь подолом за колючки? Пришлось самому догола показаться девчонке-ровеснице. Хотя здорово было стыдно и позорно, какой бы она тебе ни была жрицей, до последнего волоска в мужском паху посвященной в детородные любовные таинства всех великих богинь.
К тому же следовало поберечь тунику, не изорвать ее, не измарать… Одежда стоит дорого, о том тебе без устали долдонят Кальпа с Абинной. За стирку операрии-фулоны, владеющие секретами мытья шерсти, требуют безумные деньги серебром. А тут и суммы медных ассов, какие у тебя когда-то имелись, на одной левой хватит пальцев пересчитать.
При всем при том Клодий может поставить тебе на вид неподобающий, неправомерный облик ученика славной школы. Грязь и рвань у него далеко не приветствуются снисходительно.
Право жe, о том, какими истязаниями чреваты велеречивые замечания профессора Скрибона, подкрепленные легкими касаниями ферулой к предплечью, волей-неволей упомнишь, когда истерзанная розгами спина еще немало побаливает и пробирает… Приап ему в афедрон, зверскому Робустусу!..
Кабиро без малейшего стеснения оглядела нагое тело соперника с ног до головы, спереди и сзади… Неспешно, задумчиво прикоснулась к синякам на плечах и рубцам на спине. Но решила, что ее состязатель все-таки к бегу способен. Да-да… ему по силам составить ей необходимую жесткую соревновательность без скидок на раны и увечья.
Удивительное дело! От неторопливых целительных прикосновений Кабиро Аврелий вдруг ощутил во всем теле какую-то легкость, бодрость…
Раб Нумант на них не смотрел, отвернулся в сторону не из почтения и деликатности, но из страха, суевер боязливый. С посвященной в высшие таинства жрицей Великой матери шутки плохи. Как глянет нехорошо на мужчину, враз все его мужество безвозвратно скукожится, начнет хиреть, потом и вовсе отомрет, отсохнет, отвалится… Говорят, фригийской богине скопцы-кастраты требуются в большом таком количестве для тайных священных обрядов…
Оставив суеверному Нуманту на сбережение свои одежды, к намеченной цели Кабиро и Аврелий рванули, ринулись разными путями по узким тропкам, извилистым лабиринтом выбитом, проделанном в колючем шипастом кустарнике, козами или людскими парочками между полянками со съедобной мягкой травой… Кабиро решительно победила, первой достигнув потрескавшейся, побитой ветром и дождем, кем-то оскопленной гермы, некогда установленной на заброшенной нынче дороге в какие-то доисторические времена в почитание Гермеса Путеводителя.
Запыхавшемуся голому Аврелию, ничего не замечавшему, кроме колющих и режущих ветвей, всю дорогу пытавшихся его уязвить побольнее в мужскую гордость, Кабиро тотчас предложила бежать обратно, но теперь вокруг зарослей. На сей раз он ее догнал и обогнал, когда мужчине не надо оберегать руками ой уязвимое причинное место. А обходной беспрепятственный путь намного короче и значительно быстрее вертлявых кривых дорожек, проложенных как будто напрямки, но на самом деле вкривь и вкось…
Немного спустя Кабиро познакомила его со сверстниками — сыновьями ремесленников-операриев, всякий свободный от работы день и час отдающих гарпастону. Кто-то из мальчишек старше него на год, кто-то будет помладше. Девчонок в их атлетический обиход они не допускают, но Кабиро — исключение, которого она добилась сама, став такой же, как они. Ничем не выделяясь, не отличаясь, разве лишь признаками и зачатками женственности, она равная среди равных голых тел.
Она так же раздевается догола перед игрой, аккуратно складывает одежду. Ведь свое платье дети малоимущих фаберов пуще глаза и промежного мужества берегут ничуть не меньше безденежных учеников грамматической школы.
Обнаженное тело Кабиро их нисколько не волнует, если снизу ее девственность мистически запечатана заклятием Великой матери. Как они говорят, кто девственную жрицу насильно тронет, тому не жить подобру-поздорову. Обязательно вскорости помрет нехорошей смертью от боли и гнойной гнили в раздавленных богиней тестикулах.
Сверху же у Кабиро чего-либо женственного еще не выросло. Так себе, пара темных кружочков и два еле заметных пенечка, торчащих столбиками, только когда она злится.
Вон у жирного Сундука в Тагасте и груди и мужские безмолочные сосцы намного больше и толще.
Посмотреть на нее спереди — так она не мальчишка и не девчонка. Длинные прямые сглаженные бедра, втянутый плоский живот, малость рыжей шерстки… А вся ее округлая, выпуклая женственность выразительно выделяется лишь сзади…
Тактичное, только искоса, мельком, как бы случайное отроческое любопытство Аврелия маленькая жрица Кабиро мудро подметила. Без какого-либо женского жеманства она не замедлила выразить недвусмысленное предложение сию же минуту уединиться в кустах, чтобы по-дружески, по-быстрому помочь ему облегчить бремя подростковых тягот, лишений и неудовлетворенных потаенных желаний полового созревания:
— Пошли, Аврелий, сыграю тебе, так и быть, на твоей же флейте сладкую и нежную мелодию!..
Эту вот дружескую музыкальную участливость Кабиро проявила третьего дня тут неподалеку от Болотных холмов. Тогда Аврелий постарался горячо ее убедить, будто ему такая мальчишеская авлетика вовсе и не нужна. Сейчас же, по окончании замечательной игры в гарпастон и успешного взятия лысой горы, он не то чтобы пожалел о том, что не позволил ей соприкоснуться с этим вот мужским естеством. Подумалось: не обидел ли он ее тем отказом, сам того не желая, если очень этого желает, о том самом мечтает наяву, во сне это видит каждую ночь…
Друг Паллант вдруг невыразимо расстроился, когда однажды застенчиво предположил, что мог бы сделать другу Аврелию ту же самую авлетику руками и губами. А тот наотрез грубо отказался от дружеского участия и самоотверженного проявления истинной мужской любви и дружбы. И это, невзирая на ужаснейшую угрозу жесточайшего наказания…
Так вот, пойми-разбери их тут принципиально: изначально обидчивых, обиженных, обижающихся…
Грамматически и риторически несколько запутавшись в своих и чужих желаниях, пожеланиях, побуждениях, Аврелий стал восстанавливать в памяти третьеводнишний волнующе-томительный разговор с Кабиро, непонятно почему пустившейся уговаривать его довериться ее рукам, губам, языку…
— …Пойми ты, глупец, — сердито, пускай и вполголоса, выговаривала ему Кабиро, — мне это ничего не стоит, а тебе такое просто необходимо. Пессинунтской Матерью богов клянусь!
Ты же мужчина, а с мужской чувственной плотью я обращаться и общаться умею с тех пор, как себя в новой жизни помню. Земная мать моя от чрева женского когда-то давно была бродячей безместной жрицей Сирийской богини, меня с собой всюду возила по всей Африке, сызмала всему телесному выучила.
Послушай меня… До того как обратиться с чистой доброй молитвой к статуе богини, возбужденные мужчины должны облегчиться, избавиться от злой похоти и грубого вожделения, двукратно или трехкратно спустив в один сосуд семя, а в другой досуха помочиться. В подготовительных священнодействиях Сирийской богини их любовно возбуждали, затем принося очищающее облегчение, скопцы и девочки с пятилетнего возраста.
В начальных таинствах Кибелы и Исиды очистительные обряды не совсем такие… Но по сути, в преображенной плоти, тоже очень похоже совершаются посвященными девственными жрицами и оскопленными беспорочными жрецами.
То, что ты из христиан, никакого тебе значения не имеет. Плоть есть плоть, семя есть семя, поднимающее божественный фаллос плодотворящий… Вспомни, как у тебя по утрам напрягается и встает пенис…
Языческие телесные доводы Кабиро никак не убедили Аврелия, ее стоячие сосцы опять поникли, она пожала голыми плечами и списала его неуступчивость и непробиваемое целомудрие на христианскую твердолобость. Очень нехорошо греческими и пунийскими словами в душу-мать помянула по-соседски матрон Кальпу и Абинну, у кого живет и столуется упрямый глупец, упорно не желающий следовать человеческой природе и мужскому началу.
— …Вокруг оглядись, человек-упрямец!..
Гляди не гляди, но то, как городские мальчишки после игры в гарпастон частенько стремятся к уединению в укромных местах вдвоем, втроем, Аврелий не раз замечал. И Кабиро иногда к кому-нибудь из них благосклонно присоединялась третьей или четвертой. Раз так, то рукоблудие они полагают освященным Великой матерью богов, как скоро их плоти дарует блаженное прикосновение ее богоравная жрица, благотворят ее руки, губы, язык…
Насколько хорошо Кабиро способна понять его чувства и невысказанные мысли, подросток Аврелий не знал. Она ведь не друг Паллант, кому можно доверительно рассказать все на свете. И объяснять ей, рассказывать все обо всем и о себе стеснительно и неудобно.
В такой вот связи Аврелий нисколько не позабыл, в память ему каменными древнееврейскими скрижалями врезались слова отца, некогда наставлявшего его против мальчишечьего рукоблудия с поднимающимся пенисом. А какая разница, сам ли это ты забавляешься с этой самой игрушкой в промежности или же тебе это делает кто-то другой? В любом случае результат может оказаться очень плачевным, а возмездие неразумному постыдным и непереносимым.
Патрику стоит верить, если молодые женщины к нему так и льнут… Наподобие Руфины, бесстыжей сестры Скевия, на юге тайком бегавшей к отцу в степь… И ночью и днем они готовы подобающе ублажать его, когда б условия и условности позволяли.
Коль скоро отец на полном серьезе говорит, что у тех мальчишек, кто почасту и помногу предается рукоблудию, вырастает женская промежная шерсть между пальцами, то это вполне может случиться. А как, скажи на милость, тогда считать, растопыривая пальцы? Все сразу увидят, какой ты есть рукоблудник и баловник.
И потом, чего никак тебе не позабыть, истинно многознающий Скрибон в школе на особом уроке для минористов приравнял рукоблудие к содомскому греху. Подробно, последовательно и логично растолковал с комментариями, примерами и цитатами из натурфилософских и христианских писаний, не стесняясь в выражениях.
Сначала мальчишка ублажает себя в одиночку, затем на пару с товарищем, потом они это делают друг дружке, после же суют себе во все дыры, спереди и сзади. Куда ни попадя в темном безрассудстве похоти! Блудят, стервецы, подобно мужчинам из библейского Содома, какие порочно и греховно совокуплялись с женщинами, рабынями и животными в задний проход.
— …Способом заднего тыка орудовали, греховодники! Оттого и мужскому роду сладострастно влагали в седалище, — Скрибон совершил округлое движение ферулой и ткнул куда-то в стену за своей спиной.
— Поэтому, — просвещал учеников профессор Скрибон, — по причинам порочных совокуплений огнем небесным покарал Господь заднеприводных жителей и жительниц Содома. Всех истребил за исключением праведного Лота, его жены и дочерей, входивших в соитие подобающим правильным образом только лицом к лицу…
Сверху переднее соитие с Лотом Бог его чадам дозволил для детородства и продолжения в потомстве Авраамовом, по словам Скрибона. Но, когда Лотова жена едва попыталась встать передом к погибельному содомскому городу, а к законному мужу задом, как Бог тотчас обратил ее в соляной столп.
Тут тебе риторическая аллегория, — учит профессор грамматики Скрибон, — смешанная с подлинной исторической правдой. Блаженны жена и муж, боящиеся воли Господней…
Кабиро о таком не расскажешь… Христиан и христианства она и без того страшится, если думает, будто еврейские патриархи, христианские апостолы и святые сплошняком зловредные колдуны и злые волшебники. Дескать, через 20 лет исполнится пророчество, христианская вера сгинет, когда пройдут 365 лет ее существования, заговоренных колдовством могущественного чародея Петра Галилеянина. Тогда и наваждение и чары исчезнут… Вот увидишь…
Тем временем Клодий Скрибон языческие басни и мифы непреклонно осуждает, порицает. Однако изучать их заставляет, если вокруг обитают неисчислимые сонмища неверных язычников, а в поэтах Божьей милостью живет сам Бог. Вот, чтобы это разглядеть, надо научиться их правильно, со смыслом праведно читать и в святости веры комментировать. В числе прочих и языческих философов.
Особенно Скрибон подверг гневному осуждению блудословного Платона Афинского, кто бесстыдно превознес и восхвалил мужеложство вкупе с юношеским рукоблудием. Худо бывает, когда разумные в иных отношениях знаменитые мужи непотребство прославляют и освящают собственным именем. Потому-то похоть мужчины к мужчине называют платоническим эросом-любовью…
— …Кого из учеников нашей славнейшей грамматической школы уличат в так называемой якобы возвышенной платонической любви, тех греховных нечестивцев-мужеложцев неминуемо, неизбежно ожидают строжайшее наказание и позорнейшее отчисление, мои юноши, подающие глобальные надежды, — грозно возвестил профессор Клодий.
При этом он размашисто очертил ферулой воображаемый солнечный круг и рьяно вонзил в его центр непререкаемую точку:
— Этим знаком грех побеждаем!..
Что это у него могло означать, о том и помыслить невозможно, если малые учебные и дисциплинарные прегрешения караются более чем сурово и неумолимо, — содрогнулся от ужаса Аврелий, припомнив, как испуганно Паллант когда-то сказывал новичкам об условных жестах Клодия и последующем безусловном наказании в клауструме — во внутреннем дворике между портиком атрия и садом.
Стоит Клодию чуть коснуться ферулой запястья нерадивого ученика, того ждут шесть ударов розги, дотронулся до предплечья — получи целую дюжину. Дважды похлопал по плечу нарушителя учебных порядков — две дюжины ударов.
Возможны и другие вариации, всякие двойные и тройные розги. Весь порядок и набор наказаний никто доподлинно не знает, кроме Пуэра Робустуса, который тенью ходит за Клодием и запоминает, карнифекс, сколько и кому.
Пятой ему в пятак, крокодилу злобному!
Самое страшное — отхватить намного больше, чем рассчитываешь. В таком изуверском случае пытка растягивается до бесконечности, а Клодий, как назло, никуда не торопится по окончании уроков.
Среди школяров со времен Скрибона Старшего экзекуция в клауструме получила невеселое название «икарийских воздушных игр», потому что подвергаемые порке должны были донага снимать платье; секли их не только по спине, но и по ягодицам.
У Клодия же все только в набедренных повязках. Он говорит: неприкосновенное седалище суть орудие труда и рабочий инструмент для тех, кто прилежно, чутко, усидчиво изучает свободные науки и искусства..
В остальном процесс и процедура наказания у Скрибона Младшего ничуть не изменились. Их он, злодей, по-прежнему именует катомидиями.
Все так же один ученик садится на колени, второй — напротив него. Первый кладет себе на плечи руки подвергаемого сечению розгами, другой взваливает на плечи его ноги. Растянули провинившегося… И полетел мальчик Икар вверх и вниз, когда Пуэр Робустус по взмаху ферулы Клодия начинает наголо отделывать спину висячего.
После тот, кто выгибался между двух живых опор, поднимается с земли и сам становится икарийской подставкой для нового, подвешенного в воздухе мученика. Он-то уж прочувствовал на своих плечах, каково приходится тому, кого истязает Робустус…
Меньше одной тройки у Скрибона редко бывает в ежедневной раздаче руководящих обучающих указаний профессорской ферулой. Ну, а если случайно не хватает повинной поддерживающей спины, то ставят скамью. Хватайся покрепче за нее руками, как однажды вытерпели Аврелий и Скевий за озорство с лягушками в последний день перед пасхальными каникулами…
Ту детскую дурость Аврелию припоминать тотчас расхотелось. И досталось им поделом. Так что самим на себя надо обижаться, а это глупо и по-детски…
Эх знать бы, не таит ли на него обиду Кабиро? Или Паллант? Ему о ее женской заботливости не очень-то расскажешь. Разве что со Скевием поделиться? Посоветоваться: может, не надо соглашаться на приглашение Кабиро, предложившей незаметно отвести его в запретный для школяров лупанар. Мол, ей это запросто, если ему по-христиански нельзя принять помощь от маленькой жрицы древних богинь.
Жаль, оба обормота уехали…
— …Должно быть, тебе от естества нравятся зрелые женщины с плодотворными чреслами и пышными грудями? — уже перестав сердиться, озабоченно свела брови Кабиро. — Пошли, близко познакомлю кое с кем, хоть через три дня, после праздничного ристания в цирке.
Вот увидишь, у нас тебя к совершеннолетним мужчинам девушки приобщат в лоне своем, нежно и умело. И о деньгах, мальчик мой, забудь, если я прикажу, и Великая матерь Кибела того желает.
Скажу тебе, мне самой становиться взрослой девушкой, богиня до срока не дозволяет. Вот увижу ее в прорицающем сне, тогда моя первая месячная кровь отворится. К познанию дальнейших божественных таинств меня начнут готовить. Груди и бедра станут подрастать, созревать до плодоносных женских размеров…
КАПИТУЛ XIV
Год 1122-й от основания Великого Рима.
4-й год империума Валентиниана, августа и кесаря Запада. 4-й год империума Валента, августа и кесаря Востока.
Год 368-й от Рождества Христова.
Мадавра и Тагаста в ноябрьские иды.
На осенней побывке в родной Тагасте Аврелий не позабыл о Кабиро, сравнивая ее с Моникой. Достоверно, всем женщинам от мала до велика свойственна материнская забота о тех, кого они осознанно или непроизвольно по-женски пожелали приобщить к близким и дорогим себе людям. Вот и Моника встретила почти взрослого, возмужавшего вдали от нее сына с огромной заботливостью и радостной предупредительностью.
В то же время отец, какой-то сникший и потускневший после постигшей его на юге разорительной неудачи, печально от него отдалился. Зато мать, всячески показывающая, насколько она гордится умным, крепким, рослым первенцем, нежданно стала ближе и родней.
О новорожденной дочери, о младшем сыне матрона Моника и думать забыла, сколь скоро к ней вернулся старший. К ее приятному удивлению, он предстал перед матерью семейства чуть ли не совершеннолетним серьезным донельзя молодым мужчиной.
В четырнадцать лет о многом можно всерьез призадуматься, немало понять, если не словесно, то неизреченно и чувственно осознать. Оказывается, его мать вовсе не грозная пожилая матрона, направо и налево щедро раздающая затрещины и оплеухи всем чадам и домочадцам, но красивая и привлекательная во цвете зрелой женственности довольно молодая женщина, какая только-только перешагнула рубеж тридцатипятилетнего возраста.
Ему даже захотелось как-нибудь воочию убедиться, сколь пышными и округлыми выглядят ее обнаженные женские груди без утесняющей их кинкты и складок широкой столы. Но это непристойное пожелание от тут же отогнал прочь, припомнив рассказы римских историков о разнузданном кесаре Нероне и его отношениях со своей родительницей Агриппиной, кого он распорядился умертвить, а потом ощупывал ее нагое тело с развязными прибаутками.
Старинными историями и правдивыми сказаниями историков-анналистов Аврелий устремленно увлекся лишь в этом году. Тогда как заядло читать эпические и прочие артистически измысленные повествования он начал уж давно… должно быть, с позапрошлого лета, когда пригласили играть в гарпастон против чужих школяров-грамматиков.
После же у него учеба пошла как-то легко и гладко, словно по имперским военным дорогам, какие на века, утверждая и подтверждая власть Великого Рима, замостили ровными каменными плитами легионеры и рабы. Будь то с запада на восток, вперед ли назад, возвращаясь к повторению пройденного, с юга на север и обратно, по проторенным путям школьных знаний желательно двигаться вширь и вглубь в различных направлениях и осмыслениях усваиваемого учебного материала.
Жизнь учит и школит несколько иначе; ее непроизвольная случайная школа зачастую вынуждает человека бессмысленно кружиться по разбитым дорогам житейских испытаний и передряг. Вне путеводительства и произволения свыше извилисты и тернисты людские пути от рождения до смерти, порой, кому-то кажется, ведущие в никуда, в пустоту, в забвение, облыжно обещающее будто бы вечный кладбищенский покой.
Показалось ли это Аврелию или же оно так произошло по сути дела, но его отец очутился между идоложертвенным камнем и святыней, в каком бы синкретическом вероисповедании их ни принимать.
Патрик не то чтобы постарел и близкой смерти испугался, но смотрится каким-то опустошенным, вдруг лишившимся малой, но существенной частицы мыслящей души. Будто его нетленная душа, однажды ненадолго покинув тело, вернулась в него в неполном, в недостаточном образе-отражении то ли своей божественной первопричины, то ли сатанинской сути отпавшего от Бога злого духа, ее терзающего.
Внешне, в темпераменте и в поведении Патрик вроде бы не очень изменился. По крайней мере, присущего ему скептического жизнелюбия, саркастического отношения к жизненным невзгодам и общежитейским установлениям до конца не утратил.
К большому неудовольствию Моники, за семейным праздничным обедом по оказии четырнадцатилетия и юбилейного наречения именем первенца он громогласно потешался над тем, почему в угоду благочестивым деловым партнерам и докучным набожным родственникам приписался в христианские катехумены.
Бог с вами, ближние наши! И Никейский символ веры он без остатка разделяет, в чем поклялся всеми лебедиными или страусиными яйцами, снесенными Ледой. Разрази его Юпитер, если это не так, громом и молнией, или золотым дождем, не сходя с места и не выходя из-за стола…
Кое-какую крепость духа и цельность натуры отец все же таки себе возвратил, не глядя на то, что в один ненастный несчастный день холодной февральской весной потерял едва ли не целиком патримониальное денежное состояние и наследственное от бабки Ливиллы достояние, опрометчиво вложенные в колонии за южными порубежными горами. Один неукротимый набег разбойных номадов, и у него остались лишь горелые головни на месте усадебных построек, а рядом — истыканные стрелами и копьями тела его вооруженных работников и стражников. Колонов-земледельцев, рабов, табуны коней дикие черные кочевники угнали далеко в степи на юго-восток за безбрежные Ливийские болота.
От общесемейного и без того незначительного благосостояния уцелела всего-навсего материнская контрактная часть в виде дома в Тагасте, а также немногих скудных югеров виноградников и оливковых плантаций за городом. Так Моника обрела хозяйственную власть, но к неудачливому мужу стала относиться с еще большей нежностью и любить его крепче. Именно для него она прихорашивалась, расцвела грешным делом и телом, — позднее сделает безошибочный вывод Аврелий Августин.
Вместе с тем Моника неустанно молила Бога за беспутного супруга, все еще остававшегося наполовину суевером-гентилем, истово просила укрепить его дух и направить на христианские пути истинные.
Для истого христианина Ваги Романиана, дельного партнера Патрика, южные потери и убытки оказались не столь ощутимыми в совокупном семейном богатстве и благоденствии тагастийских Романианов. Хорошенько подумав, он с лета принял обязательство платить за дорогостоящее обучение Аврелия в грамматической школе профессора Скрибона.
Знает ли неоскудевающая правая рука дающего, чего делает, что подсчитывает левая? — вопрос еще тот как в логиях Христовых, так и в экономической жизнедеятельности человеческой. Возможно, Вага Романиан чувствовал в какой-то мере вину за полное разорение, постигшее Патрика Августина. Ибо многим земнородно верующим желательно откупиться от Бога и от собственной совести большим или малым подаянием.
Вероятно, таким подобием он учинил внеочередные каникулы двум школярам-грамматикам. Злоехидного Клодия так крестным знамением осенил, что тот им у ворот школы доброго пути пожелал с поклоном.
Помимо того, видимо, благовестно или же ввиду иных предпосылок Вага не пожелал сказать Патрику, что намерен выдавать его сыну Аврелию деньги на юношеские обиходные расходы. Притом в равной доле со Скевием!!!
О том он их обоих, экспромтом радостных каникуляриев, строго-престрого предупредил по дороге из Мадавры в Тагасту:
— Не то многое изменится к худшему, мои мальчики… Без малейших вам в дальнейшем добра и добросердечности…
Отрадному весомому серебряному аргументу и стар и млад повинуются. Прежде всего те, у кого легковесное золотое имя, а серебро никогда раньше не утяжеляло благоприятно пояс туники. Тем приятнее будет внести личную долю в общий товарищеский пекуний.
— …Дома вспоминаешь о школе, если в школе тебе никто и на минуту не позволит припомнить о родительских ларах, пенатах и кумирах. Не то худо будет, — шутливо пригрозил друг Аврелий другу Палланту и оба покатились со смеху.
Действительно, всякому хвастунишке каникулярному можно без помех тщеславно, красноречиво бахвалиться, чему и как учат в грамматической школе у профессора Скрибона. О чем речь, если его лучший ученик, первый среди сверстников небезызвестный майорист Аврелий Августин два с лишним года превосходно постигает науки в городе Мадавра!
Учился Аврелий и взаправду неплохо, ему было о чем не кривя душой рассказать матери с отцом. Хотя больше всех его рассказы слушала Моника, когда отец почасту где-то пропадал в городе.
В Мадавре Аврелий нередко засыпал с приятным ощущением, что завтра ему снова в школу, где он опять отличится с наилучшей стороны, узнает бездну нового, заслужит одобрение наставников, зависть или восхищение соучеников.
Ученье — свет, а для неученых — тьма кромешная и скрежет зубовный. В то же время о палочном аргументе лучше не вспоминать, чтобы тебе приснился хороший сон, обещающий удовольствия и блаженство наяву.
Рукоплещите, друзья, наша комедия только начинается в благородном движении от малого узнавания к величайшим познаниям…
Клодий Скрибон не слишком преувеличил, театрально расхваливая любимого ученика Аврелия денежному благотворителю Ваге Романиану, который впоследствии на славу постарался для почтеннейшей матроны Моники воспроизвести профессорские речи-элогии близко к оригиналу. Тем интереснее слушать преисполненной гордостью матери умнейшего и образованнейшего сына.
В собственный черед и Аврелий расстарался, рассказывая матери, где и насколько хорошо он овладевает грамматическими науками. Никогда не бывавшая в Мадавре Моника, потому что, согласно поговорочной учебной хрии из Дионисия Катона, всю жизнь дома сидела, шерсть пряла, без труда смогла представить просторный школьный атрий профессора Клодия.
По четырем углам вытянутого в длину атрия под полотняными навесами сидят на скaмеечках группы старших и младших учеников. Между ними и небольшим центральным имплювием, облицованным красным нумидийским мрамором, вкруговую прохаживается сам профессор в снежно-белой тунике, изящно помавая тонкой ферулой и длинным свитком папируса. Так Клодий образцово декламирует для всех какой-либо избранный фрагмент из Горация, Овидия или еще из какого-нибудь классического поэта. Иногда он останавливается или прямо на ходу комментирует зачитанное. Ученики сидят не шелохнувшись, а три раба-помощника замерли, словно статуи, у портика с оштукатуренными под мрамор колоннами.
Таково утреннее рассветное начало последующих занятий, случается, продолжающихся до заката, если требуется подготовить задание назавтра.
С утра и до полудня самые старшие, заканчивающие четырех- и пятилетнее обучение в грамматической школе занимаются самостоятельно. Зачастую они в скриптории библиотеки усердно заняты различным переписыванием с книг на таблички учебных заданий. Тем временем Клодий и два его греческих помощника — Кастор и Поллукс проводят занятия со средними и младшими учениками, разделенными по возрасту и успеваемости: a) малыши; b) те, кто постарше, c) подающие добрые надежды, включительно некто Аврелий Августин.
Когда холодно, все четыре группы перебираются в тесные аудитории в двухэтажных строениях по обе стороны от северных ворот школы, ведущих на улицу. На втором этаже, соединенном крытым переходом-галереей, пиршественный наградной триклиний и большая школьная библиотека, которой заведует Кастор. Там же, наверху размещаются с пожитками оба ученых грека и толсторукий, сторукий, стоглазый монстр Пуэр Робустус — старший помощник Клодия.
Справа от учебных аудиторий начинается высокая глухая стена, увитая плющом. Она отделяет школу от соседских владений. Слева на западе выстроено двухэтажное жилое крыло для семьи Скрибона и его многочисленных рабов. К нему примыкают торговая контора и книжная лавка, тоже принадлежащие зажиточному Клодию Скрибону.
За южным портиком атрия находится прекрасный, огромный для города тенистый фруктовый сад, занимающий не меньше югера. Возле торцовая, вымощенная красным кирпичом палестра. Гулять и играть там разрешается только хорошим, преуспевающим в науках ученикам.
О клауструме, откуда можно пройти в сад и палестру, Аврелий ничего матери не говорил. С какой это стати поминать лишний раз плохое? Учиться-то он хорошо, и даже превосходные оценки и награды для него не редкость.
Совсем недавно он был увенчан лаврами и награжден искренними рукоплесканиями соучеников за выразительную и красноречивую пространную парафразу о римской богине Юноне, разгневанной и опечаленной тем, что она не может вспять повернуть от Италии царя тевкров.
Давешнюю декламацию Аврелий матери полностью не пересказывал, но специально для нее ядовито и выпукло сатирически посмеялся над слабосилием демоницы, какую суеверно и суесловно почитают полоумные язычники.
О частом общении со жрицей фригийской Кибелы маленькой Кабиро, он ни полслова не сказал Монике. Ни впрочем, ни между прочим о том язык не распускал. Зачем матери понапрасну тревожиться за благочестие сына? Если Клодий четко придерживается христианского вероучения, то Монике беспокоиться незачем, — вопросительно и утвердительно закруглил и составил ораторский метаплазм Аврелий.
Как там у Горация в «Сатирах»? О, вспомнил! Пускай верит иудей Апелла… Цитатами из классиков тоже полезно уточнять, уснащать твои мысли, пусть тебе неизреченно и эмфатически…
Грамматическими успехами сына Моника громко восхищалась, но не без внутреннего трепета и смешанных ощущений, мысленно ставя себя на его место. Как-никак незабываемое почтение к ученым знаниям, ей внушили ферулой и розгами. И о том, как же трудно, больно и оскорбительно ее, большую одиннадцатилетнюю девочку, учили и научили-таки читать, писать, считать, она кое-что помнила.
У нее уже женские дела и тайны начались, но ее все еще продолжали в голом непристойном виде выставлять на позор и постыдно сечь розгой по ягодицам и бедрам. Так однажды и потекло обильно по ногам, а учитель-оскорбитель сам дурак испугался. После чего из той поганой и скандальной школы грамоты родители ее забрали благонамеренно…
Вчерашнее зло порой вполне может обернуться завтрашним благом в предначертанном и преднамеренном благоволении Господнем. Поэтому простым и слабым умам свойственно забывать плохое либо приукрашивать его ложной памятью о том, что было, чего не было, но чаще всего не происходило вовсе или же случилось далеко не так, как хочется им помнить.
В народе, понимаемом как простонародье, изустные небылицы и небывальщина издавна пестро перемешиваются с былинами и мифами-сказаниями. А на поверку оказывается: первое, второе, третье, четвертое и так далее по жанровому разнообразию — суть ни много ни мало анахронически фольклорные и вульгарные вымыслы, досужие выдумки, сумасбродные дурацкие басни и побасенки, где доискаться истины не удается даже путем весьма кропотливых и канительных герменевтических исследований или натурфилософских изысканий.
Гораздо разумнее в познавательных и образовательных целях иметь дело с литературными профессиональными произведениями, положенными на письмо, нежели с безграмотными устными измышлениями невежественной толпы болванов и профанов. Что может быть глупее и бездарнее сумасбродного оксиморона «народная мудрость» или же безумной вредоносной катахрезы «народ всегда прав»?
Благородной древнеримской матроне Монике Августиане гносеологические доводы и политические рассуждения из второй части «Поэтики» Аристотеля Стагирита были неведомы. Не знал о них в ту пору и школяр-грамматик Аврелий. Однако в обоюдном подразумевающемся понимании мать и сын воспринимали в образе должного — испокон веков истинная образованность постигается изучением литературы, какая в те античные времена нисколько не подразделялась на беллетристическую и научную.
— …Слова и звуки — количественные и качественные знаки вещей. Следовательно, грамматическое образование начинается с лекцио, как нам рекомендует знаменитейший и ученейший Марк Варрон. Сначала что-либо пытаешься прочесть, либо тебе это зачитывают в готовом ораторском виде.
Затем наступает черед эмендацио, когда, разделяя слитные строки на слова и объединяя фразы, постигаешь авторскую мысль, мысленно вопрошаешь или утверждаешь, восклицая, выделяешь голосом и ударением мысль, краткость и долготу звуков, проверяешь правильность написания, сверяешься с другими кодексами того же автора, коли они есть, или так нужно для обучения, — с колоссальным удовольствием многоречиво просвещал мать Аврелий.
— После же настает час для подробного энарацио-комментария, а за ним следует завершение словесной аналитической работы путем вынесения итогового грамматического вердикта-индикиума.
У Клодия учебные отрывки каждый в группе читает по очереди, повторяя предыдущего или зачитывая другие фразы и мысли, какие мы размечаем звездочками и птичками у себя на табличках.
Иногда какого-нибудь ученика Клодий или его помощники-греки вызывают к имплювию для общего чтения-декламации перед старшими и младшими. Круглый маленький водоем в центре учебного атрия у нас в шутку называют Одеоном. Все подсаживаются со своими скaмьями поближе по знаку ферулы Клодия.
Косноязычного, читающего без смысла и понятия, осыпают насмешками, а красноречивого, того, кто хорошо вдумался и вник в авторские строки, достойно вознаграждают аплодисментами.
Младшим Клодий не дозволяет комментировать, подробно обсуждать и строго осуждать различных авторов и классиков-язычников. Меж тем от старших он этого требует в обязательном порядке, — тактически и стратегически особо со значением и ударением уточнил Аврелий для благочестивой матроны Моники.
В зрелости святой отец Августин исповедально и воистину во многих смыслах откровенно-апокалиптично напишет о той полуязыческой юности в бытность его школяром-грамматиком:
«…Что мне нынешнему с того, когда мне за декламации мои рукоплескали больше, чем многим сверстникам и соученикам моим? Разве все это не дым и ветер?
Не было, что ли, других предметов, кабы упражнять мои способности и мой язык? Славословия Тебе, Господи, славословия Тебе из Писания Твоего должны были служить опорой побегам сердца моего! Его не схватили бы пустые безделки, словно жалкую добычу крылатой стаи. Не на один ведь лад приносится жертва ангелами-отступниками.
Удивительно ли, что меня уносило суетой и я уходил от Тебя, Господи, во внешнее? Мне ведь в качестве примера ставили людей, приходивших в замешательство от упреков в варваризме или солецизме, допущенном ими, когда они в сообщали о своем хорошем поступке. И гордившихся похвалами за рассказ о собственных неблаговидных похождениях, коли он велеречив и украшен, составлен в словесах верных и грамматически согласованных…
Посмотри, Господи, и терпеливо, как Ты и смотришь, посмотри, как тщательно соблюдают сыны человеческие правила, касающиеся букв и слогов, полученные ими от прежних магистров речи, и как пренебрегают они от Тебя полученными непреложными правилами вечного спасения.
Ежели человек, знакомый с этими старыми правилами относительно звуков или обучающий им, произнесет вопреки грамматике слово «homo» без придыхания в первом слоге, то люди возмутятся больше, чем в том случае, когда б, вопреки заповедям Твоим, он, человек, станет ненавидеть человека.
Ужель любой враг может оказаться опаснее, чем сама ненависть, бушующая против этого врага? Можно ли, преследуя другого, погубить его страшнее, чем губит вражда собственное сердце?
И, конечно же, знание грамматики живет не глубже в сердце, нежели запечатленное в нем сознание, что ты делаешь другому то, чего сам терпеть не пожелаешь.
Как далек Ты, обитающий на высотах в молчании Господи, Единый, Великий, посылающий по неусыпному закону карающую слепоту на недозволенные страсти!
Когда человек в погоне за славой красноречивого оратора перед человеком-судьей, окруженный толпой людей, преследует в бесчеловечной ненависти врага своего, он всячески остерегается несчастной обмолвки и вовсе не остережется в неистовстве своем убрать человека из среды людей.
Вот на пороге какой жизни находился я, несчастный, и вот на какой арене я упражнялся. Мне страшнее было допустить варваризм, чем остеречься от зависти к тем, кто его не допустил, когда допустил я. Говорю Тебе об этом, Господи, и исповедую пред Тобой, за что хвалили меня люди, одобрение которых определяло для меня тогда пристойную жизнь…
Все это одинаково: в начале жизни — воспитатели, учителя, орехи, мячики, воробьи; когда же человек стал взрослым — префекты, цари, золото, поместья, рабы. В сущности, все это одно и то же, только линейку сменяют тяжелые наказания.
Когда Ты сказал, Царь наш: «Таковых есть царствие небесное», Ты одобрил смирение, символ коего — маленькая фигурка ребенка.
И все же, Господи, совершеннейший и благой Создатель и Правитель вселенной, благодарю Тебя, даже если бы Ты захотел, чтобы я не вышел из детского возраста.
Я был уже тогда, я жил и чувствовал; я заботился о своей сохранности — след таинственного единства, из которого я возник. Движимый внутренним чувством, я оберегал в сохранности мои чувства: я радовался истине в своих ничтожных размышлениях и по поводу ничтожных предметов. Я не хотел попадать впросак, обладал прекрасной памятью, учился владеть речью, умилялся дружбе, избегал боли, презрения, невежества.
Что не заслуживает удивления и похвалы в таком существе? И все это дары Бога моего; не сам я дал их себе; все это хорошо, и все это — я.
Благ, следовательно, тот, кто создал меня, и сам Он благо мое, и, ликуя, благодарю я Его за все блага благодаря которым я существовал с детского возраста. Грешил же я в том, что искал наслаждения, высоты и истины не в Нем самом, а в созданиях Его: в себе и в других, и таким образом впадал в страдания, смуту и ошибки юных лет…»
Ни в Мадавре, ни в Тагасте оснащенный кое-какими книжными грамматическими и просто житейскими познаниями благоразумный Аврелий, как «юноша, подающий добрые надежды» ни с кем не делился подробностями близких сношений с языческой жрицей Кабиро. Ни к чему ближним его о том знать. Не то им же хуже будет…
Паллант и Скевий — оба правоверные христиане ничуть не меньше профессора Клодия, матрон Кальпы и Абинны, экклесиально не сомневающихся в фамильной наследственной приверженности Аврелия к христианскому вероучению. К тому же катехумену многое чего позволяется, если мягкосердечная Абинна Диаконисса со вздохом сожаления говорит своей сестре Кальпе:
— Ах, оставь его в покое, он ведь еще не окрещен…
Наверное, оттого и Скрибон все еще пребывает в катехуменах, чтобы не в меру набожные единоверцы не имели повода походя вмешиваться в его преподавание грамматики на классическом, утвержденном на века учебном материале, неотъемлемо включающем в себя произведения языческих поэтов, историков, философов. Ибо исполнение превыше материи, как написано Овидием в «Метаморфозах» о божественном дворце блистательного Феба, сверкающем драгоценнейшими украшениями из золота, серебра и слоновой кости.
Исида и Кибела в пантеоне древних богов тоже занимают подобающее им почтенное место. Потому-то маленькая жрица Кабиро пользуется огромным уважением среди подростков и очень многих из тех, кто значительно старше ее по возрасту, но не по статусу и близости к таинствам Великой матери.
Вдобавок не такая уж она нынче маленькая, пускай и в росте не очень прибавила по сравнению с прошлогодней осенью. По всей видимости, пророческий сон посетил ее в конце прошлого года. К исходу весны она даже в женских покровных одеяниях выглядит настоящей Венерой, рожденной в пене морской в самом начале расцветающей девственной юности, — косвенно процитировал Аврелий знаменитого Апулея из Мадавры.
Апулеевские «Метаморфозы» в школе у Скрибона не изучают и не затрагивают, но эту книжку ему принесла Кабиро из домашней библиотечки. Заодно и посмеялась беззлобно над ним и его именем, назвав «золотым ослом», когда он рассказал, что о злоключениях Лукия начал по вечерам тихонько читать Палланту и Скевию. А те сидят и слушают его, раззявив рты, и слюну звучно глотают в отдельных моментах…
С «Флоридами» за авторством их знаменитейшего соотечественника Скрибон их еще только обещает познакомить в отрывках. Поэтому Аврелий настоятельно попросил друзей не распространяться об этом домашнем общеобразовательном лекцио. Им и объяснять много не надо. Всякий знает: опережающего и свободного чтения профессор Клодий не любит, не одобряет… Не то худо будет…
Он вон как скрутил и ущемил за оба тестикула Пуэра Робустуса! Об этом факте и том еще акте с восторгом рассказал Паллант по возвращении товарищей из Тагасты. Главная животрепещущая школьная новость состоит в том, что Клодий предлагает Робустусу в обмен на гражданскую свободу влезть в сверхтяжелое ярмо, женившись на его конопатой, толстомясой, чудовищно крутозадой дочери.
— …Анния как пить дать собирается в ближайшие полторы-две луны разродиться не иначе как слоном, неизвестно от какого слонюги-отца. Еле-еле таскает титанически брюхо и беременные груди-тыквы. Каждая тыковка не меньше колеса дерьмовозки городских рабов-черпальщиков, выгребающих наше добро из отхожего школьного места.
Раньше ей слоновья задница особо не давала в садовую калитку войти, выйти… Подобру-поздорову… Теперь же Скрибоновой слонихе и боком туда протиснуться невмочь. Две здоровеннейших купы спереди не позволяют. Сам из-за угла палестры видел: попробовала — не вошло, не вышло. Еще немного, и застряла бы в как в анусе непроходимой затычкой.
Все в школе голову ломают, гадают, каким же весенним ветром или плодотворящим дождичком ей этакое брюшко и вымечко надуло передним тыком, видимо, на загородной вилле, откуда ее недавно рабы очень втихомолку привезли под покровом ночной темнейшей темноты.
Хотя вряд ли в этаком тыквенном оплодотворении как-то замешан Пуэр Робустус. Ходит он нынче туча тучей, в клауструме сечет рассеяно, вполсилы, вполруки и все думает, мыслит, размышляет… Потому что блaгoтворящий тесть Скрибон его тяжко озадачил хитромудрым софистическим условием в брачном контракте. Если когда-нибудь нашему мыслителю Робустусу взбредет на ум нелепое решение дать развод заплесневелой полнолунной роже Скрибоновой дочери-слонихи, то бедолага сызнова возвращается в рабское состояние к Скрибону или к Скрибонову сынку-наследнику, который учится риторике в Риме.
Мой Оксидрак говорит: в юридически оформленном перечне приданного дочери, нагулявшей беременное пузо, Скрибон богато искушает Робустуса книжной лавкой и виноградным имением. Срок разрешения от срамного бремени неуклонно подходит, и время Пуэра Робустуса поджимает. Не объявит себя вовремя мужем и будущим отцом законорожденного отпрыска, то вовек не видать ему ни вожделенной свободы, ни двадцати югеров отрадно ухоженного виноградника, ни книжной лавки, приносящей немалый доход. Поскольку его заменит запасной Скрибонов вариант — грекулюс Кастор Либрарий.
Чуть позже Аврелий узнал от Кабиро другие подробности этого каверзного дельца. К ней Кастор бегал за наставлением, как к прорицательнице, что же ему делать, как быть. А Кабиро потребовала от Аврелия и пронырливого педагога Оксидрака дополнительных сведений, прежде чем разрешить греку увидеть в храме Великой матери пророческий сон и обрести толкование сновидения.
Пока же Аврелий вместе со Скевием слушал смешной до невозможности рассказ серьезного Палланта и заходился от хохота. Конфуз и смятение заклятого недруга Робустуса его очень забавляли. Особенно, когда б сравнить занятные женские стати нареченной невесты Пуэра Робустуса — луноликой шестнадцатилетней дочурки Скрибона с другими женщинами и девушками, Аврелию знакомыми вблизи или на почтительном удалении.
Среди них, сама собой, первой была маленькая жрица Кабиро, одновременно очень близкая и в то же время страшно далекая, ему совершенно недоступная юная женщина.
С февральских календ по майские иды Кабиро со жрецами совершала паломничество по суше и по морю в далекий азиатский город Пессинунт. Так что в гарпастон у Болотных холмов играли без нее. Потом ей было все свободные дни недосуг, и к заядлым игрокам она присоединилась в какой-то общегородской фестивус, когда у Аврелия заканчивались июльские каникулы.
Примечательно, как от длинной паллы и многоскладчатой столы она мигом избавилась. Но расставаться с тонкой интерулой, округло приподнятой холмиками грудей, не торопилась, задержавшись женским взглядом на промежном мужестве Аврелия, быстро разоблачившегося, не долго думая о чем-либо томительно-волнующем подростка в его возрасте. Затем и сама Кабиро одним божественным поворотом тела спустила с плеч нижнюю короткую тунику, упавшую к ее ногам вместе с лентой, поддерживающей груди, и набедренной повязкой…
Аврелий в тот момент почтительно отвернулся, как, впрочем, и все другие голые мальчишки, смотревшие куда угодно, но только не на обнаженную женскую плоть и утонченную девичью стать снизошедшей к ним богоравной девственной жрицы Великой матери богов. В игре они и раньше-то пытались уклоняться от неизбежных жестких физических столкновений с маленькой девчонкой Кабиро, теперь же вовсю усердствовали, чтоб никак дерзновенно не коснуться ее близкого нагого тела.
Однако, как прежде, ее искусительные формы женственности были им отрешенно и отдаленно безразличны. О женской плоти старой мудрой нимфы в юном теле они и думать не смели. Не имелось о том у них сознательных мыслей, подспудных чувств или неосознанных телодвижений мужского начала. И дудки вам! Не то сами знаете, что с дерзким святотатцем может злоключиться от твердокаменных пальцев разгневанной богини Кибелы.
Суеверным язычником Аврелий ни в коей мере не был. И потому по ходу подвижно-оживленной игры в мяч он украдкой, деликатно, но вполне физиологически, всесторонне рассмотрел обновленную, обнаженную перед его внимательными изучающими быстрыми взглядами верхнюю и нижнюю женственность нагой нимфы.
По прошествии зимы и весны ее маленькие крепкие подвижные груди приятно округлились в нижней их части. Так что отныне алые кружочки и вздернутые, разгоряченные игрой сосцы смотрят чуть вверх. Былая золотая шерстка понизу живота, на округлом двойном цветке девичества и в помине не наблюдается. Ни спереди, ни тебе сзади. И чресла приобрели соблазнительно зрелые выразительные женские формы…
Неотрывный мужской интерес мальчика Аврелия женщина Кабиро не могла не отметить. Она вышла из игры и повелительным безмолвным жестом пригласила следовать за ней.
Обнаженная жрица изящным танцевальным движением, плотно сжав скульптурные бедра, плавно опустилась на расстеленную по траве тунику, целомудренно скрестила вытянутые стройные ноги и молча указала Аврелию присаживаться бок о бок с ней. Спустя минуту-другую, нараспев в тональности торжественного гимна богам произнесла:
— Великая матерь милостиво пожелала мне созревать и плодоносить…
Внезапно смолкла и вдруг чисто по-детски или доверительно по-дружески интимно пожаловалась:
— Очень больно, знаешь, когда рабыни щипцами по шерстинке дергают с вульвы, как курицу живьем ощипывают. Говорят, подлые, это не больнее, чем рожать в муках…
Хотя и эту боль надо претерпеть, чтобы содержать в опрятности женственное устье накануне ежемесячных очищений лона у каждой живородящей женщины. Сходит месячная кровь, а с ней и старое женское семя. Тогда же и новое семя божественно зарождается в созревшей для заповеданного богиней оплодотворения и плодоношения женской плоти.
Мужчине же богиня велит не ежемесячно, но еженедельно по лунам очищаться от старого непригодного к плодовитости семени. И чтоб не смотрел он на женщину голодными жадными глазами, горящими, будто у волка в ночи!..
В тот же продолжительный вечер, наступивший после полуночи, вдвоем с Кабиро в ее закрытой лектике скрытным образом, видом и никому из посторонних невидимым обликом, телом и духом Аврелий будет доставлен рабами-носильщикам в запретное, как говорит Скрибон, не потребное место для юношей, подающих добрые надежды. Проще говоря, без ораторских Скрибоновых красот, но в столь же долгих синтаксических периодах, школяр-грамматик Аврелий впервые в жизни попадет в лупанар, начав знакомство с этой стороной обыденного мужского жизнеустройства во внутренних помещениях необычайно изысканного и прихотливого заведения, находящегося под покровительством всех матерей Кабиро, какие бы там они ни были, как бы их ни звали. Однако на их зов почти все истинные мужчины откликаются, кто раньше, кто позднее.
Будь, что будет, иль была не была! Если помимо постыдной гнойной греческой болезни развратный многогрешный школяр, замеченный в посещении любых злачных мест города или уличенный в употреблении услуг уличных продажных женщин, с большой долей вероятности может влипнуть в крупную неприятность с позорным отчислением из школы. Да и вознаградят его напоследок, наставительно и назидательно на долгую память, особыми икарийскими играми. Искушенный в пытках магистр заплечных дел Робустус при содействии подручных Кастора и Поллукса так выпорет голого развратника по спине и ягодицам, что у мученика закипает и капает семя из напряженного пениса. Ни промежности, ни седалища карнифекс не пощадит, если последнее изгоняемому из школы обезумевшему от боли грешнику далее не понадобится в качестве орудия труда и рабочего инструмента в изучении свободных наук и искусств…
Храбрый и смелый ничуть не безумен. Он всего-навсего чуть-чуть более осмотрителен, дальновиден, чем боязливый. Поэтому спустя некоторое время храбрейший и осторожнейший муж нумидийский Аврелий Августин приобщит к визитам в материнский лупанар Кабиро также доблестнейшего, не менее опасливого мужа нумидийского Скевия Романиана.
Береженого и предусмотрительного все боги-демоны, богини-демоницы предохранят, и даже Тот, Кто превыше всех, Всепрощающий, — всякий раз говорил себе Скевий, решаясь на очередное греховное блудодеяние. Благо на поясе и ниже пояса найдется, чем заплатить за вкушение запретных плодов с древа познания всевозможных и невозможных соблазнительных телесных таинств, какими профессионально владеют отборные блудницы из храмового лупанара нимфы и маленькой жрицы Кабиро.
Между тем третий друг — благочестный и целомудренный Паллант в поганстве грешить и блудить начисто отказывался. Обидно и досадно для друзей обзывал достойнейшую Кабиро дщерью Вавилонской.
Но взрослую и мудрую женщину Кабиро мальчишеские выходки и противоречивые тайные желания никогда не огорчали и не расстраивали. Если им суждено дожить до зрелых лет, настоящие мужчины действительно взрослеют поздно, сколь созревшими ни выявлялись в юности их семя и стойкие мужские потребности.
Достопамятно и достоверно: по природе людской Аврелий еще надолго останется непоседливым, неустойчивым в присущих устремлениях мальчишкой, сколько бы женщин после Кабиро ни пытались прибрать его к рукам. Какими бы нежными, ласковыми и заботливыми они ни были эти женские руки, слишком уж тесных объятий, соитий и цепких пальцев он по наитию стремился избегать. Или же Вседержитель неисследимо и неисповедимо хранил его для иной планиды.
Все ли мы помнить способны, чего мы не в силах забыть?†
ФОЛИУМ ЧЕТВЕРТЫЙ. ОБРАЩЕНИЕ И ВОЦЕРКВЛЕНИЕ ФИЛОСОФА АВРЕЛИЯ
КАПИТУЛ XV
Год 1124-й от основания Великого Рима.
6-й год империума Валентиниана, кесаря и августа Запада. 6-й год империума Валента, кесаря и августа Востока.
Год 370-й от Рождества Христова.
Весна, лето, осень в Тагасте и окрестностях.
В пятнадцать с половиной юношеских лет философским и теологическим размышлениям Аврелий Августин вовсе не предавался. И вряд ли кто-либо иной в его возрасте когда-либо на такое был способен. Весьма сомнительно, чтобы какое-нибудь юное дарование, будучи подростком, начнет где-нибудь, когда-нибудь размышлять с достаточной взрослой мудростью, отличительно превосходящей недоразумения и недомыслия умов недозрелых или скороспелых.
Как бы ни превозносили, ни восхищались даровитым глаголящим младенцем, чьи уста якобы произносят истину, ее могут оценить и понять лишь те, кто самобытно до глубокой старости пребывают младенцами по уму. За это их можно пожалеть, можно им позавидовать, в зависимости от того, сколько и чего каждому по силам вспомнить из детства, отрочества и юности.
Помнят ли зрелые, налитые осенние плоды, какими такими они были в пору весенней тощей завязи? Пожалуй, о том им известно не более, чем выпрямившимся зимним ветвям об урожайной согбенной летней тяжести. Равным образом, чтобы прорасти, всяким легковесным зернам-семенам следует предаваться без остатка будущему полновесному плодотворному созиданию.
Следовательно и последовательно, до весны Аврелий в Мадавре изучал школяром-майористом, почитай литератором, образцовое творчество латинских и греческих авторов, овладевал начатками-пролегоменами риторики и пропедевтикой ораторского искусства. Но в февральские ноны ему пришлось переехать в Тагасту по семейным денежным обстоятельствам. Вернее, по причинам безденежья, самолюбия и честолюбивых замыслов его отца Патрика, задумавшего послать сына учиться в столичный проконсульский Картаг.
Патрик Августин далее не пожелал пользоваться милосeрдиeм и благодеяниями Ваги Романиана. Тем более Вага еще прошлым летом забрал Скевия из грамматической школы и взялся понемногу приучать, приставлять младшего сына к семейным занятиям, заключающимся в отлове неукрощенного конского поголовья, в торговле лошадьми, в подготовке животных и людей для цирковых зрелищ, во многих других проблемах и этиологиях наследственного фамильного дела тагастийских Романианов.
После того, как пропали без вести на юге оба его старших сына, Вага как-никак раздумал делать из озорника и шутника Скевия степенного и серьезного христианского пресвитера. Но о поступательном продолжении его либерального образования все же задумался. А вдруг Бог тем временем умилостивится, и кто-нибудь из старших как-нибудь чудом воротится домой?
Он посовещался с Патриком, и они сошлись во мнении: хорошо бы осенью отправить Скевия и Аврелия вместе поднабраться теперь уж высшей образованности в Картаге. У состоятельного Ваги средств на то более чем хватает, зато Патрик попросил дать ему время поднакопить денег. Еще лучше подождать до продажи осеннего урожая пшеницы и оливкового масла в его новом имении, счастливо выигранном в кости.
Ту невероятную удачу, — с усмешкой припомнил Аврелий, — отец объяснил приверженностью христианскому вероисповеданию. И от того, должно быть, радостно окрестился в ожидании больших и более существенных благ, великих и богатых милостей от Бога-отца, Бога-сына или Бога Духа Святого. Кто из них ему там свыше всемилостиво помог, Патрика нисколько не интересовало, если он перестал быть язычником, а раскаявшийся грешник всем христианским богам, известное дело, дороже, нежели закоренелый праведник, — так, подвыпив в термах, он разъяснил сыну свое крещение и убежденность в истинной вере.
Однако на трезвую голову отец по-язычески не сомневается: на триединого Бога воистину надейся, да сам оплошки не давай; да берегись дурного глаза людей завистливых, меньше всего желающих материальных благ и осязательного добра ближним своим. О том они, извращенцы, завистники треклятые, и в проповедях не стесняются разглагольствовать, ненавистники. Дескать, раздавайте нищим личное кровное имущество, а сами нищайте злополучно. Поэтому Патрик от всех подальше с весны убрался во благоприобретенное имение. Ибо оно, находясь под хорошим присмотром доброжелательного хозяйского глаза, обязано приносить должные доходы и прибыли.
— …Бог отпускает по молитве долги наши, как мы великодушно прощаем должникам нашим небольшую задержку с уплатой по долговым обязательствам, — саркастически объявил он как-то раз за обедом.
Было это еще до отъезда отца в деревню, накануне Великого Поста, тоже доставившего Патрику немало поводов для нескромных шуток и колких насмешек над религиозным пылом Моники. Какую-никакую денежную самостоятельность отец вновь обрел, но былого приниженного состояния не забыл и не простил жене вынужденного уничижения.
Вероятно поэтому, он ей стал за обеденным столом живописать после посещения терм консула Поллиния, каким неимоверным мужчиной выглядит нынче их сын и насколько он с избытком дееспособен, в какой он немыслимой силе мужества, чтобы тотчас же одарить стареньких родителей внуками и правнуками.
Что ему с таким мужским богатством тринадцатый подвиг Геркулеса? Куда там до него генитальным причиндалам быка по кличке Зевс! Сразу видно в длину, толщину и в тяжесть — божественно и героически плодовит в тройственном множестве наш достохвальный потомок…
Малопристойный языческий панегирик Патрика, потом возобновлявшийся в таких же дифирамбах и элогиях вполпьяна, не то чтобы оказался неприятен Монике, приличий ради, смущенно, не раз просившей его помолчать. Кое-какие смешанные материнские и неотъемлемо женские чувства она так-сяк испытывала, — проницательно подметил Аврелий. Все это его до крайности забавляло: хвала отца, смущение матери, трагические или комедийные маски-личины, какие тут как тут на себя напялили прислуживающие им рабы.
Занимательную и назидательную материнскую беседу с взрослым сыном Моника решилась провести спустя пару дней. Очень, выскажемся, забавно это она сожалела, что ему покамест рано жениться, хотя подходящие для него дочери добрых отцов-матерей из хороших фамилий Тагасты найдутся в большом числе девичьих прелестей и обольщений. Занятно назидала, увещевала, кабы и думать не посмел связываться с распутным и продажными замужними женщинами. Особенно, из семей нечестивых язычников.
Очень, скажем, забавно и занимательно: некоторые вести и слухи о недвусмысленном интересе, проявленном к ее сыну шаловливыми девицами и матронами Тагасты до Моники дошли. Почему и куда «эти распутницы и блудницы вперились бесстыжими глазами», проще говоря, положили глаз на ее Аврелия, она явно не знала и не узнает. Оттого что по-христиански презрительно чурается всех языческих суеверий и непристойной женской болтовни, шу-шу о разных мужских любовных достоинствах и телесных достопримечательностях.
Насчет исключительной привлекательности для всего женского рода, включая замужних женщин, девиц, рабынь и степных кобылиц, славного и богоравного героя Аврелия ему услужил не кто-нибудь, а болтун, хвастун и насмешник Скевий Романиан. С прошлого года он всюду похваляется близким знакомством со жрицей Кабиро из Мадавры. Что ни говори, в соседней Тагасте она пользуется не меньшим почтением, и молва о ней далеко идет.
— Я-то что… — в притворной скромности, с серьезной миной, повествовал об их любовных похождениях Скевий, — вот моего друга Аврелия Августина достославная целительница и пифия, толковательница снов маленькая жрица Кабиро сделала своим избранником, эсотерически посвятила в божественные эротические таинства Исиды и Кибелы, райское блаженство приносящие женщинам и девушкам.
Достоименный прекрасный юноша, он вам и Адонис, и Осирис, и Купидон, и Гименей во всех чувственных ликах преображенной мужественной плоти, какой было угодно его наделить Великой матерью богов…
То ли мифологические парафразы Скевия возымели окольным образом определенное действие, то ли застольные малотрезвые гиперболы Патрика на нее так незабываемо подействовали, но погодя месяц Моника подарила, прислала сыну в личное услужение новую комнатную рабыню. Всем ясно, что подвигло домину-матрону Монику торовато и расточительно обменять по-соседственному стряпуху-умелицу, средних лет рабыню, делающую вкуснейший копченый сыр, на смазливую шестнадцатилетнюю прислужницу. На умелую стряпуху соседи давно лакомо зарились, продать предлагали, а тут такой случай сбыть глупую никчемную Земию никак нельзя упускать.
Не упустил своего и Аврелий, однако совсем не так, как предполагали городские соседи и его заботливая мать. Дареной рабыне Земии он тут же дал сообразную оценку и соответствующую уценку. Видать, экономные родители продали в рабство нежеланного младенца женского рода. Ибо имя ее, означающее по-гречески «убыток», есть знамение.
Знаменательно зазвал тогда друг Аврелий друга Скевия, приказал материнскому подарку разоблачаться. Вдвоем они к нему внимательно присмотрелись и пришли к заключению: вороная лошадка кое-чего стоит, хотя груди жидковаты и в бедрах тяжеловата, но женственность высоко спереди выпукла и хорошо обрисована, а густую промежную шерсть не помешало бы удалить во имя чистоплотности и опрятности. Затейник Скевий сию же минуту не преминул убедиться, насколько она там в шерстяных зарослях чиста и девственна. Проверил ловко и умело, ничего не повредив.
Затем лошадке, замершей от сладкого ужаса и предвосхищения дальнейшего эротического развития событий, по-хозяйски было велено облачиться и удалиться. Она также получила наказ подвязать полотняной кинктой груди, чтоб впредь не болтались, наподобие худого козьего вымени, а набирались молочной крепости и осязаемой полноты. Девство же благолепно указано сберегать неприкосновенно вплоть до удачнейшего правильного спонсалия-обручения и неминуемого бракосочетания с кем-либо из благонамеренных сервов-домочадцев или колонов добронравной христианской фамилии тагастийских Августинов.
Из всего велеречиво ей сказанного двумя начинающими риторами-школярами Земия, похоже, уяснила лишь то, что ее выпроваживают вон в прежнем целомудренном статусе. А доминус Аврелий и его друг Скевий малость не в себе, если вдруг бешено заржали, как жеребцы, после ее ухода.
Затем в поварне ей рабыни быстренько растолковали, какая же она дура и уродка, если упустила длинное счастье, валившееся к ней, голозадой обезьяне, прямо в руки от Великой матери богов. Ведь к доминусу Аврелию и к доминусу Скевию едва ли не очередь выстраивается из дочерей окрестных колонов, даже из города в лектике чужие рабы кого-то тихонько приносили несколько раз. Что ни ночь, так Нумант или Турдетан молодым хозяевам непременно кого-нибудь приводят для познания мистического соития, благословленного богиней. Бывает, и по трое-четверо в темных покрывалах в темноте появляются и к рассвету улетучиваются. И каждой, кому посчастливилось причаститься к таинству, богиня после обеспечит счастливое замужество с добрым мужем, какой свою милую женушку в жизни не посмеет чуть пальцем тронуть, не то что избить плетью до полусмерти, будто бы за блуд и распутство.
До преувеличенных глупых россказней блудливых сельских рабынь не было никакого дела Аврелию, поселившемуся на мартовские календы в небольшой загородной усадьбе Августинов на ближнем винограднике, столь же малозначительном, площадью не больше трех югеров. Мать строго постилась в городе, отец неуклонно поднимал доходность дальнего имения на юге от Константины, а их сын в это время, так оно предполагалось, прилежно изучал на греческом благочестивые святые книги, какими его снабдил христианский диакон Эвбул.
Лежа в постели чуть ли не до полудня, Аврелий лениво переворачивал страницы Семидесяти толковников или Апостольских деяний. Той весной их он воспринимал, небрежно почитывал не более как забавные старинные развлекательные рассказцы, навроде историй Энния, Павсания или Гесиода, с какими он ранее детально ознакомился в грамматической школе.
Далее телесного смысла Септуагинты или Евангелий юноша Аврелий Августин не уходил. А то, как старик Клодий Скрибон мельком упоминал об аллегорическом толковании, о душевном и духовном осмыслении Библии, естественным приземленным образом проходило мимо школярского понимания его юных алюмнусов-дискипулов.
Сколь запомнилось, профессор Скрибон никогда не подвергал Святое христианское Писание жесткому энарацио и не произносил какого-либо авторитетного магистерского индикиума по смысловому содержанию и словесному риторическому наполнению какой там ни будь книги Маккавеев, Пророков или сказания-басни об исходе древних евреев из Египта. Потому как многие простые единоверцы, скажем, те же матроны Кальпа с Абинной, и без того с подозрением смотрели, косо так посматривали на чересчур ученого Клодия, шепотком его осуждая за лукавое языческое суемудрие, недостаток благочестия, нехватку смирения, вкупе со скупыми и куцыми пожертвованиями на церковь.
Потому намного проще иметь дело с язычниками, еще лучше с глупыми язычницами, — пришел к попутному выводу Аврелий и блаженно потянулся в постели.
Еще со времен первого очень телесного и тесного знакомства с молоденькими отпущенницами, и за страх и на совесть исполнявшими обетования Кибеле в храмовом лупанаре, Аврелий стал относится чисто по-мужски сверху вниз весьма пренебрежительно ко всем вздорным языческим верованиям скудоумных женщин. Причем такой же вздор и нелепость, если и мужчины, страшась чего-либо утратить, или же надеясь кое-что приобрести, всерьез, взаправду поклоняются женским или мужским божествам, коих в преданиях старины незапамятной развелось превеликое множество. Выбирай на вкус и молись, преклонись. Авось нечто благодатное обломится, сверху отвалится от олимпийских небожителей и небожительниц; быть может, и снизу привалится от божественных обитателей преисподней.
Такое вот ироническое отношение к языческому многобожию, благорассудительно и насмешливо им осознанное, Аврелий приобрел несколько позже, уже в Картаге, обучаясь красноречию-элоквенции, совершенно необходимому, чтобы убеждать себя и других, а также развивать собственные мысли.
Да и в будущность его картагским ритором-школяром Аврелий будет еще весьма далек от основополагающего принципа истинно христианского толкования Святого Писания, дидактически сформулированного епископом Августином в книге двадцатой «О Граде Божием»:
«Согласно пророческой традиции, образные выражения перемешиваются с собственными, чтобы трезвый ум душеполезным и спасительным упражнением доходил до духовного понимания. Между тем, плотская лень или тупость необразованного и неразвитого ума, поверхностно довольствующегося буквой, вовсе не считает нужным искать более сокровенного смысла».
Тем же образом мысли простецы-язычники, как бы они ни были образованы и телесно состоятельны, в отличие от самых убогих недоразвитых христиан, отдают пальму первенства отнюдь не апокалиптичному духу в вышних или же некоей сакральной букве скрижалей, но бездумному человеческому голосишке и сумасбродной людской молве, в какой им слышится, чудится, мерещится гомерический голос богов.
Как раз хорошего грамматического образования Аврелию вполне доставало, чтобы это понять и этим же умно воспользоваться на шестнадцатом году жизни. Достаточно вспомнить о том, что в гомеровской «Илиаде» глупейшая изустная народная молва важно именуется вестницей Зевса, а у Гесиода в «Трудах и днях» можно прочесть, будто никакая молва из уст людских не пропадает, так как она сама есть некое божество.
Таким вот модусом иронические вымыслы Скевия Романиана, красноречиво подкатывавшегося к девицами Тагасты с прелестным риторическим мифом-суасорием о Кабиро и Аврелии, обрели женское естество и девичью плоть по ночам в скромном загородном домишке Августинов посреди виноградных югеров. Немало тому поспособствовал и закоренелый убежденный язычник Нумант, потому что известному насмешнику, озорному Скевию женщины не слишком-то поверили. Зато они привыкли безоглядно доверять соглядатайским сведениям от пронырливых рабынь-наперсниц, во все и вся из жизни хозяев всюду сующих длинные любопытствующие носы. Вот ведь как Августинов ближний приспешник пучеглазый Нумант благоговейно передает, как он и распростерся ниц, страшась чего-либо увидеть ему непостижимое. Но знает: тогда на рассвете в храме Великой матери богов нагая жрица Кабиро исполняла специально для его доминуса ритуальный женский танец плодородия, благодатно возвышающий, увеличивающий, укрепляющий силу мужества.
Так вестовщик и вестовой Нумант стал Иридой и Меркурием в одном лице. Свое рабское место он знает — скромно и почтительно остается за порогом, приводит и уводит, кого нужно, о чем, о ком его умильно просят по старому знакомству тут и там вездесущие комнатные рабыни.
Вовсе не остался в стороне от языческой женской благости и милой благоглупости Скевий, хитроумно исполнявший мифологическую двойную роль Ганимеда и Гебы, поставляя Аврелию и его тайным гостьям, возможно, и не амброзию с Олимпа, но хорошее выдержанное вино в лагенах из отцовских подвалов.
Другим же поводом для частого посещения друга Аврелия друг Скевий избрал дружескую помощь в укрощении и выездке чалой кобылы-трехлетки, какую за четверть цены он уступил Аврелию. Он же и дал полудикой степной лошадке греческую кличку Горма, то есть Порывистая.
По правде сказать, белая с черной гривой кобылица давно уж стала смирной и послушной. Притом она не так, чтобы очень: дыхание короткое, бывает, засекается на рысях и потому не пригодна для цирковых ристаний. Однако на рысь, даже с места в карьер может переходить, подобно быстрому, как порыв ветра, степному пятнистому пардусу.
Никакого тебе убытка оборотистый Скевий Романиан от ее продажи не понес, так же как и Аврелий Августин от выказавшей строптивый и несдержанный нрав рабыни Земии. Эта вороная кобылка нынче смиренно и безмолвно прислуживает им вдвоем за обедом, чистоплотно расставшись с прежней кудрявой гривой в промежности, не имея на себе иных одеяний, кроме подаренной Скевием пурпурной шелковой ленты, подвязывающей груди.
Добросердечный Скевий тем самым Земию утешил, после того как домоправительствующий Нумант жестоко ее выпорол на конюшне уже не слегка уздечкой на оба задних семиса, а вожжами на полный афедрон по крупу, каб неповадно стало такой-сякой любопытной Пандоре раздоры сеять в достойнейшей фамилии благонравных Августинов. Ибо глупенькая рабынька было попыталась наушничать благочестивейшей матроне-домине Монике на ученейшего магистра-доминуса Аврелия.
Моника, приехавшая на несколько часов повидаться с сыном, заодно присмотреть за хозяйством и благонравием, нисколько слушать не захотела распускающую неблагочестиво грязный язык лукавую рабыню-язычницу. Потому и выдала дурищу на расправу.
Мать сама, помнится, немало пострадала от рабьей лживой болтовни и беспочвенных наветов. Взять хотя бы ту самую злоречивую и злоехидную сквернавку Кафлу, выдумавшую, будто ее хозяйка забавляется и утешается толстым приапом конюха, коль скоро супруг на нее и смотреть не желает из-за постоянно беременного брюха.
Ее покойная свекровь Ливилла, — плохо ли хорошо ее поминать, по-язычески или по-христиански, — просто-таки наслаждалась клоачными помойными сплетнями из рабьих уст. Впрочем, разговорцы о частом пьянстве невестки, совсем не подобающем в ее положении хозяйки дома, все же имели под собой некоторые постыдные основания.
Сейчас мать и думать забыла о крепком меруме, — припомнил Аврелий. И за обеденным застольем, по ее нынешнему обыкновению, она пару-другую киафов холодной воды слегка, самую чуть-чуть разбавляет подогретым уже разбавленным вином, нежели наоборот, как оно принято для хмельного виноградного пития.
По случаю и по поводу Аврелий основательно приложился к ароматному медовому мульсуму, целый кувшин которого давеча привез верный Нумант из города. Очевидно, в этом хорошем кувшинчике будет дюжина секстариев. А новенький поваренок с хорошим историческим именем Апикиан, в прошлом году втридорога купленный Патриком на радостях от баснословного выигрыша в кости, знает, шельмец, как настаивать мульсум, когда в достатке старого вина и дыма над очагом.
Своей маленькой виноградной усадьбой: домик с тремя комнатками, подсобные службы напротив вестибула, конюшня и птичник рукой подать — Аврелий был вполне доволен. И апикианских яств ему не надо, когда на дворе теплым-тепло, а ближе к закату обещает подъехать Скевий. Как доложил Нумант, только что прискакавший из города с новостями и книгами, Скевий тоже поделится добрыми вестями, потому как привезет другу Аврелию письмо от друга Палланта.
Вместе вспомним и посмеемся, как весело учились у незабвенного Скрибона. Хорошо бы еще съездить к Палланту Ситаку. Два дня верхами на пару с Нумантом — не так уж это далеко туда и обратно.
Скевий действительно доставил потрясающую историю из их школьного детства.
— …Помнишь велезадую Скрибонову дочку-тыковку? Ту брюхоногую слониху, которую окрутили с Кастором Либрарием?
Так вот, это мой обалдуй Турдетан внучком деда Клодия одарил, дочурку его обрюхатив. Вернее, она сама себя ненароком обрюхатила, эпона похотливая.
Орясина Турдетан на днях окрестился, чин-чинарем исповедался во всех грехах вольных и невольных. А диакон Эвбул ему внушил мысль, чтобы хозяину обо всем доложил, то есть мне, когда отец опять уехал на юг моих старших братьев разыскивать.
Говорил я ему, то есть орясине Турдетану, всегдашним образом в городе плотно опоясывать чресла набедренной повязкой. А этот остолоп-деревенщина все равно норовил шастать наголо с всем своим немалым болтающимся мужеством под туникой.
Вот и ухватили слона за хобот. Скрибонова дочурка его подстерегла в темном углу между палестрой и клауструмом да и затащила рядышком под навес, где у Пуэра Робустуса стоят розги и висят ремни для наказаний.
Сам знаешь, школяры и рабы Клодия туда и на шаг боялись приблизиться, если в полдень Робустус лущил провинившихся домочадцев, а на закате спускал шкурки с младших и старших учеников. Зато дочурке Скрибона все нипочем, сколь скоро ее любящий папас на нее надышаться не мог и откармливал, обормот, словно на убой да на блуд с кем ни попадя.
Тут-то ей мой мужичок-мужчинка Турдетан под руку подвернулся, запустила лапу ему под тунику, обрадовалась, коль все там наголо, придавила так, что мужичок света Божьего не взвидел, чуть всех чувств не лишился. Говорит, испугался, как бы она там ему мужское хозяйство напрочь не оборвала.
Опамятовался, лежа под навесом у Робустуса. Она на нем верхом… сидит спиной, то есть тяжеловозной задницей у него на животе, бедняге не продохнуть… Ножищи расставила и вовсю орудует его приапом, рукоблудничает, слониха…
Видимо, вовремя вынуть не успела… Или в любовной горячке не заметила, как малость брызнуло, впрыснуло и ее оросило…
Скевий сделал еще одну ораторскую паузу, в риторическом жесте недоумения распростер указательный и средний пальцы с оттопыренным большим.
— Одно до сих пор не пойму. Он — слон, она — слониха, а слоненочек у них на двоих такой махонький приплодом случился.
Пролаза Оксидрак, раб Палланта, помню, говорил: новобрачная супружница отпущенника Кастора мигом опросталась. Будто дюжину раз до того рожала.
Когда только успела в семнадцать-то годочков? — язвительным недоуменным вопросом завершил нравоучительный рассказ Скевий. И передернул плечами, будто в отвращении.
Примерно так, с такими же жестами, сардонически, судорожно смеясь и саркастически вопрошая, некогда профессор Клодий Скрибон обычно комментировал майористам многочисленные мифологические связи-извращения бессмертных языческих божеств и смертных порочных людей.
Почтительно подождав за дверью, пока доминус Аврелий и доминус Скевий кончат смеяться, доверенный прислужник Нумант зашел за указаниями на сегодняшний вечер. В ответ услышал новое вулканическое смехоизвержение и красноречивое ораторское пожелание пошустрить да побыстрее:
— О веди поскорее, о мой Меркурий, любвеобильных земных женщин к двум прекрасным безупречным, безукоризненным юношам, сошедшим с Олимпа, снисходительным по божественной природе и снизошедшим к людским похотям, порокам и вожделениям…
Той весной, да и летом, и осенью Аврелий со Скевием не имели никаких любовных делишек с рабынями. Дело даже не в том, что в Тагасте и окрестностях для них в достатке, точнее, с избытком нашлись вольные во всех смыслах бездумно сущеглупые, присно суеверные или осознанно похотливые девицы из семей квиритов и колонов, а также скроенные по тем же фастам молодые женщины, так либо иначе незамужние.
Так они оба постановили без долгих разговоров, обсуждений, дебатов, диспутов. И неизменно придерживались этого ими установленного правила до тех пор, покуда не переехали в столичный Картаг, где в вавилонском развратном столпотворении порой и не замечаешь природной грани между хозяевами и рабами, в противоположность городишке Тагаста. Человек, вещь, раб, животное — все тебе едино в республиканских отношениях, царящих в большом городе. Общенародное дело, переведем на греческий.
Но здесь-то, в Тагасте открытая либо вскрывшаяся связь свободного мужчины с рабыней или свободной женщины с рабом расценивается местным обществом как публичное пользование ночной посудиной вместо того, чтобы этим самым заняться в темном нужном чулане-тепидарии. Всяк справляет в отхожем месте малую и большую нужду. Однако же делать это на форуме, облегчаясь, выставлять этакую телесную насущную потребность на всеобщее обозрение явно не стоит.
И говорить о ней неловко, неприлично, непристойно…
Личными рабами и рабынями по праву можно пользоваться, подобно любой домашней утвари. Но зачем кому-то знать, для чего служит тот или иной постыдный сосуд? Причем слухи, сплетни, кривотолки, пересуды — все это, знаете ли, так нехорошо и неприятно пованивает, припахивает.
А за хлевом ничто вам не мешает заниматься тем, что предосудительно у обеденного стола. Этика и этикет от одного греческого корня происходят.
Об этических проблемах и моральных этиологиях Аврелий со Скевием станут с удовольствием глубокомысленно и велеречиво рассуждать, дискутировать, лишь будучи учениками профессора риторики Эпистемона Сартака в Картаге.
Пока же Аврелий довольствовался свежей памяти недавним откровенным советом-предостережением Патрика, грубовато сказанном им взрослому сыну. Отец, нисколь не мудрствуя лукаво, без малейшей иронии приравнял совокупление с рабами и рабынями, какими ты полноправно владеешь, к использованию в содомском соитии кобылы или овцы.
— …Подневольных тебе рабынь и скотину, сын, можно с маху ожечь плетью, принудив исполнять твои прихоти и похоти. Плакаться, жаловаться им некому и не на что, если ты их не увечишь и не калечишь.
Но на кой приап они тебе сдались, когда вокруг навалом свободных женщин, по доброй воле страстно желающих того же самого? Стоит лишь рукой махнуть, пальцем поманить, валом повалят… всех мастей красотки. Потому что у этих лошадок течка ежемесячно, им круглый год период. Седлай, садись и погонять не надо, сами поскачут с ветерком…
Тем летом Аврелий с удовольствием горделиво объездил все окрестности Тагасты в белой тунике на белой лошади, подвязав длинные черные волосы опять же белой головной повязкой. Себя показывал, на красоты природы смотрел, когда нисколько не хотелось с раннего утра каникулярно нежится в постели или чего-нибудь читать.
Лошадку Горму он хорошо приручил и приучил. Резво взбрыкивая спутанными ногами, она сама подбегает на выпасе, едва завидев хозяина с куском ячменной лепешки в руке. Послушно, не в поводу, идет рядом и покорно дает себя обихаживать, седлать. По всему видать — смиренно подчиняться заботливому хозяину-человеку ей доставляет радость и умиление дикой, малоукротимой от естества скотьей натуры.
Один раз Аврелий съездил к отцу в дальнее имение, взяв с собой для порядка и безопасности Нуманта на старом кауром жеребце Юба Второй. И Юба Первый и Юба Второй когда-то возили Патрика, а потом состарившийся конь с царственным именем и хорошей родословной перешел в распоряжение его сына.
Юбу и Горму ставший у Аврелия домоправителем-виликом Нумант холит и бережет, строго присматривая за двумя конюшенными тунеядцами, оттого что к лошадям он относится лучше, чем к людям или рабам.
Поразмыслив над отношениями между людьми, животными и рабами, Аврелий вновь обратился к детским впечатлениям и заново поразился, насколько же все вокруг предстает маленьким и близким, хотя раньше казалось таким большим и далеким.
И верхом на Горме до Мадавры, оказывается, совсем недалеко, куда он два-три раза успел съездить повидаться с Кабиро. Даже к Палланту ему удалось выбраться. Провел три дня там у него в деревне и четыре дня в дороге с Нумантом.
Оба хорошо вам вооружились на всякий разбойный несчастный случай. Хозяин со щитом и копьем. А его раб отправился в неблизкое странствие с окованной железом шипастой дубиной, какой можно славно раскроить и шлем и череп. В Мадавре за три года посещения гладиаторской школы Нумант прекрасно поднаторел в кое-каком боевом искусстве и в технике боя, что в плеоназме одно и то же, если брать филологически по латыни и на греческом научном языке.
Когда Аврелий на августовские иды побывал в гостях у Палланта, они снова обсуждали их давнюю совместную мечту — завести в каком-нибудь нумидийском городе грамматическую школу с начальным обучением грамоте и счету совсем маленьких детей. Мечтать друзьям почти всегда полезно, если они с Паллантом безусловно намерены претворить в жизнь задуманное.
В другой раз друг Аврелий проведал дальнего друга Палланта уже на октябрьских календах. Паллант Ситак по-прежнему помогает своему отцу-вилику в виноградном хозяйстве, днем очень занят, но все свободное время по вечерам до глубокой петушиной пополуночи уделял дорогому гостю.
Как водиться, друзья говорили о чем угодно, но только не о забавных любовных приключениях двух мифологических героев, хотя вполне реальных эвгемерических протагонистов — Аврелия Купидона и Скевия Ганимеда. Добродетельному Палланту Цензору о том знать никак не следует.
Зато на сей раз Аврелий, сызнова трясясь от неудержимого хохота, поведал другу, как недавно они со Скевием и толстым Сундуком-Аркой, еле-еле удерживая смех, в глухую темнейшую полночь начисто отрясли и обобрали соседское грушевое дерево, неприкаянно выросшее на самой меже. Чуть дотащили до дому богатейшую добычу. Сами кислятину есть не стали, даже вечно голодный Сундучище, который подрос, похудел и стал меньше жрать. Груши-дрянь отдали рабам — эти все тебе слопают, что им ни дай, проглотам.
К огромному удивлению Аврелия, друг Паллант его сурово выбранил, назвал их компанейскую шалость недостойным непростительным воровством, за которое вилик или хозяин грушевого дерева обязательно жестоко накажет недосмотревших за урожаем рабов.
Стыд и срам вам, нечестивцы! Негоже заставлять страдать ни в чем не повинных созданий Господних!
Получается двойной грех, если самоличное бессовестное злодеяние некто злоумышленно перекладывает на других. Ибо перед Богом все равны: что рабы, что свободные квириты. Он каждому воздаст по делам и по грехам людским.
Благочестных этических рассуждений Палланта Аврелий ничуть не понял, недоуменно поднял брови, однако ссориться с другом по такому ничтожнейшему поводу и помыслить себе не мог. Потому он ему клятвенно пообещал больше так никогда не делать, а бедняку-соседу из малоземельных колонов как-нибудь потиху возместить ущерб и урон. Пусть, мол, правая десница ведать не знает, какие глупости и безумства враз может сотворить левая шуйца.
Ораторской, почти евангельской эмфазой, уснащенной уместными латинскими архаизмами, Аврелий сразил и покорил Палланта. И они вместе наново принялись приятно фантазировать, воображать о том, что будет, когда Аврелий завершит высшее обучение риторике и литературе в Картаге.
Паллант Ситак нисколько не питал низкую зависть или ревность к другу Аврелию Августину, если тот всему, чего вскоре узнает сам, потом обязательно научит и его. Дайте только срок и необходимые деньги, какие нужно собрать и накопить, чтобы им вдвоем достойно открыть свою собственную прекрасную школу.
КАПИТУЛ XVI
Годы 1125-1128-й от основания Великого Рима.
От 7-го по 10-й годы империума Валентиниана, кесаря и августа Запада. От 7-го по 10-й годы империума Валента, кесаря и августа Востока.
Годы 371-374-й от Рождества Христова.
Юность в Картаге и в Тагасте в разные дни, месяцы и времена года.
Достойнейший тагастийский куриал Патрик Августин сполна заплатил за год вперед за обучение старшего сына в риторской школе почтеннейшего картагского профессора Эпистемона Сартака.
Возможно, отец что-то предчувствовал, — позднее решит Аврелий. Разом вложил в сына все свободные деньги.
Потому что в февральские иды отец Аврелия скоропостижно скончается. В три дня Патрика унесла злокачественная лихорадка; сгорел в бреду, в беспамятстве от страшнейшего жара. Искусные ученые лекари с их ледяными примочками и обтираниями холодной водой ничего не могли поделать. Под конец они набожно воздели руки к небу, если на все воля Божья, властная в жизни и в смерти.
Моника не озаботилась послать раба-гонца в Картаг, чтобы немедленно известить Аврелия о кончине отца. О состоявшемся подобающем христианском погребении Патрика она сообщила лишь с попутной оказией через своего брата, почтенного торговца Дефила, кому она поручила присматривать за старшим сыном в большом городе, полнящемся мерзкими искушениями и греховными соблазнами.
Нераспорядительность в отношении смерти отца и отсутствия основного наследника на похоронах она объяснила тем, будто не желала надолго отрывать сына от школьных занятий. Письменные объяснения матери Аврелий прочитал, принял к сведению, пожал плечами и особо не намечал съездить в Тагасту, например, на пасхальных каникулах.
Чего ему там делать, если еженедельных денег на повседневные расходы ему выделили в два раза больше обычного? Отцу, конечно же, царствие ему небесное… Бог дал, Бог взял… Зато у кого-то на поясе полновесно зазвенели только что полученные серебряные денарии.
Зачем ему Тагаста, коль скоро его туда покамест не зовут? И отца ему не воскресить, если он не Иисус из Назарета и даже не Аполлоний из Тианы, а школяр-ритор в достопримечательном столичном городе Картаге. И заняться ему тут есть чем, вместо того, чтобы дураком сидеть с постной рожей за поминальным обедом с родственниками.
Дядюшкина отпущенница, крутозадая Волюптия, та еще дурища волосатая, но дело любовное знает отменно. От альфы до омеги умеет доставить мужчине чувственное удовольствие, порой и блаженство невыразимое до полного изнеможения. Досуха мужчину выжать умеет.
Да и без нее усладительной женской плоти в Картаге довольно…
Еще в день приезда, когда они со Скевием вышли с рабами прогуляться в сумерках, Аврелия до глубины мужской души поразило изобилие женственных соблазнов, выставленных на продажу. Раньше он и вообразить-то не мог, что почти открыто на улице можно и разрешается торговать женственностью в таком огромном доступном количестве и неописуемом качественном разнообразии.
А тут еще тебе исподтишка, мимоходом, с улыбкой такой близкий, воркующий, завлекательный шепоток:
— Иди, мальчик, ко мне, мужчиной сделаю. Первый раз — бесплатно…
Или еще одно предложение:
— Не пожалеешь, красавчик, коли мне для тебя ничего не жалко…
Притом шепчут тебе на ухо, улыбаются, задевают широкими длинными рукавами ярких одежд вовсе не сплошь да рядом грубо размалеванные девки с хрипящими испитыми голосами. Всякие найдутся, когда и таких, хватающих тебя за локоть, хватит и останется тому, кто не побоится подцепить вместе женской плотью в довесок еще и греческую болезнь себе на долгую память и дорогостоящее лечение болезненного мужества…
Аврелий припомнив, каким он когда-то был в прошлом году ротозеем-деревенщиной, завершил длинную фразу-период и пришел к практическому выводу: какая ни на есть, но лучше уж густопсовая в промежности штучка-сучка Волюптия.
Да и помечтать о сладком не грех, если уж так и быть согрешил, мысленно вожделея, ту самую, суровую красотку, светловолосую и голубоглазую рабыню из фамилии сенатора Атебана. Ведь ее, конечно же рабыню, а не фамилию, они со Скевием совсем недавно лихо опрокинули у входа в славнейшие термы Антонина Пия.
Допустим, не все денарии, в тот день выигранные на спор, записные опрокидыватели из риторов-майористов ему выплатили. До сих пор тянут, охломоны. Но это не лиха беда, теперь возможно и подождать с долгами, коль скоро новые денежки как вдруг завелись.
Той благословенной весной Аврелий одновременно повстречался с любовью к мудрости, прочитав, изучив, свиток «К Гортенсию» за авторством тогда еще ему мало знакомого Туллия Кикерона, и с любовью к женщине, нечаянно или неслучайно столкнувшись с Сабиной Галактиссой, кого ему предстояло узнать столь же подробно и близко, подобно многим другим философским трудам именитого римского оратора.
Очень красивая рабыня, чьего имени он еще не знал, держалась с достоинством истинного философа. В ней ни на зету Аврелий не заметил подлой и пошлой рабской приниженности, то есть сервильности, — подумал он перейдя от греческого языка на материнскую латынь.
Это чуть погодя ему в голову пришло. А в ту же ночь она ему многообещающе приснилась. Любовно и сладостно… И во сне и наяву он не мог не увидеть в том пророчества, вернее, знамения, какое точно провозвещает будущее. У девушки даже имя оказалось значимым, поскольку он безошибочно предположил, к какому роду-племени она могла бы принадлежать.
То, что ее зовут Сабина, он узнал от Нуманта и снова отправил доверенного прислужника следить за домом сенатора Фабия Атебана, болтать с рабынями, у когo, кроме женских желаний ничего на уме нет и никогда, по всей видимости, не будет. Пускай они отпускают Нуманту колкости и насмешки, хихикают за спиной — обязательно выложат, выболтают правду. И похищение возлюбленной сабинянки произойдет в любом случае.
Верный Нумант неотступно, хотя и незаметно, всюду следовал по городу за младшей дочерью сенатора и ее ближней прислужницей. Раба, куда-то озабоченно туда-сюда поспешающего, снующего по хозяйским делам, никто и не подумает замечать. А вот он все и всех видит, а после отчитывается, бубнит в подробностях тому, кто его послал.
Через нундины у Аврелия уже имелись кое-какие необходимые сведения о христианской фамилии благородного картагского декуриона пунического происхождения Фабия Метелла Атебана. Оставалось измыслить способ, как проникнуть в дом сенатора и стать отнюдь не его клиентом, — Боже, упаси, — но добрым и благонамеренным знакомцем.
Здесь как нельзя уместнее другу Аврелию должен пособить близкий друг Скевий, наперед посвященный в хитросплетенные детали намеченной стратагемы неминуемого завоевания сердечной привязанности неприступной рабыни-сабинянки.
Итак, в связи с тем, что их прославленный профессор риторики Эпистемон был и впредь остается язычником, то они в пику ему, в подражание старшим школярам-риторам, публично заделались правоверными христианами, принявшись риторически-научно изучать древнееврейские сказания и бесчисленные христианские евангелия, точное число которых неизвестно даже самым ученым пресвитерам и епископам. Надобно же знать и сравнивать, чем одни наивные вероисповедальные мифы отличаются от других?.. И многознающий пророк Мани нам о том же красноречиво толкует…
Надо сказать, — в чем самоисповедально признавался Аврелий, — той весной учеба, доскональный разбор по словесным косточкам слитных строчек древних языческих поэтов его все-таки заботили. Как-никак ему очень хотелось быть первым среди школяров-риторов. Ведь тут учатся прекрасным словам, приобретают красноречие, совершенно необходимое, чтобы убеждать и развивать свои мысли. Между тем разумному человеку, если не все, то очень многое, идет в толк и впрок памятным и умственным заделом на будущее. Интеллектуально и мемориально, — адекватно сформулируем на вернакулярной латыни.
Однако ради прекраснейшей девы-сабинянки мы радостно отложим на потом слишком много мудрости, приносящей многие печали тем, кто ее изучает. А в том числе — рукотворные, рукописные памятники всяких разных Квинтов Горациев, включительно его поэтических эпигонов-подражателей в последующих веках. Мифы и глифы, так сказать…
Стало быть, миметически, поэтически, креативно для избранной цели сгодятся и христианство и базилика Господа Милосердного в Картаге, куда вальяжно захаживает сенатор Фабий, где частенько бывает его дочь в сопровождении прислужницы Сабины. Слава Богу, и спасибо Нуманту на отличку вызнавшему, неприметно отследившему, где, когда, как можно встретить интересующих доминуса Аврелия членов фамилии доминуса Фабия.
По наводке зоркого эксплоратора Нуманта друзья Аврелий и Скевий однажды изобретательно подстерегли благочестивого сенатора на ступенях базилики. На двоих они затеяли громкую богословскую беседу, словно в иудейской синагоге. Но, в отличие от обычного еврейского горлодрания и горлопанства, какому зачастую следуют и неистовые христианские проповедники, оба хитроумных школяра-ритора дискутировали степенно, горячо не дебатировали, но развивали в катаскеве взаимные теологические тезисы. Непохожи они и на бродячих немытых софистов-киников, поскольку по-юношески безбороды, благопристойно одеты в чистые туники и сандалии из тонко выделанной кожи.
Богомольные и достоимущие прихожане не замедлили к ним прислушаться, если младенческие уста в простодушии юных сердец разглагольствуют о божественном. Видимо, сам Бог заботится о том, чтобы они говорили умно, праведно и благочестиво.
Самым естественным образом к небольшому кружку слушателей, изначально внимавших двум ученикам достопочтенного, пусть он там и язычник, профессора Эпистемона, начала понемногу присоединяться досужая публика. Задержался поодаль и сенатор Фабий со свитой клиентов. Потому что эти алюмнусы, — оно тебе сразу видно, — истовые христиане.
Больше всего Фабию Атебану пришелся по душе и по уму мудрый тезис школяра Аврелия о настоящем философском просвещении, какое привносит в мир христианство. Данную гипотезу катехумен Аврелий подкрепил канонической и католической цитатой из Евангелия от Матфея. Действительно и дословно: «Книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое».
Тогда как в обрядовом порядке крещеный душой и телом Скевий экспромтом развил тезис собеседника, заведя речь о том, при каких любомудрых обстоятельствах прозвучала на озере Геннисаретском евангельская заповедь Иисуса Христа не только проповедовать изустно, но и письменно сохранять, преумножая, распространять в книгах духовное философское знание в качестве апостолического индикиума к дотоле изложенным благовестным рацеям-назиданиям и параболам-притчам.
Ценную благую мысль друга Скевия на лету подхватил друг Аврелий, высказав где-то им почерпнутое мнение, что истинная философия не может не содержать духовный религиозный смысл, хотя бы ее носитель даже был язычником-гентилем, умершим задолго до наступления христианской эры и спасительного пришествия Иисуса Мессии. Например, значительные и многозначные труды выдающегося мыслителя древности Туллия Кикерона. Можно также упомянуть уместно письма философа Сенеки Младшего, того, кто обменивался посланиями со Святым апостолом Павлом и по всем вероятиям намеревался перейти в христианскую веру…
Книжная мудрость двух благонамеренных школяров малость подыссякла, но тут, на их счастье, сенатор Фабий Атебан, должно быть, вспомнил о делах и общественных обязанностях. По его знаку двое широкоплечих рабов раздвинули толпу зевак, чтобы доминус мог подойти, чин по чину представиться и церемонно познакомиться с умными, поистине праведными в подлинной вере христианскими юношами.
Сенатор выяснил, как их полнозначно зовут, кто у них отцы, откуда оба родом. Лестно для них удивился, узнав, у кого же учатся эти славные молодые люди. В заключение пригласил обоих, нисколь не чинясь, приходить в его домашнюю библиотеку. Необходимые распоряжения отпущеннику-домоправителю, рабу-архивисту и прочим либрариям он обязательно отдаст, чтобы его домочадцы им оказывали всевозможное содействие и выказывали почтительное благорасположение. Тем более, если у него самое лучшее в городе и самое полное собрание сочинений достославного римского элоквентора и достоименного философа Марка Туллия Кикерона…
Аврелий впоследствии по-разному иной раз припоминал различные обстоятельства своей юности в проконсульском Картаге, но одна нечаянная встреча с рабыней Сабиной в сенаторской библиотеке у него накрепко отложилась в памяти. Он великолепно помнил, какой именно свиток она тогда взяла для молодой хозяйки, и то, что они пока еще не сказали друг другу ни полслова.
После он неоднократно видел Сабину в театре, на декламациях в Одеоне, какие старалась не пропускать ее образованная домина для встреч и перемигиваний с женихом. Аврелий и в цирк зачастил, если там с той же целью постоянно появляется младшая дочь сенатора. Тем временем в доме декуриона Фабия вовсю шли приготовления к предстоящему торжественному бракосочетанию.
На большое свадебное пиршество Фабий милостиво и хлебосольно также просил пожаловать, так полюбившихся ему скромных юношей Аврелия со Скевием. Пожалуй, молодого Романиана из Тагасты он никогда не заставал в библиотеке, зато юный Августин там чуть ли не днюет и ночует. И он давно уж распорядился, чтобы за обедом Аврелия, всегдашним порядком устраивали, усаживали на хорошее место среди умных собеседников. Если этот сдержанный, воспитанный юноша молча слушает старших, лишь отвечая учтиво на вопросы, когда к нему обращаются, то он очень хороший удобный собеседник, кому никак нельзя отказать в немалом уме и образованности. Тем более, к обеду его приходится звать из библиотеки, где он вдумчиво интересуется списками старых и новых философов.
Аврелий в самом деле читал, переписывал для памяти труды Марка Кикерона и даже диалоги Платона, кое-что на греческом копируя по-школьному латинскими литерами. Однако главный его интерес вовсе не был образовательным и лежал в совершенно другой плоскости.
Ах, моя Сабина… Ни сон, ни явь…
С Сабиной он нередко сталкивался в библиотеке, в коридорах и переходах обширного сенаторского особняка. Но заговорить не смел, жутко боялся ее презрительного взгляда. Ой как бы ему не нарваться на жесткие, лишающие надежды на примирение резкие слова! Но наготове извинения за то опрометчивое опрокидывание, случившееся в феврале.
Наконец на шестой день в мартовские иды младшая дочь сенатора Атебана после утреннего благословения в церкви и всех помпезных церемоний по-домашнему, открывая свадебный пир, произнесла старозаветную венчальную фразу:
— Где ты Гай, там и я Гайя.
Как водится, Аврелий за невесту порадовался, преисполнился зависти к жениху, огорчился, подосадовав на свое одиночество. Потому, для приличия отведав всего, чем угощали, ушел в библиотеку искать утешения в философии и в поэзии.
Воистину неисчерпаемая бездна строк, страниц и книг касаемо плодотворящего брачного повода философически, поэтически понаписана у всех народов во всякие времена всяческими сочинителями, писателями и поэтами! Было или будь они представлены благосклонным читателям глубокомысленно, разномысленно или очень легкомысленно в словесности многоразличной и многоязычной…
Как там ни расписывать, но до сокровищ утешительного библиотечного словомудрия Аврелию в тот день и пополуденый час добраться не довелось. В коридоре его дожидались Нумант, выглядевший растерянным, чем-то огорошенным, и незнакомая пожилая рабыня. Нумант безмолвно развел руками, а старуха приложила палец к губам, затем молчаливым приглашающим жестом предложила следовать за ней.
Куда и к кому она его ведет темными переходами, Аврелий мигом сообразил, возликовал. От былой робости не осталось и следа. Слава Богу! И всем прочим мелким богам, если похищение сердца сабинянки успешно состоялось или вот-вот произойдет! Ведь ему истинно по силам божественно-красноречиво себя оправдать и обелить в ее глазах. Стоит ему лишь заговорить, а там уж он сумеет предстать в лучшем виде.
Однако же Сабина не стала слушать его посильных извинений и давно заготовленной, отрепетированной апологии. Не дожидаясь, пока старуха запрет за собой дверь, она немедля с ожесточенным сердцем обрушилась на него с горькими упреками и обвинениями:
— …Прямо на улице меня бесстыдно опрокинул, оголил, опозорил перед всеми, негодяй. Сам же тотчас трусливо смылся, испарился.
Потом без стыда и совести всюду преследовать девушку восхотел, проходу нигде не даешь. Пялится, таращится он бесцеремонно. Не насмотрелся, не нагляделся, что ли, там у терм Антонина?
Что ж, смотри, бесстыдник ненасытный! Зрелище только для тебя одного, чтоб успокоился и прекратил донимать бесчестно бедную несчастную рабыню, которой некому пожаловаться на произвол и насилие!
Сабина стояла лицом к окну и не оборачивалась к оробевшему Аврелию, враз позабывшему о красноречии. Ему и в голову не могло прийти, чего же имеет в виду его прекрасная обвинительница.
Слова Сабины не разошлись с делом. Одним движением плеч, казалось, не поднимая рук, она избавилась от столы, и все ее богатые одежды моментально скользнули к изящным тонким лодыжкам. Ослепительно обнажившись, она перешагнула через преграду на полу, сделала два-три шага, наклонилась и прочно оперлась двумя руками, взялась за низкий мраморный картибул напротив окна.
— Смотри на меня, бесстыжий развратник!!! — тем же злым голосом приказала Сабина.
Отдавать этакое приказание ей явно не стоило. Аврелий и без того глядел во все глаза, сравнивая Сабину с Кабиро, когда-то совсем так же низко склонившуюся перед статуей Кибелы. Пускай обнаженная девственная жрица, окончив молитвой ритуальный танец, пьедестала богини руками не касалась и бедра целомудренно сжимала. Чего-чего, но такую выразительную видную женственность, что у нее, что у Сабины ни за что не спрячешь, не скроешь. В добавку видно, — причем со спины! — как округляются в обе стороны барельефно пышные беломраморные светящиеся груди Сабины…
Господи! Что она себе думает? Здесь-то ведь не храм, и никакая вам богиня не покарает святотатца и нарушителя обрядового таинства…
Какие-либо иные членораздельные рассуждения Аврелия больше не посетили и мыслительные способности его надолго покинули…
Восходящим раскаянием и покаянными мыслями он стал мучиться лишь наутро, точнее, около полудня. Господи, помилуй!
Как, в каком виде возвратился домой, не помнит, Нумант дотащил…
Была ли Сабина девственницей? Об этом он тоже без малейшего тебе понятия. Хоть бы она что-то о том говорила перед вторым соитием, вроде как лежа, не стоя. Состоялось оно наверняка уже лицом к лицу на мягком ложе… Ее упругие груди утвердились у него в руках… наверное, держал спереди, не сзади…
Боже мой, на раз стоймя покрыл, словно дикий жеребец кобылу! Остальное, видать, случилось после…
В постели они оба хорошо хлебнули из одной емкой чаши крепкого каламского. Пить очень хотелось… Чуть погодя, возможно, получилось в третий раз, может, и в четвертый… Она сказала, хочет от меня еще… Вроде бы прибавилась вторая чаша вина, не меньше трех секстариев…
Ох голова моя как амфора пустопорожняя… Прибытки, убытки…
— Земия!!! Где ты там, обезьяна толстозадая? Беги скорей в лавку к Бибату, секстарий гиппонского для доминуса в похмелье!
Две лагены вина Аврелию принесла и почтительно поднесла в меру разбавленными его вторая рабыня — тринадцатилетняя красотка Афра, чем-то напоминающая Кабиро. Хозяина она боготворит и неизбывно ему благодарна за то, что забрал ее от злобной мачехи из виноградника, научил грамоте, взял с собой в Картаг.
Злючка Земия ее не обижает — Нумант не дает. Она очень боится его толстого ремня.
К вину обходительная Афра подала любимых хозяином пирожков с рыбой, спрыснула их уксусом, маслом, подогрела над жаровней и вернула им свежевыпеченную хрустящую мягкость, вкус и аромат. Заодно доложила, чем сейчас занимаются другие прислужники.
Значит, Земия понесла его одежду фулонам в стирку и штопку, — это Аврелия не удивило. Интерулу он точно разодрал в любовном приступе, а тунику уделал, когда Нумант помогал от выпитого и съеденного на брачному пиру опростаться.
Понятно, почему Нумант сегодня в цирке вместе с доминусом Скевием Романианом, если друг Скевий обещался представить орясину Нуманта ланисте Константу Фезону. Продолжить воинское обучение прислужнику можно позволить — не повредит, и убытка не принесет, если по знакомству задаром.
В Картаге Аврелий обходился услугами только трех рабов. Да и большее число тунеядцев ему ни к чему. Этих бы прокормить!
Земия вон фиванскую сдобную задницу наедает от безделья. Можно ее в Тагасту отослать, но жалко — Моника девку непреложно загонит в деревню подальше, на полевых работах корячиться.
А Скевию нравится, когда Земия в нерушимом девичестве ему голым задком мягко улыбается двумя складочками, — вспомнил Аврелий, сам усмехнулся, снова ощутил всю крепость и твердость юных сил, напружинил вытянутые вверх руки, готовясь вскочить одним прыжком. Но вставать раздумал и вновь растянулся на постели в блаженной истоме.
Слава всем богам, если достойный герой пристойно ожил, стойко жив и непреоборимо здоров!
Хорошо живет-поживает в достатке некто школяр Аврелий в инсуле на верхнем четвертом cтратуме, где никто у тебя на голове не ходит, копытами не топочет. Птицы и коты не в счет.
В большой передней у него помещаются рабы и кое-какая утварь. Ему же выше крыши достаточно небольшой комнатки. Как раз, чтобы между двумя ложами — спальным и кабинетным с высоким изголовьем — уместился низкий обеденный стол. В углу стоит картибул на ножке из обычного тесаного камня с дубовой столешницей. Вся обстанoвка тоже из простого дуба, включая две невысоких селлы. В стенах ниши: для платья, а также для свитков и восковых табличек.
Лишь три рисунка Палланта украшают кубикул. Все сработаны углем на папирусе. На одном Иисус, сгибающийся под тяжестью креста. На другом голова Иоанна Предтечи на блюде. На третьем в назидание Аврелию нарисовано грушевое дерево…
В комнате два окна, и рисунки хорошо освещены… Потолок и стены Нумант с Земией давеча побелили, трещины в цементном полу замазали, тараканов, клопов повывели…
Ни о чем особенном не думая, Аврелий безмятежно задремал. Его разбудил осторожным покашливанием Нумант, пришедший с неотложными последними известиями и разведывательными сведениями.
Вскоре Сабина с хозяйкой отправятся в церковь. Потом продолжение свадебного застолья, куда призван и доминус Аврелий. Завтра утром новобрачные на несколько дней уезжают на виллу молодого мужа. Прислужницу Сабину берут с собой.
В базилику Аврелий прихватил богомольную рабыню Афру. Так и быть, коли она истовая крещеная христианка и может часами стоять, плакать, беззвучно шепча молитвы, и безотрывно глядеть на рисунки Палланта. Грушевым деревом у нее изображается ветхозаветное древо познания добра и зла.
Аврелий не пытался ее в том разубеждать как-нибудь по-хозяйски или же по-риторски, поскольку и не знал, что же это такое. Причем еще неизвестно: какие такие искусительные сладкие плоды произрастали на том райском дереве в райском саду. Яблоки, груши, персиды или, быть может, геспериды?..
В переполненной прихожанами христианской церкви Аврелий ловко протолкнулся, выбрал себе местечко поудобнее и принялся разглядывать возлюбленную, желанную Сабину.
Она вроде бы на него и не глянула, плотно сжимала губы и молча молилась, куда-то уставившись прямо перед собой сухими злыми глазами.
А искусанные губы у нее очень мило припухли. Но в этом Аврелий уж верно не повинен. Такой дурной привычки за ним отродясь не водилось, чтобы кого-нибудь укусить в порыве страсти.
Хотя вчера всякое могло быть. Набросился, покрыл, как жеребец кобылу кроет или бык корову. Однако потом все ж таки по-людски нежно соединились, если ей хотелось еще и еще…
Тут Аврелий заново взялся сладко-томительно припоминать, как под ним высоко вздымаются и вовсе не опадают ее пышные груди, когда она распростерлась навзничь. Позабыла, милая, как с девственностью только что рассталась.
Грубовато, конечно, зашло, вышло, обернулось… И Кабиро, помнится, наставляла насчет дефлорации. Дескать, входить в узкие девичьи врата, срывать цветок девичества и сминать лепестки невинности нужно осторожно, ласково, бережно… Не то худо будет грубияну, насильнику и невеже — богиня накажет бессилием…
Аврелий припомнил мужественные суеверия раба Нуманта, до икоты боящегося Кабиро, и едва не расхохотался от всей души. Благо спохватился — он все-таки в церкви, не в лупанаре, надобно благочестие и благочиние блюсти. Всесильный Господь Вседержитель за кощунство накажет так, что и предположить тебе невозможно.
По окончании христианской вечерни та самая старая сводня из фамилии Атебанов на ступенях базилики сунула в руки Аврелия кожаную буллу с коротенькой запиской от Сабины. В ней она его предупреждала, что уезжает на пять дней, чтоб не вздумал ей изменить, бросить, позабыть… Не то ой плохо ему будет…
На другой день, чуть начало смеркаться, к Аврелию в инсулу на вeрxoтуру, пыхтя, с натугой и проклятиями взoбралась Волюптия. Ну пришла, так пришла. Не выгонять же толстуху? Запечатанный гипсом кувшинчик мульсума принесла от Дефила, заодно новое письмо от Моники из Тагасты.
Какое основное дело привело Волюптию, тоже ясно. Сейчас и начнем, только перекусим и выпьем.
— Земия! Где ты там, обезьяна голозадая? Тащи пожрать доминусу…
После же случилось, стряслось невозможное, неожиданное и невероятное… Ему хотелось, а он не мог!!?
Как ни старалась опытная Волюптия искусно расшевелить любовника, утвердить его в желании, ничего твердого от ее техники не получилось, не выходило… Да и не входило никуда в никакие тебе женские врата сладостного счастья и любовного блаженства.
Страшно перепуганного растерявшегося и потерявшегося Аврелия много чего знающая и понимающая в любви Волюптия по-свойски успокоила. Мол, всякое бывает, боги милостивы, предложила переждать до восхода солнца. Зато утром все непременно наладиться, если Аврора-Эос всем музам подруга, а Купидон-Эрос у нее в первых дружках ходит.
На рассвете Волюптия, несмотря на все ее чувствительно-трогательное прилежание, опять ничего не смогла сделать. Глубоко задумавшись, она подергала себя за сосцы и предложила Аврелию съездить в деревню, посмотреть на животную случку. Тогда, мол, у него от природы твердое желание возникнет, и сила мужества благодатно возвратится.
По уходу Волюптии обессиленный ее утренними стараниями Аврелий принялся страдальчески, хмуро и мрачно размышлять, что же с ним злоключилось. Каких же богов он ненароком прогневал, если в семнадцать лет они его так злосчастно оскопили?
Так и не придя к определенным выводам, взмолился в отчаянии Иисусу, Исиде, Кибеле, даже Венере, говорят, ответственной за это дело. Может, кто-либо из них вдруг да поможет, простит, если несчастный юноша-скопец искренне раскаивается, кается самоотверженно в том, чeгo случайно совершил вольно или невольно.
Возможно, Иисус на него зло заимел, если у него в храме некий развратный юнец на полюбовницу с вожделением взирал? Либо Великая матерь богов на него обиделась, коль скоро он девственницей грубо овладел, взял без подготовки и без ласки?
В те дни Аврелий действительно искренне, самозабвенно каялся, раскаивался, в глубине душевного тела надеясь на прощение. Так поступали очень многие до него и станут делать после, простодушно или с малой хитрецой уповая на то, как бишь им удастся подкупить кого-нибудь в вышних таким-сяким раскаянием, вовсе не ханжеским, мнимым и лицемерными.
Кто из нас в конце-то концов не без греха? И отчего, ответьте ради Бога, в старом русском православии древнюю патристику перефразировали присловьем: коль не согрешил, то не покаешься, а не покаявшись, не спасешься?.. Осанна, Господи, помилуй нас, грешных!..
По окончании семидневной недели по христианскому счету в комнатку на четвертом стратуме Нумант, после того иронически переименованный из языческого Меркурия в новозаветного архангела Гавриила, благовещательно в полночь привел Сабину. И все вновь собственно встало, вернулось на ретивые юношеские круги свои. Аллилуйя! Исайя, ликуй!..
Спустя девять месяцев у Аврелия и Сабины родится внебрачный сын Адеодат.
Лишь по истечении чуть ли не тридцати лет Аврелий Августин обронит исповедальное упоминание о тяжкой предупреждающей и предостерегающей каре Господней, постигшей его в юношеском возрасте за невежественное неразумное пренебрежение святостью храма христианского.
Либо так либо иначе по-настоящему приблизиться к христианству Аврелию в юности не удалось в силу множества чисто человеческих причин и совпадений, порой становящихся обстоятельствами неопредолимого сокрушительного бессилия, подобного на олицетворенное безволие корабля и корабельщиков, движимых, несомых без кормил и без ветрила по случайной прихоти стихий-первоэлементов. Так поиск натурфилософских истин от Древа Жизни, каковое является Премудростью Господней, привел Аврелия Августина в картагскую общину окаянных манихеев.
С манихейством или, скорее всего, без него школяр-ритор Аврелий отучился два года у профессора Эпистемона Сартака и начал подумывать, как бы ему бросить это далеко не философское занятие. Если писклявый Эпистемон его по-прежнему кормит дважды, а то и трижды сваренной капустой в дурацких древних суасориях и контроверсиях, знакомых еще по грамматической школе, эдакое изощренно техническое обучение ораторскому художеству вряд ли принесет славу и деньги в правосудных ристаниях на городском форуме.
Как ни крути, кому, скажите на милость, понадобится в достославном проконсульском Картаге неопытный девятнадцатилетний судебный оратор захолустного рода-племени?
Можно и погодить еще годик, не покидать даже такую вот учебу. К тому же Моника без задержек оплачивает его риторское школярство и не слишком скупится, отпуская ему деньги на обыденные нужды…
По завершении третьего года обучения риторике в Картаге на декабрьских календах Аврелий возвратится в Тагасту. Но прежде ему предстояло по-хозяйски распорядиться не только одной своей, покамест неприкаянной жизнетворческой участью начинающего философа, грамматика и ритора.
Орясина Нумант в ногах валялся, за колени цеплялся, но таки умолил, уговорил доминуса Аврелия продать его рабом в странствующую гладиаторскую школу ланисты Константа Фезона. Поначалу на это Аврелий ни в какую не соглашался, великодушно предлагая отпустить раба на волю без каких-либо ограничивающих условий и тяжелых трудноисполнимых обязательств.
Аврелий более-менее признал в Нуманте человека, когда тот почти самостоятельно доискался, от кого-то в гладиаторской школе вызнав, откуда происходит его славное в истории имя.
Об осаде римлянами иберийского города Нуманция Аврелий читал, но его рабу, неосведомленному в книжной мудрости, о том было неведомо. Поэтому, едва Нумант заикнулся, как бы и ему, орясине, чего-нибудь прочесть, узнать касательно войны храбрых и доблестных иберийцев с римскими завоевателями, Аврелий возликовал, враз переписал на таблички нужные отрывки из историков и с помпой вручил прислужнику, дав наказ изучить и помнить.
Помимо того Аврелий наделил Нуманта когноменом Иберик, который тот непременно заполучит, обретя гражданскую свободу и права отпущенника.
Теперь же этот остолоп одурело тебе жаждет залобанить себя на целых три года в гладиаторское рабство, соблазняя хозяина огромнейшими деньгами, какие ему заплатит ланиста Констант. Ну и что, если дуролому обещана знатная выучка во владении мечом и копьем? А если Нумант ослиный погибнет в учебном или настоящем сражении, пускай Констант смертоубийства своих профессиональных воинов и рабов-учеников никак вам не одобряет?
Однако Нумант удивил и сразил Аврелия совершенно неожиданным логическим аргументом. Он его убедил и победил, доказав, что продажа некоего раба Нуманта компенсирует доминусу предоставление воли рабыне Земии. Так как она в беременной тягости от этого недостойного раба и ему, недостойному, в мечтах и в снах видится будущий сын свободным и доблестным мужем нумидийским, если у него отец и дед из отважных иберийцев.
Этакую мужскую отеческую логику доминус Аврелий счел неотразимой, и рабыня Земия обрела цивильный статус вольноотпущенницы. И в Тагасту, распродав прочие пожитки, он прибыл налегке с одной лишь Афрой, усадив ее рядом с собой в повозке издалека приехавшего за ним друга Палланта.
В то время как в Картаг Аврелий намеревается еще вернуться во всеоружии. Надолго расставаться с возлюбленной Сабиной было бы крайне нежелательно. Хотя другие женщины уже могут ее заменить в какой-то мере для полного мужского счастья и юного здоровья.
КАПИТУЛ XVII
Годы 1128-1136-й от основания Великого Рима.
Последний год империума Валентиниана, кесаря и августа Запада. От 1-го к 7-му году империума Грациана, сына Валентиниана. Четыре года империума его дяди Валента, кесаря и августа Востока. Четыре года империума Теодосия, кесаря и августа Востока.
Годы 374-382-й от Рождества Христова.
Тагаста и Картаг в проконсульской провинции Африка. От юных лет к молодым годам. В разнообразных оказиях и по достопамятным датам жизнеустроительства.
Поначалу Моника была очень недовольна непреклонным намерением сына отдаться малоденежной учительской профессии, плаксиво просила одуматься, подучиться судебной риторике еще год-другой. Все же Аврелий, хоть и не без труда, красноречиво переубедил мать в главном и сообразном. Ибо в Картаг ему должно воротиться многоуважаемым высокоученым грамматиком из Тагасты, но отнюдь не учеником, причем первым учеником пресловутого профессора-язычника.
Вот затем ему по-христиански окажет содействие влиятельный сенатор Фабий Атебан, с кем он близко знаком. Тогда и можно будет попробовать себя в ипостаси судебного оратора. Да и в Тагасте ему ничто не затрудняет как-нибудь в подходящем случае и казусе блистательно выступить на форуме, успешно защитив какого-нибудь несчастнейшего, но честнейшего человека.
Благочестивая матрона Моника с красноречивыми доводами сына согласилась. А потом же он далеко не сразу как-либо риторически ее уведомил, откуда у него с размахом взялись деньги на школьное обзаведение, если его в достатке поддержали картагские манихейцы. Тогда как тагастийские приверженцы учения пророка Мани с радостью отдадут своих детей в школу молодого единоверца-аудитора — грамматика Аврелия Августина.
Коль скоро Моника как ныне распоряжается всем достоянием и влиянием Августинов из Тагасты, от дополнительной материнской денежной помощи также отказываться не стоит. И расстраивать мать заведомо бесплодными дебатами о вероисповедальных истинах ему, почтительному сыну, тоже без надобности.
Грамматическую и начальную школу магистры Аврелий с Паллантом открыли уже на январских календах в арендованном доме. Тагаста — городишко не велик, поэтому они отрадно, без печали и нужды, устроились на окраине близ городской стены, заимев уютный учебный вестибул с деревянными колоннами, с полотняным навесом, а также приличных размеров фруктовый сад.
В инвентарном дидактическом обустройстве им здорово поспособствовал искуснейший Юлий, ставший демиургом на все руки и ремесла. Его уж никто не звал детской кличкой Сундук. И, должно быть, никогда больше не назовет.
Паллант с удовольствием, счастливо и самозабвенно с упоением занимался грамматикой со старшими учениками. В свой черед Аврелий среди прочего более всего любил возиться с самыми маленькими. В каждом из них он отчетливо видел самого себя в детстве, подмечал родственные черточки характера и насколько хватало знаний, умений, доброты прилагал максимум усилий, чтобы облегчить им утомительное и трудное овладение начальной грамотой.
«В самих чувствованиях человеческого рода против той тьмы, с которою мы рождаемся, бодрствуют и <злым> наклонностям противостоят запрещение и обучение, сами, впрочем, исполненные трудов и скорбей. Ибо что значат эти многоразличные устрашения, к каким прибегают для обуздания суетности детей? Что такое эти педели, магистры, эти хлысты, ремни, лозы, эта дисциплина, которою, по словам Священного Писания, нужно сокрушать ребра любимого сына, чтоб не вырос он непокорным? Ожесточившись, он едва ли сможет быть обуздан, а пожалуй, это и вовсе невозможно.
Что достигается этими наказаниями, как не искоренение невежества и обуздание злых желаний, с каковыми пороками мы являемся на свет? Ведь запоминаем мы с трудом, а забываем без труда, — приобретаем знания с трудом, а невежествуем без труда, — деятельны с трудом, а ленивы без труда?
Не видно ли отсюда, к чему, как бы собственной своею тяжестью, бывает склонна порочная природа и в какой помощи она нуждается, чтобы освободиться от этого?..»
Об этом епископ Августин напишет спустя сорок лет без малого, ничуть не позабыв, как учительствовал в Тагасте и стремился ни в коем разе не ожесточить внимавшие ему маленькие доверчивые сердца.
Конечно же, у него имелась ферула искусной выделки желтого, нисколь не тускнеющего, сандаракового дерева, коли уж так расстарался для старого сердечного друга производительный Юлий Арборист. И розги в глиняном горшке стоят у кафедры для порядка и дисциплинарности в напоминание всем.
Тем не менее шалунов и озорников учительский помощник Оксидрак наказывает в дальнем углу сада. Причем строго поодиночке, как распорядился магистр Аврелий. И чтоб не усердствовал там и не зверствовал. Хотя старший учитель мог бы и не выдавать ему каждый раз такое вот предостережение, когда дети ничуточки не боялись этого прохиндея Оксидрака.
Тем часом к магистру Аврелию они относились с огромным почтением и благоговением, как скоро он знает все обо всем и даже сверх того; тотчас готов ответить на какой угодно вопрос.
О непослушании не могло быть и речи, когда у них не было и капли времени скучной или утомительной. Притом очень часто в любой нежданный момент учитель мог объявить перерыв для игр в саду и беготни с мячом за оградой школы. Но с безусловным предписанием: не слишком шуметь, не мешать учиться старшим ученикам, не докучать соседям и прохожим на улице.
Учить своих воспитанников читать, писать, считать Аврелий начал практически одновременно. Тугоухих и беспамятных у него на уроках не было и не могло быть. Потому как примитивная грамотность доступна от Всевышнего всякому человеку от мала до велика, наделенному духом разума и телом душевным.
Уроды, калеки и душевнобольные в расчет не берутся, но таких монстров в школу двух умнейших магистров Аврелия и Палланта грамотные родители, скажем, не только из манихейцев, не отправляли, не приводили.
По прошествии десяти месяцев, — в них как водится, добрую половину составляют праздничные фестивусы и каникулярные дни, — все без исключения разумные ученики Аврелия умели находить в слитных строчках и прочитывать знакомые слова. Он также научил их складывать, вычитать, умножать, делить до ста. Ну а писать под диктовку, они уж у него пишут, наверное, начиная с весны.
Да-да, именно, ведь тогда Юлий был еще жив, — грустно припомнил Аврелий. Резную ферулу принес, просто так подарил… Был когда-то мальчик Арка, и нет его…
Оперария Юлия Арбориста грамматик Аврелий Августин расчетливо перетянул в конфессию безупречного пророка Мани, еще немного и насовсем бы разубедил в пустословном христианстве. Но тот в ноябрьские календы вдруг где-то подхватил болотную трясавицу, прошибло его, бедолагу, ознобом до смертного пота и потери чувств. Тут-то недоумки-родственники и невежественный пресвитер взяли да и окрестили его тело в бессознательном состоянии чин-чинарем по христианскому обряду.
Когда Аврелий узнал о том от матери, он долго смеялся. Правда, не при ней. И друг Паллант его веселье вряд ли бы разделил. Что с них возьмешь? Одно слово — христиане.
Рассчитывал посмеяться вместе с Юлием. Поведать, как матрона Моника воздевает руки к небу, закатывает глаза и говорит о некоем божественном чуде, какое привело больного в чувства и подняло на ноги.
Юлий вроде как казался полностью оправившемся от болезни. На веселиться по случаю чудесного выздоровления и бесчувственного, беспамятного таинства ничуть не стал. Он и слушать не захотел издевательские насмешки Аврелия над его неодушевленным телесным крещением.
Напротив всего, весельчак и толстяк Сундук, раньше во всем ему послушный и уважительный, потрясенно отшатнулся от него в невообразимом ужасе. Очень независимым тоном он заявил: если Аврелий желает оставаться его другом, то чтоб и помыслить не смел произносить в его присутствии такие кощунства и богохульства.
Через несколько дней проныра Оксидрак сообщил, что Юлий умер. Лихоманка-трясавица лишь ненадолго отступила, чтобы с новой силой вернуться фатально и летально.
Немного погодя поступило известие из Рима о кончине кесаря Валентиниана, умершего от апоплексического удара. Империум Запада достался его сыну Грациану.
Тогда на римские новости и новшества Аврелий едва ли обратил внимание, и республиканско-имперские разговоры ничуть его не касались, когда неумолимая смерть неслышной, но уверенной поступью неотвратимо приближалась к его школьному другу Палланту.
С прошлой весны Паллант Ситак начал видимым образом слабеть. Он и в школе-то у Скрибона вовсе не отличался крепким здоровьем, но к пасхальной неделе еще больше похудел, побледнел, осунулся. У него, бывало, шла горлом кровь, много и долго ходить ему стало трудно. Порой во время уроков, он садился на высокий учительский стул и был не в силах покинуть его без посторонней помощи.
Ни жарким летом, ни по наступлении дождливой осени никаких улучшений в его состоянии не произошло. Паллант всех уверял, будто в холодную погоду чувствует себя превосходно, отменно пребывая в бодром уме и здравом теле. Однако это было не так; и все это видели, отмечали с печалью и грустью.
Хотя никто не замечал, как вместе с Паллантом тихо угасала, медленно истаивала, постепенно теряя былую красоту, рабыня Афра, старательно прислуживающая магистрам Палланту и Аврелию в школе.
Аврелий потом вспомнит: еще в Картаге, приметив интерес Афры к его рисункам, Паллант ей подарил один набросок, изображавший женщину с ребенком на руках. Их лица были лишь намечены, но он как-то ухитрился углем на папирусе передать сияние, окружавшее две фигуры.
Рисунок друга Палланта друг Аврелий громко раскритиковал, разбранил, назвав неудачным подражанием идолу египетской богини Исиды, вскармливающей женским молоком божественного младенца Гора, кого язычники-греки полагают Аполлоном. Тем не менее, Афра обрела свою священную христианскую реликвию; в ней она, должно быть, увидела образ Богоматери с новорожденным Иисусом.
Наверное, с тех пор девочка сотворила себе кумира из Палланта, умеющего переносить ее религиозные фантазии и мечтания на ленты папируса, придавая им олицетворенную вещественность, по жизни превосходящую натуру. Или же она попросту, от девичьей природы, безответно и безнадежно влюбилась в красивого улыбчивого юношу, каким предстал перед ее глазами воодушевленный счастливо сбывающейся мечтой смеющийся Паллант, с восторгом приехавший в Картаг.
С той же счастливой восторженной улыбкой на устах Паллант Ситак умер в ночной зимней тиши во сне в первый день холодных декабрьских календ, когда на влажную землю бесшумно опускались и таяли легкие снежинки. Ведь его давняя полудетская школьная мечта блаженно свершилась, и целый год он неизменно пребывал безмерно счастливым, находился рядом с любимейшим другом, радостно отдаваясь любимому делу.
На шестой день после христианского погребения и горестного оплакивания Палланта для всех неожиданно умерла Афра. Пришла возложить на его могилу незатейливую свежую хвойную зелень и тепличные цветы, роскошно присланные издалека другом Скевием, устало прилегла рядом и больше не встала. Когда нянька Эвнойя подошла к ней, чтобы поднять и отвести домой, она коснулась рукой похолодевшего бездыханного тела, какое оставили и жизнь и душа, неслышно отлетевшая к иному свету в непостижимое пакибытие.
Три скоропостижные близкие смерти для Аврелия слились в одну — окончательную и безвозвратную потерю былого прежнего существования.
Смерть-утрата может быть внезапной, в одночасье настигшей Юлия, дружка по детским играм. Случается ей подходить и медлительно, неостановимо, шаг за шагом готовить избранное ею живое существо, его ближних к неизбежному. Так было с Паллантом. Или же смертельная внезапность и смертоносная неостановимость происходят как вдруг, подобно на окончание краткого земного пути мечтательной девушки-рабыни Афры.
Тогда на две нундины Аврелий впал в тяжкое, ему казалось, неизбывное страдание; его одолели душевные муки и беспрестанная, едва ли исповедимая и исследимая скорбь. Таково горькое чувство потери удалившегося от нас в недостижимость материального небытия всего нам сладостно близкого и дорогого.
«…Какою печалью омрачилось сердце мое! Куда бы я ни посмотрел, всюду была смерть. Родной город стал для меня камерой пыток, отцовский дом — обителью беспросветного горя. Все, чем мы жили сообща, без него превратилось в лютую муку.
Повсюду искали его глаза мои, а его не было. Я возненавидел все, потому что нигде его нет, и никто уж не мог мне сказать: вот он придет, как говорили об отсутствующем, когда он был жив.
Предстал я сам для себя великой загадкой и спрашивал душу свою, почему она печальна и почему так смущает меня, и не знала она, что ответить мне. И если я говорил: надейся на Бога, она справедливо не слушалась меня, потому что человек, коего я так любил и потерял, был подлиннее и лучше, чем призрак, на какого ей велено было надеяться.
Только плач был мне сладостен, и он наследовал другу моему в усладе души моей…
Теперь, Господи, это уже прошло, и время залечило мою рану. Можно ли мне услышать от Тебя, от Того, Кто есть Истина, можно ли преклонить ухо моего сердца к устам Твоим и узнать от Тебя, почему плач сладок несчастным? Разве Ты, хотя и всюду присутствуя, отбрасываешь прочь от себя наше несчастье?
Ты пребываешь в Себе; мы кружимся в житейских переломах. И, однако, если бы плач наш не доходил до ушей Твоих, ничего не осталось бы от надежды нашей.
Почему с жизненной горечи срываем мы сладкий плод стенания и плач, вздохи и жалобы? Или сладко то, что мы надеемся быть услышаны Тобою?
Это верно в отношении молитв, какие дышат желанием дойти до Тебя. Но в печали об утере и в той скорби, окутывавшей меня? Я ведь не надеялся, что он оживет, и не этого просил своими слезами. Я только горевал и плакал, потерян я был и несчастен, потерял я радость свою.
Или плач, горестный сам по себе, услаждает нас, пресытившихся тем, чем мы когда-то наслаждались и что теперь внушает нам отвращение?..
Я был несчастен, и несчастна всякая душа, прикованная любовью к тому, что смертно: она разрывается, теряя, и тогда понимает, в чем ее несчастье, каким несчастна была еще и до потери своей.
Таково было состояние мое в то время. Я горько плакал и находил успокоение в этой горечи. Так несчастен я был, и дороже моего друга оказалась для меня эта самая несчастная жизнь. Я, конечно, хотел бы ее изменить, но также не желал бы утратить ее, как и его.
Во мне же родилось какое-то чувство совершенно этому противоположное — было у меня и жестокое отвращение к жизни и страх перед смертью. Я думаю, чем больше я его любил, тем больше ненавидел я смерть и боялся, как лютого врага, ее, отнявшую его у меня. Вдруг, думал я, поглотит она и всех людей, коли могла она унести его…
О, безумие, не умеющее любить человека, как полагается человеку! О, глупец, возмущающийся человеческой участью! Таким был я тогда: я бушевал, вздыхал, плакал, был в расстройстве, не было у меня ни покоя, ни рассуждения.
Повсюду со мной была моя растерзанная, окровавленная душа, и ей невтерпеж было со мной, а я не находил места, куда ее пристроить. Обильные пиры, любовные возлежания с женщинами, самые книги и стихи — ничто не давало ей покоя. Все внушало ужас, даже дневной свет; все, что не было им, было отвратительно и ненавистно. Только в слезах и стенаниях чуть-чуть отдыхала душа моя, но когда приходилось забирать ее оттуда, тяжким грузом ложилось на меня мое несчастье. К Тебе, Господи, надо было вознести ее и у Тебя лечить.
Я знал это, но и не хотел и не мог, и подавно я не думал о Тебе, как о чем-то прочном и верном. Не Ты ведь, а пустой призрак и мое заблуждение были моим богом.
И если я пытался пристроить душу мою тут, чтобы она отдохнула, то она катилась в пустоте и опять обрушивалась на меня. Я же оставался сам с собой — злосчастное место, где я не мог быть и откуда не мог уйти.
Куда мое сердце убежало бы от моего сердца? Куда убежал бы я от самого себя? Куда не пошел бы вслед за собой?..»
На Рождество Христово, совпадающее с продолжительными языческими сатурналиями и восточными празднованиями солнечного Митры, Аврелий пополудни порывно поднялся с мягкого ложа, оседлал чалую кобылу Горму и решительно наладился, направился в Картаг.
Правда, прежде он кое-как примирился с жизнью, с уготованной ему судьбой и отчасти с самим собой. Притом благонамеренно помирился с Моникой в благостный рождественский сочельник, испокон веков считающийся семейным праздником.
С матерью Аврелий пребывал в довольно неладных, натянутых, прохладных отношениях, время от времени разгоряченно перемежаемых спорами и ссорами на религиозную тему. Все из-за того, что накануне октябрьских календ, он взялся в судебном порядке защитить одного молодого человека, скандально известного в городе сектанта-манихея, сына вполне уважаемых родителей-христиан.
Благочестивейшая матрона Моника тем делом чудовищно возмутилась, потребовала, чтоб ее сын ни в коем случае в него не встревал. Слово поперек слова, но так обернулось, и Аврелий признался ей в приверженности к той же секте, какую мать обозвала сборищем богомерзких еретиков-гностиков. В ответ же услышала от сына о своем бездумном идолопоклонстве перед буквой фальшивых еврейских мифов, следовании невежественным суевериям простонародья, не знающего и не понимающего, кем на самом деле был сын Благого отца Иисус, обладавший только видимостью человеческой, но образом первочеловека будучи и бывши наделен.
Долго дискутировать на равных с лукаво мудрствующим сыном-еретиком мать не смогла, впала в нерассуждающую ярость, осыпала его непристойной безобразной бранью. Вскоре выдохлась, залилась горючими слезами и принялась молиться своему Христу, предоставив сыну делать все, чего ему в голову взбредет, лишь бы не выставлялся в городе на позорище с этим чудовищным манихейством.
О том Аврелия и просить-то не надо, если он вовсе не хотел терять кого-либо из хороших учеников, чьи родители — православные и твердокаменные христолюбцы с камнем веры на сердце и за пазухой. А те тяжеленькие камушки, сколь известно из святых писаний, суть камень преткновения и скала соблазна, как для искренних манихеев, так и для лицемерящих христиан-католиков.
Пусть тот, кто из вас совсем без греха, фарисеи, бросается на всех с камнями! Конечно, если хватит силенок добросить…
В присносущих силах и возможностях в преддверии того приснопамятного судебного присутствия Аврелий Августин был несокрушимо уверен. До осенне-зимней слабости души и тела было еще далеко.
А тут пришло изумительное и восхитительное задушевное письмо от Скевия Романиана, этим летом ожидаемо и долгожданно отчаянно разбогатевшего. Как ни подсчитывай, его немыслимо состоятельный дядюшка благополучно скончался, отписав любимейшему племяннику из Тагасты основную часть старого фамильного наследия Романианов, издавна владеющих приморскими имениями в Мавретании, Гетулии и на крайнем западе Нумидии.
Теперь вот крайне обеспеченному Скевию втемяшилась в озорную тыковку невообразимо фантастическая мысль-ноэма устроить в достославном Картаге риторскую научную школу. Сам грозится записаться в нее самым первым и самым главным учеником, забросив все дела, если управителей и без него, молодого, хватит. И каждому достанется жирный кусок тукеттума, поскольку за всеми пройдохами и прохвостами не присмотришь, не углядишь, где, сколько, как и кто из них уворует.
Не обращая внимания на риторские периоды Скевия, предельно ясно: задумка его умопомрачительная, сногсшибательная и зубодробительная. Поистине греческая панкратия и латинский гарпастон в одной философской амфоре!
Впрочем, думать, рассуждать о том философски было рановато, когда молодому грамматику и ритору Аврелию Августину предстояло успешно выступить в защиту человека, обвиненного в жестоком любострастном насилии и надругательстве над невинной целомудренной дочерью некоего многоуважаемого правоверного и христолюбивого куриала. Причем пострадавшая сторона в лице оскорбившегося отца с опозоренной дочерью ни много ни мало потребовала покрыть ее фамильное бесчестье смертной казнью насильника. Хотя на женитьбу и денежную компенсацию он, она, они все же милосердно соглашались, коли так решат глубокоуважаемые судьи.
Надо же! Это вам не контроверсия Сенеки Старшего, если к делу прилагаются многочисленные привходящие тайные туманные обстоятельств, какие на суде полагается сделать явными и ясными.
Настырные требования обвинения Аврелия саркастически потешали, он заранее предвкушал победу и оправдание подзащитного. Не меньше и не больше, оттого что с якобы невинной и целомудренной жертвой насилия богоравный юноша Аврелий очень тесно ознакомился более пяти лет тому назад, когда ее темной ночью рабы доставили к нему в загородный домишко в занавешенной лектике.
На память защитник Аврелий никогда не жаловался и хорошо помнит имя ее беспутной кормилицы-сводни, какое ему с возмущением сообщил Нумант. Ведь родная мать Нуманта, почтенная Эвнойя, выкормила, вынянчила его хозяина. Пускай на молочное родство с ним знающий свое место раб вовсе не претендовал, но намекнуть при случае вполне мог.
Рука руку моет — находим мы по такому поводу старинную греческую поговорку в «Сатириконе» Гая Петрония, — заметил Аврелий. Тем временем его руки совсем не забыли крупную родинку, приютившуюся над самыми девичьим воротцами у той, кого словно бы на днях насильно лишили невинности и целомудрия.
Включая пресловутого обвиняемого, о прочих старых и новых полюбовниках мнимой жертвы насилия начинающего адвоката Аврелия осведомил, уведомил вездесущий и пронырливый раб Оксидрак. Двое из них уместно не отказались дать показания на суде. И оба язычника со смехом припомнили осязаемо ту самую особую примету в меховой промежности у благонравной дочери благочестивого христианского отца.
В том, отчего его имя никак не всплывет на суде в каком-либо дурном свете, Аврелий нимало не сомневался. Тут уж спасибо Нуманту, в свое время застращавшего любвеобильных ночных посетительниц его доминуса ужаснейшей карой богини Кибелы. Смотрите, мол, страшитесь разгневать Великую матерь, если ту особу, кто разболтает всему свету и нарушит покров таинства священного эротического обряда, она непременно подвергнет безвозвратному женственному оскоплению.
По мнению Нуманта, оно состоит в том, что женский промежный сосуд любви склеится, слипнется, зарастет, заровняется… И через некоторое время на ровном месте останется маленькая дырочка, чтобы малую нужду справить. Притом груди у той, кому в острастку устрашающе мстит гневная богиня, усыхают, опадают, тоже становятся плоской равнинкой с чисто мужскими мизерными сосочками.
Одну такую наказанную оскоплением бывшую женщину он, честнейший человек, готовый поклясться всеми богами, сам собственными своими глазами видел совсем голой в термах в Мадавре на сатурналиях, — страшно сказывал Нумант с выпученными дальше некуда гляделками.
Аврелий и не пытался убедить суевера в том, что в термах тот выкатил в изумлении глазищи на достаточно известного мадаврского андрогина, признанного таковым учеными медиками, а по суду объявленного мужчиной-отпущенником. Этот судебный казус профессор Скрибон разбирал с майористами, потому как урод, купленный в виде женщины-рабыни, добился-таки свободы от хозяина, супротив римских законов вынуждавшего его заниматься содомитской проституцией.
Подумав о Нуманте, Аврелий прикинул, стоит или нет потребовать дознания под пыткой той кормилицы-сводни, чтоб доложила обо всех шашнях воспитанницы, каким она бесстыдно пособничала. Решил: это ни к чему, так же, как и допрос с пристрастием рабов-носильщиков.
Ведь едва запахнет жареным в пыточном застенке, они тут же все выложат и гнева богини не испугаются. Тогда и защитнику, тоже обляпанном в грязи, ой неблагонравно придется. Суеверия суевериями, но не до такой же степени?
Предварительные прикидки обрели подтверждение на суде, когда нежданное появление Аврелия в качестве противоположной стороны подвергло мнимую жертву насилия в суеверный ужас. Она больно ущипнула отца за бедро. Видимо, по-родственному, непроизвольно.
Тогда как родитель ничего не понял и важно кивал напыщенной речи обвинителя. Присутствие вокруг всех тех, кого его дочь одарила телесной благосклонностью, надутого папаса очевидно, также не обеспокоило.
Он только слегка встревожился, когда защитник окольно повел речь о неких деликатных особенностях женского телосложения в свете предполагаемого насилия. Дескать, их повреждение должно указать на грубость воздействия. Возможно, необходим еще один досмотр женщиной-повитухой…
Вероятно, отец, наверняка с лысеньких младенческих лет дочери, знал об этой ее родимой особенности. Но нисколько не мог предположить, что она обернется особой приметой, о которой осведомлены воочию и на ощупь многие и многие ему незнакомые и полузнакомые мужчины.
Это уже пошла главная часть защитительной речи с рекогнициями-узнаваниями и театральными перипетиями-переломами…
Дочь оказалась сообразительнее отца, и дошло до нее быстрее, почему сейчас строгие судьи удалят лишнюю публику из присутственного места и начнут наголо рассматривать, изучать эту общеизвестную особую примету. Вот такого урона фамильной чести, выставленной в голом виде на форуме, отец ей ни за что не простит.
В то время как тупому родителю, что-то неслышно шептал на ухо обвинитель, а трое судей-магистратов с каменными обязательными лицами безмолвно прослушивали адвокатское красноречие, предполагаемая жертва насилия вдруг, будто бы только что, наконец, заметила стоящего под охраной предполагаемого насильника и громозвучно, театрально вскричала:
— Господи, Боже милосердный!!! Нет! Это не тот, а другой! Тот, назвавшийся его именем, был толстым и низким, а этот — высокий и стройный…
Нет! Дайте мне сказать…
Аврелий совсем не пытался сетовать на то, что его так невежливо и страстно прервали. Он картинно распростер руки, охватив в миролюбивом объятии весь белый свет. На нет и суда нет!
Слава в вышних Богу, ниспосылающему и в христианах благоволение, если к его подзащитному с большего и в дальнейшем не имеется каких-либо претензий и притязаний.
Как поведал Аврелию по дороге в Картаг всезнающий отпущенник Оксидрак, один из судей все-таки возымел желание подробно изучить все обстоятельства дела и рассмотреть поближе благонравие девушки, почему-то подвергшейся насилию. Однако коллеги большинством голосов его отговорили от такого неблагодарного занятия, когда закрыто совещались, чего же им делать, если обвиняемый вовсе не обвиняемый, а претерпевшая как бы девица в расстроенных чувствах не помнит: было или не было насилия. И девственность она-де потеряла, когда дура-нянька ее неловко зацепила, обмывая дитя в мелком лабруме…
Оксидрак обрел свободу по завещанию Палланта, попросившего своего бывшего раба-педагога и заботливого дядьку-воспитателя приглядеть за другом Аврелием в Картаге. Смиренно ожидая скорого прихода смерти, Паллант уж не мечтал о риторской школе и от всей души, уходящей в посмертие, желал любимейшему другу долгих счастливых лет в жизни, исполненной больших предержащих радостей и малых преходящих печалей.
Память об ушедшем сблизила Аврелия и Оксидрака больше, чем дорога обычно сближает попутчиков. Позабыв о плутоватости и хитроумии, отпущенник, обязавшийся всемерно помогать милому дружку блаженной памяти покойного хозяина, откровенно рассказал Аврелию, почему в Мадавре он нарочно познакомил его со жрицей Кабиро. Уж очень опасался, как бы не возникла ненароком между двумя подростками рукоблудная платоническая любовь, за какую можно было понести жестокое наказание в школе профессора Скрибона.
Оттого и наказывал Оксидрак собственных учеников Палланта и Аврелия весьма умеренно. Хотя и понимал: подобное мягкосердечие до добра не доведет. Bзять хотя бы, припомнить того же мелкого пакостника и пересмешника Зимородка, то есть сынка скобяного торговца Киртака. Вот уж где будущий разбойник растет-подрастает!
Оксидрак, кстати, одобрил умное решение Аврелия с бухты-барахты не тащить с собой в Картаг безмозглых рабов. Пользы от них при обустройстве на новом месте с гулькин нос, а баловства для этих животных в большом-то городе сверх головы на большой палец промеж ног, что для женского рода, что для мужского. Упомянуть хотя бы пьяницу, ворюгу и развратника Икела.
Вот почтенная Эвнойя подумает и решит, сколько и кого ей полезней иметь под своим началом в Картаге. Домина-матрона Моника Августиана с ней непременно согласиться. Между тем он, Оксидрак Паллантиан, подберет апартаменты в пристойной инсуле для достойного размещения профессора Аврелия и его домочадцев.
Дать Эвнойю в услужение Аврелию предложила Моника, и он не стал ей прекословить. Он также с легким сердцем вручил ей бразды правления всем их совместным состоянием и достоянием в Тагасте, оставив на ее благоусмотрение денежные суммы, какими она сможет его поддержать.
Небольшие долги по грамматической школе он покрыл, а денег на путевые издержки ему хватит. В Картаге ему непременно окажут существенную поддержку Скевий Романиан и влиятельные манихейцы, с подачи все того же изобретательного Скевия нынче одержимые мыслями о риторской школе под эгидой пророка Мани. Вслед и об общественных суммах от картагских декурионов можно будет во благовремении подумать.
Непрошенного вмешательства манихеев в будущую преподавательскую и философскую деятельность Аврелий Августин нисколько не опасался, сколь скоро обучение судебной риторике есть дело публичное, имперское, находящееся под неусыпным контролем городских магистратов. Тем более, мадаврскому грамматику и ритору Клодию Скрибону как-то удавалось благополучно справляться с наскоками и натиском жестоковыйных твердолобых христиан, какие не чета мягкосердечным и благодушным манихейцам, склонным прислушиваться к голосу научного разума и риторической благорассудительности.
Впрочем, у всяких убого и бессмысленно верующих невежество да глупость частенько прикрываются именами простоты и невинности, — скептически отметил молодой философ Аврелий. Богоискательством он уже намеревался заняться самостоятельно и самолично, не обращаясь к помощи тех, кого он полагал нищими умом, словом и знанием.
Безусловно, трое хороших, знающих, преданных учеников у него уже наличествуют. Он сам когда-то привел в манихейскую общину молодых школяров Гонората Масинту, Небридия Дамара и совсем мальчишку, минориста-грамматика Алипия Адгербала, отучившегося у него три месяца в Тагасте. Все трое теперь готовы записаться к нему в школяры-риторы, как сообщает друг Скевий, кого он тоже сделал кое-каким последователем религиозно-философского учения безупречного пророка Мани.
Пожалуй, благородного Скевия Вагу Романиана по жизни больше привлекают лошади и женщины, благословенное в веках любомудрие он вовсе не отрицает насмешливо и презрительно. В противоположность невежественной черни из христиан, Скевий отроду серьезно, основательно способен выносить из сокровищницы книжных знаний новые и старые истины. Гипотетически и фундаментально, — истинно скажем по-гречески и по-латыни.
Тем временем Аврелий ничего не говорил Скевию об основательных и длительных отношениях с Сабиной, потому что боялся насмешек в беспробудной, беспросыпной приверженности одному и тому же внебрачному супружескому ложу. Или тому подобных сатирических высказываний-сентенций на ту же извечную тему.
Как водится, фигура умолчания помогла. Насмешливый Скевий о Сабине и думать вскоре позабыл. Мало ли на свете беловолосых рабынь-сабинянок с большущей маммой сверху и вместительной вагиной снизу? Друг Аврелий поимел кое-какое вагинальное дельце, ну и Бог с ней.
Зато Оксидраку о сабинянке из фамилии сенатора Фабия Атебана следовало кое-что сообщить, чтоб проныра-отпущенник все вызнал и разузнал о ней и ее трехгодовалом сыне. Выводы пускай делает какие угодно, но эти сведения Аврелию очень и очень необходимы, так же, как и сама Сабина, к кому он счастливо и надолго возвращается…
Первые три-четыре года обучения довольно образованных и умных учеников, перешедших к нему от картагских учителей грамматики и риторики, включая славных юношей, приехавших из других городов, чтобы поучиться именно у него, показались Аврелию сплошным праздником и непрерывным удовольствием, удивительным образом превратившимся в любимое занятие. Он опять с предвкушением просыпался перед рассветом с приятным чувством, что вот сейчас, солидно ступая, в сопровождении рабов небезызвестный профессор Аврелий Августин прошествует в собственную школу натурфилософской и судебной риторики близ форума достославного столичного Картага.
Ему было мало дела до страшного поражения, какое римским легионам нанесли вестготы дукса Фритигерна в Адрианопольском сражении. Он лишь пожал плечами, услыхав о гибели кесаря Валента и о том, что империум на Востоке достался успешному военачальнику иберийцу Теодосию. Постоянные войны на востоке и на западе молодого профессора Аврелия никоим краем не касались, если на южном африканском лимисе римского домината все спокойно и благословенно.
К ущемлению имущественных прав языческих храмов и жрецов он отнесся вполне апатически. Равно его ничуть не взволновали эдикты и попытки кесаря Грациана, призванные хоть как-то упорядочить бесчисленные христианские ереси, секты, претендовавшие на владение одними и теми же храмовыми зданиями и городскими базиликами.
В то же время немногочисленные общины манихейцев, подобно обособленным экклесиям христиан-гностиков, разбросанным тут и там на западе, востоке и юге, духовно и душевно, отчасти телесно, существовали отдельно от римского домината, если они не вносят мятежного беспорядка, не создают по-республикански беспокойств местным провинциальным декурионам и декемвирам. Когда куриалы и квириты благоразумно отдают кесарям кесарево, им дозволяется поклоняться всевозможным символам веры, какие только они себе изберут благоугодно.
Совсем противоположное дело — правоверные католические христиане, действующие, проповедующие в том же частном порядке, но на дух тебе не переносящие общественного инаковерия и религиозного инакомыслия.
Вообще-то, и Аврелий не так чтобы очень удовлетворен принадлежностью к общине картагских манихеев. Скажем, недавно появившийся в Картаге превознесенный дальше некуда манихейский проповедник Фавст не произвел на него особого впечатления. Одного риторического красноречия все же маловато, кабы развивать натурфилософское умопостижение миропорядка. Нужны также прочные знания, обеспеченные свободными искусствами, направляющими познавательную силу разума, взыскующего неопровержимые научные истины.
Ко всему прочему, уже без натурфилософии и высоких материй, в последнее время денег от манихеев на дальнейшее развитие школы жди не дождешься, не допросишься. На поездку Небридия и еще двух учеников в Рим и Александрию поскупились, скряги. И у друга Скевия не очень-то попросишь, когда он в Кесарийской Мавретании, улаживает запутанные имущественные дела, тяжбы и споры.
Моника, спору нет, оговоренные деньги исправно присылает из Тагасты. Но в нагрузку в каждом письме слезоточиво умоляет отречься от греховного манихейства. А сенатор Фабий, хоть и способствовал в получении дотаций из городского пекуния, едва ли не при всякой встрече укоризненно напоминает о том, что негоже приставлять новые заплаты единобожия к ветхой расползающейся одежде языческой религии.
Надо отдать ему должное: в отличие от Моники, философски образованный нумидийский христианин Фабий рассматривает учение Мани в категориях и качествах своеобразной разновидности суесловного язычества, занесенного на христианскую почву из Индии и Персии. Ему убедительно вторит просвещенный книгочей и владелец книжной лавки ионийский грек Капитон.
Со всеми тремя неизменными оппонентами Аврелий с некоторыми оговорками в основном благожелательно соглашается, ничуть не желая побивать их неопровержимыми риторическими доводами, логическими аргументами, софистическими опровержениями. И тем самым доводить дело до разрыва хороших, доброжелательных отношений, какие его полностью устраивают.
Например, Фабий, когда к нему в дом вернулась овдовевшая младшая дочь, отпустил на волю ее прислужницу Сабину вместе с сыном Адеодатом. Поскольку Сабина раскаялась во всех грехах, окрестилась душой и телом, обратившись в примерную христианку, он ее к себе приблизил, определил грамотной и трудолюбивой, честной отпущеннице вести целый ряд экономических и крематических дел. То есть кое в чем доверил дом и деньги, выразимся уже не по-гречески, а на материнской латыни.
А еще через пару лет молодой отпущеннице Сабинe Галактиссe по праву предоставлена должность почтенной домоправительницы сенатора Фабия Метелла Атебана. Пускай им злоязычные сплетницы и сплетники зачислили ее в любовницы молодящегося старика, Аврелий-то лучше всех знает, кому периодически целиком принадлежат тело и душа Сабины. Каморка под крышей над портиком книготорговли грека Капитона частенько используется в самых приятно-сладостных сношениях, какие только могут быть между страстно любящими друг друга мужчиной и женщиной.
Аврелий также довольно часто под разными благовидными предлогами посещал дом Фабия, чтобы как будто невзначай в силу научно-математического интереса к гороскопу мальчика Адеодата, посмотреть, как подрастает тайный сын сожительства отпущенницы Сабины и его самого. Внебрачный ребенок, оно конечно, не совсем нормально, но и с этим его отцу и матери должно смириться благорассудительно и благодарить Всевышнего за счастливое благоденствие.
«Недалеко от нас всемогущество Божие, даже если мы далеки от Бога…»
КАПИТУЛ XVIII
Год 1137-й от основания Великого Рима.
8-й год империума Грациана, августа и кесаря Запада. 5-й год империума Теодосия, августа и кесаря Востока.
Год 383-й от Рождества Христова.
Картаг и Рим. От мартовских ид к декабрьским нонам.
«Правильны ли воспоминания мои, Господи, Боже мой, судья моей совести?
Сердце мое и память моя открыты Тебе; Ты уже вел меня в глубокой тайне Промысла Твоего и обращал лицом к постыдным заблуждениям моим, чтобы я их позднее увидел и возненавидел…»
Однажды поздним вечером, едва приступив к философским размышлениям и раздумьям над третьим фолиумом давно начатого трактата «О прекрасном и соответственном», Аврелий не глядя отложил в сторону чистую восковую дощечку и любимое костяное стило. Так у него пришлось к слову и к мысли, чтобы, собственно, задуматься о его отношениях с возлюбленной Сабиной.
Невидящим взором он смотрел на тройной светильник, призадумался о темной вечерней поре, какую называют светильным факсом, и с удивлением обнаружил неожиданное — как ему вдруг стало кое-что предельно ясно.
Подумать только! За последние два, может, три года он ни разу по собственной воле не добивался, не домогался любовных свиданий с Сабиной. Всегда почин принадлежал исключительно ей самой, активно и действительно, а он пассивно, филологически сострадательно, откликался на ее призывы и позывы.
Не зовет, не пишет любимая? Ну и ладно, коли и так хорошо. Так оно тебе и было: неосмысленно и безотчетно. О чем тут рассуждать, если они без памяти и без оглядки любят друг друга?
Однако в действительности оглядеться все же надо…
Как возлюбленная женщина она ему по-прежнему дорога, необходима, другие ему без надобности. Но его тело чутко и любовно откликается на ее телесность лишь в прямой видимости и в близких, тесных соприкосновениях. Где-то вдали ее будто бы и нет для него.
Призывает, когда он ей нужен, когда не занята выше крыши делами, когда можно не опасаться нежелательного зачатия, когда еще не наступила месячная женская кровоточивость… Или же в любой день и час, какой она сочтет ей подходящим, выгодным. Хитро высчитает, оборотисто вычислит…
Вот теперь прекрасная любимая Сабина предъявляет ему счет за незаконное рождение их сына во грехе и пороке. Грозит рассказать обо всем десятилетнему ребенку, ими ненароком прижитому сыну Адеодату. А куда это годится?
Монике она по большому счету не нравится, вернее, разонравилась по мере пристрастного делового знакомства. Мать вообще не доверяет женщинам отпущенницам, получающим свободу не по завещанию, а неизвестно за какие заслуги и темные делишки. Говорят, выкормила толстым выменем внука сенатора. И это все?
Наверное, собственным телом еще никому и нигде не удавалось расплатиться за свободу. Скорей уж, в рабство попадешь, безнравственно, бездумно следуя телесным потребностям и потакая прихотям неразумной плоти.
Мать как-то в застарелой горечи проговорилась… Видимо, того не хотела, непроизвольно у нее вырвалось от души. Дескать, видит в любом законном браке, заключаемом в семьях достопочтеннейших куриалов, всего только продажу свободной девушки в рабство к мужу и в его фамилию. Так сказать, у вас — товар, у нас — купец…
Зато нашей распрекрасной Сабине нынче очень не терпится замуж, если, как ей возомнилось, будущего супруга удалось намертво прижать к ложбинке промежду изобильным грудями и тесно объять иным женственным вместилищем-влагалищем мужского естества. Тот еще вид рабства, надо сказать…
Отсюда возникает попутный, естественный вопрос, если Бог с ней, с нашей Сабиной. Помимо всего прочего не угодил ли некий прекраснодушный философ Аврелий, эстетик и скептик, в рабскую телесную зависимость к манихеям? От христианской сервильности и невежества силится избавиться, а попал в еще худшую неволю, к другим невеждам?..
В ту пору Аврелий с материнским христианством исподволь, постепенно, просветленно сближался, а от манихейства понемногу отдалялся, уходил все дальше и дальше от религиозных заблуждений, каким он следовал, какие любовно взращивал в течение десяти лет, начиная от семнадцатилетнего малосознательного юношеского возраста. В том он тоже себе откровенно признавался в молодости.
Тождественно впоследствии богооткровенно, апокалиптично в этом исповедовался святой отец Аврелий Августин перед Богом и верующей паствой в знаменитейшей «Исповеди».
«Я в юности отпал от Тебя, Господи, я скитался вдали от твердыни Твоей и сам стал для себя областью нищеты…»
Какое уж там блаженство для нищих духом на земли и на небеси?
К счастью, нынешний день — ученик дня минувшего для желающих чему-либо научиться. Еще более верно это относится к тем, кто, обучая других и себя самого, учится, учитывает новое и старое, как в книгах, так и в людях.
Той весной Аврелий стал лучше понимать Монику, а к ней пришло смиренное понимание предреченности и необходимости всего происходящего с ними.
Ей припомнился добрый совет тагастийского епископа Макариона оставить сына там, где он есть. И молиться за него, потому что он самостоятельно в чтении различных книг откроет истину и поймет, какое кощунственное заблуждение и богохульное нечестие являет его манихейство под обманным видом религии. Иначе Аврелий по-юношески заупрямиться, так как ересь для него внове, он ею гордится и уже смутил многих простых и слабых в истинной вере людей пустячными вопросами.
Уразуметь ученейшего епископа матери удалось далеко не сразу. Она упорствовала, докучно его упрашивала, слезливо умоляла, чтобы поговорил с ее сыном, опроверг его ереси, отучил от зла и научил добру.
Тогда святому отцу пришлось ей поведать под большим секретом, что и он был некогда манихеем и жил в окружении манихеев. Его же собственная мать отдала в детстве им в общину. И прозрел он, когда читал и переписывал их книги. Оттого понял, почему и как следует бежать подале от этой секты. Притом без всяких обсуждений и сторонних уговоров.
Моника и этих увещевающих слов доброго пастыря не пожелала взять в толк, продолжала настаивать на своем, словно надоедливая вдова из логия Христова, какая назойливо приставала с личными мелкими бедами к неправедному судье.
Пришлось епископу не без резкости и раздражения от столь буквального и дословного толкования евангельской притчи отправить глупую слезливую женщину восвояси:
— …Ступай же! Как верно, что ты живешь, так верно и то, что сын таких слез не погибнет!..
Резкие слова обычно сдержанного, многотерпеливого святейшего прелатуса Макариона и в память Монике неизгладимо врезались и прозвучали, будто голос с неба, о чем она доверительно рассказала Аврелию.
Вместе мать и сын вспомнили ее старый сон, тоже ею нисколько не позабытый. То сновидение Монику посетило, поначалу смертельно напугав, после того как простились они с бренным телом и подобающе похоронили блаженно умершего Палланта.
Снилось ей, как будто Аврелий насильственно погиб, и она днями, бессонными ночами горько оплакивает его смерть и погибшую некрещеной сыновнюю душу.
Так вот, встала она на какой-то деревянной доске, а к ней подходит сияющий юный Паллант, весело ей улыбаясь. Она же в печали и сокрушена горем. Он спрашивает Монику о причинах ее горести и ежечасных слез; причем с таким видом, будто хочет не разузнать об этом, а наставить ее. Мать отвечает, скорбит-де над духовной гибелью сына.
Он же велел ей успокоиться и посоветовал внимательно посмотреть: она узрит, что сын ее будет там же, где и она. Мать глянула и увидела: сын-то ее стоит рядом с нею на той же самой доске.
«Откуда этот сон? Разве Ты, Господи, не преклонил слуха Своего к сердцу матери?
О Благий и Всемогущий, заботящийся о каждом из нас так, словно каждый является единственным предметом Твоей заботы. И всеми нами Ты озабочен, как и каждым в отдельности!..»
Аврелий расслабился в постели, но уснуть ему все не удавалось.
Всяческие беспокойства и хлопоты о дне предстоящем, какой спустя ночь станет настоящим, он, нимало не колеблясь, отложил на утренние часы. Придет новое завтра — наступят и повседневные завтрашние заботы. Но вот мысли о прошедшем его упорно не оставляли.
К слову, на днях за обедом у декуриона Фабия он вступил в жесткий диспут с младоумным лекарем Эллидием, яростно напавшем на манихеев. Манихейство Аврелий успешно защитил, убедительно и победительно отстоял, но вот-таки остался ужасно недовольным собой.
Воспользовался он чистой воды словесной софистикой, а красноречиво победил исключительно благодаря превосходящему владению риторскими приемами и отработанными навыками речевой техники профессионального оратора. Однако ему было очень трудно отбиваться, когда его оппонент с легкостью ворочал весомыми, вескими цитатами из Ветхого Завета и Евангелий.
Между тем доказать равнозначность убогих еврейских верований и христианского католического вероучения у ритора Аврелия получилось, лишь когда лекарский ученик Эллидий всем обзорно и позорно провалился раз, другой, третий в заготовленные для него риторические ямы-ловушки. Бедняга запутался в логических аргументах и принялся сам себе противоречить, опровергая тезисы, только что выдвинутые им самим.
Притом вышло довольно нелегко противостоять человеку, не только начитанному в священных сказаниях, но и обладающему достаточно обширной общей образованностью, позволяющей индуктивно обобщать факты и акты. К тому же необходимую дедукцию ему априорно гарантирует авторитет сакральных писаний, заведомо общепринятый, не подверженный никоим сомнениям у большинства тех, кого заинтересовала их религиозная дискуссия.
Одно дело услыхать библейскую цитату от невежественного малограмотного проповедника, скудоумного по рождению и происхождению. Ведь ничего, кроме глупости, которая переиначивает на простонародный лад религиозные истины, от него и не ждешь. Совершенно по-другому воспринимаются ссылки на священные книги от того, кто осведомлен в натурфилософии, физиологии, хотя бы с большого овладел благородными искусствами и науками, подобно молодому Эллидию.
Вполне честно и достойно одолев соперника, Аврелий все же испытывал какую-то неловкость, словно он на суде красноречиво выступил в защиту и защитил так-таки человека, в чьей невиновности он очень и очень сомневался.
Наверное, потому он так и не стал судебным оратором, чтобы не пришлось вынужденно, из-за денег или, домогаясь власти, оправдывать справедливо обвиненного и поддерживать несправедливое обвинение, выдвинутое против невиновного. Ведь не так-то просто отличить ложь от истины, если и ту и другую необходимо доказывать как прочим, так и лично себе.
Хотя велика ли наличная разница в этической ответственности перед людьми и Богом между наставником, в общем виде научившим злу, и учеником нашедшим применение этому злу в частном случае?
И не говорите, ради всего святого, что злоупотребление не отменяет употребления! Знаем, слыхали, читали…
«…Ты же наставил меня, Господи, дивным и тайным образом: я верю, что это Ты наставил меня, ибо в этом была истина, а кроме Тебя нет другого учителя истины, где бы и откуда бы ни появился ее свет.
Я выучил у Тебя, что красноречивые высказывания не должны казаться истиной, потому что они красноречивы, а нескладные, кое-как срывающиеся с языка слова, лживыми, потому что они нескладны. И наоборот: безыскусная речь не будет тем самым истинной, а блестящая речь тем самым лживой.
Мудрое и глупое — это как пища, полезная или вредная. А слова, изысканные и простые — это посуда, городская и деревенская, в которой можно подавать и ту и другую пищу…»
Последние год-полтора молитвенные собрания и синагогические дебаты манихеев Аврелий посещал все реже и реже. А вот с манихейским пресвитером Фавстом, перебравшимся в Картаг из Милевы, встречался довольно часто. Нередко они по-дружески беседовали, возвращаясь вдвоем из театра.
По счастью, Фавст не принадлежал к отвратным болтунам, кoгo Аврелию приходилось насилу терпеть, потому как, ничего не зная сами, посягали на то, чтобы его учить и поучать. Напротив того, Фавст ему открыто, не стыдясь, признавался в своей неосведомленности по множеству проблем натурфилософии и физиологии.
Точнее скажем, ни в чем, кроме литературы, пресловутый Фавст не разбирался и на «u», у-у не понимая в дилеммах, дихотомиях, энтимемах, эпихиремах, беспредельно занимавших пытливый могучий интеллект ритора и философа Аврелия Августина.
Тем он и пришелся по душе Аврелию, что ничуть не пытался и не хотел, кинувшись сломя голову в спор, оказаться в тупике, когда и выйти некуда, и вернуться трудно. Однако тем самым именитый манихейский исповедник и проповедник Фавст значительно пошатнул веру аудитора Аврелия в непогрешимость учения безупречного пророка Мани.
Желал он того или не желал, но знакомство накоротке с признанным адептом Фавстом из Милевы на корню подрезало какие-либо старания аколита Аврелия продвинуться в духовной иерархии манихейцев. Он не отошел от них совсем, но с тех пор держался с ними, подобно человеку, который, не находя покамест ничего лучшего, чем учение, в какое он некогда ринулся вслепую, решил покуда довольствоваться малым в ожидании, не высветлится ли случайно нечто большее, на чем можно остановить иной выбор.
Изначальную светлую веру от Бога либо темное сатанинское безбожие не выбирают. Но обрядовое вероисповедание наряду с всевозможными суевериями всяк волен искать, перебирать и находить себе сам на своечастный лад и строй ввиду самых невообразимых случайностей или гадких сцепленных извивов людского обыденного сосуществования. Потому Аврелию вспомнилось: в общину манихейцев его завели знакомство с вольноотпущенницей Волюптией и юношеская любознательность. В то время как религия и натурфилософия возымели определенный интерес лишь впоследствии двух-трех дебатов, устроенных ревнителями манихейства.
Толстухе Волюптии, видите ли, не захотелось тащиться к нему в инсулу и она назначила любовное свидание на молельном бдении манихейских аскетов. А пристроиться двум сладострастникам, — передала она через Земию, — можно будет там по соседству у одной хорошей сводни.
Какого рожна Волюптии понадобились аскеты, ищущие просветления, Аврелий тоже помнил. В ее вероисповедальных понятиях значилось: достаточно посмотреть с благоговением на святых подвижников, умерщвляющих плоть, помолиться побок с ними душевно, и на раз, два, три у нее не будет нежелательной беременности.
Она, кстати, с той же физиологической целью могла и в христианской базилике на обедне постоять в притворе, отдать обрядовое поклонение Иисусу. Потому как Иисус Христос родился от непорочного зачатия святым духом, то ему ничего не стоит начисто лишить жизненной силы женское семя до очередных месячных очищений. Для того, мол, и специальная молитва-заклинание имеется. А на выходе из церкви надо обязательно сотворить жест почитания богов. То есть, положив указательный палец на вытянутый большой, поднести к губам сложенную фигуру.
Вот вам и загадка Соломонова о женщине в дверях. Ешьте, пейте, чего дают…
Эта тебе отпущенница Волюптия простодушно до непристойности верила во всех богов, о каких только слыхала… Притом мнилось ей, дурище толстозадой, будто от каждого божества, известного людям, можно поиметь какую-нибудь пользу. Не задарма же им поклоняются?..
Утром Аврелий встал с ложа нехотя, поэтапно, в отвратительном настроении духа, чуть ли не подняв за шиворот себя самого. Непреклонно идти преподавать науки, ступать, шагать, брести, ковылять, шкандыбать через весь город он нисколько не стремился. Хотя можно и в лектике доехать…
Пускай корпорально он в полном тебе физическом благорасположении, но телесная пневматика, скажем, по-гречески, хуже не бывает. Дыхательно и воздыхательно, выделим, от Венерина яблока до яиц, снесенных Ледой…
Послать, что ли, кого-нибудь за Небридием? Дать ему сверхценные профессорские указания, а самому рукописанием заняться?
Опять же… нельзя нищету духа выказывать… дыханием слабеть. Не то совсем худо будет… Хочешь не хочешь… И сам раскиснешь, бобовой кашей по кафедре расползешься. И враги, будь им не ладно, духом воспрянут.
Ну нет! Такие безобразия и бесчиния не позволительны ни им, ни нам…
Твердо ступая, с самым приветливым видом, благожелательно улыбаясь своим мыслям, здравия желая знакомым квиритам, профессор Аврелий в обычное время проследовал к себе в школу. Пусть вам ни первого, ни последнего ему вовсе не хотелось делать. Да и второе, третье, четвертое ничуть не пробуждало радостных чувств, как их ни возьми: душевно, телесно или умственно.
В то время как непримиримая вражда двух профессоров риторики — умника Аврелия Августина и разумника Эпистемона Сартака — забавляла и развлекала чуть ли не весь город, оба они были вовсе ей не рады. И нисколько не приветствовали необратимое усугубление междоусобной войны между двумя картагскими школами форумного красноречия.
Два наставника — и старый и молодой — принимали в соображение: им ни к чему осыпать один одного оскорбительными едкими насмешками, а их ученикам кровопролитно драться между собой по темным переулкам. Но противостоять подавляющему натиску повседневности весьма затруднительно, иногда совсем невозможно, а скрытое сцепление многих жизненных обстоятельств приносит подчас непредугаданные результаты.
Вот Аврелий своих школяров-обалдуев кое-как утихомирил, успокоил, убедил оставить в презрительном небрежении выжившего из ума грекулюса Эпистемона, прикидывающегося законным нумидийцем, чей отец с белыми ногами был выставлен на продажу в ливийском Лептис Магне, бывши привезенным из Ахайи.
Зато осел Эпистемон своих орясин все никак не может угомонить, к порядку призвать. Ему уж намекали доброжелательно, что отцы города терпят бесчинства его разнузданных школяров до поры до времени. Постольку-поскольку, если некоторая вполне простительная буйность горячих юношеских сердец есть старый добрый картагский обычай.
Однако ж надобно и честь знать, достопочтеннейший Эпистемон из Пентаполиса. Тот же мудрец Хилон из Лакедемона тысячу лет тому назад нам всем рекомендовал добронравно: ничего сверх меры.
О хорош обычай, хороша мера!!! Если и то и другое позволяют обезумевшему стаду носорогов врываться к другому профессору в школу и ставить там все вверх дном!
От возмущения Аврелий даже сбился с шага, споткнулся на лестничной ступени. Раздраженно саданул локтем чересчур услужливого раба, бросившегося было поддержать оступившегося доминуса, многоученейшего профессора Августина.
Вот так, стоит тебе оступиться, тотчас подтолкнут, чтоб упал всем на смех! И ногами затопчут, потому что предупреждали: и пальцем не смей тронуть распоясавшихся у тебя в школе великовозрастных буянов. Стой и смотри бессильно, как твоим любимым ученикам вломили от лысого до лысого!
Аврелий неприлично вслух по-латыни и по-гречески выругался, проклянув и послав всех языческих богов куда подале, нежели в тартарский афедрон. И собственные рабы и прохожие от него отпрянули в суеверном испуге. Кое-кто по-христиански перекрестился. Один язычник аж плюнул себе за пазуху, cуевер.
Ох не в добрый час встретить на улице такого вот ругателя и сквернослова… А еще профессор, ученую риторику преподает… Спрашивается, чему он юношество учит?
Аврелий здравомысленно обуздал праведный гнев, даже пошел помедленнее, более степенно в ему подобающем модусе, коли статус обязывает держать себя в узде. Хотя скверные мысли на привязь не посадишь.
Вон проклятые Эпистемоновы выкормыши, мало им было декабрьского погрома, когда он вновь открыл занятия уже не на дому, а поблизости от форума на прежнем месте. Так с января взяли вам моду, охвостье ослиное, приходить на учебные торжественные декламации, рассаживаться по разным углам и мычать с закрытым ртом. Когда педель с дубинкой подходит к такому теленочку-подлецу, тот замолкает, едва отойдет — сызнова, обормот, начинает.
Перед родителями, пришедшими послушать сыновей, ужасно неловко. Опять же обычай, все терпят бесчиние безропотно.
Один Нумант Иберик с тем не согласился. Приехал на игры, узнал о безобразии и по-свойски, как гладиатор, преподал урок озорникам и шалунам. Одному любителю мычать и крякать по-утиному в патетических моментах переломал в двух местах пальцы ног. Другому звукоподражательному теляти знаменитый по всей Африке пегниарий Иберийский Волк вывернул правую руку из плеча. Мог бы и оторвать ее, но пожалел сопливого.
И никаких вам нежностей телячьих, если гладиатор решил, что юнцы его оскорбили на рынке. Когда на арене, то издевайтесь, сколько из вас дерьма вылезет, но вне игры дразнить смертоносных гладиаторов запрещается. Ибо таков неписаный закон. Тоже вам обычай и традиция.
Правда, обиняками Нумант между делом осведомил тех двоих якобы оскорбителей за что они действительно пострадали.
После того Эпистемоновы охломоны малость попритихли, присмирели. Но в школу профессора Аврелия после полудня, бывает, припрутся нахальной толпой, нагло лыбятся, стоят, портик вестибула подпирают, топчутся, отираются, с мысли сбивают, ублюдки недоделанные…
Тут уж ничего не поделаешь, коли слушать учителей мудрости никому не возбраняется, будь то на форуме, в термах или в школах риторики. Вон еще одна открывается, будто медом им намазано… Хотя одной капли горькой желчи достаточно, кабы отбить охоту к такому роду занятий.
Алипий опять в Рим зовет, сочувственно уверяет, мол, там молодежь в школах не буйствует, но отрадно платит за учебу… Очевидно, риторскую ученость в Вечном Городе уважают, премного ценят и стар и млад, язычники и христиане…
«…В эти годы я преподавал риторику и, побежденный жадностью, продавал победоносную болтливость. Я предпочитал, Ты знаешь это, Господи, иметь хороших учеников, в том значении слова, в каком к ним прилагается «хороший», и бесхитростно учил их хитростям не за тем, чтобы они губили невинного, но чтобы порой вызволяли виновного.
Боже, Ты видел издали, что я едва держался на ногах на этой скользкой дороге, и в клубах дыма чуть мерцала честность моя, с которой, во время учительства моего, обучал я любящих суету, ищущих обмана, я, сам их союзник и товарищ…»
Той весной Аврелий пришел к мысли о том, как же тяжело даются свободные науки его самым прилежным и толковым ученикам. Видимым образом, тщась разъяснить вроде бы понятное и простое, нельзя не отметить, что самого выдающегося среди обучаемых едва хватает лишь на то, чтобы не так уж медленно усваивать учительские толкования натурфилософских явлений и понятий, этических и эстетических норм, правил.
Казалось, его ученики все могли правильно уразуметь и вели с ним вполне разумный диалог. Но стоило ему объединить какие-нибудь две разнородные темы, как немедленно ученическая мысль уходила гулять по всему небу. Среди звезд его слушатели не видели, не замечали небосвода.
Чего-то основополагающего, им очень необходимого, наставительного, видимо, не доставало наиболее понятливым и сообразительным. Аналогичным образом и сам наставник иногда ощущал себя ущербным и недостаточным, коль скоро не может разъяснить этим ревностным акусматикам простейшие вещи, к примеру десять категорий Аристотеля.
Ни учитель, ни его ученики нисколько не задумывались над тем, как бы им заиметь Бога в душе и царя в голове. Вероятно, таковыми предопределенно, по воле Божьей, были те позднеантичные времена на историческом переломе между уходящей безóбразной натурой, отраженной в беспорядочной культуре язычества, и наступавшим преобладанием христианского цивилизаторского системообразующего миропорядка. О прогрессивном системном переходе от низменного, подверженного безусловной порче и всем порокам Града Земного к подножию горы, где благообразно высится беспорочный, светящийся вечным светом разума Град Господень, молодой философ Аврелий Августин еще не размышлял. Не до того ему приходилось в обыденной череде привходящих событий и круговерти непосредственных устремлений.
Он, конечно, знал о бесславной гибели в конце лета кесаря Грациана после сражения с британским узурпатором Максимом. Но, как всегда, остался равнодушен ко всем имперско-республиканским пертурбациям или, возьмем к примеру, ко взаимоотношениям-перипетиям малолетнего августа Валентиниана и могущественного восточного кесаря Теодосия.
Что нам далекая Гекуба в Медиолане, пускай ее именуют коварной Юстиной и она — чрезмерно деловитая мать августа-ребенка? Достаточно тебе таковских беспокойств с ближними, домашними и школьными проблемами.
Так, в конце августа, еще до начала виноградных каникул, дружно благословляемых школярами и профессорами, Сабина Галактисса уехала по делам далеко на юг в Капсу. Обещала пробыть там до зимы, чему Аврелий нисколько не огорчился. Не то что с глаз долой — из сердца вон, но без нее как-то полегче на душе будет, если вопрос о свадьбе-женитьбе благополучно откладывается до декабрьских календ. Лучше бы до греческих, но довольствуйся малым, если последние времена и конечные сроки неведомы ни кесарям, ни их подданным.
Кому и чего, сколько им отпущено свыше, вовсе знать не ведали ученики двух риторских школ, устроившие в первый день октябрьских календ кровавое побоище во время игры в гарпастон на морском берегу. По слухам задирами выступили школяры профессора Эпистемона; в других же пересудах зачинщиками вооруженного столкновения значатся питомцы профессора Аврелия, жестоко отомстившие врагам за поражение в какой-то из обычных промеж ними уличных драк.
В общем, кинжалов, ножей и дубин с обеих сторон многозначно хватило, чтобы два ученика Эпистемона утонули, купаясь в море, и тел их так и не нашли. Ну а то, что у всех молодчиков или рожи разбиты, порезаны, или ключицы сломаны, или еще какие травмы случились, — ничего удивительного в том нет.
Гарпастон есть гарпастон. Все равно что несчастный случай, когда никто ни в чем формально не виноват, — безапелляционно вынес заключение юридикус провинции, расследовавший дело. Таковы-де молодежный обычай и атлетические традиции.
В судебном порядке спорить с традициями, поддержанными властями предержащими, родители и родственники тех, кто пропал без вести, либо был тяжко поранен, не дерзнули. Против обычая тоже, как против рожна, не попрешь.
Оно вам досадно и возмутительно, но ничего не попишешь, коли закон не писан ни глупцам, ни мудрецам.
На второй день в октябрьские иды произошло уже форменное беззаконие, когда на школу Аврелия был совершен ночной разбойный налет. Разбойники крепко дали по голове, в тыкву рабу-привратнику и рьяно залили полужидкими клоачными нечистотами весь учебный вестибул, зеленый клауструм и зимнюю аудиторию. Сквернавцам этого показалось недостаточно, и кто-то из них отложил, выдавил тройную кучу свежего дерьма прямо на профессорскую кафедру.
Дескать, вот тебе умник-разумник, получай. Тут тебе и какатум, и диктум, и скриптум. Даже пиктум. Выбирай, чего тебе больше нравится…
Не желая продолжения безудержной, безнравственной войны между школярами, профессор Аврелий закрыл оскверненную школу. Спустя три дня они с Небридием на скорую руку собрались и отплыли в Италию, не дожидаясь начала дурной непогоды и осенне-зимних бурь.
Моника провожала сына и его друга-помощника до берега моря, вернее, до круглого военного aквaтoрия, где на якоре стояла их трирема в ожидании попутного предрассветного апелиота, задувающего с юга.
«…Ты знал, Господи, почему я уезжал из Картага и ехал в Рим, но не подал о том никакого знака ни мне, ни матери моей, горько плакавшей о моем отъезде. Она сильно ухватилась за меня, желая или вернуть обратно, или отправиться вместе со мной. Но я обманул ее, сочинив, что хочу остаться с другом, пока он не отплывает с поднявшимся ветром.
Я солгал матери — и такой матери! И ускользнул от нее. И это Ты милосердно отпустил мне, сохранив меня, полного грязи и мерзости, от морских вод и приведя к воде благодати Твоей, омывшись которой, я осушил потоки материнских слез, какими она ежедневно орошала пред Тобою землю, плача обо мне.
Она отказывалась вернуться без меня, и я с трудом убедил ее провести эту ночь в часовне Святого Киприана, поблизости от нашего корабля. И в эту ночь я тайком отбыл, она же осталась, молясь и плача.
О чем просила она Тебя, Господи, с такими слезами? О том, чтобы Ты не позволил мне отплыть? Ты же, в глубине советов Твоих, слыша главное желание ее, не позаботился о том, о чем она просила тогда. Да сделаешь из меня то, о чем она просила всегда!
Подул южный ветер и наполнил парус наш и скрыл от взглядов наших берег, где она утром, обезумевши от боли, наполняла уши Твои жалобами и стонами, которые Ты презрел.
Ты влек меня на голос моих страстей, чтобы покончить с этими страстями, а ее за ее плотскую тоску хлестала справедливая плеть боли. Она любила мое присутствие по-матерински, только гораздо более, нежели многие матери, и не ведала, сколько радости готовишь Ты ей моим отсутствием. Она не ведала того и потому плакала и вопила, и в этих муках сказывалось в ней наследие Евы: в стенаниях искала она то, что в стенаниях породила.
Тем не менее, после обвинений меня в обмане и жестокости она вновь обратилась к молитвам за сына, вернувшись к обычной своей жизни. Я же прибыл в Рим…»
В путешествие Аврелий пустился, не обремененный многими пожитками и лишними вещами. Свои рукописи и рисунки Палланта он аккуратно уложил на дно небольшого хорошей выделки дорожного сундучка.
От Афры к нему перешло изображение женщины с ребенком на руках. Меж тем голова Иоанна Предтечи приобрела разительное портретное сходство с чертами лица умершего друга. И то самое грушевое дерево ему о многом напоминало.
Быть может, оно и впрямь есть древо постижения мирового зла и всечеловеческого добра? Хотя вряд ли, если зло есть телесная субстанция в виде узкого тонкого тела, разлитого в пространстве, пускай добро намного его шире…
В Риме Аврелия с Небридием приютил зажиточный инсулярий Масинисса не столько по доброте душевной, сколько из манихейских убеждений и давних широких связей с единомышленниками из Картага, откуда он родом. Добрый человек с царским нумидийским именем, самодержавно распоряжающийся несколькими пяти- и шестиярусными инсулами от имени и по поручению домовладельца, за очень умеренную плату сдал им три немалые комнаты на первом стратуме с отдельным уличным входом и отличными стеклянными окнами, выходящими в тихий зеленый дворик, примыкающий к дровяному складу.
— …Дрова привозят уже нарубленными, их там сушат, пропитывают маслом и продают обитателям окрестных инсул и домусов у нас на Авентине, — пояснил новым жильцам Масинисса, чтобы знали, ценили его участливость и доброжелательность к единоверцам. — Тех неверных, какие жили до вас, днями всей фамилией я принудительно выселил за непростительную неуплату.
Их обстановку и утварь покуда распродавать не буду, пользуйтесь на здоровье, достопочтеннейшие риторы. Может, злостные неплательщики одумаются и выкупят нажитое добришко. Коли нет, то во имя безупречного пророка Мани вам его уступлю по сходной цене…
Аврелий сходил на Палатин, ощутил могучее биение сердца Великого Рима. Однако побродить в праздном любопытстве по улицам, побывать на всех семи холмах ошеломительного Вечного Города, превосходящего всякое воображение, у него не вышло. Потому что подкосила, свалила его тяжелейшая горячечная болезнь на третий же вечер по приезду.
Не в добрый час тяжкая, беспамятная, наверное, простудная злая хворь напрочь отрезала, отгородила его от города и мира. Только спустя нундины кое-какое осознание реальности в малой мере вернулось к нему.
Трясучка и горячка, казалось, оставили, бросили его в предсмертии или в посмертии. То ли мертвая жизнь, то ли живая смерть полностью поглотили, заполонили бесчувствием бессмертную душу и смертное тело. Но не окончательно и бесповоротно. Так как вновь мало-помалу стали кружиться, вращаться вокруг какие-то расплывчатые тени, неясные фигуры, размытые лица…
Его поили, кормили, чем-то как-то лечили…
Откуда-то медленно выплыли, проявились римский друг Алипий, старая нянька Эвнойя, еще кто-то, должно быть, лекари, чьи-то прислужники, прислужницы… Неспешно приходили, замедленно уходили… Друзья Небридий и Гонорат то объявлялись, частично проступали, то снова куда-то отступали, растворялись в каком-то тумане…
Время не то вязко замедлило ход, не то двигалось лихорадочными, судорожными скачками, если как вдруг на второй день декабрьских календ к Аврелию отчасти вернулись прежние мыслительные способности. Слабость и косность душевного тела, пошедшего на поправку, не многим уменьшились, зато остроты ума и отчетливости ощущений знатно прибавилось.
Знамо дело, откуда взялась отпущенница Эвнойя, если четвертого года с разрешения патрона Аврелия она отправилась в Рим вместе с Оксидраком. Обычнейшее дело, сколь скоро свекровь не ужилась в доме невестки. Было б наоборот, то убираться, куда глаза глядят, пришлось бы толстозадой Земии.
Прохиндей Оксидрак, заделавшийся крупным торговцем мелкими драгоценными камнями, полез в Индию, целый поход-анабасис снарядил, проходимец. Домоправительницу, почтенную Эвнойю оставил на хозяйстве, как говорил наш римский друг Алипий еще, наверное, до первого приступа трясучки. Или же после, когда беспамятный больной малость оклемался?..
Все-таки не прав Эпикур, утверждая, будто смерть не имеет никакого отношения к людям. Дескать, когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Потому как и то и другое состояние ума не позволяют чего-либо отрицать или утверждать, согласно воздержанию от опытного суждения, скептически продвигаемому Секстом Эмпириком…
Аврелий приподнялся на ложе, с предвкушением удовольствия глянул на свитки и книги, громоздившиеся на столе. Благодаря заботам друзей у него нынче большой выбор и немалый разбор, чего бы философского почитать в пополуденное дремотное время.
Возможно, оно и так, на распутье и в перепутье, если ни одно из борющихся положений не стоит выше другого, как более достоверное. Ибо жизнь и смерть равны в отношении достоверности и недостоверности. Хотя и это не бесспорно, как скептический аргумент против познания истины…
В декабрьские ноны ближе к идам в инсуле на Авентине у профессора риторики Аврелия Августина из Картага в урочные присутственные дни собирались, набралось уже никак не меньше полудюжины постоянных учеников с разных дальних концов и холмов величайшего вселенского города.
Его помощник Небридий Дамар поговаривал, чтобы брать с них плату вперед. Но Аврелий от него отмахивался и дружески посмеивался над жадностью, скряжничеством и скопидомством, свойственным тем, кто оскорбительно не доверяет хорошим добрым людям.
В общем пекунии пока кое-что найдется, а в новом консульском году эти честнейшие римские юноши беспременно выплатят оговоренные суммы. В самом-то деле не тянуть же с них деньги накануне каникул? Если кто и не вернется к учебе после праздников, то и сокрушаться о ветрогонах нечего, не стоят они сожалений.
Единственное, чего было несказанно, невыразимо жаль Аврелию, так это того, что за время его беспамятной немощи куда-то исчез, запропастился старый дорожный сундучок. Одежонка, обувь, малая серебряная утварь — пусть в Тартар катятся. И рукописи трех своих книг он в содержательной основе сможет восстановить по памяти; дело оно наживное — слово к слову, мысль к мысли.
Но памятные рисунки друга Палланта, видать, пропали безвозвратно. Особенно, если кто-то нечистый на руку в надежде поживиться стянул, слямзил, стибрил, увел, унес, умыкнул, уворовал или еще каким-нибудь иным злодейским способом украл тщательно запертый кипарисовый сундук с чеканными бронзовыми уголками.
О пропаже имущества Аврелий никому ничего не сказал. Даже позабыл о том. Зачем понапрасну обижать подозрениями в мерзком воровстве тех, кто, прислуживая ему, выходил, спас в опаснейшей болезни?
«…Куда ушел бы я, если бы отошел тогда? Конечно, по справедливому порядку Твоему, Господи, только в огонь и муки, исповедимые дел моих…
Ты же, присутствуя везде, сжалился надо мною там, где был я. Телесное здоровье вернулось ко мне, еще больному кощунственным сердцем моим…»
КАПИТУЛ XIX
Годы 1138-1140-й от основания Великого Рима.
1-3-й годы единого империума Валентиниана Секундуса, августа и кесаря Запада. 6-8-й годы империума Теодосия, августа и кесаря Востока.
Годы 384-386-й от Рождества Христова.
Рим и Медиолан. По разным случаям, датам, временам года и временным летам жизнеустроения в содержательных поисках православного вероисповедания.
Аврелию как раз не случилось заиметь какую там ни будь завлекательную сердечную привязанность в бытность его в Риме. Хотя к женщинам он присматривался и вблизи и вдали прикровенно-откровенным мужским взором, но о Сабине не забывал и ни разу не изменил ей.
Напротив, с его римскими друзьями-учениками, то есть с Алипием Адгербалом и Гоноратом Масинтой он охотно беседовал об умственной пользе, какую влечет мужское целомудренное воздержание. И здоровью мужества оно принципиально не вредит, и обретению отрешенной мудрости неизменно споспешествует вне телесной горячки и плотских страстей, вожделений, желаний, что обуревают и томят неразумную душу, не давая уму сосредоточиться на основном и главном.
Главенствующее же состоит в философском умопостижении бытия человека и Бога, но отнюдь не в познании женственных врат, куда сломя голову стремятся стар и млад, кому недостаточно того, что они когда-то из них вышли. Просто так в целомудрии им не живется, опять в прежнее вместилище-влагалище кое-кому желательно промежду прочим, хочется им, чешется…
Впрочем, Аврелий о желанной Сабине вполне телесно вспомнил, лишь получив от нее лучшие благие поминания, переданные в дружеском письме Скевия Романиана. Раньше недосуг было, если он весь погрузился в философские искания и в преподавание научной риторики. Благополучно отправившись от прошлогодней болезни, возымел он нерушимое намерение стать-пребывать первым среди римских риторов, лучшим из лучших.
Тогда как достаточные основания для того имелись. Весной постоянных учеников у него прибыло, и он поднял цену своего обучения, что ни у кого не вызвало возражений, когда профессор Аврелий не требует помесячной предоплаты за урочные дни. Не сквалыга этот ритор из Картага и не скупердяй, если может иной раз угостить прандиумом у себя на Авентине в зеленом дворике, половину которого он занял под учебный вестибул с согласия инсулярия Масиниссы.
Тот же пройдоха Масинисса свел его с манихейскими адептами-электорами. Аврелий со всеми ними проницательно познакомился и пришел к выводу: умственно они ничем не превосходят картагских поклонников сумбурного учения персидского гуру Мани. Те же, скажем, младенцы по уму, бессмысленно вещающие о духовном в греко-римской глоссолалии.
Однако в материалистичной, точнее, по-гречески, в политичной сметке зрелых мужей влиятельным римлянам-манихейцам нисколько не откажешь, коль скоро они занимают положение третьего радующегося в непримиримом противостоянии власть имущих христиан и язычников-гентилей, отчаянно удерживающих в империуме кесаря Валентиниана Младшего традиционные права, привилегии, республиканское могущество, патримониальные богатства.
С обеими противолежащими сторонами у хитроумных манихеев Вечного Города получается поддерживать неплохие отношения, подобно благосклонному зрителю-игроку на цирковых ристаниях, на первом круге посильно желающему победы сильнейшему, покуда не станет ясно, кто же подойдет первым к последнему решающему повороту. Деньги на бочку, скажем.
В Большом цирке Аврелий из любопытства побывал, а также амфитеатр Флавиев однажды посетил в тех же целях любомудрия и наблюдения за порочным республиканскими нравами, обычаями, сквернейшими привычками безродной пролетарской черни, родовитых плебеев и благородных патрициев Рима.
Наверное оттого, он стойко пережил бесчестный возмутительный удар, какой нанесли ему негодяи-ученики, в одночасье перед июльскими каникулами всем скопом, сборищем, сворой, стаей, стадом, гуртом — вот где скоты! — бросившие обучение у Аврелия под предлогом перехода в другую школу. Причем, этот сброд поганый, вероломные подонки несусветные, нагло не заплатили, нахально не рассчитались, кто за три месяца, а кто за целых полгода отличнейшего преподавания!
Ни тебе медного занюханного асса, прощелыги!
Ибо таковы римские шутники-школяры, — разъяснили ему знающие люди. И тащить их за шкирку в суд, подлецов вонючих, бесполезно, если таков давний школярский обычай на всех семи холмах вселенской столицы.
Как же, как же, деньги не пахнут!!! Еще как ощутим их отхожий запашок! Когда у тебя их не больше, чем в ночном горшке по утрам!
Намного лучше сказал другой кесарь о благоухающих трупах врагов. Чтоб они все передохли, погань римская! Протухшее семя идолопоклонников, вовек им проклятье! Скотина злобная, бездушная и неблагодарная!.. Мертвого осла охвостье…
Вдосталь повозмущавшись вероломством и неблагодарностью прохвостов-алюмнусов, профессор Аврелий отвел душу в бранных солецизмах. Потом собрался с духом и поспешил пожаловаться на такие-сякие беды-злосчастья каким-никаким единоверцам, пользующимся политическим влиянием.
Краем уха он ранее слыхал о неполноценности учителей судебного красноречия в столичном Медиолане, где нынче расположились со всем империумом малолетний кесарь Валентиниан и его властная родительница Юстина, из-под полы, исподтишка правящая сыном и западноримским доминатом. Будто бы к префекту Рима светлейшему сенатору Квинту Симмаку даже послана просьба подыскать подходящую кандидатуру на официальную вакансию профессора научной риторики в городской высшей школе.
Слух оказался верен, искомую протекцию от благожелательных манихеев Аврелий заполучил. А высокопоставленный и ученейший сенатор Квинт предложил проблемно поразмыслить соискателю, за кого ходатайствуют вполне добропорядочные квириты, отнюдь не сочувствующие бесцеремонному христианству. Открыто говоря, составить ему контроверсию о необходимости присутствия в римском сенате языческого Алтаря Победы.
С поставленным заданием Аврелий справился без особого труда. Алипий раздобыл для него в городских архивах копии посланий-реляций сенатского оратора Квинта Симмака кесарю Валентиниану Секундусу по вопросу о возвращении алтаря в здание курии. Он также детализировано ознакомился с позицией оппонировавшего сенатору-язычнику христианского епископа Амвросия из Медиолана. Письма-апологии святейшего прелатуса Амвросия ему лично принесла почтенная Эвнойя, очень обрадованная тем, что ее молочный сынок, всеученнейший профессор и патрон, весьма религиозно ими заинтересовался с богословскими намерениями.
Аврелий даже и не думал как-либо разочаровывать любимую кормилицу. Он для полного ее счастья попросил найти для него кого-нибудь, кто знает, как заворачивают мужское тело в тогу.
— …Как их там кличут, вестиплики, что ли? Поспрашивай, моя Эвнойя, отыщи-ка мне раритетных умельцев вместе с этим их шерстяным безобразием…
И никак вам иначе, потому что в таком старомодно-официальном образе и подобии он должен прибыть к сенатору Квинту. И доброжелательно попытаться переубедить его не выступать кощунственно против кесаря и христианского большинства в сенате.
И в самом деле ритор Аврелий полагал политическое слово и религиозное дело язычников зазнамо проигрышным сотрясанием воздуха, напрасным пачканием папируса или пергамента. Однако вельможный префект Рима, — дела тебе известные, — ожидает от него услышать нечто другое, более оптимистичное и не столь безрадостное в актуальной риторской контроверсии.
Знамо дело, Аврелий поэтому согласился в целом с республиканскими аргументами сенатора Квинта, аналитично добавил от себя рациональных и логических доводов. Опроверг красноречиво посылки и выводы епископа Амвросия, риторически усилил аргументацию язычников. В общем, тактически и стратегически подготовил в дидактических целях классическую декламацию из области совещательной риторики, где соответствие практической действительности не имеет ровным счетом никакого значения.
В назначенный день и час Аврелий прибыл, появился у сенаторского особняка в широченной белой кандидатской тоге, в лектике, несомой восемью здоровыми прислужниками, в сопровождении друзей, клиентов и нескольких учеников, какие его не покинули. Надо, чтобы все враги и завистники увидели: он в форме, на коне и в наилучшем виде вопреки неудобному, истинно допотопному одеянию.
О сенат, о римляне, народ в тогах… Чтоб вас всех порвало и продрало, поганские дьяволы!..
Красноречивую декламацию африканского ритора Аврелия Августина римский сенатор Квинт Симмак проникновенно выслушал: благосклонно, благожелательно и одобрительно. Собрал о нем необходимые сведения, оказавшиеся весьма похвальными и благоприятными. Особенно благолепно превознес этого славного молодого человека, образцового учителя юношества старый проконсул Виндикиан из Картага.
Таким почином спустя пару-другую нундин Аврелий на одной колеснице вместе с сенатскими письмами, документами направляемыми из Рима в канцелярию империума, въехал в городские ворота Медиолана. Служба есть служба, уместно и послужить официально в чине и звании профессора риторики.
Обосновавшись на новом месте, Аврелий не преминул посетить христианскую базилику, чтобы профессионально послушать проповедь святого отца Амвросия — того самого именитого церковно-имперского деятеля, кого он совсем недавно, особо не чинясь, красноречиво опровергал по заказу римского префекта Симмака. Речь епископа Амвросия Медиоланского профессор Аврелий Августин Картагский оценил сдержанно, по достоинству. И дал себе клятвенное слово всенепременно сходить на какое-нибудь последующее христианское богослужение, где соберется умно и доступно проповедовать этот, похоже, довольно образованный клирик.
Говорят, его как бы избрал, произвел и назначил в католические епископы сам покойный кесарь Валентиниан Старший… Кому жребий, а кому выбор…
О чем-либо ином Аврелий не думал, выходя из базилики, поскольку торопился к своим табличкам, свиткам, кодексам…
При всем том, достоименно в этот богоизбранный августовский воскресный день, должно быть, в заутренний дополуденный час в стенах Божьей церкви потаенно свершилась истинная тавматургия, произошло никем не замеченное Божье чудо, деяние дивное. А мятущаяся разумная душа философа Аврелия обрела покамест сокровенное обращение и до поры до времени никому не предъявленное воцерквление в истовом вероисповедании Христовом.
Об этом деятельном чуде в вышних никак не могли, чисто по-человечески в приземленности, в каждодневной суете мирской, подумать, поразмыслить ни тогда, ни потом Святой Амвросий Медиоланский и Блаженный Августин Гиппонский. Еще в меньшей степени Господь на то сподобил Святую Монику.
Преподобнейший епископ Амвросий и ученейший ритор Аврелий покуда не были друг с другом сообразно знакомы. Меж тем благочестивейшей матроне Монике еще предстояло приехать в Медиолан. Притом до крещения катехумена Аврелия оставалось не меньше двух с половиной лет.
Тем не менее таинство чудесного, душевно сокрытого воцерквления и свершенного неисповедимо духовного обращения предстоятельного Блаженного Августина, наиболее значимого после Святого апостола Павла из отцов и учителей Церкви Христовой, состоялось по воле Божией в опус оператум, когда его непосредственным свидетелям и участникам не дано было о том знать. Истинно неисповедимы предначертанные людям благодатные пути Господни, исследимо прозреваемые нами лишь по прошествии времен по историческим результатам и последствиям!
В августе 384 года от Рождества Христова незримо сработало Провидение Господне. Господь Вседержитель направил, наставил соработника Божия философа Аврелия Августина на путь истинный, с которого он отныне не свернет, ни на йоту не уклонится от предназначенной ему апостольской стези до самого последнего вздоха.
Со всем тем, до того и прежде всего, исходное содержание его неотъемлемой веры, данной от Бога каждой разумной душе, настоятельно требовало соответствующей и сообразной формы.
Бесформенному расплавленному металлу необходимо было вылиться в приготовленные для него изложницы, дабы стать отливкой, приобретающей упорядоченное устойчивое достояние и вещественное, предписанное Творцом-Демиургом агрегатное состояние. Глина должна предстать состоятельным, достойным сосудом веры. А глыбе необработанного мрамора должно освободиться от лишнего вещества, скрывающего фигуру и формы гармоничной статуи.
И все это предопределено по закону, неизгладимыми письменами исполненному Богом на скрижалях сердца человеческого; так написано в Книге Жизни завершающего Судилища Христова.
Религиозное наполнение разумной мыслящей души Аврелия непреложно нуждалось в соответствующем пресуществлении, оформлении и воплощении. Но сам он этого не осознавал, не воспринимал в ограниченной логике и рационалистичности телесного материалистического мышления.
«…Я обратился к природе души, но ложные понятия, бывшие у меня о мире духовном, мешали мне видеть истину. Во всей силе своей стояла истина у меня перед глазами, а я отвращал свой издерганный ум от бестелесного к линиям, краскам и крупным величинам. И так как я не мог увидеть это в душе, я думал, что не могу видеть и свою душу.
Я любил согласие, порождаемое добродетелью, и ненавидел раздор, порождаемый порочностью. В первой я увидел единство, во второй — разделенность. Это единство представлялось мне как совместность разума, истины и высшего блага; разделенность — как некая неразумная жизнь и высшее зло.
Я, несчастный, считал, что оно не только субстанция, но что это вообще некая жизнь, только не от Тебя исходящая, Господи, от Которого все. Единство я назвал монадой, как некий разум, не имеющий рода, а разделенность — диадой: это гнев в преступлениях и похоть в пороках.
Сам я не понимал, что говорю. Я не знал и не усвоил себе, что зло вовсе не есть субстанция, и что наш разум не представляет собой высшего и неизменного блага…
…Я отчаялся, Господи неба и земли, Творец всего видимого и невидимого, найти в Церкви Твоей истину, от которой с юности меня отвратили. Мне казалось великим позором верить, что Ты имел человеческую плоть и был заключен в пределы, ограниченные нашей телесной оболочкой.
А так как, желая представить Бога моего, я не умел представить себе ничего иного, кроме телесной величины — мне и казалось, что ничего бестелесного вообще и не существует, — то это и было главной и, пожалуй, единственной причиной моего безысходного заблуждения…»
Исповедь философа и теолога Аврелия Августина тем и ценна для нас, потому как позволяет ему и нам разглядеть очень многое в душе человеческой, какая отнюдь не является потемками, будучи освещенной светом истины Божией от изначальной веры — непосредственного знания, нам дарованного свыше.
«…Когда душа моя пыталась вернуться к православной материнской вере, то меня отталкивало от нее, потому что мысли мои о ней не соответствовали тому, чем она есть в реальности. Мне казалось благочестивее, Господи, Чье милосердие засвидетельствовано на мне, верить, что Ты во всем безграничен.
Хотя в одном приходилось признать ограниченность Твою — там, где Тебе противостояла громада зла. Это казалось мне благочестивее, чем считать, будто Ты ограничен во всех отношениях формой человеческого тела. И мне казалось лучше верить в то, что Ты не создал никакого зла, нежели верить, что от Тебя произошло то, что я полагал злом.
Самого же Спасителя нашего, Единородного Сына Твоего, видел я как бы исшедшим для спасения нашего из самой светлой части вещества Твоего. И не желал верить о Нем ничему, кроме своей пустой фантазии.
Я думал, будто Он, обладая такою природою, не мог родиться от Девы Марии, не смесившись с плотью. Смеситься же с нею и не оскверниться мнилось мне невозможным для такого существа, какое я себе представлял. Поэтому я боялся верить, что Он воплотился, чтобы не быть вынуждену верить, как если б Он осквернился от плоти…»
Скверная холодная весна не помешала благоверной матроне Монике нагрянуть к сыну в Медиолан без предупреждения в мартовские иды. Скевий Романиан, — сама воплощенная вежливость и любезность, — ничуть не мог отказать ей в просьбе взять с собой на один из его кораблей, отправляющихся на Апеннины с грузом африканского зерна, распродаваемого по хорошей весенней цене, как только кончается время бурь и зимней непогоды.
Друг Скевий и вообразить не мог, какими любезностями принялись обмениваться мать и сын, когда стихли бурные изъявления радости и восторга от родственной встречи, а они остались наедине. Ни минуты не медля, Моника тотчас же обрушилась на Аврелия с обвинениями в бессовестном обмане и злостном сокрытии всей правды. И так далее и того хлеще…
Короче говоря, не задерживаясь в повторе на сквернословии и слезах, разразилось то самое стихийное бедствие, какого Аврелий давно уж опасался. Вот и вскрылись, в одночасье раскрылись, к счастью или к несчастью, все эти женские ушлости, житейские ковы и козни.
Должно быть, Бог и зло употребляет во благо, и любящим Бога все содействует ко благу и благообразию. Но прежде Аврелий должен был участливо выслушать кучу и тучу самых ругательных вещей о себе самом и своем безответственном, безобразном поведении.
Как оказалось, в позапрошлом году наша великолепная Сабина, раздосадованная, взбешенная скоропостижным отъездом Аврелия из Картага, сгоряча выложила Монике, что у нее имеется внук, которого, дескать, не желает признавать родной отец. То есть негодяй Аврелий, который-де одной добродетельной женщине приходится от рождения сыном, а другой — неизменным полюбовником с юных лет.
Однако Моника ни на зету ни на ипсилон не поверила «распутной продажной белобрысой девке, положившей похотливый синий глаз» на ее сына. Мало ли чего может наговорить, нагородить озлобленная, обманутая в неких нелепых ожиданиях тридцатитрехлетняя мегера?
С тех пор надувшаяся Моника и бешеная Сабина необратимо и непримиримо рассорились, перестали здороваться и замечать друг дружку в церкви.
Тем часом у матери вновь возникла навязчивая мысль непременно оженить сына, хоть бы он себе уехал в Италию. Чтобы далеко не ездить, она и подходящую невесту ему нашла в самом Медиолане — дочь хороших благонравных родителей, состоятельных выходцев из Африки, находящихся в прекрасном фамильном родстве с тагастийскими Романианами.
Пускай девочке Максимилле еще надо самую малость, эдак два-три годика подрасти до брачного возраста, — благомысленно предопределила Моника светлое будущее. Оттого на несколько месяцев премного успокоилась в набожных молитвах; угомонилась мать мало-мальски в обнадеживающих матримониальных упованиях. К тому же, переезд в Медиолан ее сына она сочла знаком свыше и Божьим ответом на ее материнскую мольбу и ревностные моления.
Скевия Романиана, как будущего родственника, она подрядилась особо привечать, просила заглядывать почаще к ней по-семейному на обеды и беседы. Как-то раз зимней порой в начале этого года разговор у них случайно зашел об очень деловой женщине отпущеннице Сабине Галактиссе, не без шума, сабинского фурора и гадкой скандалезности освободившейся от патроната ee давнего благодетеля сенатора Фабия Атебана.
Со смешком разомлевший от сытной и пьяной трапезы Скевий припомнил иронический когномен Сабины, свидетельствующий о ее молочном изобилии. Затем, завидев заинтересованное внимание Моники, поведал: мол, эта прекрасная молочница многих ему известных мужчин одарила интимной женственной снисходительностью. Даже Аврелий входящим-исходящим модусом близко вкусил от щедрот ее тела в ранние годы их мало чего соображавшей юности.
Болтун Скевий тут же спохватился, прикусил язык, в подробности вдаваться не стал. Но у Моники закралось страшное подозрение. Может, эта распутная падшая тварь ни на палец не солгала насчет внебрачного приплода от Аврелия? Нет, такого быть не может!
Однако ж, молодой Романиан говорит, она в Италию собралась вместе с ублюдком, неизвестно от кого прижитом. Возможно, опять на Аврелия нацелилась? Чужое тринадцатилетнее отродье нам в честную фамилию подкинуть хочет, вульва разверстая?
Моника немедля развернула бурную деятельность. Принялась диктовать письма в Тагасту и в Медиолан. Бросилась искать покупателей на дом в Картаге. Начала прислушиваться ко всем досужим сплетням и злоречивым кривотолкам, чего раньше за ней никак не водилось.
Беспутную мясомолочную девку Сабину Галактиссу она все же обскакала, обошла, гадину ползучую, прежде нее в Медиолан приехала. И вот на тебе! Узнает от любимейшего сына Аврелия, что и ребенок, оказывается, от него, и к этой негодной твари он не так чтобы очень равнодушен. Мол, старая любовь и тому подобные глупости молодого мужчины, бесстыдно падкого на женственные излишества сверху и снизу, спереди и сзади…
Слово за слово, и сын ничего не скрыл от матери. По меньшей мере из всего того, о чем он счел нужным ее уведомить. Слишком уж расстраивать Монику он нимало не намеревался. Старался не горячиться, даже пробовал ее успокоить тем, что мало-помалу последовательно разочаровался в манихейской ереси, изучив ее альфа-причины и бета-следствия.
Xотя мать ему не поверила от альфы до омеги. Побоку религию, если надо спасать сына от когтей падшей случайной женщины, беззастенчиво набивающейся им в родню!
Здесь Аврелий тоже не пожелал прекословить, противоречить матери. Даже согласился и дал добро на матримониальные стратагемы в Медиолане. Собственно, почему бы нет, если неполнолетней невесте и всем прочим заинтересованным лицам не менее двух лет дожидаться ее законного повзросления? Как ее там, Максимилла, что ли?..
Сабина Галактисса заявилась в Медиолан во плоти только на майских календах. К тому времени в узком домашнем кругу объявлено состоялись традиционные спонсалии, а жених тридцати с лишним лет от роду по сговору надел на палец нареченной двенадцатилетней девочке-невесте узенькое золотое колечко в знак обещания взять ее замуж спустя долгое время и продолжительные сроки, предусмотрительно сговоренные между двумя достопочтеннейшими фамилиями благородных куриалов.
Случившийся незадолго до ее приезда брачный фамильный сговор Сабину нимало не огорчил и в бешенство не привел. Как ни удивительно, но в продолжение краткой встречи и недолгого разговора она отнюдь не утратила самообладания и хладнокровия.
Остыла Сабина, или же и раньше была душой и сердцем холодна.
Насколько выяснил Аврелий, прямиком в Медиолан ее привели вовсе не матримониальные поползновения. И препятствовать старому постылому любовнику в создании семьи и благополучного супружества ей без нужды. Но прибыла она, чтобы законно передать сына Адеодата его отцу Аврелию Патрику Августину. Ни больше и ни меньше.
Со свойственными ей прямотой и женской физиологией она прохладно заявила: мальчик уж большой, все понимает, содержать его в Капсе ей, молодой женщине, право же, неудобно и неловко, если у нее два горячих молоденьких невольника немногим старше Адеодата.
Замуж ей ни к чему, так как она расчетливо желает сохранить за собой экономические вольности владетельной матроны-домины, имение и достояние. Поэтому и намеревается свято, благочестно блюсти обет законного цивильного безбрачия. В Тритониде она именуется почтеннейшей вдовой, о чем имеются соответствующие подлинные свидетельства. Потому как временный супруг ее, достойнейший свободнорожденный квирит, царствие ему небесное, Божьим попущением упокоился.
Как всегда, Сабина нисколько не ошиблась в кратковременных текущих расчетах и перерасчетах. Сына Аврелий преспокойно признал — поднял, словно маленького, с земли в соответствии с римской отцовской традицией. Потом высоко подбросил в воздух, подхватил и крепко прижал к груди. От Адеодата он никогда и не мыслил отделываться…
Господи! Как можно отрекаться от отцовства!
Теперь же и подавно, когда переломные и разломные перипетии счастливо разрешились, а бабка Моника благорассудительно смирилась, привыкла к мысли, что у нее есть родной кровный внук.
Ну а Сабина? Да Бог с ней, коли убралась восвояси в Африку, в Тритониду, в эту свою Капсу куда поодаль на юг, — единомысленно пожелали ей счастливого пути Аврелий и Моника.
Каких помыслов придерживалась Моника, когда пригласила в гости, привела в снятый ими дом молодую двадцатилетнюю вдову Эльпис и познакомила ее с сыном, Аврелий мог лишь догадываться о том. Приятные многообещающие смотрины имели место быть на третий день в те же майские календы, и он, достаточно взбудораженный единовременным и однодневным приездом-отъездом Сабины, неожиданно обрел замещение прежним телесным чувствам и отношениям.
По правде скажем, привлечь благосклонное внимание этой спокойной и красивой златоволосой женщины с выразительными, великолепными формами ему удалось далеко не сразу. Но его красноречивым домогательствам она все же уступила, снизошла… Как позже сообразит Аврелий: едва у нее началось женское время, неблагоприятное для зачатия, они соделались пылкими любовниками.
По характеру Эльпис ничем не напоминала Сабину, но стройным телом и женственными статями точь-в-точь походила на нее. Вроде бы вполне равнозначная телесная замена. Причем имя у нее значимое, вселяющее надежды…
Все же подспудное саднящее чувство сердечной утраты его не покидало. Ведь всегда кому-то немного жаль, а кому-то очень больно расставаться с уходящей в прошлое натурой: отрываться от былых чувственных привязанностей, лишаться привычных радостей, а также печалей, с какими случилось сродниться в любви и терпении.
«…Болезнь душевного тела у меня поддерживалась и длилась, не ослабевая, и даже усиливаясь этим угождением застарелой привычке, гнавшей меня под власть женщины.
Не заживала рана моя, нанесенная разрывом с первой сожительницей моей. Жгучая и острая боль прошла, но рана загноилась и продолжала болеть тупо и без надежды…»
Тем летом, дабы надежно убедиться, что сын ее не обманывает, уверяя, будто бы насовсем распрощался с манихейскими заблуждениями, Моника попыталась добиться для него доверительного собеседования с епископом Амвросием. Уж кто-кто, а святейший и мудрейший прелатус Амвросий сумеет разобраться, насколько Аврелий удалился от еретических измышлений богомерзких сектантов.
Приступила она к этому дерзкому предприятию не без опаски: как бы святой отец, страшно занятый архипастырскими, экклесиальными, богословскими и кесарскими делами, не погнал ее прочь, женщину глупую и плаксивую, бездарно отнимающую ценнейшее время у человека, в ком чрезвычайно нуждаются знатные значимые люди, не ей чета.
Моника чуть поскромничала в нерешительности, прежде чем осмелилась попросить отца Амвросия принять у нее исповедь. О набожной вдове, щедро жертвующей малую лепту от своих не таких уж значительных доходов, утром и вечером непременно присутствующей в храме Божьем, епископу рассказали. Ведь она мать того самого ритора Аврелия, чья личность давно вызывала любопытство у архипастыря Амвросия, мало чего упускающего из виду из всего того, что происходит у него в Медиоланской епархии или в римском доминате на Западе и на Востоке.
Ритора Аврелия он и давно уж заприметил на воскресных проповедях. Почти год епископ Амвросий неизменно отмечает его присутствие и внимательный взгляд в толпе прочих катехуменов, теснящихся в притворе базилики.
Вспомянулось: Аврелий скромно без помпы ему представился, переселившись в Медиолан. И Амвросий его приветствовал по-епископски с пожеланиями всяческих благ на новом местожительстве в совокуплении с успешным продолжением благороднейших трудов на поприще учительской жизнедеятельности.
В дальнейшем епископ не оставлял его без внимания по мере возможности и занятости другими делами и людьми.
Докладывают: профессор риторики Аврелий Августин из общины манихеев. Но манихейства публично не защищает, на христианство не нападает, тогда как язычеству от него несладко, солоно и кисло перепадает в различных обучающих контроверсиях и религиозно-философских декламациях. Похоже, для него не имеет какого-либо значения, что рекомендовал его на профессорскую должность рьяный сенатор-язычник Квинт Симмак.
По происхождению и рождению этот Августин из чисто христианской фамилии. А почтеннейшая мать его является примером, достойным подражания вo всяком благочестии и чистоте в приверженности истинной вере…
К несказанному удивлению Моники, неимоверно занятой епископ, видимо, отложил ради нее большие дела, ласково принял, исповедал, сочувственно выслушал слезные жалобы на манихейство сына. И твердо обещал ей всеми способами отвратить заблудшую христианскую душу от нечестивой ереси, подобной на треклятое арианство, вынуждающее слабых и недисциплинированных в безыскусной вере христиан очертя голову поклоняться твари, но не Творцу…
К предначертанной ему Богом второй беседе с Амвросием Медиоланским Августин готовился долго и трудно, без малого в течение года. Он все еще не мог рационально поверить в собственную веру или жизнетворчески довериться религиозному чувству-интуиции. Да и мирская повседневность тому мало способствовала.
«…Я жадно стремился к почестям, к деньгам, к брачным узам… Желания эти заставляли меня претерпевать горчайшие утруждения…
Посмотри в сердце мое, Господи. Ты ведь захотел, чтобы я вспомнил об этом и исповедался Тебе. Да прилепится сейчас к Тебе душа моя, которую Ты освободил из липкого клея смерти. Как она была несчастна! Ты поражал ее в самое больное место, да оставит все и обратится к Тебе, Который выше всего и без Которого ничего бы не было. Да обратится и исцелится!
Как был я ничтожен, и как поступил Ты, чтобы я в тот день почувствовал ничтожество мое!
Я собирался произнести похвальное слово кесарю. В нем было много лжи, и людей, понимавших это, оно ко мне, лжецу, настроило бы благосклонно. Я задыхался от этих забот и лихорадочного наплыва изнуряющих размышлений.
И вот, проходя по какой-то из медиоланских улиц, я заметил нищего; он, видать, уже подвыпил и весело шутил.
Я вздохнул и заговорил с друзьями, окружавшими меня, о том, как мы страдаем от собственного безумия. Уязвляемые желаниями, волоча за собою ношу собственного несчастья и при этом еще его увеличивая, ценою всех своих мучительных усилий, вроде моих тогдашних, хотим мы достичь только одного: спокойного счастья.
Этот нищий опередил нас. Мы, может быть, никогда до нашей цели и не дойдем. Он получил за несколько выклянченных монет то, к чему я добирался таким мучительным, кривым, извилистым путем — счастье преходящего благополучия.
У него, правда, не было настоящей радости, но та, какую я искал на путях своего тщеславия была много лживее. Он, несомненно, веселился, а я был в тоске; он был спокоен, меня била тревога.
Если бы кто-нибудь стал у меня допытываться, что я предпочитаю: ликовать или бояться, я ответил бы — ликовать. Если бы меня спросили опять: предпочитаю я быть таким, как этот нищий, или таким, каким я был в ту минуту, то я все-таки выбрал бы себя, замученного заботой и страхом, выбрал бы от развращенности.
Разве была тут правда? Я не должен был предпочитать себя ему, потому что был ученее: наука не давала мне радости, я искал с ее помощью, как угодить людям. Не для того, чтобы их научить, а только, чтобы им угождать. Поэтому посохом учения Твоего Ты и сокрушал кости мои…»
Не без влияния проповедей ученейшего епископа Амвросия многознающий философ Аврелий сызнова перечитывал Моисеево пятикнижие, четыре канонических Евангелия, экуменические послания святых апостолов Христовых. Обратился он и к тем творениям стародавних отцов Христианской Церкви, на какие логично и аподиктически ссылался мудрый медиоланский проповедник Слова Божьего.
Аврелий многое рационально понял. Меж тем глубоко подспудное религиозное чувство ему интуитивно подсказывало, твердило: впервые в жизни он встретил человека, чьи книжные натурфилософские познания мало в чем уступают его собственному постижению бытия. При этом Амвросий полнозначно его превосходит в понимании глубинных истоков христианского вероучения, в чем у Аврелия не было ни малейших сомнений.
Сомнительное материалистичное манихейство его навсегда оставило. Зато немало добавилось неоплатонического духовного скепсиса от старых и новых трудов языческих философов-академиков.
Но и здесь он обнаружил непреложную твердую опору в Святом католическом и православном Писании, призывающем истово верующих не обольщаться суесловием ложной философии, не пугаться суеверий в псевдорелигиозных понятиях; не обращать особенного внимания и на тех единоверцев, кому не дано понять ни того, что они говорят, ни того, что утверждают.
Людские взаимоотношения всегда требуют подтверждения. Стало быть, они вторично встретились один на один — Святой Амвросий Медиоланский и Блаженный Августин Гиппонский — на июньских нонах в первый год не очень-то близкого, как им бы того хотелось, обоюдного знакомства. И на этот раз их разговор первым долгом коснулся мирских озабоченностей. Епископ Амвросий обиняками, осторожно интересовался, насколько профессор Аврелий готов и способен к тому, чтобы в ближайшем обозримом будущем занять высокий пост высокородного мужа, кесарского комита и викария какой-либо из римских провинций.
От предложенной ему в полунамеках высочайшей чести Аврелий ни в коей мере не подумал отказываться. Одновременно не стал он, однако, прежде времени благодарить Амвросия за возможную поддержку-протекцию, когда неясен вопрос о потенциальных притязаниях могущественного британского военачальника Максима на империум Запада; неизвестно и отношение к данной пертурбации кесаря и августа Востока — всесильного Теодосия.
Заведомо тут тебе и латинский максимум желаемого, и мнение Божье по-гречески. Непонятно, правда, кому и сколько чего-нибудь достанется и послышится…
Богословских тем и предметов Амвросий и Аврелий в той конфиденциальной политичной беседе нисколько не касались практически. Хотя, прощаясь, епископ просил передать привет Монике и похвально отозвался о святости ее веры. Дескать, нельзя не поздравить сына, имеющего столь набожную и правоверную мать-католичку.
«…Господи! Ты привел меня к нему без моего ведома, чтобы он привел меня к Тебе с моего ведома…»
Кроме того, святейший католический прелатус высказал сожаление, что бесчисленные пастырские обязанности, острейшая нехватка свободного времени, недостаточность учености и образования не позволяют ему как-нибудь во благовремении вволю подискутировать с многоученейшим профессором Аврелием о некоторых вопросах истинной веры Христовой, какие его в качестве достойного катехумена, сына истовой христианской матери, несомненно, тревожат, а также волнуют тех, кому он преподает риторику. Тем временем умудренный знаниями и пожилыми годами святой отец Симпликиан, образованнейший пресвитер и всеученейший клирик, с большой охотой сможет уделять ему многие часы, если профессор Аврелий пожелает совместно с ним найти разрешение любым теологическим дилеммам и проблемам, вызывающим у его учеников какие-либо существенные затруднения…
В то время, да и на следующий год профессорская деятельность Аврелия Августина осуществлялась более чем дидактически успешно и политически плодотворно. Поэтому очень многих на сентябрьских идах в конце виноградных каникул крайне удивило поразительное известие о внезапном оставлении им кафедры и переселении на небольшую виллу Кассикиакум близ Медиолана.
Тогда как о непреклонном решении христианского философа Аврелия совсем удалиться от мирской докучливой суеты, взяв собой нескольких ему преданных старых и новых друзей-учеников, любящую мать и любимого сына, заранее были отлично осведомлены святые отцы Амвросий и Симпликиан. Ибо православная и католическая Церковь Христова обрела истового приверженца, где бы он самоотверженно ни трудился во имя вящей любви Господней.
Спустя двадцать восемь лет в 414 году от Рождества Христова в девятнадцатой книге «О Граде Божием» епископ Августин Гиппонский напишет:
«…Святого покоя ищет любовь к истине; общественные обязательства принимает на себя неизбежный долг любви. Если никто этого бремени не налагает, следует пользоваться досугом для познания и созерцания истины. Если же его налагают, его так же следует принять по неизбежному долгу любви.
Но и в последнем случае не следует отказываться от удовольствия, доставляемого истиной, чтобы та приятность не исчезла, а эта необходимость не подавила…»
Воистину на все и на вся необходима воля Божья. В том числе без нее никоим образом не обходятся наши благодарения Вседержителю с любовью за все и за вся. Любви достигая, ревнуем о дарах духовных на пути превосходнейшем.
†
ФОЛИУМ ПЯТЫЙ. КРЕЩЕНИЕ ИСТИНОЙ ПРЕСВИТЕРА АВРЕЛИЯ
КАПИТУЛ XX
Годы 1140–1141 от основания Великого Рима.
3-4-й годы империума Валентиниана Секундуса, августа и кесаря Запада. 8-9-й годы империума Теодосия, августа и кесаря Востока.
Годы 386–387 от Рождества Христова.
Вилла Кассикиакум поблизости от Медиолана в италийской провинции Эмилия и Лигурия. От виноградных каникул до Пасхи Христовой.
«Время не проходит впустую и не катится без всякого воздействия на наши чувства — оно творит в душе удивительные дела. Дни приходили и уходили один за другим; приходя и уходя, они бросали в меня семена других надежд и других воспоминаний…»
Верно в Медиолане в первую голову Аврелий Августин духовно и любовно расчелся с манихейством ближайших друзей-последователей, пожалуй, до того, нежели сам благодатно отбросил прочь скептические колебания. Вовсе не походя расстался он с переменчивыми сомнениями в надежности духовного выбора между блужданиями в потемках телесности и светом небесных истин, не связанных земнородными материалистическими путами, но постепенно, по градусам.
Между тем развенчать манихейские материализаторские заблуждения в глазах, в умозрительных представлениях давних слушателей-учеников ему и вмале незатруднительно, коль скоро следует действовать в градации от простого к сложному, от ничтожного к великому. И подавно, когда он, философ Аврелий, путь-путем принялся за это дело экспериментально (выделим по-латыни) и любомудро, с любовью к ближним своим. Опыт есть опыт, на каком языке его ни назови…
И тот же неизменный смысл мы вкладываем в слова: вера-пистис, надежда-эльпис, любовь-агапе… И, в мать их, софию! Особенно, если греческой мудрости и латинского разумения самому ой как не хватает ментально…
Прежде всех Аврелий взялся за любимого давнишнего ученика Алипия Гауду Адгербала в порядке эксперимента и в категории подлежащей аристотелевской сущности, наименее упорной в манихейских ересях.
Римский друг Алипий перебрался к нему в Медиолан первым из их духовного братства, прочно обосновавшегося в конце сентября на вилле Кассикиакум. В Риме Алипий Адгербал не ужился с высокородным комитом италийских фиска, податей и сокровищницы, при ком состоял советником по судебной части. Таким категорическим образом честный мытарь и правдолюбивый молодой оратор, не пришедшийся ко двору всяким-разным имперско-республиканским лихоимцам-мздоимцам, оставил фискальную службу и решил продолжить философское образование. Благо фамильные доходы позволяют ему довольно безбедное существование.
Мудрыми словами учителя Аврелия ученик Алипий и в Картаге мог зачастую поклясться. Поэтому не замедлил сделать то же самое в подавляющем профессорском авторитете того, чьи рациональность, логичность, аподиктичность и раньше находили живой отклик в его разумной душе.
Вторым великовозрастным аколитом профессора Аврелия в Медиолане объявился Гонорат Афраний Масинта. В Риме его тоже не прельстило мздоимливое препровождение служилого времени в мелкочиновном статусе под началом власть имущего префекта анноны, от кого зависит, сколько хлеба, масла, мяса и зрелищ задарма вытребует неимущая римская чернь и рвань. А достоимущие квириты за все это и многое другое заплатят сами при должной организации хозяйства, подвоза и торговли в колоссальнейшем Вечном Городе.
Гонорату частично помогло отринуть манихейство, за какое он очень крепко держался, мелочное, бывало, и запредельное корыстолюбие римских поклонников учения пророка Мани, настырно и назойливо досаждавших ему с петициями о взаимовыгодном содействии и содружестве в ущерб иноверцам и снабженческому скотопромышленному делу. Потому-то чисто духовные не от мира сего доводы и промыслы Аврелия легли на хорошо унавоженную почву, в избытке материалистично сдобренную, удобренную человечьими нечистотами и скотьими испражнениями.
Отнюдь не на камень упали горчичные зерна истины, со временем благовестно разрастающиеся в пышные растения. Тогда как излишки навоза вовсе не по-евангельски легко смываются осенне-зимними дождями.
Так лишился зимой перед сатурналиями учеников и денег Небридий Дамар, вздумавший было стать профессором риторики в Риме. Преподавательское дело у него шло более-менее гладко в течение полугода, пока беспросветные тупицы-школяры не сыграли с ним ту же глупую шутку, что и с Аврелием. Правда, не рассчитались лишь за два осенних месяца. Зато ушли, скоты, все поголовно. Потому огорченный и опечаленный Небридий пустился в путь на север искать сочувствия и утешения у старого друга-учителя с камнем на сердце и манихейством за пазухой в придачу.
Манихеем друг Небридий оказался твердокаменным, кремневым; везде видел одно только пространство материального зла — на юге и по всем сторонам света. Но и капля подобру-поздорову камень точит, и кремнистые мельничные жернова снашиваются, если ты не злостный лжепророк, они у тебя не висят на шее и не тянут на дно морское.
Третьего картагского друга Аврелию удалось утешить философией древних стоиков и новых академиков-платоников. А к правоверному христианству Небридий подошел самотеком, однажды став окрещённым в незапамятном и бессознательном младенческом возрасте во время смертельной болезни, как ему исторически рассказывали о том явленном чуде исцеления.
Четвертым в поисках соболезнования и сострадания к Аврелию на днях заявился Скевий Вага Романиан. Его деловой тагастийский друг также в одночасье остался без блага, счастья и удачи. Он пережил и до сих пор переживает страшнейшее злосчастье и дикую неудачу с безвозвратной потерей пяти крупных трехвесельных кораблей со всеми людьми, рабами, животными и сверхценным грузом черного, красного и желтого дерева.
Теперь Скевий тускло и пасмурно ждет-дожидается присылки основательных денег из Африки от продажи осеннего урожая в своих имениях. Тем часом до манихейства, к которому он ранее не очень-то был подвержен, нисколько не привержен и сейчас, ему и дела никакого нет в принципах, в первоначалах, в первостихиях, от каких он фундаментально и элементарно столь бедственно пострадал. Однако охоту к любомудрию нам явленный Скевий ни на греческую йоту не утратил. От альфы и до омеги готов феноменально дискутировать до петушиной пополуночи, во все стороны, вширь и вглубь, туда и обратно, циклически…
Аврелий опять вернулся, обратился к памятной ретроспективе двух последних лет в Медиолане. Ему очень хотелось понять, наконец, уразуметь, почему и отчего он обрел христианское вероучение, и вот-вот, слава Тебе, Господи! Примет материнское вероисповедание, избрав принадлежность к православному и католическому никейскому Символу Веры.
Конечно же, тому очень и очень способствовали молитвы матери, приобретшие едва ли не чудотворную действенность.
Стоит также вспомнить правоверные докторальные проповеди Амвросия. Он, честное слово, не красноречивее того же доктора манихейской риторики Фавста, но безмерно превосходит его в общеисторических знаниях, в натурфилософии и в либеральных науках, какие наш епископ не стесняется свободно применять, обращаясь к пастве и жизнедеятельно толкуя Святое Писание.
И в действительности весьма помогли продолжительные подробные беседы со старым пресвитером Симпликианом, а также время от времени краткий немногословный обмен мнениями, замечаниями с епископом Амвросием при чтении вдвоем языческих философских или христианских духовных трудов.
В этом году Аврелий сошелся в своеобразном общении с Амвросием, наверное, ближе, чем когда-то с Фавстом в Картаге. Они так же имели приятное обыкновение в дремотные пополуденные часы преспокойно читать, когда по традиции успокаивается, едва ли не замирает суета сует людской жизнедеятельности, от какой никуда не деться ни духовному пастырю-наставнику душ человеческих, ни учителю, наставляющему те же души в иных более материалистических аспектах, текстах, контекстах или конспектах.
Вот они и читали вместе, подобно тому, как Аврелий проводил время после прандиума в совместном литературном чтении с Фавстом, конспективно обсуждая только что прочтенное или ранее вычитанное. В Медиолане профессор Аврелий тоже распускал алюмнусов на два-три часа в предобеденное время до начала какой-нибудь общей ученической декламации в присутствии зрителей-слушателей со стороны.
Доступ к епископу почти всегда открыт для всех, но в пополуденные часы его внимания и участия мало кто домогается. Поэтому Амвросий днем отдыхает за чтением, иногда правит свои сочинения. Хотя, наподобие некоего философствующего сочинителя Аврелия, он предпочитает создавать письменные труды в тиши вечерних и полуночных промежутков времени, когда не так уж чрезмерно, безотрывно занят либо сугубо мирскими делами, либо богослужебными и церковными обязанностями в епископальной базилике Святого Духа.
Как сейчас помнится, оторвался однажды епископ Амвросий от «Платоновой теологии» Ямвлиха и пытливо поинтересовался, каких мыслей придерживается катехумен Аврелий о тройственном понимании смысла Святого Писания. Одобряюще выслушал его ссылки на Оригена и добавил к тому, что для человека духовной жизни, образованного в науках и в истинной вере, прежде всего, наиважнейшим является богодухновенное пророческое понимание, тогда как для отсталых и недостаточных в божественных истинах слабо верующих людей доволе буквального, телесного и в каком-то отношении душевного разумения.
— …Оттого Ветхий Завет в большей мере, а Евангелия в меньшей степени, собеседуют с большинством простых и слабых умов тем же языком как бы слабым для слабых, делая в то же время указание на нечто такое, что должен в свой черед разуметь тот, кто сокровенно обогащен Духом Святым и открытыми сокровищами общеобразовательных знаний. Как новое, духовное и познавательное, тождественно тому многое старое, историческое, выносит образованный человек из чтения Святого Писания.
Развивать посылку и впадать в дальнейшие пространные толкования епископ Амвросий Медиоланский, снова углубившийся в Ямвлиха, не счел нужным. Это за него отчасти сделает епископ Августин Гиппонский в своем шестодневе, герменевтически по Аристотелю комментируя Книгу Бытия:
«…Сам же преуспевай в Писании, которое не оставляет тебя в твоей слабости, а с материнскою предупредительностью замедляет для тебя шаги свои и говорит подобным языком для того, чтобы гордых пристыдить высотою, внимательных устрашить глубиною, взрослых питать истиной, а малых — лаской…»
А в книге пятнадцатой «О Граде Божием» запечатлена та же самая идея подлинной христианской экзегезы, весьма далекой от скудоумного буквализма:
«…Бог не раскаивается в каком-нибудь поступке, будто человек. Его суждение о всех вообще вещах так же твердо, как верно Его предвидение.
Но если бы Писание не употребляло таких выражений, оно не говорило бы так близко сердцу всякого пошиба людей, для кого оно предназначено быть соведателем, чтобы устрашать гордых, возбуждать нерадивых, упражнять исследующих и давать пищу понимающим. Этого оно не могло бы делать, если бы предварительно само не склонилось и некоторым образом не снизошло к слабым…»
В Медиолане не без благодетельного общения с Амвросием, слушал ли он его проповеди или изредка беседовал, Аврелий плодотворно усвоил, насколько аллегорическое толкование любых священных книг может стать чудесным душеспасительным духовным упражнением. Тем оно и разнится, отличается от обманного буквального прочтения, какое подчас убивает и здравый смысл, и верующую душу, и маломальские умственные способности тех, кто, находясь в плену обыденного словоупотребления, не в состоянии либо не дает себе труда уяснить пророческое богооткровенное значение сакральных текстов.
Ибо не буква, но дух животворит веру, направляющую умственный взор к истине. О чем епископ Августин спустя тринадцать лет после святого крещения не преминет не раз исповедально упомянуть с благодарностью епископу Амвросию:
«…Я сразу полюбил его, сначала, правда, не как учителя истины, но как человека ко мне благожелательного…
Я прилежно слушал его обращение с народом не с той целью, с какой бы следовало, а как бы присматриваясь, соответствует ли его красноречие своей славе, преувеличено ли оно похвалами или недооценено…
…Когда, снимая таинственный покров, он объяснял в духовном смысле те места Святого Писания, которые, будучи поняты буквально, казались мне проповедью извращенности, то в его словах ничто не оскорбляло меня, хотя мне еще было неизвестно, справедливы ли эти слова…
…Услышав правдоподобные объяснения многих мест, я понял, что под нелепостью, так часто меня в них оскорблявшей, кроется глубокий и таинственный смысл. Писание начало представать перед мной тем более достойным уважения и благоговейной веры, что оно всем открыто, и в то же время хранит достоинство своей тайны для ума более глубокого.
По своему общедоступному словарю и совсем простому языку оно есть Книга-Библия для всех и заставляет напряженно думать тех, кто не легкомыслен сердцем; оно раскрывает объятия всем и через узкие ходы препровождает к Тебе, Господи, немногих. Их, однако, гораздо больше, чем было бы, не вознеси Писание на такую высоту свою авторитетность, не прими оно такие сонмища людей всвое святое смиренное лоно…
…Особенно подействовало на меня неоднократное разрешение загадочных мест Ветхого Завета. Ведь прежде их буквальное понимание меня убивало.
Услышав объяснение многих фрагментов из этих книг в духовном смысле, я стал укорять себя за то отчаяние, в которое пришел когда-то, уверовав, будто бы тем, кто презирает и осмеивает Закон Божий и Пророков, противостоять вообще нельзя…»
Что неложно, можно и должно авторитетно противопоставить врагам истинной веры и Церкви Христовой, Аврелий Августин начал малым-мало понимать, благополучно переубедив собственных учеников в неправомерности и подложности материалистических манихейских верований.
Притом действовал он себе на благо, не без пользы, истинно по-учительски, когда обучая, учится и учитель. Ибо наставляя других, никогда не следует забывать, как учить себя самого.
Действительно и достоверно: необходимо тройственное единое понимание, какое начинается со слабоосмысленного телесного восприятия, переходит в рассуждение душевное, откуда открывается путь к духовному разумению. Такова диалектическая триада: тезис, антитезис, синтез — во благословении Пресвятой Троицы во имя Отца, Сына и Святого Духа.
В истинном познавательном мнении, чтобы подняться, изначально следует спуститься к примитивам, оригиналам и элементам. И далее из глубины двигаться вперед и вверх от простейшего первичного к сложнейшему объединенному, от царств земных к Царствию Небесному. Если дедукция нам заповедана свыше, то индуктивное приближение к истине, предопределенное познание вероятны и возможны, становясь по мере присносущeго развития очевидными мыслительными достижениями человеческого разума в его многообразном приложении к бытию.
В бытность в Медиолане, — к мысли вспомнилось Аврелию, — они с Амвросием как-то раз достаточно пространно разговорились о развитии общечеловеческого понимания, о поступательном движении-прогрессе, какое приводит к новому постижению мироздания в виде смены религиозного осознания реальности-бытия. (Говорили, натурально, на латыни с вкраплением необходимых греческих слов.)
Тем самым на смену устаревшему язычеству прогрессивно пришло христианство в образе культуры-возделывания человеческой нивы и взращивания нового человека, взыскующего Царства Божия, будь то на небесах или на земле. На то и молитва «Отче наш», заповеданная Спасителем от причины прогрессивно к следствию.
Реально: непреложность следования путем эволюционного прогресса, то есть в разворачивающемся воочию поступательном движении вперед, мы благовестно находим во всех смыслах во многих логиях-заповедях Христовых в Новом Завете, — согласно пришли к единомысленному мнению Аврелий Августин Гиппонский и Амвросий Медиоланский. Ибо причины поэтапно надвигающегося будущего, предопределенно заложены Богом в свершившемся прошлом. От причины всякое естество продвигается к неотъемлемому развитому следствию.
Засим идею христианского прогресса отличительно развивал в посланиях-эпистолах Святой апостол Павел — первый ученик Христа, принявшийся в письменном эпистолярном представлении толковать благую весть, подлежащую книжной записи.
Ссылаться на конкретные соборные послания и стихи апостола епископ не стал, видя на столе перед Аврелием канонический сборник творений Павла Тарсянина. Но от себя высказал мысль о непреклонном движении вперед:
— …Все впоследствии продвигается к лучшему. Сам мир, вначале образовавшийся из связанных стихий благодаря бестелесной первопричине на молодом небесном своде, был покрыт мраком и холодом с еще беспорядочно запутанными сущностями.
Разве вслед за тем он не получил благодаря упорядоченному различению неба, морей и земли те формы вещей, какие кажутся прекрасными? Земли, освобожденные от сырой темноты, изумились новому солнцу. Белые дни в начале времен не сияли, но по прошествии утренних и вечерних промежутков сотворения засверкали усиливающимся светом и возрастающим теплом.
Но насколько же приятнее сбросить мрак с души, чем с тела, чтобы засиял свет веры, а не солнца!
Сумрачная немощная языческая старость мира пошатнулась, а его христианская блистающая зрелость или, быть может, лишь разворачивающаяся прогрессивно молодость, крепнет, растет день от дня и прирастает истинно верующими людьми духовной жизни…
Почему ритор и философ Аврелий внезапно и ясно осознал себя интеллектуально верующим в православном и вселенском облике, он был не в силах аналитически понять, логично отметить, рационально выделить. Подобно тому многие люди спустя тысячелетия в сугубом безбожном социальном окружении вдруг безотчетно, далеко не осознав свое существование в Боге, становятся истово верующими и воцерквленными.
Аврелий Августин не смог диахронически выделить, как-либо, чем-либо подчеркнуть тот день и месяц, когда перестал самоустраняться от евангелического апостольского христианства. Еще вчера он мучился, страдал, обиновался и колебался в необходимости приобщения к православному вероисповеданию. Да и сегодня он по-прежнему во многом сомневается, испытывает всекатолический скепсис и экуменический пессимизм.
Скажем, спрашивает он у епископа Амвросия, какую же книгу ему почитать, чтобы убедиться в необходимости принятия крещения. Тот рекомендует ему пророка Исайю, потому, что яснее других говорит он о Евангелии и призвании язычников. Катехумен Аврелий берет книгу в руки, и, как пишет в «Исповеди» епископ Августин:
«…Не поняв и первой главы и решив, что и вся книга темна, я отложил вторичное ее чтение до тех пор, пока не освоюсь с языком Писания…»
А потом раз и настало для него, Алипия и Адеодата самое время, чтобы, оставив Кассикиакум, вернуться в Медиолан и записаться к святому отцу Амвросию на крещение, — находим мы в его исповедальных строках, непосредственно затем следующих.
«…Таковы были мы, пока Ты, Всевышний, не покидающий нашей земли, не сжалился над жалкими и не пришел к нам на помощь дивными и тайными путями…»
Каким в конкретности образом мыслительных действий у Аврелия Августина все же получилось пассивно выйти из сумеречного и очень мучительного состояния души, ему было не дано понять в силу активности Господнего опус оператум, трансцендентно позволяющего прилагать церковные таинства к любому разумному существу, созданному по образу Его.
Однако же так либо иначе разбросанные во многих трудах Августина рациональные посылки дозволяют его исследователям и последователям по прошествии веков судить о том с герменевтической стороны при доскональном изучении литературного, исторического и богословского наследия этого величайшего отца и учителя Церкви Христовой. Текстуальные тому языковые свидетельства были, доселе находятся, они суть подлежат систематизации, классификации и таксономичной интерпретации. Разумеется, пост фактум и апостериори в энтимемах и эффектах.
Первой рациональной причиной того, что содержание имманентной веры — пистис Августина потребовало адекватной формы, представляющей собой веру — религию и вероисповедание — конфессио, фигурирует необходимость обретения эффективной опоры и поддержки в противостоянии собственной личностной слабости духа и физической немощности одушевленного тела.
При этом, — уместно подчеркнуть, — перво-наперво мы берем эту каузальную предпосылку не в ее главенстве, но индуктивно от простейших фактов к их синергии. Потому как в реальности не от психофизиологической астении, обиходного бессилия, слабоволия и невозможности справиться с самим собой пришел к православной и католической религии Аврелий Августин, но от безотчетной уверенности и убежденности в личном духовном и душевном динамическом потенциале.
Если страх перед жизнью создает ложных языческих богов, то осознание Августином себя в Боге произошло в приложении его личной доблести и отваги, успешно и последовательно противоборствовавших любым им встреченным неблагоприятным жизненным обстоятельствам и тленной порочной физиологии человека в результате филогенетического грехопадения, то есть ветхозаветного неповиновения Господу. Меж тем физическая боязнь смерти и социализированный страх Божий для него существуют лишь в силу моральных императивов, какие он осознанно, добровольно принимает в виде неизбежности коммуникативных ограничений свободы его личности.
Практически, даже не будучи обращенным и воцерквленным, Аврелий Августин смог бы занять подобающее ему место в римском доминате. Например, сменить в 387 году Кастория на посту высокородного мужа в должности викария Африки. А там, глядишь, через несколько лет предстать сиятельным или даже светлейшим комитом при кесаре Теодосии Великом. Политическими, нравственными и интеллектуальными качествами для такого рода государственной деятельности профессиональный оратор Августин обладал в достаточной количественной силе.
Тем не менее он избрал другую качественную стезю покамест философа, занятого поисками истины. Отсюда проистекает выделяемая нами вторая, — назовем ее интеллектуальной, логическая предпосылка воцерквления Августина в нашем рассудочном обобщении, не затрагивающем какой-либо божественной сверхрациональности и сверхразумной трансцендентности.
Незыблемое качество его неотъемлемой веры неукоснительно нашло воплощение в категории переходящего количества обретенных им знаний об универсуме. Тем самым достигнутый уровень познания определил вероисповедание Аврелия Августина в очевидной взаимосвязанности эпистемологии и конфессиональности.
Иначе актуально сформулировав в синхронии, мы можем выдвинуть нижеследующий конфессиональный постулат.
Чем более полнозначными массивами релевантной информации, адекватной реальности-бытию, владеет, имеет к ним доступ человек разумный, тем значительнее для него становится оптимум самоопределения, самоосознания существования в Боге и в творении Его.
Умопостигаемые истины входят в разумную мыслящую душу через мир сотворенный в благорасположенном Провидении Господнем, — таков эволюционирующий лейтмотив теологического творчества Августина.
Cogito ergo sum, — спустя века станет развивать его эвристическую мысль религиозный философ Декарт. Какие бы богомерзости ему ни приписывали материалисты-атеисты, Рене Декарт всегда оставался истинно, достойно верующим во Христе человеком, — уместно заметить в этой связи.
Достоименно и ритор Аврелий Августин имел самопознание философствующего субъекта в злостной манихейской молодости, информативно перешедшей в добрую христианскую зрелость в медиоланский период. Пусть объявить о себе как о независимом суверенном философе в конце 80-х годов четвертого столетия ни ему, ни какому-либо иному мыслителю было невозможно априори. При всех вариантах непременно следовало присоединиться к какому-нибудь философскому направлению или связующей школе: стать академиком-платоником, перипатетиком-аристотеликом или же стоиком, чтобы тебя, не дай Бог, не сочли неприкаянным и бездомным собачьим философом-киником.
Следовательно, единственной возможностью сохранить философскую независимость от языческих интеллектуальных стереотипов и ментальных масс-коммуникативных установок античности представало, как это ни парадоксально, конфессиональное присоединение к ортодоксальному экуменическому христианству. Тем паче, подчеркнем, в Медиолане, да и несколько лет до 391 года, возвратившись в Африку, христианнейший философ Августин нисколько не чаял, не помышлял об экклезиастической и синодальной карьере церковного деятеля.
Третья каузальная предпосылка жизнедеятельного воцерквления Аврелия Августина, какую мы можем в рационалистической интерпретации вывести из его дней и трудов, состоит в активной жизнеустроительной модальности объекта нашего герменевтического исследования. (Модальность, отнюдь не самое в себе, берем по Аристотелю.)
Так, Августин ни в коей мере не был созерцательным языческим философом, пассивно ограниченным собственной личностью и умопостигаемыми констатациями фактографических материалов об универсуме. Ибо ему непременно требовалось волевым действием перекраивать и трансформировать окружающую социальную среду в соответствии с персональным религиозным мировоззрением.
Иными словами, в духовном пророческом смысле Ветхого Завета, коли Бог-Отец все и вся исполнил мерою, числом и весом, то необходимо любой ценой, всеми доступными методами добиваться упорядочивания мироздания, одной частью или же многими своими составляющими отпавшей от Господа Бога нашего.
Взятые в абстрактном типологическом виде космическая гармония и музыка небесных сфер суть идеалы, непреложно требующие конкретной реализации и в земном глобальном обустройстве. И наилучшего пути, нежели католическое, то есть вселенское, апостолическое христианство Августин не видел в орбитальном неотступном преследовании данных ему в вышних предначертанных целей. Потому воцерквленная религия силы проницательнейшего ума и укрепившегося верою духа для него в дальнейшем обратятся в сознательный логичный выбор, крестное избрание, экклезиастическое звание и духовное призвание.
«По своей воле пришел я туда, куда не хотел…»
В Кассикиакуме Аврелий обрел поистине превосходное самочувствие и с большой охотой предался ничем и никем не ограниченным философским занятиям. Только здесь он сообразил, сколь тягостной неволей наваливаются, вернее, перестали давить на его разум и душевное тело профессорские обязанности.
Наверное, охладел он к риторике как-то непроизвольно за последние полгода, если служилые повинности очень досадно не дают сосредоточиться на важнейших мыслях. Куда-то исчезла прежняя радость от учительства, а ежедневное перелопачивание стихотворчества стародавних языческих поэтов — комедиантов и трагедиантов — превратилось в докучное надоедливое ярмо, от какого невтерпеж избавиться.
Эх, послать бы этих глупейших Вергилиев и Горациев куда ни попадя… В афедрон их тартарский, недоумков!..
Во вторую очередь катехумена-христианина Аврелия начали неприятно и отвратно раздражать недомыслия, недоразумения и попросту всякие проявления элементарнейшего скудоумия в измышлениях старых и новых философов-гентилей.
Вот тебе и бодрый умственный дух, лишающий бренное тело последнего здоровья!..
Видимым модусом раздражительное уложение духа, состояние души сказались и на телесной физиологии, — принял к сведению Аврелий. Потому что к лету легкие у него начали явно сдавать, голос стал глухим и прерывистым, в груди саднило. Надо хоть на время отказаться от преподавания, если садиться голос — основной ремесленный инструментарий, органон магистра риторики.
Летом ему во всех отношениях лучше не стало, и ритор Аврелий едва дождался виноградных каникул.
«…Когда же овладело мной и укрепилось во всей полноте желание освободиться и видеть, ибо Ты — Господь? Ты знаешь, Боже мой, я даже обрадовался, что у меня есть справедливое извинение, которое должно смягчить обиду людей, не желавших из-за своих милых детей помиловать меня.
Полный такой радости, я перетерпел этот промежуток времени до конца - было это, кажется, дней двадцать. Претерпевались они с натугой: во мне уж не было того запала, с каким я обычно вел эти трудные занятия, и не приди на его смену терпение, они согнули бы меня под своим бременем…
…Я решился пред очами Твоими, Господи, не порывать резко со своей службой, а тихонько отойти от этой работы языком на торгу болтовней. Пусть юноши, помышляющие не о Законе Твоем, не о мире Твоем, но о лжи, безумии и схватках на форуме, покупают оружие своему неистовству не у меня.
Я решил уйти, как обычно, на вакации, но не возвращаться больше продажным рабом: я был Тобой выкуплен.
Решение наше было открыто Тебе, людям же открыто только своим…»
Как видим, точную крестную дату, когда Августин ощутил себя еще внеконфессиональным, но все же христианином, он впоследствии исповедально отметил. Либо он, безжалостно по-живому анатомируя собственную личностную психологию, ретроспективно препарировал переломный момент индивидуального жизнетворчества в виде временной систематизированной привязки к социометрическим обстоятельствам.
Помимо старых друзей-учеников, преданно ему внимавших, вокруг Аврелия обстоятельно собрались и его новые медиоланские знакомцы, по тем же духовным или человеческим душевным причинам искавшие его общества в ту пору. Одному из них, а именно грамматику Верекунду, он рассказал о намерении оставить преподавание по причине некоторого нездоровья, и тот обрадовано предложил всем собратьям по духу, кто сможет и того пожелает, отправиться к нему на виллу Кассикиакум.
Верекунд оставить преподавание и молодую жену, естественно, не в состоянии, да и нисколько того не желал. Точно так же не мог уехать из города и Небридий, кого Аврелий уговорил пойти к Верекунду грамматическим помощником.
Более всех обрадовался переезду в деревню Алипий, хотя вовсе не по идиллическим или эротически-буколическим стимулам-мотивам. Римские беседы о мужском воздержании друг Алипий не позабыл, отчего настойчивее кого-либо теперь ратует за добродетельное безбрачие и стоическую автаркию мудрецов, не нуждающихся в любовном возлежании с женщиной.
Ригористичных взглядов ученика Алипия его друг и учитель Аврелий не разделял, но переубеждать в чем-то обратном и противоположном нисколько не намеревался. Даром что с мыслями о том, чтобы дожидаться в Медиолане наступления брачного возраста у нареченной невесты Максимиллы, он незаметно расстался. Это уже ни к чему в иных надеждах обновленной благовестной жизни.
Так же неприметно, безучастно он в то лето отдалился и от вдовы Эльпис. Недаром из Кассикиакума в Медиолан к ней ни разу не съездил и о ней не вспоминал. Уж больно она похожа на Сабину, о ком ему думать категорически не хотелось. Проще вообще изъять из философского и мыслительного употребления аристотелевскую категорию обладания женщиной или женой, как наименее ему подходящую.
Вполне достаточно в ближних иметь мать и сына. К тому же для пущей и сущей семейственности в Африке найдется замужняя сестра, и младший брат из пехоты перешел служить на флот в Остии уже в чине центуриона.
Кто благовестно нам мать, кто сестры и братья наши?..
Безмятежное и благодатное существование в Кассикиакуме братской духовной общины единомышленников во многом обеспечивал за счет наличных средств Скевий Романиан. Вольно ему гораздо чаще других туда-сюда деловито ездить в Медиолан, добиваясь возмещения ущерба от злонравия враждебных человеку бессердечных волн и безмозглых ветров. Но в любомудрый досуг остальных он тоже вносил немалый умственный вклад.
Скевий даже иногда брался за обязанности секретаря-либрария. Хотя в основном этим занимался Клар — раб-чтец Моники. В пополуденные и вечерние часы Клар добросовестно записывал философские реплики и ремарки семи-восьми собеседников, ежедневно заседавших за обеденным столом.
А с утра пораньше Аврелий эти записи правил, дополняя и развивая содержание вчерашних и позавчерашних бесед. Поди, выходит нечто сходное с диалогами эпигонов-платоников и их афинского корифея. Диалог есть диалог, что у Платона, что у прочих, любомудро вопрошающих, утверждающих, отрицающих или восклицающих.
Кроме того и в контраст он приступил к написанию трактата «Против академиков». Благодатно и сообразно общему философскому духу, царившему в Кассикиакуме, исполу завершил высокое рассуждение «О музыке», где, разумеется, речь не идет об авлетике, игре на дудках и на флейтах, если натурфилософски затрагиваются принципы гармонического движения космических светил в интервалах кварты, квинты или октавы.
Принялся он также набрасывать промежуточные заметки к философским трактатам «О порядке», «О блаженной жизни», «О бессмертии души». В них прекрасно поместилось кое-что из содержания недописанного и незаконченного им в картагской молодости, как он сейчас понимает, в целом весьма незрелого, греховного и святотатственного опуса «О прекрасном и соответственном».
На прекраснейшее здоровье, кстати сказать, грех жаловаться, несмотря на холоднющую лигурийско-медиоланскую стужу осенью и зимой. Но доброжелательные люди медиоланцы научили порядком зябнущего южного выходца поддевать под две зимние туники жуткое легионерское одеяние бракарум в виде широчайших труб для ног и обширного мешка для укутывания живота и чресел.
Если потуже зашнуроваться, подпоясаться, то ходить в этаком безобразии, носить его можно, передвигаясь в пешем хождении; даже на коня в нем вполне способно взобраться и совершить небольшую поездку — верхний ум проветрить, если задняя, тебе, умственность ничуть не замерзает.
Но все-таки холодно. Оттого должно быть, на январских идах Аврелий страшно застудил зубы на обе челюсти. Три дня и три ночи невыносимо страдал, покуда Бог не помог. Ехать в Медиолан к зубодерам уж очень нежелательно, тогда он попросил друзей, мать и сына написать его имя на восковых дощечках и всем вместе помолиться за здравие и спасение несчастного.
Помниться, давным-давно нянька Эвнойя нечто подобное бормотала об этом народном христианском методе избавления от зубной муки…
Сам говорить страдалец уж не мог, и рта не отворял от боли, потому написал умоляющую просьбу на табличке.
Исстрадавшийся Аврелий с замиранием сердца ждал чуда, и оно свершилось. Боль, как будто бы Божьим повелением сняло. Недавний мученик мгновенно ожил, воскрес и даже немножко испугался. За какие такие заслуги ему вдруг эдакая благодать? Ни тьмы в глазах, ни скрежета зубовного?.. Не стоит он таковских хлопот в благорасположении Господнем…
В мартовские ноны Моника со всеми принадлежащими ей домочадцами хлопотливо засобиралась в Медиолан. Поститься и молиться она, конечно, могла бы и в Кассикиакуме, но прошел слух, будто кесарскую власть имущие ариане опять вынашивают злодейские замыслы вооруженной рукой захватить Порциеву базилику, как оно едва не злоключилось в прошлом году. Поэтому мать заново готова отстаивать дело правоверия, проводить в базилике дни и ночи, чтобы умереть со словом Божьим на устах, но не допустить еретического кощунства.
Год назад Аврелий довольно скептически отнесся к денному и нощному бдению католиков, распевавших восточные псалмы в Порциевой базилике. Сомневался он и в реальном существовании некоего святого Порция, если исторически одноименно звали жену республиканца Брута, одного из убийц кесаря Юлия, какая тоже покончила с собой, узнав о самоубийстве мужа.
Нынче же катехумен Аврелий хорошо понимает святые чувства набожной Моники. Ведь скоро и ему трогаться в путь в Медиолан, ждать, пока епископ Амвросий окажет ему великую милость и честь, окрестив его бренное тело и бессмертную душу.
В холодные апрельские календы, чуть оттаяла дорога от утренних заморозков, Алипий и Аврелий с Адеодатом, благословясь, двинулись в город. Остальным друзьям вольная воля, но они втроем решили весь путь благочестиво проделать пешком, словно кающиеся грешники-пилигримы.
Самое начало апреля-то в северной Лигурии — считай что стылая зима в Африке. Зато Алипий решился всю зимнюю дорогу аскетично идти босиком, физически упражняясь в благочестии.
Аврелий ему слегка позавидовал. Но позволить себе такого не мог — очень боялся снова застудить зубы. А куда ж с больными-то зубами принимать крестильную благодать? Вдруг крещение свершится завтра или послезавтра?..
Церковное таинство крещения катехумена Аврелия, вероятно, состоялось в одиннадцатый день на апрельские иды в первый день недели после новолуния на Воскресение Христово. Или же в современном григорианском летоисчислении 24 апреля 387 года нашей христианской эры.
Обряд крещения и владевшие им при этом чувства Августин в «Исповеди» подробно не описывает. Ибо таинство есть таинство, как бы ни трактовать велеречиво, песнопевчески это событие в баснословиях-легендах, в литературной ареталогии или в популярной агеографике.
«Te Deum laudamus» Святого Амвросия Медиоланского наверняка звучал проникновенно и тогда и потом.
«Благодарю Тебя, Боже мой. Откуда и куда повел Ты воспоминания мои, чтобы я исповедал Тебе о каких великих событиях я позабыл?.. Потому я так и плакал за пением Твоих гимнов; давно вздыхал я о Тебе и наконец вдохнул веяние ветра, насколько проникал он в дом из травы…»
КАПИТУЛ XXI
Годы 1141-1143-й от основания Великого Рима.
4-6-й годы империума Валентиниана Секундуса, августа и кесаря Запада. 9-11-й годы империума Теодосия, августа и кесаря Востока.
Годы 387-389-й от Рождества Христова.
Медиолан. Остия. Рим. Картаг. Тагаста. Весна, лето, осень, зима и вновь лето.
Весной и летом после крещения Аврелий оставался в Медиолане. Пускай его ученики Алипий и Эводий наперебой уговаривали возвратиться в Африку, он все же предпочел хоть изредка видеться и беседовать с Амвросием. Сына Аврелий поместил в грамматическую школу к Верекунду и Небридию. А большую часть дневного и вечернего времени старался уделять религиозно-философским трудам. Потому как на их написание его благословил епископ Амвросий, с удовольствием ознакомившийся с «Диалогами» и трактатом «О музыке».
В сентябрьские иды Амвросий уехал в Аквилею. Этoт отъезд он ему объяснил нежеланием встречаться с узурпатором Максимом, перешедшим через Альпы и направлявшимся со всем воинством в Медиолан. В неотвратимости гражданской войны между западным узурпатором Максимом и кесарем Востока Теодосием епископ Амвросий был полностью убежден и решил переждать в некоторой безвестности смутное тревожное время. Заодно и закончить вне мирской суеты и политических треволнений свой фундаментальный труд «Об обязанностях священнослужителей».
К тому времени кесарь Валентиниан и его мать Юстина уже нашли убежище во владениях Теодосия в греческих Тессалонниках. Факт более чем убедительный.
Рвущегося к империуму Максима и политической смуты Аврелий нисколько не опасался, но тоже рассудил за благо уехать, поскольку ему внушало определенную тревогу душевное состояние матери. Поэтому он поддался на уговоры тагастийского уроженца Эводия, оставившего службу преторианского дознавателя, чтобы вернуться на родину.
И мать на это возвращение согласна, хотя и без особого воодушевления. Просто ей нынче равным образом безразлично, где жить, существовать, чем себя занимать, если она не находится в церкви, не преклоняет молитвенно колени у могил святых мучеников на христианском кладбище или же, когда ее сыну Аврелию попросту недосуг с ней общаться.
В последнее время Моника ему представляется, словно бы человеком, кто неимоверными усилиями добрался до горной вершины, радостно огляделся вокруг и вдруг с горечью понял, что ему предстоит столь же тяжкий и уж вовсе безрадостный, длительный спуск. Только вниз, неважно вперед ли назад.
Быть может, лучше навек остановиться, чтобы навсегда остаться на безжизненном каменном пике? И здесь наверху покончить со всяческой пожизненной мирской маетой? Цель-то ведь достигнута. Чего ж большего желать, маяться?
Наверное, оттого в предчувствии малоосознанной неизбежности Моника совсем не в христианском духе, а скорее по-язычески не раз прошедшей зимой говорила: раньше чем умереть, увидеть бы старшего сына православным христианином. А вот теперь, будто ей отныне незачем существовать, коль скоро ее молитвами Аврелий обрел крещение в истинной вере. К чему теперь эта жизнь земная?
Как мог, Аврелий постарался красноречиво разубедить мать не поддаваться греху добровольного пассивного самоистребления, не уподобляться языческим философам, с легкостью кончающим с собой по разным неправомерным мотивам, внешним и внутренним. Например, пассивно — уморив себя голодом, или же активно — вскрыв вены.
Право слово, не к лицу христианам самонадеянно и самодеятельно ее, жизнь-то, прекращать, рвать ту самую нить, какая им совсем не принадлежит безраздельно. Ибо и она дается Богом, как и все в этой жизни. Только в смертной болезни безбожия некоторым мнится, что это не так.
Притом преждевременное окончание счетов с данным нам в генесисе одушевленным и одухотворенным телесным бытием вряд ли дарует вечный покой во плоти. Но в ином существовании, может статься, наступит навечно, бесконечно длящейся живой смертью или мертвой жизнью для смертного тела и бессмертной души до и после окончательного Страшного судилища Христова.
Ведь никому неведомо, каким судебным подобием и карающим образом Господь отдает должное воздаяние пассивным самоубийцам, безразличным к жизни и к смерти. Ему отмщение, и Он воздаст.
В любом исходе бесконечное умерщвление и вечный огонь в аду, куда хуже, нежели сравнительно краткая человеческая жизнедеятельность, сгорающая немногим быстрее восковой свечи. Зачем, позвольте спросить, ее жечь с обоих концов? Света от того не слишком прибавится, но общая польза от столь кратковременного освещения несомненно уменьшится…
С большего Аврелию удалось вывести мать из очень знакомого ему состояния слабости духа и душевного тела. Допустим, подобные проявления слабосилия и безволия протекают у всех по-разному, но общие-то признаки-симптомы в каждом случае-казусе найдутся.
Да и лечить их в равном отношении возможно словом. Иногда достаточно словесно обратиться к самому себе, наедине с собой, как это делал кесарь Марк Аврелий. А можно услыхать снизошедшее к ним слово в олицетворенном чудотворении, подобно Моисею или Иоанну Предтече, чтобы облечься новыми духовными силами. Либо обрести благовещательное укрепление духа как Матерь Божья.
Хотя проще всего от ближних своих получить и услышать слова участливого утешения и понимающего облегчения душевных тягот. Так оно лучше всего, если им достает, у них довольно соболезнующего понимания, проникновенного участия и деликатной чувствительности к душевному состоянию тех, кто их окружает.
Видимо, благочестие на круг вошло у Моники в прочувственную привычку и обыкновение, когда задушевного разговора-молитвы с Богом недостаточно. И засим непременно требуется получать простейшие ответы свыше в виде знамений, сновидений, помогающим простым и слабым умам жить и существовать.
Проницательно глядя на мать, Аврелий впервые задумался над тем, насколько вероисповедание и вера непосредственно связаны с познанием всякого сотворения и твари в предопределенном измерении Господнем.
«…Ты наказываешь людей за то, что они совершают по отношению к себе самим. Даже греша перед Тобою, они являются святотатцами перед душой своей, портя и извращая природу свою, какую Ты создал благообразною…»
Особого греха в нынешнем отношении матери к миру Аврелий не увидел, но отказать ей в душеврачебной помощи никак не мог. Как бы ни хотелось побольше времени уделять собственным сочинениям, он стал ее участливо выслушивать в продуктивные утренние часы, как только она приходила к нему из церкви.
Относилась она теперь к сыну с безотчетным почтением. Не то что раньше, кичливо по-родительски полагая, яйца бишь курицу не учат. Еще как потомство наседку обучает, особенно, когда Бог заповедал рожать его в муках!
Вдобавок стоило Аврелию окреститься, как мать немедля признала в нем главу фамилии, кому следует подчиняться в существенных семейных вопросах. Например, ему было достаточно чуть-чуть намекнуть, чтобы Моника прекратила приглашать благочестивую вдову Эльпис к ним домой.
Теперь же сын обрел над ней главенство и старшинство в духовном отношении. Пусть ему вовсе того подчас не хотелось, но почасту выслушивать долгие материнские исповеди необходимо, чтобы помочь ей обрести хоть какую-то опору для душевного тела, неразумно пытающегося освободиться от утecняющих его оков плоти. Притом того же самого в ту пору потребовала и разумная мыслящая душа Аврелия Августина.
Аврелий точно не помнил: было ли то в Медиолане или уже в Остии, когда во взаимных исповедальных беседах они пришли к тому, что любое удовольствие, доставляемое телесными чувствами, осиянное любым земным светом, не достойно не только сравнения с радостями небесной жизни, но даже упоминания рядом с ними. Однако, возносясь сердцем и душою к Богу, они перебрали одно за другим все создания Его и дошли до самого неба, откуда светят на землю солнце, луна и звезды. И, войдя в себя, думая и говоря о творениях Господних и удивляясь им, приблизились к той стране неиссякаемой полноты, где Он вечно питает верующих пищей истины, где жизнь есть та мудрость, через которую возникло все, что есть, что было и что будет.
Сама по себе такая жизнь не возникает, а остается той, какова она есть, какой была и какой всегда будет. Вернее: для нее нет «была» и «будет», а только одно «есть», ибо она вечна. Вечность же не знает понятий «было» и «будет».
И пока они с пониманием рассуждали о вечной жизни и жаждали ее, им удалось чуть прикоснуться к ней всем трепетом их сердец. И вздохнули и оставили там начатки духа и вернулись к скрипу людского языка, к словам, возникающим и исчезающим.
«…Что подобно Слову Твоему, Господу нашему, пребывающему в Себе, не стареющему и все обновляющему!
Мы говорили: если в ком умолкнет волнение плоти, умолкнут представления о земле, водах и воздухе умолкнет и небо, умолкнет и сама душа, о себе не думая, умолкнут сны и воображаемые откровения, всякий язык, всякий знак и все, что проходит и возникает, если наступит полное молчание, если они, сказав это, смолкнут, обратив слух к Тому, Кто их создал, то заговорит Он Сам, один, не через них, а прямо от Себя. Да услышим слово Его, не из плотских уст, не в голосе ангельском, не в грохоте бури, не в загадках и подобиях, но Его Самого…»
Если внимательно прислушаться к миру, то всё говорит: не сами мы себя создали, нас создал Тот, Кто пребывает вечно.
«Да услышим Его Самого! Без них, как сейчас, когда мы вышли из плоти и быстрой мыслью прикоснулись к Вечной Мудрости, над всем пребывающей.
Когда б такое состояние могло продолжиться, а все низшие образы исчезнуть, и она одна восхитила бы, поглотила и погрузила в глубокую радость своего созерцателя. Если вечная жизнь такова, какой была эта минута того постижения, о котором мы вздыхали, разве оно не то, о чем сказано: войди в радость господина Твоего?
Когда это будет, не тогда ли, когда все воскреснем, но не все изменимся?..»
Временные животные муки и преходящие радости жизни помогает преодолевать вера в изменение к лучшему всем исповедующим Бога живого. Поэтому Аврелий, пожалуй, без большой охоты, но с долготерпением принимал у Моники искренние женские признания, в значительной мере пребывал в ощущении ее исповедника, даже в определенной степени духовного отца.
Определенно, пришлось ему выслушать в подробностях о четырех неудачных беременностях, прежде чем родился первый здоровый ребенок — ее старший сын Аврелий.
Рассказала она, не стыдясь, и о пьянстве, каковой порок она приобрела в отрочестве, из озорства пробуя неразбавленное вино, какое разливала из амфор и подавала к родительскому столу. По ее мнению, все из-за того, что в детстве злобная нянька-старуха запрещала ей употреблять, невзирая на жгучую жажду даже воду — одно-другое питье не иначе как за обедом.
Вот в малолетстве Моника и пробовала пить вино вначале по капле, в продолжение перешла на киафы и даже больше. Трудно сказать, чем бы все кончилось, кабы ее не выдала родителям на расправу злонамеренная рабыня, ей помогавшая в винном подвале. Отец больно выпорол и молодую госпожу и пуще того прислужницу за то, что не донесла раньше.
Родительское внушение ненадолго подействовало. Но лишь до замужества в шестнадцатилетнем возрасте. Во время тяжких беременностей она снова принялась искать утешения в неразбавленном вине. И опять об этом ее пороке стало известно из-за болтливости другой служанки, возжелавшей рассорить ее со свекровью и мужем.
По счастью, Патрик все понял правильно и добросердечно, потому они перебрались в собственный дом, удалившись от его матери и ее злоязычных рабов. Мужу она дала честное слово вообще не прикасаться к вину и строго держалась того обещания до самого рождения Аврелия.
Потом эта порочная склонность к винораспитию то уменьшалась, то вновь возобновлялась с прежней тягой. Отрезвила же ее насовсем внезапная болезнь старшего сына. Тот чем-то тяжело отравился, наверное, когда ему было лет семь-восемь, или того меньше. Но чудесно выздоровел.
По словам Моники, подкрашивать воду вином она начала позднее, чтобы подать пример воздержанности едва ли не взрослому четырнадцатилетнему Аврелию, учившемуся тогда грамматике в Мадавре. Оно понятно, если его отец пытался найти нездоровое забытье в винных парах, разорившись в своих авантюрах на юге.
О физических отношениях с Патриком она тоже без утайки поведала сыну, но ни в чем не обвиняя покойного мужа. Она даже велела Аврелию похоронить ее в Тагасте рядом с тем, кого она любила и прощала ему все его мужские измены во время ее постоянных многолетних тягостей женского плодоношения.
Что было в законченном прошлом, того уж не миновать. Наш вдох не есть возвращенный выдох. Хотя иное, покамест не свершившееся неопределенное будущее людям более чем доступно. И потому Аврелий предложил Монике, шаг за шагом вернувшейся к прежнему жизнедеятельному расположению телесной души, как-нибудь поаккуратнее расторгнуть его помолвку с малолетней Максимиллой.
Воспрянувшая духом и телом Моника тут же нашла равноценную замену старшему сыну, отныне не желающему связывать себя брачным обетованием, в лице младшего отпрыска. В принципе вопрос почти решен между двумя фамилиями, никто не против. Причем разница в возрасте между Корнелием и Максимиллой чуток поменьше будет, отметил Аврелий и удовлетворенно углубился в трактат «Против академиков».
В Остию к Корнелию, чтобы оттуда поскорее отплыть в Картаг, они отправились на октябрьских календах. Зимних бурь никто не страшился, как скоро Моника видела пророческий сон о благополучном спокойном окончании пути по суше и по морю всех ближних своих.
Стремясь побыстрее прибыть в Остию, они не задержались в Риме, куда, как известно, ведут все пути-дороги в Италии и в римском доминате. Взяли с собой почтенную Эвнойю, важного купца Оксидрака, возжелавших посадить дорогих патронов на корабль, и снова в дорогу, на сей раз недалекую, к устью Тибра.
Благодарение Богу, позволяющим жить совместно людям единодушным, потому что вместе с Аврелием за море в Африку отправлялись и его друзья-ученики. Только Небридий остался в Медиолане. Служба есть служение, тут и думать нечего.
Обсудив с младшим сыном фамильные дела, обо всем договорившись, Моника опять впала в глубокую задумчивость, в отсутствии Аврелия вновь поговаривала о презрении к жизни и о благе смерти. Через несколько дней она слегла в простудной лихорадке. Ненадолго ушла в беспамятство от жара, потом, очнувшись, прояснившемся взором глянула на сыновей и твердо сказала:
— Здесь, родные мои, вы похороните мать вашу.
Аврелий молчал с комком в горле; меж тем Корнелий попробовал было ей возразить. Мол, способнее ей умереть не на чужой италийской земле, а на родине в Тагасте.
Моника неприязненно на него взглянула и обратилась к безмолвному Аврелию:
— Ты посмотри, чего твой младший брат говорит матери своей!
Затем строгим голосом наказала им обоим:
— Положите мое тленное тело, где придется. Не беспокойтесь о нем… Ничто не далеко от Бога. Нечего бояться, что при конце мира Он не вспомнит, где меня воскресить…
Прошу об одном: поминайте меня у алтаря Господня, где бы вы ни оказались.
Утомившись от чрезмерно волевого усилия, мать заснула. Девятого дня от начала болезни она спокойно, без страданий отошла в мир иной, в жизнь иную, в умиротворении ожидаемого пакибытия — воскресения в новой плоти, где бы и какой бы не предстала прежняя телесная смертная оболочка ее бессмертной души.
По христианскому благочестивому установлению исступлено, навзрыд, во весь голос напоказ, во всеуслышание непристойно отдаваясь скорби, Святую Монику никто из ее ближних не оплакивал; не выражал публично личную горесть свою, подобно траурным воплям беспутных язычников-материалистов, ложно верящих в конечное исчезновение души человеческой.
«…Я закрыл ей глаза, и великая печаль влилась в сердце мое, захотев излиться в слезах. Властным велением души заставил я глаза свои вобрать в себя этот источник и остаться совершенно сухими. И было мне в этой борьбе очень плохо.
Когда мать испустила дух, Адеодат, дитя, жалостно было зарыдал, но все мы заставили его замолчать. И таким же образом что-то детское во мне, стремившееся излиться в рыданиях этим юным голосом, голосом сердца, было сдержано и умолкло…
Что же так тяжко болело внутри меня? Свежая рана оттого, что внезапно оборвалась привычная, такая сладостная и милая совместная жизнь?
Мне отрадно вспомнить, как в этой последней болезни, ласково благодаря меня за мои услуги, называла она меня добрым сыном и с большой любовью вспоминала, что никогда не слышала она от меня брошенного ей грубого или оскорбительного слова.
Но разве, Боже мой, Творец наш, разве можно сравнивать мое почтение к ней с ее служением мне?..»
Эводий взял псалтырь и запел псалом, который подхватили все присутствующие, чада и домочадцы усопшей:
— Милосердие и правду Твою воспою Тебе, Господи…
Сошлось много знакомых христиан и верующих женщин. Те, на чьей это обязанности, принялись по обычаю обряжать тело. Аврелий же в стороне, где мог это делать пристойно, рассуждал с людьми, решившими его не покидать, о том, что приличествует этому скорбному часу.
«Я же в уши Твои, Господи, — никто из них меня не слышал, — кричал на себя за мою слабость, ставил плотину потоку моей скорби, и она будто подчинялась мне, а затем несла меня со всей своей силой, хотя я и не позволял слезоточивости прорваться, а выражению лица измениться…»
Лишь на следующий день, сходив с Адеодатом в остийские термы, глубокой ночью Аврелий дал волю тихим слезам.
«…Пусть льются, сколько угодно. Словно на мягком ложе успокоилось в них сердце мое, ибо уши Твои, Боже мой, слушали плач мой. Он не был слышен кому-нибудь, кто мог бы пренебрежительно истолковать его.
И теперь, Господи, Тебе пишу я эту исповедь. Пусть читает, кто хочет, и истолковывает, как хочет. А если найдет, будто я согрешил, плача краткий час над моей матерью, над матерью, временно умершей в очах моих и долгие годы плакавшей надо мной, чтобы мне жить в очах Твоих, вольно ему насмешничать надо мною. Но если есть в нем великая любовь, пусть заплачет о грехах моих перед Тобой, Отцом всех братьев во Христе Твоем…
И внуши, Господи Боже мой, внуши рабам Твоим, братьям моим, сынам Твоим, господам моим, коим служу словом, сердцем и письмом, чтобы всякий раз, читая это, поминали они у алтаря Твоего Монику, слугу Твою, вместе с Патриком, некогда супругом ее, через плоть коих ввел Ты меня в эту жизнь.
Пусть с любовью помянут они их, родителей моих, на этом преходящем свете, и моих братьев в Тебе, Отец, пребывающих в Православной Церкви, моих сограждан в Вечном Иерусалиме, о котором вздыхает в странствии своем, с начала его до окончания, народ Твой. И пусть молитвами многих полнее будет исполнена последняя ее просьба ко мне — через мою исповедь, а не только через одни мои молитвы…»
После похорон Моники они вернулись в Рим. Переезд в Африку, — кто суеверно, а кто благоразумно, — отложили до будущей весны. Аврелий не возражал. Тогда как почтеннейший отпущенник Оксидрак рад приютить у себя в доме на Квиринале все духовное братство доминуса-магистра Аврелия.
В то же время другой его старый добрый знакомец, светлейший сенатор Квинт Симмак, столь же отрадно приветствовал в Медиолане узурпатора Максима и поздравлял с италийским консульством от имени и по поручению сената и римского народа. Как говориться, по-республикански действовал, грамматически и политически верно.
В Риме Аврелий поместил Адеодата в хорошую грамматическую школу, но и сам уделял предостаточно внимания сыну, при любой возможности занимаясь его образованием и христианским воспитанием. Меньше всего ему хотелось, чтобы Адеодат ударился в какую-нибудь псевдорелигиозную ересь, соблазняющую любознательные, но незрелые умы.
Попутно Аврелий Августин начал делать заметки к новому опусу «О магистре» и кое-что писать в опровержение манихейства. Ведь содержание вербума изустного непременно следует подкрепить и закрепить письменной формой. Тогда и о формуле воплощенного логоса можно вольно порассуждать с Алипием и Гоноратом.
Вольноотпущенник Оксидрак и в Риме остался верен прежней пронырливости и неистребимой страсти к всеведению. Хотя с недавних пор его содержательно интересует людская политика гораздо большего размаха и пошиба. Он-то и доставил Аврелию прелюбопытное известие о тайной встрече медиоланского епископа Амвросия с восточным кесарем Теодосием.
Случилось это незаурядное событие в апрельские ноны. Стало быть, не за горами и вторжение легионов Теодосия либо морем либо посуху через Иллирик. Не зря Амвросий засел в Аквилее, поближе к месту вероятного вооруженного противоборства в схватке за реальную верховную власть во всем римском доминате, где несовершеннолетнему августу Валентиниану Младшему уготована миметическая роль не более, нежели декорума с имперскими регалиями.
В противоположность отпущеннику Оксидраку Паллантиану, мирская политика тогда никоим образом не входила в круг интересов религиозного философа Аврелия Августина. В тот год он больше стремился постичь внешнее поверхностное сходство и глубинные внутренние различия между апостолическим христианством и учением Платона Афинского, включая измышления эпигонов-академиков.
Только после бесславной гибели узурпатора Максима в сентябрьские ноны он и его друзья-ученики отплыли из Остии в Картаг. Аврелий решил не брать с собой в Африку Адеодата, отослав его учиться в Медиолан к Небридию и Верекунду.
Коль скоро кесарь Валентиниан и его родительница Юстина торжествующе вернулись в медиоланскую столицу встречать присланную им в подарок кесарем Теодосием отрубленную голову их общего недруга Максима, то политическая смута в Италии быстро и благополучно закончилась. Nunc dimitis…
Задолго до отъезда Аврелий зимой и весной отпустил на волю всех рабов покойной Моники, не пожелавшей составить завещание. Во время болезни она указала старшему сыну самому распорядиться всем фамильным имуществом и достоянием, как он сочтет нужным.
В Италии Аврелий Августин распростился с молодостью, навеки оставив там прах матери, многих друзей и любимого сына, кого через год унесет моровое поветрие. Ему и Небридию, умершему во время той чумы, поразившей Медиолан, он посвятит свой труд «De magistro».
В осеннем Картаге Аврелия и старых друзей приветствовал Скевий Романиан. В торговых делах он нынче как никогда успешен, былые убытки и протори перекрыл с лихвой. И потому в превеликой щедрости друг Скевий предложил другу Аврелию возобновить в Картаге преподавательскую деятельность как магистру высокой риторики. Со свойственным ему ироническим апулеевским красноречием он принялся его убеждать.
Коли в Африку приехал известнейший-де медиоланский ритор, сочинитель философских «Монологов» и «Диалогов», автор знаменитейшей апологии «О добропорядке», то грех ему оставлять в злом небрежении и религиозной темноте жителей достославного Картага, испокон веков беспорядочно жаждущих и алчущих духовного просвещения. При всем при том, коль ему так того хочется, пускай его риторика, эристика и диалектика пребудут с пресветлым христианским смыслом и промыслом.
Как он слышит и видит, его любимейший друг снова в голосе, бодр и здоров. Наверняка, наша благочестивейшая Моника, мир праху ее, продолжает неустанно молиться за сыновнее здравие на небесах.
И потом, его давний недоброжелатель профессор Эпистемон волею Божьей помер, и всеми счастливо позабыт. В том же забвении и былая вражда между их учениками, теперь думать не думающих вспоминать о глупейших забавах буйной юности…
Соблазнительное предложение Скевия весьма благожелательно поддержал и сенатор Фабий Атебан, до сих пор остающийся в счастливом неведении о прежних и нынешних отношениях Аврелия с негодной Сабиной Галактиссой. Oт замысла молодого Романиана об открытии благолепной христианской школы он в полном восторге.
Тот же Алипий Адгербал со взором горящим предлагает себя в профессорские помощники, обещая поставить на высочайшем римском уровне преподавание судебной риторики. Тем временем магистр Аврелий во имя вящей любви Господней в истинной свободе воли да избирает душеспасительную тематику, начав благочестно объяснять в лекцио и энарацио святые книги для алюмнусов-христиан.
Сверх того, предприимчивый друг Скевий взял в аренду под своечастные торговые нужды тот самый дом в Верхнем городе, где они с другом Аврелием некогда обучались риторике у покойного профессора Эпистемона. Да услышит этот язычник добрый ответ на Страшном судилище Христовом! Нет ничего проще, как слегка переделать его, конечно, не грешника Эпистемона, гореть ему вечным огнем, а дом для учебных занятий…
Ну что ты с ними со всеми будешь делать? Надо соглашаться, отложив на время помыслы и замыслы о любомудрой и счастливой монастырской жизни в тихой провинциальной Тагасте, — здраво рассудил Аврелий, уступая уговорам со всех сторон и собственному тщеславию.
«…Ты, Господи, судишь меня, ибо ни один человек не знает, что есть в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем…»
Как ни удивлялся Аврелий, но учительство сейчас нисколько не отвлекает его от философских занятий. Он начинал с утра уроки, а затем уступал место у кафедры и на кафедре Алипию, Гонорату или новому другу и последователю ритору Эвлодию. Сам же никуда не уходил, но, сидя где-нибудь в уголке, предавался различным размышлениям и записям попутных рассуждений.
Таким образом мысли он принялся обдумывать свои «LXXXIII вопроса» и будущий трактат «Об истинной вере», вчерне завершил «Магистра-учителя». И подумывал о том, как Адеодат вернется из Медиолана, чтобы обучаться риторике в родном городе.
Поселился Аврелий очень неприхотливо в картагском доме своих отпущенников Нуманта и Земии. И всяческие избыточные угождения ему в качестве сверхпочитаемого патрона фамилии Августинов строго пресекал.
Тот же пегниарий Нумант по прозвищу Иберийский Волк привел к нему самого удивительного ученика, какой когда-либо был у профессора Аврелия. Вот так-то! Учить риторике и диалектике чистейшей воды северного варвара ему раньше никогда не доводилось.
Причем этот самый Горс Торкват оказался крещеным православным католиком. Да и окрестил его, как позднее выяснил Аврелий, знаменитый восточный епископ Василий из Кесарии Каппадокийской. А это очень интересовало в ту пору Аврелия Августина, поскольку ему известны труды святого отца Василия, тоже пытавшегося совместить Платона и христианство.
Рыжего варвара, появившегося в полной амуниции центуриона в шлеме с поперечной кристой, профессор Аврелий впервые увидел у себя в школе на одной из публичных декламаций. Удивился и не преминул узнать, что тот начальствует над личной охраной константинопольского протонотария Гилариона, официально прибывшего распорядиться фамильными владениями кесаря Теодосия в Нумидии и Мавретании.
Великовозрастного, аж 28 лет ученика, не очень обремененного служебными обязанностями, он принял. И не напрасно. Потому что, как у него давно уж повелось, обучая, сам учился у мощного духом и телом варвара-венеда Горса владению щитом, копьем и длинным кавалерийским мечом-спатой.
Той зимой Аврелий ощущал себя более чем превосходно. Наверное, рядом с Горсом по-другому и чувствовать нельзя, но только лишь пребывая здравым духом в бодром теле, не ведающем о физических немощах и слабостях в расцвете мужской зрелости в возрасте тридцати четырех лет от роду.
В мартовские ноны Аврелий простился с новым учеником-другом с большим сожалением. Ничего не попишешь, если кесарская служба призывает центуриона Горса Армилия Торквата на север в Норик.
В майские иды Аврелий получил очень печальное сообщение из Медиолана о скоропостижной смерти Адеодата и Небридия. С горечью вспомнил о прежнем юношеском увлечении гороскопами, о будто бы счастливых звездных предсказаниях новорожденному сыну и навеки предал анафеме предполагающую апотелесматику, магию вкупе с демонскими квазинауками древних язычников. Раз и навсегда отторг от умной души, отверг, отлучил от христианства гадательную богомерзость.
Не убедила его в достоверности апотелесматики и глупая смерть, вскоре злоключившаяся с молочным братом Адеодата, а именно с младшим внуком сенатора Атебана. Юный обжора Эпифаний задохнулся за обедом, заглотив непомерный кусок не тем горлом.
«…Полагающие, будто звезды определяют помимо воли Божией, что мы будем делать, какие будем иметь блага или какие претерпим бедствия, должны внушать справедливое отвращение всем — не только исповедующим истинную религию, но и тем, кто желает быть почитателями каких бы то ни было, хотя бы и ложных богов…
…Когда же астрологи дают многие изумляющие по своей истинности предсказания, это случается по тайному внушению недобрых духов, домогающихся внедрять и утверждать в человеческих умах ложные и вредные верования в звездные судьбы. Но отнюдь не в силу науки отмечать и рассматривать гороскопы — науки, в действительности не существующей…»
В июньские иды, исповедимо дождавшись летних ученических вакаций, Аврелий Августин передал успешно существующую риторскую христианскую школу Гонорату Масинте и отправился в родную Тагасту вместе с несколькими преданными учениками-последователями.
«…Давно уж горит сердце мое размышлять о законе Твоем, Господи, и тут показать Тебе свое знание, свою неопытность, первые проблески Твоего света и оставшиеся тени мрака, пребывающего во мне, доколе не поглотит сила Твоя немощь мою. Я не хочу растрачивать на другое часов, остающихся свободными от необходимых забот о себе, от умственного труда, от услуг людям, обязательных и необязательных, но все-таки мною оказываемых…»
КАПИТУЛ XXII
Год 1143-й от основания Великого Рима.
6-й год империума Валентиниана Секундуса, августа и кесаря Запада. 11-й год империума Теодосия, августа и кесаря Востока.
Год 389-й от Рождества Христова.
Муниципий Тагаста в проконсульской Нумидии. От июльских календ к ноябрьским нонам.
В Картаге Аврелий нашел время, свободное от школьной обыденности, заурядной повседневности и философско-религиозных писаний, чтобы тщательно обдумать, как он и его пять последователей смогут жить в Тагасте. Прославляя Бога, сообща размышляя об истине, в блаженной поистине монастырской жизни, уединенной и отсоединенной от мира, он намеревался провести зрелые годы и, возможно, остаток дней, отпущенных ему в спокойной старости.
Когда-то в Медиолане такое сосуществование единомышленников представлялось всего лишь прекраснодушными мечтаниями. Теперь же оно оказалось полноценной действительностью. Хотя ее тоже требуется обеспечить и о многом реально позаботиться, как главе христианской общины-экклесии.
Где двое или большее число людей собираются во имя Божие, там и Бог пребывает рядом с ними, — единомысленно приняли за основу в этой обновленной жизни ученики и слушатели Аврелия Августина.
Однако Господь никого основательно не питает Божьим даром или Святым Духом. Да и не творит ежечасно и ежедневно чудес по насыщению кого ни попадя хлебом, вином, рыбой либо какой иной провизией.
Дикие птицы и звери беспрестанно озабочены поисками пищи. В то же время домашний скот требует прокорма от хозяина столь же бескомпромиссно и безусловно, как и рабы, вопиющие о хлебе насущном здесь и сейчас на земле, но не о возможном бестелесном прокормлении в небесах. Причем и распределение манны небесной, буде таковая метеорологически выпадет, скотскому и рабьему поголовью, собственно, обязаны обеспечить те, кто ими владеет.
Исходя из чего, блаженная жизнь в первую голову предполагает освобождение от избыточного имущества и собственности. Честное имущественное достояние не есть кража, но тяжкий груз тревог, забот и хлопот.
Какой-никакой достоимущий собственник познает эту истину и становится свободным, когда оставляет лишь условно необходимое. Пускай говорить: чем меньше, тем лучше — вовсе не следует, ибо такое суть ханжеская ложь и лицемерие. Без необходимого минимума некуда деться людям благочестивым, что и Христос благовестно заповедал первозванным апостолам, перечислив их профессиональные нужды.
Между тем апостольскую жизнь нужно отличать от вульгарного бродяжьего нищенства и вымогательства попрошаек-параситов, по сути сделавших себе профессию из досужего тунеядства, праздного безделья, безработной и бесхлопотной бездеятельности. Только трудящийся достоин пропитания, о чем нам и Святое евангельское Писание толкует в разнообразных его местах и смыслах…
К рассуждениями и толкованиями Алипия Адгербала нельзя не отнестись благожелательно. Особенно, если уместно учесть, что им необходимо привести в образцовый монастырский порядок небольшую виноградную усадьбу фамилии Августинов, обустроенную в нескольких милях от Тагасты.
Там Аврелий решил благолепно поселиться всей общиной посреди виноградников в идиллической тишине, с минимальными удобствами, не обременяющими тело и разум искусительными и соблазнительными излишествами.
К мысли припомнились точь такой же летний погожий день два года назад и разговор с Алипием в саду дома, какой сняла Моника по приезде в Медиолан. Блаженна будь память о ней!
Наверное, тогда он обрел новое чувство веры в католическом православии и отринул некоторые житейские привычки, понуждающие к одному, в то время как поиски крестной истины требуют совсем другого.
Вероятно, по данной причине человек может дать верную оценку всего, с ним произошедшего не сразу, но по прошествии иногда довольно продолжительного времени. Находясь на горной высоте, видишь все что угодно, вдали и вблизи окрест тебя, но никому не дано с этой точки зрения увидеть саму гору, на которой стоишь.
Чтобы верно, исповедимо и исследимо оценить возвышение и восхождение надо спуститься и осмотреться. А затем подниматься, восходить к новым высям, вершинам и свершениям.
Тогда в саду медиоланском молчаливое присутствие Алипия не нарушало мысленного уединения Аврелия под сенью высоких смоковниц, уже отягощенных наливающимися винными ягодами.
«…Душа моя глухо стонала, негодуя неистовым негодованием на то, что я не шел на союз с Тобой, Господи, а что надобно идти к Тебе, об этом кричали все кости мои и возносили хвалой до небес. И не нужно тут ни кораблей, ни колесниц четверней, ни ходьбы. Расстояния не больше, чем от дома до места, где мы сидели.
Стоит лишь захотеть идти, и ты уже не только идешь, ты уже у цели, но захотеть надо сильно, от всего сердца, а не метаться взад-вперед со своей полубольной волей, в которой одно желание борется с другим, и то одно берет верх, то другое…»
Аврелий понимал, почему обратился в смятенье, отчего очутился в той области душевного тела, где понятия «хотеть» и «мочь» далеко не равноценны. Но сделать, решиться на то, что ему представлялось столь желанным, то есть полностью предаться истинной религии он не мог.
«…Тут ведь возможность сделать и желание сделать равнозначны: пожелать — значит уже сделать. И однако ничего не делалось. Тело мое легче повиновалось самым ничтожным желаниям души, нежели душа в исполнении главного желания своего — исполнения, зависящего от одной ее воли…»
Откуда это чудовищное явление? Почему оно? — много раз Августин обращался к себе и просил ответа от Бога. Причем не только в «Исповеди».
«…Душа приказывает душе пожелать: она ведь едина и, однако, она не делает по приказу. Приказывает, говорю, пожелать та, которая не отдала бы приказа, не будь у нее желания — и не делает по приказу.
Но она не вкладывает себя целиком в это желание, а стало быть, и в приказ. Приказ действен в меру силы желания, и он не выполняется, если нет сильного желания. Воля ведь приказывает желать: она одна и себе тождественна. А значит, приказывает она не от всей полноты. Поэтому приказ и не исполняется. Если бы она была целостной, не надо бы и приказывать — все уже было б исполнено.
Следовательно: одновременно желать и не желать — это не чудовищное явление, а болезнь души.
Душа не может совсем встать. Ее возносит истина, но отягощает привычка. И потому в человеке два желания, и ни одно из них не обладает целостностью: в одном есть то, чего не достает другому…»
При этом, те кто облыжно заявляет, будто в человеке присутствуют две души — добрая и злая, суть суесловы и соблазнители, выдающие противоречивые возжелания за природные начала человека. И здесь с Августином невозможно не согласиться.
«…Я и боролся с собой и разделился в самом себе, но это разделение, происходившее против воли моей, свидетельствовало не о природе другой души, а только о том, что моя собственная наказана. И наказание создал не я, а грех, обитающий во мне, как кара за грех, совершенный по вольной воле. Я ведь был сыном Адама…»
Именно первородный грех ветхих прародителей человечества долгое мучительное время не давал философу Августину осознать себя в Боге, телесно и духовно присоединившись к православному католическому вероисповеданию.
«В нашу церковь идут, повинуясь доброй воле, как идут в нее те, кто стал причастен таинствам ее и состоит в ней…»
Словно бы чей-то голос расслышал Аврелий, говоривший ему в том саду медиоланском под смоковницами:
— Будь глух к голосу нечистой земной плоти твоей, и она умрет. Она говорит тебе о наслаждениях, но не по закону Господа Бога твоего…
«…Спор этот шел в сердце моем: обо мне самом и против меня самого. Алипий, не отходя от меня, молчаливо ожидал, чем кончится мое необычное волнение.
Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрало перед очами сердца моего всю нищету мою. И страшная буря во мне разразилась ливнем слез.
Чтобы целиком излиться и выговориться, я встал, — одиночество, по-моему, подходило больше, чтобы отдаться такому плачу, — и отошел дальше от Алипия. Даже его присутствие было мне в тягость. В таком состоянии был я тогда, и он это понял; кажется, я ему что-то сказал; в голосе моем уже слышались слезы; я встал, а он в полном оцепенении остался там, где мы сидели.
Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам. Они потоками лились из очей моих — угодная жертва Тебе, Господи.
И вот слышу я голос из соседнего дома, не знаю, мальчика или девочки, часто повторяющий нараспев: «Возьми, читай! Возьми, читай!» Я изменился в лице и стал напряженно думать, не напевают ли обычно дети в какой-то игре нечто подобное? — нигде не доводилось мне этого слышать. Подавив рыдания, я встал, истолковывая эти слова, как божественное веление мне: открыть книгу и прочесть первую главу, какая мне попадется.
Взволнованный, вернулся я на то место, где сидел Алипий — я оставил там, уходя, апостольские Послания. Я схватил их, открыл и в молчании прочел главу, первую попавшуюся мне на глаза:
«Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и не в распутстве, не в ссорах и в зависти: облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти».
Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этих стихов сердце мое залили свет и покой, исчез мрак моих сомнений…»
Так Августину представлялся один из этапных моментов его обращения к истинному вероисповеданию по истечении доброго десятка лет, может, и больше после принятия им крещения. Связал он этот эпизод с Алипием и Моникой. Она тоже непременно должна была разделить с сыном вдруг овладевшие им религиозное чувство и с благословением принять Аврелия, укрепившегося духом и верой Христовой.
«Тут идем мы к матери, сообщаем ей. Она в радости. Мы рассказываем, как все произошло. Она ликует, торжествует и благословляет Тебя, Господи, Кто в силах совершить больше, чем мы просим и разумеем. Она видела, что Ты даровал ей во мне больше, чем она имела обыкновение просить, стеная и обливаясь горькими слезами.
Ты обратил меня к Себе. Я не искал больше жены, ни на что не надеялся в этом мире. Я крепко стоял в той вере, пребывающим в которой Ты показал ей меня много лет назад. Ты обратил печаль ее в радость гораздо большую, чем та, которой она хотела, сотворив ее более ценной и чистой, нежели та, какую она ждала от внуков, детей моих по плоти…»
Читающий да разумеет! Как чтение философов интеллектуально освободило Августина от манихейства, так и вдохновенное прочтение Святого Писания окрестило его истиной, приведя к вселенскому православному вероисповеданию. Или же, — выразимся на вернакулярной для него латыни, — трансформировало его интеллект в директивной имперской религии.
Умственно осознанный или же по наитию свыше, не совсем произвольный выбор были им сделаны в Медиолане в 386-м или в 387 году от Рождества Христова. Тогда как в 389–391 годах в Тагасте ему надлежало совершить исходящее избрание либо созерцательной апатической религиозной философии, либо вступить на стезю деятельной апостолической религии.
Заставь войти, — читаем мы в Святом христианском Писании и понимаем его вместе с Августином. Будь то богодухновенно в пророческом откровении или же рационально, дискурсивно, из библейской письменной сокровищницы мы выносим новое, апокалиптичное познание в совокупности с прежде понятым книжным знанием. И то и другое нам обоюдно надлежит истинно понять, описать в прогрессивном истолковании, информационно релевантном актуальному времени первой четверти XXI столетия от Рождества Христова.
В конце IV века Библию толковали в целом и по частям несколько иначе, нежели в нашу информационно-когнитивную эпоху. Но так же имелись диалектическое и эристическое единство и борьба противоположных мнений о буквальном механическом и аллегорическом креативном понимании заповедей Господних и правил Христовой апостольской жизни. И тогда у многих буквоедов и блудословов ум за разум заходил столь же теоретично и практично.
Можно, разумеется, раздать на практике все наличествующее имущество бедным. Их ведь много-много, в теории любого несметного добра не хватит всех вволю насытить, укрыть и обогреть. Но при этом самолично придется встать перед прагматической альтернативой: или помирать с голоду или просить подаяния, если умственные занятия совсем не совместимы с ежедневным добыванием хлеба насущного.
Поэтому никакому монастырскому братству, состоящему из людей, наделенных Богом разумными душами, без общего основательного пекуния не обойтись, не выжить. Таковым и стало первое правило Августина, предписывающее достаточную общность имущества духовных братьев, не только хлебом единым живущих в одном монастыре, в каковой обратился небольшой домишко неподалеку от Тагасты.
От остального наследуемого достояния Аврелий затеял избавляться сразу по возвращении из Картага. Несомненно, делал он это по согласованию с братьями-учениками, взявшихся последовать за ним в отрешенную от мирских стяжательских беспокойств жизнь отшельников вне мира сего.
Наследственное фамильное движимое и недвижимое имущество Аврелий, поделив его на равные денежные триенсы, частью распродал. Два триенса отдал замужней сестре Юнии и брату Корнелию. В двух небольших материнских имениях он отпустил на волю рабов и посадил их на землю, обратив в колонов, с выплатой аренды сестре, согласившейся на такой вариант. Брат же получил частную долю деньгами от продажи отцовского имения и городского дома.
Маленький виноградник в три югера и выпасы, находящиеся рядом с домиком-монастырем, Аврелий безвозмездно, без объяснения причин, кому-либо посторонним о том не объявляя, отдал тому колону, у кого некогда в юности обобрал ночью грушу. И дерева того уж нет, но память о детской глупости никуда не делась.
Надо же, груши здесь околачивал!..
Из своих денежных средств Аврелий также негласно пожертвовал на базилику в Тагасте, не так давно отобранную православными католиками у отвратных еретиков — ариан, удивительно своекорыстно спевшихся с донатистами. Оказал он и помощь бедным, тоже не слишком широковещательно. Как по-евангельски заповедано, не стоит тщеславиться собственной благотворительностью.
Собственно, получилось, что он и его последователи благомысленно внесли в братский коллежский пекуний примерно одинаковые доли, деньгами и имуществом. Ни золота, ни серебра духовные братья любомудренно решили при себе не держать, не хранить; оставили только медь для незначительных экономичных расходов.
От их имени общественные деньги Аврелий вручил надежному тагастийскому меняле Фирмиану с тем, чтобы тот не как-нибудь, но по хорошей правильной цене расплачивался с поселянами за съестное довольствие, поставляемое в монастырь единомышленных философов-любомудров. Ему же он вменил в обязанность платить операриям, если случится какая-либо ремесленная демиургическая нужда в общем хозяйстве.
Как-никак почтеннейший Фирмиан, ревностно преданный звездочетной апотелесматике, хоть и твердит о глупых математических гороскопах и астральных вычислениях, но в денежных делах умно руководствуется исключительно здравым хозяйственным смыслом. Прагматически и экономно, скажем чисто по-гречески. Обол на лепту не меняет, твердо блюдет взаимную выгоду.
Вторым монастырским правилом Августин ввел благолепное соблюдение умеренности во всех повседневных нуждах, обеспечиваемых общим взаимодеятельным достоянием. Одежды служат лишь для укрытия от жары и от холода, а еда и питье — для утоления голода и жажды.
Хмельное обжорное опьянение пищей или винораспитием ни в коем разе не допустимо, являясь зловредной телесной похотью, оскорбляющей Дух Божий, имеющийся в каждом человеке. Обычное вино и хлеб, как основа причастия Христова, есть приобщение человека к природному мирозданию, сотворенному благой милостью Господней, и потому они суть провиант, провизия, продовольствие для исправного и здорового людского питания, в своем роде возносящего хвалу Богу-Отцу за устроение всего и вся мерою, числом и весом.
Поэтому огульных особых запретов на употребление в пищу мясных ли, молочных, птичьих или рыбных продуктов и носильного платья животного происхождения Августин ни в коей мере и не мыслил клятвенно принимать самому или того же требовать от ближних. Не то можно уподобиться аскетам-язычникам из пифагорейцев и манихеев, мнящих себя чистыми и безупречными, однако же на самом деле следующих путями порочных суеверий, загрязняя ум свой нечестивым отвержением даров Божьих, созданных Им на благо и на пользование людское.
Чаши они свои, видите ли, моют фарисеи, но души их полны грязи и скверны…
В это же время для любомудренных мыслителей пост, различные пищевые ограничения, — например, воздержание от мясной убоины, — предпринятые согласно экклесиальным католическим установлениям, могут быть сообразным душеспасительным упражнением, вменяя человеку полезное смирение, а также бдительное напоминание о низменности человеческой природы, претерпевшей грехопадение, ежечасно склонной к отпадению от Премудрости Господней.
Не вполне ветхозаветно, но философски, третьим правилом любомудрой христианской жизни Августин завел по возможности полный запрет на общение с женщинами. Если братья-отшельники дают обет безбрачия, то отказ от деторождения не оставляет для женской половины рода людского никакого места в чисто мужском монастырском сосуществовании. Вне продолжения в потомстве всякое встречное-поперечное сообщество мужчины и женщины становится источником телесной греховной похоти. Ибо отнюдь не каждому дано приказывать и держать в жестком стоическом подчинении порывы и позывы душевного тела.
Проще всего удалиться от искушений и соблазнов. Не думая и не мечтая о женской плоти, не видя ее перед собой, забываешь и о собственном мужском естестве, при одной лишь мысли о чем-либо женственном порой испытывающем неодолимую тягу к заместительному и вытеснительному рукоблудию со всей силой промежного мужества.
Из всяческой женской природы было сделано одно лишь исключение для матерой кошки Автаркия, какую привез Алипий из ближнего отцовского поместья. Молоком ее поят, но мясную пищу ей, этой хищнице тигрино-полосатой, нужно раздобывать самостоятельно. Отсюда и кличка, говорящая о самообеспечении.
Вторым представителем животного мира, как ныне проживающим в их мужском монастырском подворье, Аврелий обзавелся сам. Старого злющего черно-красного петуха по кличке Линкей он высмотрел у соседа-колона, как с куста облагодетельстванного приращением владений. За злобный драчливый нрав и пренебрежение курами прежний владелец посадил птицу на привязь, словно дворовую собаку.
Вероятно, поселянин и его семья — сплошь язычники — рассматривали баснословный обмен никудышного петуха на виноградник не иначе как в мифологическом смысле. По крайней мере они добрососедски от всей души искренне предлагали благодетелю и благотворителю Аврелию тайно принести черного бедового строптивца в жертву христианскому богу для пущего счастья, удачи и здоровья. Возможно, надеялись, это-де излечит соседа-безумца, видать, ополоумевшего от излишних философствований.
В чем-либо переубеждать языческих дикарей Аврелий чисто по-философски не пожелал. Хватило того, что он осчастливил петуха, неимоверно возлюбившего своего освободителя от привратницкой неволи.
Жизнь в приспособленном курятнике Линкею почему-то не приглянулась, и он облюбовал застреху бывшей конюшни. Сидя на коньке крыши, он зверским заполошным криком и хлопаньем крыльев благодарно предупреждает любимого хозяина о любом появлении в ближайших окрестностях усадьбы отныне и навек ему ненавистных поселян-поработителей. Неважно, пешком ли они появляются или же на скрипучих сельских повозках.
Корм Линкей принимает только из хозяйских рук. Всех прочих он по-прежнему побаивается: как бы опять не привязали за ногу у ворот? К большому неудовольствию бдительного петуха, раз в три дня в конюшню, стоящую на краю усадьбы, привозят и там складывают съестные припасы.
Домохозяйственную скотину, а также рабов в общине Аврелия постановили не иметь. И то и другое слишком хлопотно, и никоим чином само себя не оправдывает.
По правде сказать, Аврелий с некоторым сожалением расстался с мыслью о лошадях, но подавляющему мнению большинства надо подчиниться. Не стал он возражать и против того, чтобы Эводий, принявший трехлетний обет молчания, поселился чуть на отшибе в былом рабском эргастуле возле летней поварни.
Точь-в-точь же ничуть не стоило возражений то, как ему, Аврелию Августину, в образе и подобии руководителя общежития, предоставили самую большую отдельную зимнюю комнату с окнами на южную сторону. Для того духовные братья славно потрудились, все подправили, любо-дорого подновили, когда он и его зять хлопотали в городе с распродажей фамильной недвижимости Августинов.
Для себя Аврелий сохранил на память о бывшем и минувшем один лишь отцовский пилум. Старое копье, не раз побывавшее с Патриком на дальнем юге, он поместил к другому оружию, какое в их общине умиротворенно держат на конюшне.
Он, кстати, едва ли не по-язычески совершил возлияние каплей вина на могиле Патрика по материнскому обычаю. Туда же пошла горсть могильной земли с места последнего упокоения тленного тела рабы Божьей Моники. Пускай они в будущем воскреснут вместе, коли будет на благорасположение Господне и соизволение Его, — молча помолился Аврелий на христианском кладбище Тагасты.
Должно быть, и его бренной плоти суждено упокоиться побок с тем, что некогда породило младенца Аврелия по воле Божьей, и создало таким, каков он есть в зрелости, под верховным руководительством Его отныне и присно и во веки веков.
«…Если бы ничто не проходило, не было бы прошлого времени; если бы ничто не приходило, не было бы будущего времени; если бы ничего не было, не имелось бы и настоящего времени…»
Из всего былого имущества Аврелий оставил в строгой неприкасаемости от ближних и домашних несколько костяных стилусов. Орудия труда всюду и везде есть предержащее частное достояние каждого творца-демиурга. Думать и делать по-другому означает лишиться как созидательного творчества, так и нормального созидающего производства чего-либо духовного или материального.
Равным образом материальная часть воинского вооружения принадлежит исключительно тем полноправным квиритам, кто способен эти орудия и все оружие с честью носить и умеет ими владеть.
По молчаливому соглашению духовных братьев частновладельческая собственность на производящие средства созидания или уничтожения явлена людям священной и неприкосновенной. Только так, и никак вам иначе с пользой для общего монастырского дела.
Зато разные знания не могут не пребывать в явственном общественном пользовании. В противном случае они останутся никому не нужной свечой, помещенной под непрозрачным сосудом. Но ставить ее должно открыто на подсвечнике. Вот и светит она всем входящим в дом познания нашего, как нам благовестно заповедано в Слове Божием. Тогда, быть может, обобществленное слово людское сделается плотью в той малой мере, какая доступна разумным сынам человеческим.
Общедоступность книжного знания не подлежит никоим ограничениям для читающих и правильного его разумеющих. Поэтому из Рима и Картага они вывезли четыре больших книжных ларя, доверху наполненных папирусными кодексами и пергаментными фолиумами. Так как софия-мудрость есть дело рукописания людского. Иными словами, креативный манускрипт, если выразимся на материнской латыни, — в целом удовлетворился обустройством на месте, прекрасно знакомом с юности, приор новоявленного мужского монастыря Аврелий Августин.
Отсюда вытекает четвертое монастырское правило Августина. Оно гласит: кто способен писать, тот пишет. А тот, кто не сподобился от Бога письменно излагать свои мысли, тому надлежит переписывать, преумножая и сохраняя сокровища книжного любомудрия. Потому что во всякой книге содержится хоть маломальская толика умственных литературных постижений, обобщающая опыт прошлого.
В той или иной форме по содержанию в истинной мудрости написанное во веки веков пребудет в настоящих и в предстоящих временах. Ибо его Дух Божий предвечно животворит. И буквоедам-словогрызам, криво толкующим разнохарактерную письменность, никак не убить его глубоко сокровенный духовный смысл.
Ведь самое характерное в любомудром человеке, содержательно приведенном Духом Божиим к познанию истины и свободы, состоит в том, чтобы он мог ясно созерцать умопостижимое и открывать нечто Божественное. Чем большими знаниями владеет мудрец, вхожий в Царство Божие на земле и на небесах, тем более прояснившимся становится его вероисповедальное умозрение. Потому как истинная вера осмысленно требует яснейшего познания в Боге в соответствующем образе истинного творения Его.
Напротив того, вероисповедание малокнижного простеца-невежды зачастую предстает слабым, непрочным, мнимым или ложным, поскольку в невежественном недостаточном понимании сводит вероучение на низменный уровень неученой черни. Оттого невеждам, неукам, простым и слабым душам свойственно искажать учение Церкви Христовой, подменяя ее догматы простонародным лукавым мудрствованием, идущем от демонского наущения.
«…Поднимаются неучи и похищают Царствие Небесное…»
Однажды в сентябрьские иды очень поздней петушиной пополуночью Аврелий сидел во дворе бок о бок с безмолвным Эводием. Оба глядели в звездное небо. Но Аврелий, размышляя, попутно делал по обыкновению небрежные заметки на восковой табличке. Думал он в ту пору усиленно и увлеченно о тайнах времени, связанных с непреклонным последовательным движением из прошлого через настоящее в будущее.
В раздумьях и молитвах засиделись они вдвоем без малого до четвертой вигилии.
К трем фигурам, внезапно возникшим над невысокой виноградной изгородью, внимание Аврелия привлек Эводий. На фоне предутренних звезд три силуэта неподвижно обрисовались над живой оградой, словно взявшиеся ниоткуда посмертные могильные бюсты-изваяния.
Хорошие люди с добрыми намерениями по ночам в гости не шастают. На то есть утро, хотя для грабителей, хищников и смертельных ночных опасностей перед рассветом наступает самое разбойное время. Тихо, тихо… и как шасть!
Некогда преторианский дознаватель и осведомитель Эводий мигом вернулся к прежней соглядатайской колее, как скоро он выслеживал на улицах Медиолана, — случалось и в ночной непроглядной темноте, — тайных и явных возмутителей общественного имперского спокойствия. И свет звезд для его ночного зрения не менее достаточен, чем Аврелию, делающему черновые записи.
Мгновенно у обоих без лишних слов появилось оптимальное решение. Эводий невидимой и неслышной тенью скользнул к конюшне за оружием. В ту же минуту Аврелий взялся потихоньку будить отпущенника Турдетана, преспокойно храпевшего на своем во времена оны спальном месте в рабском эргастуле.
Когда Эводий принес мечи и копья, тройка темных фигур уже рыскала, сновала — шныряли, разведывали, негодяи, у дома, привлеченные слабыми отблесками масляного светильника в комнате Аврелия. Молчаливый преторианец в рукопожатии сообщил товарищам по оружию, что не меньше полудюжины злоумышленников скрываются за забором. Тем же способом он им обоим указал на цели справа и слева.
Левого противника Аврелий, обездвижил и обезопасил, поразив со спины сильным и точным ударом прямо в крестец тупым концом крепкого отцовского пилума. Такому вот приему его научил искуснейший воин Горс в Картаге.
Турдетану же меч не понадобился. Того что справа он медвежьим броском подмял и оглушил ударом могучего кулака.
Зато вооружившийся гладием Эводий встретил упорнейшего врага. Пока Турдетан и Аврелий примеривались, как бы им половчее пособить соратнику, лязг мечей разбудил Алипия, опрометью выскочившего наружу с зажженным факелом. Скажем, очень опрометчиво спросонок.
Однако от дальнейших ратных глупостей в ночном переполохе его удержал страшно звериный крик петуха Линкея, заполошенно заоравшего с крыши конюшни. Петух не закукарекал попросту спросонья, но издал злобный пронзительный боевой рыкающий клич, от какого стынет кровь в жилах. Так он обычно принимает чужих прошеных и непрошеных гостей, но на сей раз с перепугу превзошел себя самого.
Даже Турдетан вчера с непривычки едва не испугался. Чего уж тут говорить о трусливых разбойниках, прятавшихся в винограднике! Только и услышали громкий топот ног всего их стада, панически рванувшегося прочь, кто куда от такого вот страшного места, где незваных чужаков истинно миротворчески и победоносно привечают во всеоружии люди и животные.
Оставшийся один против всех последний из напавших на усадьбу предпочел не искушать воинскую фортуну и сдался на милость победителей. Он отбросил меч в сторону и рухнул на колени.
Троих пленников без промедления связали, оставив прохлаждаться до утра на конюшне. А там уж выяснять в утренней мудрости причины внезапного ночного нападения, а вслед за тем и доставить в город покушавшихся то ли на жизни, то ли позарившихся на невеликое имущество монастырских братьев-любомудров.
Через два дня в окрестностях Тагасты конные городские стражники выявили, изловили и пленили шайку тунеядствующих в попустительстве сельских рабов и бездельных колонов. К большому прискорбию Аврелия, среди плененных злодеев некстати обнаружился его отпущенник Икел.
Во время пристрастного допроса под пыткой выяснилось, что этот старый пьяница и бездельник навел приспешников по разбойному ремеслу на усадьбу будто бы многоимущего патрона, соблазнив их золотом и серебром, якобы здесь пребывающим в неприкосновенности после продажи фамильных имений.
Когда-то давно кормилица Эвнойя с ним развелась с согласия матроны-домины Моники, потому как Икела уличили в краже лошадиного корма, разжаловали из конюхов и отправили в деревню на страдные полевые работы. Жаль, но теперь Икелу предстоит жить всего лишь до очередного представления в городском амфитеатре, как и его подельникам, запятнавшим себя многими преступлениями на землях соседней Мадавры.
Туда, кстати, направлялся гонцом и надсмотрщиком Турдетан, заодно привезший другу Аврелию письмо от друга Скевия. В нем Скевий спрашивает совета, как ему быть, если отпущеннику Турдетану взбрендило стать христианским диаконом в Гиппо Регии. Лишиться столь надежного и верного слуги патрону Скевию крайне нежелательно, но служение православной церкви тоже дорогого стоит. Потому другу Аврелию стоило бы порасспросить глупого Турдетана и выяснить: годится ли тот для диаконской службы.
Кроме того Скевий Романиан сообщил медиоланскую новость о прохиндее Оксидраке, хитро заполучившем чин имперского агента-прознатчика в африканской провинции. На деле же проныра Паллантиан озабочен не республиканскими августейшими делами, но поиском и скупкой драгоценных гемм для западного кесаря Валентиниана. Между прочим, резиденцию избрал наш хитромудрый Оксидрак в достославном городе Гиппоне.
О себе же Скевий Романиан поведал, что задумал войти в долю с Константом Фезоном и основать в Картаге постоянную гладиаторскую школу. Старому Константу надоело странствовать по Африке и он принял обдуманное решение на склоне лет осесть в хорошем городе. Тем более, старичок и жениться вознамерился в третий раз.
По данным поводам-мотивам любомудрые консультации-пожелания Аврелия никому из них не нужны. Потому что заведомо известно, насколько тагастийский затворник не одобряет брачных уз, жестокой травли зверями преступников и смертоубийственные гладиаторские бои.
Наверное поэтому, его отпущенник Нумант Иберик, по-язычески в том же письме желающий ему в добрый час удачи, избрал, почитай вам, мирное искусство гладиатора-пегниария, где бойцы вооружены лишь боевыми посохами и утяжеленными кнутами. Все же, нередко нынешний субпрокуратор гладиаторской школы Нумант выступает кровавым скиссором-резателем, за что прежде приобрел прозвище Иберийский Волк.
Впрочем и между прочим, Аврелий не осуждал ни Нуманта, ни Скевия с Константом за потакание кровожадным вожделениям толпы. Небескорыстно угождая ей, они, подобно собачьим софистам-киникам, зарабатывают на ней деньги.
К тому же и он сам не без греха, если так крепко и метко приложил одного из корыстолюбивых псов-разбойников, напавших на его усадьбу-монастырь, что у того напрочь отнялись обе ноги.
Хотелось бы несчастному сказать: мол, встань, мил человече, и ходи ты с Богом на своих двоих. Но по поводу и без повода докучно испрашивать от Бога чудес есть последнее дело для богобоязненного человека.
Таковым, коли так к слову пришлось, было пятое правило Августина о смиренной и блаженной монастырской жизни. Он недвусмысленно провозгласил даже не думать о сомнительных попытках кого-нибудь исцелить именем Божиим.
Оно вам известно: едва кто-либо заявит о праведном житии, объявится аскетом, анахоретом, схимником, столпником или еще каким-нибудь чистейшим угодником Божьим, как тотчас невежественное простонародье начинает тянуться к нему за исцелением. Причем не без лукавомудреной задней мысли — чуть что не так с излечением недужных, калек и уродов, тут же позорно ославят нечистым лжепророком. Или того хуже, поскольку в просторечных кривотолках проклянут, осудят и подвергнут грязному сомнению его вероисповедание.
Да не искушай Господа Бога твоего, и Он не введет тебя во искушение!
Шестое монастырское правило Августина касалось культуры речи и запрещало как бы то ни было и чем бы то ни было клясться по-язычески или же всуе будто бы по-христиански.
Никаких вам клятв, братья мои во Христе! Не то худо будет… Вплоть до остракизма, — выразимся образно по-гречески. Ибо от суесловной клятвы до клятвопреступления один короткий шаг, ведущий к изгнанию из общины.
Греческие глиняные черепки-остраконы нам ни к чему, если имя изгоняемого клятвопреступника и нарушителя правил монастырского благочиния абсолютное большинство его сотоварищей без лицеприятия напишет на восковой дощечке…
«При крайнем развращении нравов древний обычай клятвы сохраняется не для того, чтобы удерживать от злодейства страхом религии, а для того, чтобы к другим злодействам прибавлять и клятвопреступления», — позднее резко сформулирует Блаженный Августин в книге третьей «О Граде Божием».
Однако до того, в ноябрьские ноны, накануне достопамятного дня своего тридцать пятого имянаречения Аврелий отменно находился в самочувствии, самодовольствии и самодостаточности умиротворенного, счастливого и блаженного мудреца. Ничто и никто не омрачали его светлого смиренномудрого мироощущения той изумительной необычайно теплой и сухой осенью.
Scriptum factum[2].
Отсюда пришло на ум философское инструментальное название для их приятного уму и душеполезного общежительства, с общего одобрения нареченного Органоном.
КАПИТУЛ XXIII
Год 1145-й от основания Великого Рима.
8-й год империума Валентиниана Секундуса, августа и кесаря Запада. 13-й год империума Теодосия, августа и кесаря Востока.
Год 391-й от Рождества Христова.
Тагаста и Гиппо Регий в проконсульской Нумидии. От мартовских ид к сентябрьским календам.
Последовательная цепкая неудовлетворенность самим собой, собственной, будто бы счастливой и удачливой, блаженно удавшейся жизнью возникла у Аврелия, вероятно, весной спустя полтора года после организационного основания монастырской общины философов.
И самообвинения в умственной гордыне тут ни при чем. В ней он непрестанно раскаивается перед Богом и людьми, поистине ясно себе отдает в том отчет — чистосердечно и нелицеприятно.
В первую очередь личную недостаточность, убожество, ущербность Аврелий налицо видел и находил в учениках-аколитах. Его четвертое правило любомудрой монастырской жизни исполняется менее, чем наполовину, если пишет он один, а остальные лишь переписывают с большим или меньшим количеством огрехов творения многоученейшего брата Аврелия или же прочих достопамятных учителей христианской мудрости.
Кого-либо того желающего он может худо-бедно обучить, с большего способен вложить ему в голову любые знания. Однако не в силах мало-мальски научить верных учеников стремлению к познанию миропорядка, сотворенного в Премудрости Господней, и способностям к творческому труду.
Какое ни возьми их сочинение, оно никуда не выходит за ограниченные слабомысленные рамки ученических работ школяров-риторов или даже грамматиков. При этом все как один горазды на устные разглагольствования о чем угодно, но придать им вразумительную письменную форму категорически не в состоянии.
Тот же Татий, кому Святой Павел Тарсянин доверял записывать под диктовку и править апостольские послания, побольше сделал, если ему приписывается протоевангелие Иисуса Христа с кратким жизнеописанием Спасителя и сборником истинных изречений Христовых.
Знания и книжная писцовая мудрость далеко не суть всё и вся, когда б им можно предпочесть смиренное благочестие слабых и простых умов, не предрасположенных впадать в простонародную спесь умничающих невежд-неуков, отвратно кичащимся безграмотным незнанием.
По счастью и соизволению Господню, благородным и знающим аколитами некоего убогого философа Аврелия, знать, достает смиренномудрия, а гордыню и самомнение они почитают величайшими грехами. Потому и зарабатывают смиренно кое-какой хлеб насущный, прилежно переписывая для тагастийского книготорговца Зоиппа все, чего он ни попросит.
А тот лишнего им и не предлагает, ограничиваясь душеполезными христианскими произведениями либо развлекательной эпической классикой.
Полными затворниками и отшельниками они не живут. Постоянно ходят в Тагасту, чтобы соборно помолиться в каком-нибудь из трех тамошних храмов Божьих. Да и заедино омыться, изгнать телесную скорбь, очиститься душевным телом и безгрешным делом в термах проконсула Поллиния.
Если не мужественным сном, то духом единым они сильны. Никоим модусом и градусом правил любомудрой монастырской жизни сознательно не нарушают, о чем-либо непотребном не помышляют и не размышляют.
Более того, за последний год в их мужском монастыре появились два новых брата, привлеченные их примером праведного благочестивого отшельничества от мира сего. Оба внесли основательный денежный вклад в общий пекуний и приняли годичный обет молчания.
Ну и слава Богу, поскольку сказать им по сути нечего, ослам тупоголовым!..
В очередной раз выругав себя за недостаток незлобивой любви к сущеглупым ближним своим, Аврелий вернулся к прежним размышлениям насчет их монастырского житья-бытья неподалеку от Тагасты.
В округе стало небезопасно, католики-поселяне поговаривают о шайке киркумкеллионов-агонистиков. Допустим, конная стража каких-либо разбойных еретиков не обнаружила ни вблизи, ни вдали, но на всякий насильственный случай завели в монастыре трехлетнего молосского кобеля по кличке Ячмень Спартакус.
Гладиаторским когноменом пса неспроста наделили за феноменальную способность ежедневно продовольствоваться постной ячменной похлебкой и всегдашнюю кровожадную готовность отведать какого ни случись поблизости бегающего, ползающего или ходячего мяса. Развратную парочку пришлых побродяжек-нищих, неосторожно приблизившихся на рассвете к усадьбе, он едва-едва не заел до смерти.
Благо бдящий от зари до зари петух Линкей громогласно поднял вселенскую тревогу, и горемыки насилу остались живы. Об их здоровье этого не скажешь, сколь скоро Спартакус мужчину оскопил на закуску, а одной женской ягодицей славно позавтракал, если правая была не менее упитана, как и оставшаяся в целости левая.
Чтоб не вышло от Спартакуса худшего зла и нежданного нападения на гениталии добродетельных квиритов, теперь днем его держат на цепи. Пускай же знакомых ему людей и тех, с кем они мирно разговаривают, умный сторож, конгениально и филогенетически, принимает за своих. Никого без толку не облаивает, только молча и настороженно, ушки на макушке, наблюдает. Нападает он, наверное, тоже молчком.
Громозвучный петух Линкей нравом смягчился. Свой леденящий душу пронзительно-хриплый звериный рык издает вовсе не всякий раз, когда заметит посторонних с крыши конюшни.
Оно к лучшему, если посетителей у них значительно прибавилось. Всенародная молва о тагастийских книжных праведниках почему-то широко распространилась, и к ним нынче едут, идут, охломоны, — прости Господи, — проконсультироваться о разных житейских неурядицах и невзгодах.
Что мы им тут оракулы все поголовно, что ли? Это еще что за фасты?
Притом, более всего и всех, им отчего-то, вынь да положь, требуется некто книжник Августин, грамотеям ослиным. Исповедаться им, понимаете ли, желательно, на притеснения и несправедливости пожаловаться…
Поработать спокойно не дадут, будто он им архиепископ, за благонравием и благочинием паствы надзирающий, власть и собственность имущих увещевающий…
С работой у Аврелия тоже, по его мнению, не все ладилось той весной. Рассуждение «О святости Католической Церкви» вроде бы вышло вполне пристойно. Но развернутый в иносказаниях толковый комментарий-шестоднев к ветхозаветной Книге Бытия получается каким-то малоубедительным. Над «Генесисом против манихеев» надо еще трудиться и трудиться.
Коли хочешь поучать, не помешало б самому чему-нибудь по существу научиться от умных авторов.
В сущности наводить широковещательную критику, громобойно опровергать несказанно легче, чем негромко, доказательно, побудительно и убедительно отстаивать истину, не прибегая к риторическим ухищрениям суемудрого праздномыслия мнимой софистики. Для того он и написал трактат об «Учителе-магистре».
Можно аподиктически, логично и рационально высказаться о личных религиозных убеждениях, чему более-менее приличным подтверждением как ныне предстает переработанный и выправленный опус «Об истинной вере» в каузах-причинах и следствиях-эффектах.
Столь же результативным вроде как удалось сочинение «LXXXIII вопроса», если диалектически искал и, быть может, нашел кое-какие ответы на диалогические вопрошения учеников в утверждениях и отрицаниях. Так-то оно так, но письменный философский монолог, сколь ни извращайся в устном краснобайстве, все же есть высшая форма поисков духовных истин и подтверждающего умозрительного постижения величайшего бытия-реальности, сотворенного Вседержителем.
Все мы стремимся достигнуть такого состояния духа, где бы дух наш, возложив упование на истинную религию, не боготворил бы мир, как божество, а хвалил мир ради Бога, как дело Божие. И, очистившись от мирских мерзостей, непорочным восходил бы к Богу, сотворившему мироздание.
«…Господи, дай людям в малом увидеть законы общие для малого и великого!..»
Хуже всего, на взгляд Аврелия, у него шли рассуждения о материи, времени и пространстве. Слишком уж они были материалистично телесными, намертво привязанными к земнородному физическому существованию.
«Когда же мысль ищет в этой материи, что в ней доступно уму, она как бы говорит себе: это не есть нечто отвлеченное, как жизнь, как справедливость, ибо это телесная материя, но она и чувственно не воспринимается. Ибо в невидимом и неустроенном ничего нельзя увидеть и воспринять.
Когда это говорит себе человеческая мысль, то к чему сводятся ее попытки? Знать, не понимая, или не понимать, зная?»
По прошествии немалых лет епископ Августин Гиппонский найдет некоторое место тем тагастийским размышлениям в «Исповеди»:
«О Господи, когда б исповедать Тебе устами моими и стилом моим все, чему Ты научил меня об этой материи! Я слышал раньше ее название, не понимая его сути, и рассказывали мне о ней люди, ее тоже не понимавшие. Я мысленно представлял ее в бесчисленном разнообразии видов и, следовательно, не ее представлял.
Душа моя кружилась среди беспорядочно перемешанных, отвратительных и страшных форм, но все-таки форм. Я называл бесформенным не то, что было лишено всякой формы, но имело такую, от которой, явись она воочию, отвратились бы, как от непривычной и нелепой, мои чувства, и я бы, по человеческой слабости, пришел в замешательство.
То, что я мысленно себе представлял, было бесформенным не по отсутствию всякой формы, но по сравнению с формами более красивыми. Здравый рассудок убеждал меня совлечь начисто всякий остаток формы, если я мысленно хочу представить бесформенное. Но я не мог этого сделать.
Я скорее счел бы лишенное всякой формы просто не существующим, чем мысленно представил нечто между формой и «ничто»: нечто не имеющее формы, но и не ничто, — почти бесформенное ничто.
Ум мой перестал тогда допрашивать воображение, полное образами тел, имевших форму, какие оно произвольно изменяло и разнообразило. Я направил внимание на самые тела, глубже вглядывался в их изменчивость, как исчезает то, чем они были, и возникает то, чем они не являлись.
Я начал подозревать, что этот самый переход из одной формы в другую совершается через нечто бесформенное, не через совершенное ничто. Захотелзнать, а не только подозревать.
Если бы мой голос и стило исповедали Тебе, Боже мой, все, что Ты распутал мне в этом вопросе, то у кого из моих читателей хватит терпения все это обдумать? Не перестанет, однако, сердце мое воздавать Тебе честь, воспевать хвалу и за то, о чем оно не в силах поведать.
Итак, изменчивое в силу самой изменчивости своей способно принимать все формы, через которые, меняясь, проходит изменчивое…»
Августин спрашивал свою бессмертную разумную душу, что есть изменяемая, уничтожаемая материя, а что есть неуничтожимый дух, безусловно отдавая приоритет вечности. Он же и определил материю-вещество-субстанцию как «ничто, которое есть нечто». Или же это то, что не существует, чего не существовало бы вовсе, когда б оно не стало предопределено в вышних.
Материя ранее «как-то была», — утверждает Блаженный Августин, дабы смогло возникнуть все видимое и космически обустроенное.
«Откуда же это «как-то была», как не от Тебя, Господи, от Кого все существующее, поскольку оно существует? Только чем оно с Тобой несходнее, тем оно дальше от Тебя, — и не о пространстве тут речь.
Господи, Ты не бываешь то одним, то другим, то по-одному, то по-другому. Ты всегда то же самое, то же самое, то же самое — святой, святой, святой, Господь Всемогущий. Ты создал нечто из ничего, началом, какое идет от Тебя, Мудростью Твоей, рожденной от субстанции Твоей. Ты создал небо и землю не из Своей субстанции. Иначе Творение Твое было бы равно Единородному Сыну Твоему, а через Него и Тебе.
Никоим видом нельзя допустить, чтобы Тебе было равно то, что не от Тебя произошло. А кроме Тебя, Боже, Единая Троица и Троичное Единство, не было ничего, из чего Ты мог бы создать мир.
Ты и создал из ничего небо и землю, нечто великое и нечто малое, ибо Ты всемогущ и добр и потому сотворил все добрым: великое небо и малую землю…
…Земля же эта, Тобою созданная, была бесформенной материей, была невидима, неустроена, и тьма была над бездной. Из этой невидимой и неустроенной земли, из этого бесформенного, этого ничто Ты и создал все то, из чего этот изменчивый мир состоит.
Однако мироздание не стоит на месте, оно есть воплощение самой изменчивости. Она-то и позволяет чувствовать время и вести ему счет, ибо время создается переменой вещей — разнообразно в смене обликов того, чему материалом послужила неустроенная земля…»
Отвлекаясь от религиозно-философских исканий и писаний, заведенными им монастырским порядком и обустройством, Аврелий, право жe, определенно доволен. Время от времени и эти мысли его посещали. Конечно, у них не космическая небесная гармония. Но по мере слабосилия человеческого его заведения все же способны к таковой приблизиться.
Пусть отдаленно, но кое-что похожее имеет место быть. В аналоге генесиса, — классически определимся на вернакулярной латыни.
Петух, кошка, пес и восемь любомудренных братьев живут истинно по-республикански в самом лучшем этическом смысле этого слова. Эстетически же, выразимся по-гречески, дело обстоит не менее превосходно в переходе от безобразности и безобразия животного неразумия и людской глупости к формообразующей красоте и упорядоченной мудрости гражданского сообщества.
Вот кабы нечто подобное на духовных гармоничных началах устроить всецело цивилизованно! Умудриться в совершенстве глобального и орбитального, Господи Боже мой! Или хотя б управиться в пределах великоримского домината… Поди доберись до всех поганых дикарей-варваров экуменически с благовестием истины… В пешем ли порядке, верхом… апостолически.
По правде признаться, прижав руку к сердцу, в апостольские собеседования с язычниками об истиной вере Аврелий не вступал. Потому как этим с благорасположением занимаются его братья-ученики. Но вот, право слово, убеждать разного рода катехуменов принять святое крещение в лоне вселенского православия неизменно полагал исповедимым религиозным долгом.
Даже, бывало, с беспутными женщинами о том говорил, исповедовал.
«…Изъясни же мне, Врачеватель души моей, ради чего я это делаю. Исповедь моих прошедших грехов Ты отпустил и покрыл их, чтобы я был счастлив в Тебе. Ты, Господи, изменил душу мою верой и таинством…
…Нет ни одного верного слова, какое я бы сказал людям, и которого Ты не услышал бы раньше от меня, и ничего верного не слышишь Ты от меня, чего раньше Ты не сказал бы мне…»
В тот летний день Скевий Романиан и сопутствующий ему диакон Турдетан спешились у конюшни на закате. Петух Линкей верно узнал обоих и потому не возопил, объявляя общемонастырскую тревогу. Пес Спартакус не менее благодушно глянул на старых знакомцев, зевнул во всю пасть, приветственно брякнул цепью и вновь задремал в теньке.
Друг Скевий несколько раз заезжал накоротке к другу Аврелию в прошлом году, когда появился в Тагасте, чтобы пышно и достойно похоронить отца, а также управиться с наследством. Затем состоялось обручение Скевия с тагастийской невестой, какую он расчетливо и распорядительно высмотрел во время тех печальных торжеств.
Зато на сей раз у Скевия на уме имелись вовсе не матримониальные или же иные производительные расчеты.
— …В Гиппоне дело у нас, мой Аврелий, не меньше, чем на два миллиона кесарских серебряных денариев. По меньшей мерке столько денег завидущие частные глазищи и загребущие общественные ручищи производственно насчитывают в благосостоянии нашего общего друга Оксидрака.
Кесарю — кесарево, а Богу — богово. Потому благочестный катехумен Оксидрак обращается к тебе с нижайшим устным прошением подготовить его к принятию святого крещения.
Похоже, с ним злоключилась та же грудная немочь, что когда-то унесла Палланта Ситака. Совсем захирел и скуксился наш пролаза. Кровь у него идет и горлом и носом.
Тебя в пророческом сне как-то раз увидал. На Бога вернейшие надежды питает. О чем-нибудь телесном думать не думает, если душу спасти хочет.
Слыхал он, как Божий человек Амвросий Медиоланский тебя к принятию крестильного таинства предуготовил. Теперь вот на то же самое премного и благочестно прочувствованно надеется.
Не откажешь ему в этой духовной и душевной малости, друг мой Аврелий, исповедник Слова Божьего?
— Исповедимо не откажу. Выезжаем с рассветом, если лошаденку мне подберешь порезвее от богатств своих.
— Была бы честь предложена! Соловая кобылка Ноэма в твоем полнейшем распоряжении. Не так быстра, как твоя решительная мысль, друг мой Аврелий, но эта южаночка вынослива, подобно ливийскому верблюду…
От Тагасты до Гиппо Регия добрых семьдесят римских миль. Отправившись с самого утра, вполне можно добраться до местоназначения к заходу солнца. Или еще раньше, когда б ради скорости не жалеть в летнюю жару ни себя, ни сменных заводных лошадей.
Выехав на заре на второй день жарких июльских календ, три путника особо не спешили. Хворый Оксидрак не так уж плох, по словам Скевия.
По пути завернули на кладбище, помолились за добрый ответ, какой, они уповали, получат души дорогих им усопших на Страшном судилище Христовом. Диакон Турдетан в качестве лица духовного благочинно провел поминальную службу на могиле Палланта по просьбе Аврелия.
Что-то Аврелий все-таки предчувствовал, предвосхищал, хотя был полностью уверен, что уезжает из Тагасты всего лишь на месяц-другой. Тем более, его алюмнусы очень искренне опечалились нежданным отъездом учителя, провожали с жалостными взглядами, чуть ли не в слезах.
Тем не менее, кое-какая смена обстановки, пожалуй, и отдых рядом с морской прохладой, отнюдь не помешают их магистру. Потом же ничто не препятствует радостно вернуться к ученикам и к работе со свежими силами, может, к началу виноградных каникул.
Притом летом в благословенном приморском Гиппоне ничего ему не должно затруднять неодолимо обдумывание вероисповедальных трудов в мыслях и на письме в любое удобное для того боговдохновенное время. И несчастному Оксидраку обязательно полегчает от его наставлений. Ведь другим-то он, Аврелий Августин, хоть как-то помогает целительным изустным словом?..
Cколь упомнится, хитрющий Оксидрак, бывший раб-педагог покойного Палланта был типичным религиозным приспособленцем, — принялся Аврелий дорогой обдумывать, как же ему подступиться к той разумной душе, вдруг почувствовавшей жизненную нужду в его увещеваниях.
Никаких богов Оксидрак раньше суеверно не отвергал с порога. Жертв не приносил, фимиама не курил, но относился с чудовищным уважением к всему языческому пантеону западных и восточных божеств. По всей видимости, помнил, понимал, почему в язычестве не боги-демоны глиняные горшки обжигают, а люди, кто им поклоняется в суеверном гентильном почитании.
Теперь, очевидно, Оксидрак отличительно заделался христианским катехуменом по тем же республиканским и политическим соображениям. Не то вовек не видать бы ему чина и звания высокородного имперского мужа, равного проконсулу по его нынешнему служебному статусу кесарского агента-прознатчика. Точнее скажем, высокопоставленного чиновника по особым поручениям, надсмотру и надзору.
Но и за властями мирскими от царств земных Бог присматривает, бдит и надзирает. А за недостаточное вероисповедание и пренебрежение истинной верой может и наказать святотатца какой угодно немощью. Коли всякая власть былая и предержащая в изначальном счете от Бога, то от Него любому ее носителю бесперечь грозит заслуженное суровое воздаяние за несправедливость и неправедность. Бывает, и на этом свете, не только на том, по ту сторону надгробной плиты, власть имущим неслабо достается и в гроб и в саван.
Тому подтверждением служат немало очень болезненных и мучительных, казусов, прижизненно, не за здорово живешь, случившихся с различными правителями и властителями в разные времена у разнообразных племен-народностей. Бог-то, Он все вам видит подобру-поздорову, всем располагает и порой метит смертельной болезнью властительных ракалий да правительствующих каналий, вблизи и вдали.
Как предполагалось, Аврелий застал чиновного Оксидрака далеко не в добром здравии и немедленно преисполнился к нему сочувствия, тут же позабыв о дорожных рассуждениях. Уж больно тот всем видом и обликом походил на Палланта, семнадцать лет тому назад умершего от сходной болезни.
Оксидрак точно так же совсем отощал, кожа его из матово-оливковой стала какого-то бледно-серого вида, нос по-птичьи заострился. По вечерам его трепала лихорадка, бил озноб.
Поэтому беседовали они по утрам, когда больному становилось немного лучше. И дыхание не вырывалось с ужасным скрипом и хрипом из воспаленного горла.
Говорил больше Аврелий. Но и Оксидрак не всегда молчал; мало-помалу хрипло, сипло исповедался ему если не во всех грехах, то уж верно во многих прегрешениях, проступках и неблаговидных поступках.
Сразу же он без утайки признался, отчего зазвал Аврелия, хорошо понимая, что отрывает его от работы, отнимает ценное время философа, напрасно уходящее в никуда на никчемушного человека и плохого христианина, какому ни за что не выжить, если кто-нибудь не отмолит, не вымолит его жалкую жизнь у высших сил, находящихся вне его разумения и хитроумия.
Прерывистые признания страдальца Аврелий выслушивал участливо, спокойно; красноречиво убеждал недужного в непременном выздоровлении. Коли Бог милостив, и раскаяние немалого стоит в глазах Его, то возлагать надежды на помощь свыше в избавление от телесного недуга следует всякой искренне верующей разумной душе.
Здесь Аврелий еще раз убедился, насколько психологически и физиологически, — выразимся по-гречески, — важен вопрос о правильном и праведном вероисповедании. Чем меньше в человеке язычества и маловерия, тем в большей степени ему стоит надеяться на милосердие Божие. Ибо правила истинной веры догматически приводят в порядок и душевное тело и дух ободряют, оздоровляют, укрепляют, обогащают.
Зато двоеверие или в последнем случае с Оксидраком некое ушлое и лукавое многоверие ни к чему хорошему привести не могут. Как бы оно ни казалось выгодным и благоразумным кланяться во все стороны, поклоняющийся многим демоническим божествам не дождется подмоги ни от одного из них, если забывает Того, Кому он обязан жизнью и здоровьем.
Оказывается, Оксидрака какое-либо пророческое видение не осенило. Говорит: с детства ни одного сна не припомнит. И Аврелия он вызвать додумался как бишь не сам, но по совету девы-пророчицы Кабиро из Мадавры, хорошо им обоим знакомой с давних лет.
Ранней весной, чуть почувствовав себя плохо, увидав признаки той же грудной болезни, что скосила его былого хозяина Палланта, перепуганный отпущенник Оксидрак Паллантиан помчался в Мадавру искать чудесного исцеления у Кабиро и ее восточных демониц — будто бы дочерей и матерей земли с небом.
Тут уж Аврелию пришлось призадуматься, насколько можно доверять пророчествам различных языческих предсказательниц, когда то ли Эритрейская сивилла, то ли ее Куманская коллега в откровении предрекли первое и второе пришествия Христа Спасителя. Кроме того, значительную апокалиптичность мы находим в необыкновенных предсказаниях других сивилл: Дельфийской, Ливийской, Персидской.
Быть может, дева Кабиро из их числа, коль скоро ей привиделся такой многозначительный сон?
По свойственному ей обыкновению она предварительно по-римски скрупулезно порасспросила болезного Оксидрака обо всех подробностях. Узнала, как он намеревается по-христиански окреститься с участием блаженного мужа Августина. Выбранила душевно за хитрозадые политеистические суеверия.
И заночевать ему в храме Кибелы не разрешила. Сама попыталась призвать видение о людях ей вовсе не безразличных, не глядя на несовместимость их вероисповеданий.
Очутилась она во сне совершенно голой в многолюдной толпе на ступенях христианской базилики. Сидит на холодном мраморе, жалко протягивает руку за подаянием. А ее никто не видит, не замечает. Все равнодушно обходят, словно каменного истукана, справа и слева; никакого внимания на досадную помеху на пути.
Один Оксидрак ее приметил, медную монетку сунул. Тут появляется Аврелий таким, каким она его помнит обнаженным четырнадцатилетним мальчишкой во время игры в гарпастон. Но вместо набивного мяча у него в руках длинный-длинный сплошь резной черный посох со странным навершием слоновой кости, где три слитые воедино крылатые рыбы держат большую черную жемчужину.
Он, не говоря ни слова, взмахом посоха приказал Кабиро вернуть медный асс Оксидраку. Положил посох на плечо и, легкомысленно насвистывая, двинулся в базилику. В дверях обернулся и мановением руки пригласил следовать за собой.
Тотчас Кабиро ощутила на себе тяжелое и богатое женское одеяние… На этом она проснулась в храме фригийской богини за час до восхода солнца.
Детально истолковать сон Кабиро не сумела или не захотела. Он ее, похоже, напугал. Пересказать его Оксидраку она пересказала и напророчила искать черный посох или хотя бы навершие с рыбами и жемчужиной. Мол, как только он преподнесет этот бесценный дар Аврелию, бледная грудная немочь с кровохарканием его навсегда покинут.
Оксидрак подивился прозорливости прорицательницы, однако следовать ее баснословной рекомендации и не подумал. Прежде всего потому что, сходив и помолившись в христианской базилике в Мадавре, он почувствовал облегчение от болезни и большой прилив сил.
К тому же, зачем ему этакая сказочная рацея: поди туда, незнамо куда, принеси, подай неведомо что?
Причем далеко ходить и ездить ему не надо. Искомое навершие-гемму он вывез из Индии несколько лет тому назад. Кесарю Валентиниану рыбы нисколько не понравились, а его родительница Юстина усмотрела в черной жемчужине дурное предзнаменование.
Жемчужину Оксидрак вынул и собирался с огромной выгодой продать отдельно. Полдюжины богатых покупателей в Италии и в Африке именно на эту индийскую драгоценность у него давно на примете.
Два месяца он мучился и маялся жадностью, пока болезнь опять еще жестче не взяла за горло. Пришлось срочно вызывать Аврелия и во всем ему покаяться.
Драгоценный дар Аврелий с благодарностью принял. Зачем ему отказом огорчать бедолагу больного, кому и так несладко приходится?
При всем при том, вдруг это дарение скрывает некое пророчество? И к Кабиро с этим не подступиться. Если отказалась давать толкование своему сну, значит, это у нее отрезано: ни связать, ни срастить…
Хотя опять же: то, что праведные связывают на земле, будет связано и на небесах…
Не совсем в данной связи, но второй для себя подарок Аврелий увидел в нежданной встрече с центурионом Горсом на форуме. Тот приехал в Гиппон жениться и обрадовался нечаянному возобновлению их знакомства, наверное, побольше, чем предстоящему счастливому бракосочетанию на девушке из хорошей семьи.
Так оно частенько бывает. Грустят женихи перед свадьбой и во время нее. Радость у них обычно потом наступает, по окончании брачных торжеств, в ночи…
Таким образом, пребывая в Гиппоне, с утра Аврелий работал над философскими сочинениями. Ближе к полудню беседовал с Оксидраком, который значительно посвежел и вроде как пошел на поправку.
А пополудни Аврелий уходил на берег моря, купался вместе с Горсом, упражнялся под его руководством во владении копьем и боевым посохом. Затем оба шли в Большие Северные термы. После обеда и разговоров с Оксидраком и его лекарями вечером Аврелий вновь приступал к размышлениям и записям.
Помимо богословских набросков к фундаментальному шестодневу никак не выходил у него из головы черный посох, привидевшийся Кабиро. Потому-то он упорно предавался воинским упражнениям с шестом, а потом пришел к мысли: отчего бы ему не завести профессорскую ферулу-посох из черного и крепкого эбенового дерева? Да и попросить какого-нибудь оперария приделать к ней драгоценное Оксидраково навершие?
Конечно же, получится вовсе не следование примеру апостольской бедности. Но если скрытно вделать в посох или ферулу длинное острие отцовского пилума, то выйдет личное оружие, каким совсем не зазорно владеть даже самому миролюбивому апостолу Слова Божия, приносящего не мир, но меч духовный. Со всем тем почему бы оружию не быть предметом основательно материальным и состоятельно субстанциональным?
И пастырским такой посох можно назвать с полным на то основанием, если профессор Августин железно пасет алюмнусов-дискипулов своих. Пускай их профессирует в его отсутствие Алипий Адгербал, но не счесть, насколько ученик не выше учителя-магистра, если последователь на письме двух немудрящих глав связать не в состоянии.
В бессчетный раз Аврелий задумался о частном и общем, уже состоявшемся или еще предстоящем в пространных временах или временных пространствах. Вероятно, зря это он мудрит, отделяя пространство от времени. Возможно, материя является атрибутом пространства-времени, а не наоборот, как полагают философы-язычники?
«…Когда некий человек остановил молитвой солнце, чтобы победоносно завершить битву, солнце стояло, но время шло. Сражение длилось и закончилось в свое время. Итак, я вижу, что время есть некая протяженность. Вижу ли?
Не кажется ли мне, что вижу? Ты покажешь мне это, Свет и Истина…»
Находясь скоро второй месяц в Гиппоне, несколько раз в христианскую седмицу Аврелий регулярно заходил в Павлову базилику помолиться. На распорядок церковных служб он особого внимания не обращал, поскольку соблюдал собственное расписание удобных для вдохновения и работы часов.
Об экклесиастических и синодальных отношениях между верующими людьми он тоже тем летом немало размышлял. Думал и о священническом сане, какой ему неоднократно предлагали, наверное, еще с прошлого года.
Например, епископ Мегалий из Каламы в письме некоему праведному у ученейшему мужу Августину просил того подумать, как бы получить избрание клириком в Каламской епархии, испытывающей острейшую нужду в истинно верующих образованных проповедниках Слова Божия.
Тем временем престарелый сенатор Фабий Атебан пишет все тому же Аврелий Августину о нехватке католических епископов в африканских муниципиях, перечисляя немалый десяток городов, нуждающихся в пастырях и проповедниках столь высокого церковного ранга.
За что Аврелий сенатору прочувственно благодарен. Стало быть, эти города кое-кому, не желающему становиться священником, вовсе не стоит посещать. Ему также совсем не к лицу выпрашивать епископское назначение у кесарского викария Африки, как предлагает декурион Фабий.
Более всего в ту пору Аврелий не желал личной ответственности за множество разумных душ. С одной чьей-нибудь душой он всегда не против иметь дело, но выйдет совершенно иная перипетия в их разноречивых и противоречивых толпищах-толковищах. От этого, простите, извольте-позвольте его уволить. Не его это занятие — вживе изустным словом соборно назидать, экклесиально наставлять, синодально управлять верующими, предстоятельно увещевать коллегиально их скопища и сонмища.
К слову сказать, он им не военачальник, направляющий воинов к победе или к поражению. В истинной победоносной вере каждый сам за себя; один Бог предстательствует за всех…
В конце августа центуриону Горсу Торквату предстоит отправляться к новому месту кесарской службы в Адрианополь. По такому случаю он уговорил Аврелия пожаловать к нему сегодня к обеду.
Аврелий и сам уж подумывал: не пора ли ему покинуть Гиппо Регий и гостеприимство Оксидрака? Прохиндей с виду вполне оправился, поздоровел, хотя пользуясь осторожностью лекарей, очевидно, лишь прикидывается смертельно больным. И от того, чтобы записаться на крещение к епископу Валериусу, увиливает, шельмец…
В таком деликатном вопросе давить на этого пройдоху Аврелий не давил. Никаких ложных клятв тот не давал, а с увещеваниями своего духовного врачевателя политично соглашается, не спорит, как и с предписаниями ученых медиков. Видимо, не испытывает большого желания как-либо дословно исполнять и то, и другое, и третье, заключающееся в поездке в Медиолан для должного отчета перед вышестоящими.
Болезнь у него, видите ли, политическая у прощелыги… Отпусти, Господи, Отец наш, долги наши, как и мы отпускаем должникам нашим…
И за здоровье отпущенника Оксидрака молился Аврелий весьма усердно, когда они с Горсом после терм перед обедом по обыкновению и по дороге зашли в гиппонскую базилику Святого апостола Павла. Вдруг притихшему многолюдству собравшихся перед самым повечерием они оба не придали какого-нибудь значения, немедля углубившись в себя, обращаясь к Богу хоть и соборно во внешнем присутствии, но все же во внутреннем одиночестве из глубины души.
Должно быть, из-за того не только Аврелий, но и неустрашимый воитель Горс, оба они вздрогнули, оторопели, опешили, когда под сводами базилики раскатился гулкий бас могучего диакона Турдетана:
— Вот он, квириты!.. Нумидийский муж Аврелий, известный праведной и блаженной жизнью, среди нас!.. С нами Бог, и Он дарует нам милостиво нового святейшего пресвитера!!!
Аврелия, не успевшего опомниться от безвозвратно прозвучавших слов, мгновенно обступило со всех сторон почтительное собрание прихожан. Немного погодя к ним содружно присоединились почти все находившиеся в церкви.
— Избрание нового клирика состоялось вне жребия, квириты, — непреклонный диакон не оставил Аврелию ни малейшей возможности возразить и оспорить единодушный выбор паствы.
— Возложим на праведного избранника руки! Ведите же поскорее нареченного нами к святейшему прелатусу Валериусу для принятия апостолического таинства рукоположения и священного назначения служителем Божиим, как соработником Его!
В благоговейном, умиленном содружестве, окружившем Аврелия, ему вдруг нестерпимо захотелось заплакать, и слез своих он сдержать не сумел, не смог.
Да будет воля Твоя, Господи, Отец наш, как на небесах, так и на земле… Fiat voluntas Tua…
Старый епископ Валериус не замедлил произвести церковное таинство хиротонии над вновь нареченным пресвитером, взамен ушедшего, оставившего юдоль земную неделю назад после тяжкой и продолжительной болезни.
Пресвитер Аврелий Августин вышел из алтарных врат и низко поклонился своей нынешней многочисленной пастве. Среди склонившихся перед ним в глубоком ответном поклоне он тотчас разглядел Оксидрака Паллантиана и Скевия Романиана.
Друг Скевий выпрямился, словно бы намеком, еле заметно подмигнул другу Аврелию, зажав довольную улыбку в уголке губ. Мол, знай наших…
В ту же минуту Оксидрак столь же многозначаще надел, проныра, ни дать ни взять окаменелую личину форумной статуи. Только мраморной древнеримской тоги не достает для пущей важности.
Вот так, прости, Господи! Посреди высокого тут как тут и низкое тебе объявляется, выныривает, шныряет вам от первородно согрешившего ветхого Адама…
Через пару дней ушлый Оксидрак, отбросив околичности, притворные хворости и болести без обиняков признался отцу Аврелию, что не вынашивает намерения креститься в ближайшем обозримом будущем.
В первом числе статус катехумена его как нельзя лучше посильно устраивает в имперских и торговых делах. Во втором причислении он суеверно боится, будто, окрестившись душой и телом, неминуемо вскоре умрет в силу возвращения болезни, Божьим чудом его благополучно оставившей.
Ну что ты тут с ним будешь делать!..
Вместе с тем подозревать Скевия и Оксидрака в том, словно бы они изобретательно, насильно лишив выбора, подстроили его избрание гиппонским пресвитером, у Аврелия не было веских причин. Потому как на всякое политическое хитроумие человеческое непреклонно найдется Провидение Божие. Человек лишь временно, конъюнктурно кое-чего для себя и других предполагает, волеизъявляет, тогда как Бог предвечно и бесконечно располагает всеми нами, соизволяет править всем сущим, сущным и насущным.
В сентябрьские календы Аврелий Августин направил письмо Алипию Адгербалу с настоятельной просьбой взять руководство их тагастийской общиной. В немногих словах он ему смиренно сообщил о своем избрании пресвитером христианской экклесии базилики Святого Павла в Гиппо Регии.
†
ФОЛИУМ ШЕСТОЙ. ТРУДЫ И ГОДЫ ЕПИСКОПА ГИППОНСКОГО
КАПИТУЛ XXIV
Годы 1145-1150-й от основания Великого Рима.
8-9-й годы империума Валентиниана Секундуса, августа и кесаря Запада. 13-14-й годы империума Теодосия, августа и кесаря Востока. Два года единого империума Теодосия Магнума. 1-2-й годы империума его младшего сына Гонория, августа и кесаря Запада. 1-2-й годы империума старшего сына Аркадия, августа и кесаря Востока.
Годы 391-396-й от Рождества Христова.
Гиппо Регий в проконсульской Нумидии. Во все времена года по достопамятным датам и вехам начала церковного служения.
Первым пресвитерским делом Аврелия стало основание второго в этой жизни монастырского сообщества духовных братьев. Надо ж ведь ему где-то жить, готовя душу свою к жизни вечной? А иного предержащего сосуществования, кроме как в монастыре, по возможности отгороженном и отрешенном от преходящего мира, он не представлял и не желал.
До сих пор Аврелий без зазрения совести пользовался мирскими гостеприимными щедротами достойнейшего Оксидрака. Но в последнее время показная церемонная роскошь этого особняка богатого отпущенника начала его утомлять. В придачу пребывание-проживание там утратило смысл, коль скоро больной волей Божьей благодатно оздоровился, чего бы тут ни утверждали по жизни осторожничающие скептические лекари.
Изложив целый ряд здравомысленных жилищных соображений святейшему епископу Валериусу, получив его восторженное одобрение, смиренный пресвитер Аврелий основал и обустроил в четырех милях от Гиппона монастырское братство по тем же благолепным правилам, установленным еще в Тагасте. По счастью, подходящая вилла, пожертвованная гиппонской церкви одной благочестивой вдовой, имелась в их благонамеренном распоряжении.
Святейшего прелатуса Валериуса одно лишь смущало: не будет ли трудно смиреннейшему брату Аврелию ежедневно преодолевать не столь уж близкий путь до города и обратно? Тотчас Аврелий уверил предстоятеля Гиппонской епархии, что отлично ездит верхом и охотно внесет резвую лошадку Ноэму в качестве вклада в общий монастырский пекуний. Другого имущества, подлежащего привнесению в братское достояние, у него нет. Да и пребывая в Тагасте, он привык по-апостольски довольствоваться малым, ничуть не большим, чем прочие братья, когда б не их благожелательная добрая воля создать настоятелю и наставнику наилучшие условия для настоящей жизнедеятельности и насущных трудов во имя предвечной славы Господней.
Начиная с сентябрьских календ, первые пять братьев, поселившиеся в монастыре, без каких-либо раздумий, экивоков, околичностей признали главенство и старшинство Аврелия, а также настоятельность подчинения простому, достаточно ясному монастырскому уставу, именно им благодатно разработанным. Хотя от четвертого уставного правила, предусматривающего письмо и книжную переписку, приор их временно освободил впредь до надлежащего обучения и обустройства отшельнического быта.
Монастырское владение представляет собой дом в два стратума, плодовый сад в пять югеров, три югера овощных посадок и кое-какое поголовье мясомолочного скота и домашней птицы. Все требует ухода да приложения работящих рук.
Посему Аврелию пришлось ввести седьмое правило, предусматривающее предпочтительный отказ от использования рабской трудовой силы. Труд в монастыре должен быть только добровольным, свободным благодарением Господу за благорастворение небес, плодоношение земли, изобилие даяний естества от животных и растений. Вместе с тем от предлагаемого добрососедского содействия и сотрудничества в модусе и атрибутике благочестивого работного вспомоществования отказываться не следует. Всякая трудозатратная лепта куда как сгодится с богоугодными намерениями.
Чуть погодя о новом монастырском заведении Аврелия прослышал Гонорат Масинта в Картаге. Недолго думая, на виноградных каникулах собрался в дорогу и уговорил, упросил старого друга-учителя насовсем избавить его от риторской неволи, от неукротимого буйства тупоголовой и порочной картагской молодежи: всех этих опрокидывателей, совратителей, инвенторов, панкратистов и прочих нехороших безобразников. Лучше уж ритору Эвлодию их во благообразие пристойно приводить!
Аврелий хорошо понял Гонората, во благо с несказанным удовольствием его принял и определил на тихое монастырское житие, вменив ему в обязанности бездну домохозяйственных, то есть экономических и административных хлопот в их обители, во многая полнящейся людьми и скотом.
Плодятся они, прости Господи, и размножаются, порочно и беспорочно. И в монастырь просятся, будто им здесь израильские земли обетованные.
Оксидрак и Скевий, оба по сто с лишним югеров благочестиво пожертвовали. О друзья данайцы, многохозяйственные хлопотные дары приносящие!..
К слову сказать, друг Скевий великолепно удружил с эбеновым деревом для посоха. Оно у него востребовано высушенное как раз на складе в Гиппоне сохранялось. Оксидрак же по-дружески рекомендовал искуснейшего оперария, изготовившего маскировочные железные инкрустации для копийного лезвия.
Таким вот дружеским образом Аврелий Августин обзавелся отныне не профессорской ферулой, но пастырским оружейным посохом, с каким он ни за что и ни про что не расстанется до самых последних дней земной жизни. В течение тридцати девяти лет костяное стило и железный посох неизменно пребудут с ним его личным неотъемлемым оружием.
Каким-либо иным частным имуществом он овладеть собой не позволит. Довольно на круг и этой человеческой частности, несущественной малости для достойного вселенского служения правоверию и православию.
Но до того и прежде всего в Гиппоне вдумчивый священнослужитель Аврелий озаботился внимательным, объемлющим изучением особенностей охватывающего его церковь и экклесию городского окружения. В этом ему тоже обстоятельную, существенную помощь оказал вездесущий прохиндей Оксидрак еще до своего отъезда в Медиолан.
Тогда же по деловой обстановке друг Скевий до сентябрьских календ отбыл в Картаг, предварительно, как патрон клиенту, строго-престрого наказав диакону Турдетану помогать и присматривать за пресвитером-доминусом Аврелием. Особо учитывая тот факт, что друг Аврелий избрал местожительство вне высоких гиппонских стен в небезопасных окрестностях города.
Аврелий не выпытывал у диакона Турдетана, кто же того надоумил и подвигнул провозгласить пришлого мирянина, и слухом и духом сущего чужака в Гиппоне, пресвитером церковным. Пожелает — выскажется.
Тот и рассказал все без утайки, как только пришло время исповедаться накануне празднования Рождества Присносущей Девы, долго молчать и невразумительно мычать не стал. Тайну чистосердечной исповеди диакона Турдетана епископ Аврелий соблюдал скрупулезно, никоим видом ее не разглашал. И ни с кем сокровенными обстоятельствами приснопамятного церковного избрания не поделился, пусть ученики его о том неоднократно пытливо спрашивали под разными благовидными предлогами.
И о слезах своих, всем видимым в тот достопамятный момент на исходе августа он неизменно отзывался с присущим ему всегдашним смирением:
— На все присное воля Божия, братья и дети мои…
С паствой публично и апостолически рукоположенный святой отец Аврелий Августин решительно постарался установить как можно более доверительные, благожелательные, благоприятные взаимоотношения. Потому что до того, как начать действовать в городе благовестно, он решил заиметь надежную мирскую опору у прихожан Павловой базилики.
Одним из немногих, кто не очень поддавался на его политичные усилия и тактичные старания оказался врач Эллидий Милькар, главенствовавший среди медикусов, кто пользовал отпущенника Оксидрака. Видимо, ученейший Эллидий, их общий старый знакомец по Картагу, никак не мог простить ритору Аврелию давнишний религиозный диспут, где был красноречиво посрамлен и опозорен перед всеми гостями сенатора Фабия Атебана.
Католическое правоверие Аврелия образованный и многоречивый доктор Эллидий смутным сомнениям, очевидно, не подвергал. Но одним лишь обликом даже в молчании пресвитер Аврелий ему постоянно, неприязненно и раздражительно напоминал о том досадном конфузе, когда молодой неоперившийся лекарский ученик потерпел позорнейшее, унизительнейшее поражение в дискуссии, постыдно не сумев отстоять истинную религию.
Больше чем с кем бы то ни было Аврелию хотелось иметь воистину добрые приязненные отношения с истовым католиком — лекарем Эллидием. Врач он многознающий, решительный, по-хорошему, в подлинной христианской любви очень безжалостный к человеческим немощам, недугам и отвратным расслаблениям людской слабосильной натуры.
И, что немаловажно, человек он прямодушный. Что ни говори, высокочтимый пройдоха Оксидрак умеет разбираться не только в индийских драгоценных камнях, но и в людях. Потому и услышал от искреннего Эллидия о своем полном физическом выздоровлении и невозможности дальше брать несусветные деньги за лечение того, чего уж нет.
Натурфилософский и физиологический подход к доктору Эллидию православный пресвитер Аврелий вполне отыскал на октябрьские иды, когда ему подвернулся под руку труп разбойного еретика агонистика. Убитого в схватке разбойника с вытравленным на лбу знаком креста легионеры привезли в город для опознания. А затем оставили на религиозное усмотрение епископа Валериуса, чтоб тот либо распорядился похоронить мертвеца по-христиански в освященной земле, либо выбросить вон за городские стены этого дважды крещеного мерзавца куда-нибудь прочь падальщикам на поживу.
Епископ же перепоручил принятие соответствующей обрядовой меры пресвитеру главной городской базилики. Причем прямо сказал: мол, заранее одобряет любое его решение.
Отчего мертвое тело должно быть благочинно предано земле Аврелий не сомневался, как и в том, что прежде его должно использовать в физиологических научных целях. Раз доктор Эллидий без стеснений предъявляет себя рьяным сторонником и поборником анатомической науки, предполагающей рассечение, разрезание и вскрытие человеческой начинки, то тут ему и острый хирургический нож в руки.
Спрашивается, если погибший был богомерзким смутьяном, то чего воздыхать и стенать над вражеским трупом? Лучше отнестись к нему, как к врагу, с любовью… к новым познаниям и к мудрости. Вернее сказать по-гречески: с физикой и физиологией.
Как скоро христианская любовь нашему недругу чисто физически уж без надобности, то добрый доктор телом и душой нам еще пригодится. Пускай и приступает с восходом солнца к этой отвратительной разрезательной анатомии…
Искусительным, скоропалительным предложением преподобнейший Аврелий поразил, покорил ученейшего медикуса Эллидия, конечно же, слышавшего о неприкаянному кадaврe и наверняка мечтавшего бесплодно, как бы его половчее выпотрошить. И тут на тебе! Поторопись, покуда наш дражайший покойничек совсем не протух…
В красноречивых выражениях пресвитер по-натурфилософски не стеснялся и своевольно пожелал присутствовать при научном разрезании. Тем часом могучий диакон Турдетан, следил за тем, чтобы двум умнейшим гиппонским мужам никакие суеверы-невежды не помешали достойно проводить физиологические исследования в кладбищенской часовне.
Так-то вот, и никак вам иначе! Видимо всем и невидимо.
— …Вот посмотри, Аврелий, на эти два толстых беловатых тяжа, идущие от глаз в мозг. В точности, как описывал великий Алкмеон, все основные человеческие чувствования располагаются в голове: зрение, слух, обоняние, вкус. Уверен, что осязание человека тоже определяет головной мозг, если те же связи расположены по всему телу.
Алкмеон из Кротона называет голову вместилищем умственной рассудительности, если она непосредственно исходит от пяти органов чувств. Оттого ум, воспринимающий идеи, какой-то материальной частью находится в хорошо защищенном костяном черепе, куда ведут все эти чувствительные пути.
Платон Афинский правильно, идеально оценил это величайшее открытие, потому что, говорят, не раз наблюдал за работой анатомов. Но Аристотель признавать его не захотел. Возможно, Стагирит никогда и не видел внутренние исследования тела человека. Воистину, голова не тыква!
Разобравшись с еретической головой и лицом, какое он ловко срезал, будто приросшую театральную маску, доктор Эллидий взялся воодушевленно разделывать и свежевать другие члены тела, не хуже заправского мясника на рынке.
Аврелий даже чуток позавидовал увлеченности и блаженной улыбке ученого лекаря, кому, выходит, нужно столь мало для истинного счастья. И к нынешнему соучастнику и собеседнику он теперь обращается, словно к закадычному стародавнему другу:
— О взгляни, мой преподобнейший Аврелий, сколь прекрасны и таинственны человеческая печень и селезенка, выделяющие основные человеческие жидкости и соки! Знай, от их правильного сочетания и пленарного количества зависит здоровье каждого человека!
Вдохновленный Эллидий поочередно вырезал из корпуса, из утробы, показывая невозмутимому Аврелию различные внутренние органы человеческого тела. Со знанием дела объяснял, раскрывал их работу, какие такие жидкости и элементарные силы: холодные и горячие, сухие и влажные, кислые и соленые, горькие и сладкие — они производят.
Урок открытой анатомии продолжался без малого два часа, пока не пришел Турдетан и утробным басом не доложил, что могила в глухом углу у кладбищенской ограды вырыта, а его преподобию пора переодеваться к ранней обедне. Судя по тому, как диакон воротил нос и взгляд в сторону, он вовсе не разделял историческое мнение кесаря Вителлия, будто труп врага хорошо пахнет и прекрасно выглядит.
Аврелий заставил Эллидия сложить в кожаный мешок отдельные потроха и полуразобранный костяк. И оставил его в нагрузку старательно прибирать за собой сочные мясные ошметки и обрезки, подтирать кровь и другие трупные жидкости-выделения.
— …Здесь тебе не мясохладобойня, друг мой Эллидий, а христианская благочестная часовня Святого Киприана Африканского, — веско объявил пресвитер мирянину. — Надо бы и честь знать.
Затем диакон честь по чести завернул мешок с бренными останками еретика в белый саван, без натуги взвалил его на плечо.
После прихожане с благоговением передавали один одному животрепещущую приходскую новость, как преподобнейший отец Аврелий на пару с благочестивейшим диаконом Турдетаном с ночи усердно молились в часовне на приморском кладбище за спасение разбойной еретической души. А потом утром не погнушались самолично и благочинно совершить погребальный обряд, подобающе по-христиански милосердно захоронить в освященной земле тело нечестивого и злостного врага католического православия.
К слову сказать, благочинием и порядком на двух христианских кладбищах пресвитер Аврелий в общем-то удовлетворен и отчасти доволен. Еще в начале октября по примеру епископа Амвросия из Медиолана он категорически-красноречиво запретил пастве поить допьяна вином и до отвала закармливать нищих тунеядцев в святых местах погребения человеческого праха и ожидания плотского воскресения во Второе пришествие Христово.
Авторитетный запрет, живописавший и приравнявший разгульное кладбищенское винораспитие и кормление к языческим поганым извращениям, истово набожная паства встретила с пониманием. Остальным же, слабо или мнимо верующим, волей-неволей пришлось втихомолку смириться с погребальным распоряжением нового пресвитера, известного по всей Африке талантом боговдохновенного красноречия, книжной религиозной мудростью, неукоснительной приверженностью канонам безгрешной апостольской жизни и душевным неприятием разномастных противников Католической Церкви.
— Кому Церковь не мать, тому и Бог не отец!
Осмотревшись и освоившись в среде правоверных католиков благолепного Гиппона, пресвитер Аврелий понял, почему изначально ему следует расчесться с излишне многочисленными и активными приверженцами манихейских заблуждений вкупе с ложными гностическими верованиями. Ибо критикующему слову письменному надлежит стать устной речью в авторитетных и приоритетных вокабулах пастырского наставления на пути истинные и вселенские.
Дополнительно и обходительно ему самому политически, вернее, по-республикански, нисколько не повредит показательно, публично отречься от манихейства. Не зря ведь друг Эллидий по-прежнему иногда ощущает некоторую неловкость, время от времени невольно вспоминая о картагском манихейском прошлом нового друга Аврелия.
Причем необходимо также слегка укоротить злые языки тщетно и суетно верующих недоброжелателей, недовольных праведными строгостями святого отца Аврелия Августина.
Кое-какими потаенными мыслями о грядущем ниспровержении манихейства в Гиппоне Аврелий поделился только с Оксидраком, благополучно, с новыми агентскими полномочиями вернувшегося из Медиолана. Политичные замыслы пресвитера пришлись весьма по вкусу проныре отпущеннику и тот не преминул оказать каверзное негласное содействие изложенным ему таким благочестным стратагемам.
Итак, спустя нундины в ноябрьские иды иронические гиппонские квириты из числа закоренелых язычников-гентилей начали по нарастающей злоехидно подзуживать, насмешливо подстрекать известного манихейского проповедника-аскета красноречивого Фортуната и католического мужа праведного Августина на публичные дебаты по вопросам истинности или подложности их разноименных верований в Бога Единого.
Фортунат с Августином знаком еще по Картагу, открытой полемики с ним боялся до заикания и потому всячески изворачивался, отделывался, отговаривался, избегая заведомо разгромной и погромной дискуссии.
Притом их эристика, как настаивают почитатели многобожия, должна вестись под запись на публике. А что, среди прочего, философ и ритор Августин впоследствии может сотворить в письменной форме из этой их диалектики, доктор манихейства Фортунат хорошо себе представляет. Недаром же этого Августина так опасался сам знаменитый Фавст из Милевы?
Со всем тем, к полемическому противостоянию с католическим пресвитером признанного главу манихейства в Гиппоне все же принудили его верные сторонники, чувствительно оскорбленные и обиженные за их вероучение злоречивыми насмешками язычников.
Точно так же на пресвитера Аврелия наседали ревностные католики. Даже завзятые еретики донатисты глухо требовали от него, чтобы он отделил христианство как пшеницу Божию от манихейских плевелов, защитил истинную веру от превратных и смехотворных толкований Святого Писания, вызывающих обидные сатирические нападки язычников-гентилей.
Вот они оба — Августин и Фортунат — и встретились лицом к лицу пополудни на форуме в пристрастном окружении недоброжелательных свидетелей, постаравшихся верно записать всякое слово, ими произнесенное, и живописать каждое их красноречивое мановение рук и выражения лиц.
Впрочем, в еще большем количестве там присутствовали многочисленные ревнители католического православия. Они тоже правильно занесли, описали на восковых табличках, как Аврелий Августин в ораторском жесте вытянув средний и указательный пальцы в сторону противника, угрожающе опустив книзу большой, победоносно завершил итоговую критическую речь, триумфально доказав в продолжительной двухдневной дискуссии, что манихейство ничего религиозного не содержит, кроме элементарно извращенных языческих небылиц, синкретически бездарно заимствованных на Востоке у персов и индусов. Наряду с тем, манихейская, будто бы христианская монотеистическая словесность, как была, так и есть, останется не более чем приманкой для слабоверующих, легковерных и безобразно обнищавших духом познания истинной эпигностической Премудрости Господней.
В итоге опровергнутый и опрокинутый Фортунат в последнем слове, жалко запинаясь, не нашел ничего лучшего, как ответить, что ему, дескать, следует кое-куда съездить, посоветоваться с вышестоящими по рангу некими избранными и святыми манихеями-бодхисатвами. Чтобы потом доказать, насколько-де манихейское вероучение якобы основано на божественной истине.
В самом деле, потерпевший постыдное поражение Фортунат скоропостижно выехал из Гиппона и никогда больше в него не возвращался. Наверняка ему безрадостно сообщили, как немного спустя православный пресвитер Августин, благословенно выступив перед городскими магистратами, добился сурового запрета на проведение открытых молитвенных коллегиальных собраний гностиков-валентиниан и манихейцев города Гиппо Регия, а также дурно заразительных публичных бдений и радений манихейских аскетов.
Горе тем лжепророкам, кто поражает, совращает, заражает ложными верованиями, соблазняя малоумных, слабомысленных и слабодушных! Лучше бы и им, мерзким соблазнителям, в море искупаться с мельничным жерновом на шее…
В совокуплении с блистательной полемической победой пресвитера Аврелия епископ Валериус поручил ему читать прихожанам проповеди в Павловой базилике каждую седмицу в день Господень. Хотя это предстало неслыханным и небывалым новшеством в Африке, Аврелий не пытался его разубеждать, скромно отказываясь от предложенной чести.
Правоту честного епископа он признаёт, если человек, благоверно рукоположивший его в сан священнослужителя, сам-то нисколько не владеет даже самой примитивной латинской риторикой.
Допустим, у Валериуса Битона, выходца с Востока, точнее, из Киликии, родины Святого апостола Павла, достаточно пристойно получается обращаться к прихожанам по-гречески и на том же церковном языке совершать богослужения. Но здесь-то ведь Африка! Еще точнее, пунийская Нумидия, где издавна относятся с большим нехорошим предубеждением к грекам. То есть к презренным грекулюсам.
Тем более, сколь злоречиво уведомил Аврелия пройдоха Оксидрак, везде и всюду знающий что почем, порой и почему, у благочестивого гиппонского епископа лишь когномен римский, самозваный. На самом-то деле, здешнего предстоятеля католической епархии зовут Теоген Киликид. Его и ставил в епископы другой грек из Картага — святейший прелатус Аврелиус, ныне являющийся предстоятелем Африки с соизволения, вернее сказать, по произволу бывшего кесарского викария Кастория — язычника, политически предпочитавшего иметь церковные, экклесиальные дела с православными католиками, но только не с арианами или донатистами.
По второму пункту Аврелий также соглашался с Валериусом. Зачем именно новому пресвитеру стоит читать торжественные воскресные проповеди, а самому епископу смиренно вести службы, объясняется тем, что Валериус кротко надеется на привлечение в базилику, на примирение миролюбивых католиков и воинствующей секты донатистов. Аврелий тоже не против того, чтобы прекратилось это противоестественное противостояние, длящееся в африканской провинции чуть ли не восемьдесят лет.
Поскольку Валериуса возвели в священническое звание и епископское достоинство те, чье благочестие сектанты-раскольники не могут заносчиво отвергать в еретической гордыне, то и святость Аврелия Августина, в добавку знаменитого отшельнической праведной жизнью, они вынуждены признавать беспорочной и безукоризненной. К тому же пресвитер станет, естественно, проповедовать им на латыни, если по-гречески они ни «u», у-у не разумеют, не понимают, охломоны…
Греко-римские мотивы престарелого епископа Валериуса вполне понятны относительно молодому пресвитеру Аврелию. По-республикански взять, им в действительности ни к чему дополнительные сложности с дважды богохульственно крещеными разбойниками-агонистиками, если в Гиппоне местные донатисты более-менее законопослушны и далеки от того, чтобы магистраты их скопом объявили врагами всего нумидийского общества и всех африканских народов.
Жизнь в Гиппоне и в Африке, церковное служение Августина, его теологические труды продолжались на следующий год мирно и безмятежно. Вот чего никак нельзя сказать о западном доминате в целом, если в первый день майских ид произошла загадочная смерть юного кесаря и августа Валентиниана.
Высокородный муж Оксидрак, освобожденный от должностных агентурных поручений безвременной кончиной августейшего доминуса, неспешно отбыл в июле в столичный Медиолан. Назад вернулся он лишь по прошествии двух с половиной лет в феврале уже из столичного Константинополя по-новому в высоком чине и без промедления развил очень бурную религиозно-политическую активность.
К явлению сомнительно провозглашенного западным правителем полуязычника Евгения, нахождению рядом с ним закосневшего язычника, а именно, влиятельнейшего военачальника Арбогаста, активно замешанного, по слухам, в убийстве кесаря Валентиниана, магистраты Гиппона, — в подавляющем большинстве христиане, — отнеслись до крайности настороженно. Мало кому хотелось возвращения поганых времен богомерзостного Юлиана Отступника.
Поэтому призывы Оксидрака поддержать весомые претензии восточного христианского кесаря Теодосия на полный империум нашли определенное понимание. Невзирая на кое-какую вялую, неопределенную, но все же поддержку италийских гентилей викарием Африки, в Гиппоне внушительно постановили с апрельских календ не выпускать на Апеннины ни одного торгового корабля с зерном и маслом.
Очень немало Оксидраку помогли просветительские увещевания и убедительные ораторские доводы пресвитера Аврелия, выступившего с яркой речью перед гиппонскими декурионами. В победе законного восточного кесаря-христианина над западным язычеством Аврелий Августин был непреклонно убежден; обращался он к городским властям с подлинной апостольской и пророческой доказательностью.
Дополнительно тому способствовало письмо пресвитеру Аврелию от епископа Амвросия из Медиолана, за тридевять земель и несколько морей кружным путем доставленное Оксидраком. О его содержании проныра отпущенник мог лишь догадываться.
На августовских календах он вновь отправился в Италию. И скоро обернулся, вернувшись в сентябрьские иды, когда его уж обогнало известие о битве при Аквилее, где христианские легионы кесаря Теодосия наголову разгромили языческое воинство тирана Евгения и вероломного предателя Арбогаста.
С собой из Италии Оксидрак привез не какие-нибудь обновленные республиканско-имперские полномочия, а старого друга пресвитера Аврелия — центуриона Горса Торквата, получившего глубокую тяжкую рану копьем внизу живота во время ожесточенного столкновения с язычниками на реке Фригид в первый день сражения.
Смертельно раненого христианского воина вдвоем несколько долгих месяцев выхаживали, врачевали его душу и тело доктор Эллидий и святой отец Аврелий. И все-таки выходили, поставили на ноги к новой весне, все же последовавшей для Горса.
Божьим ли чудом или, быть может, благодаря их стараниям и знаниям у Горса даже сила стойкого мужества твердо восстановилась. Так что его молодая жена по весне смогла зачать второе чадо гиппонской фамилии Торкватов.
К тому времени Оксидрак Паллантиан успел снова съездить в Италию и чудесно воротиться с кесарским именным пожалованием отставному центуриону Горсу Армилию Торквату пятисот югеров масличных угодий и плодоносных виноградников, выделенных из личных родовых владений кесаря Теодосия Магнума в Нумидии. Щедро наградив верного соратника, кесарь и август всего римского домината Теодосий ушел из этой краткой жизни, отошел в иное вечное существование. Проще, по-земному говоря, величайший христианский доминус и принцепс скончался в январские иды наступившего нового консульского года.
В августе этого же года исполнилось четырехлетие пастырской жизнедеятельности Аврелия Августина, словно бы незаметно для него прошедшее в повседневных экклесиастических озабоченностях и неизменных умственных трудах. Время ведь мы замечаем, измеряем лишь по тем событийным изменениям, какие оно привносит в земную жизнь человеческую.
Над фундаментальной гипотезой о стабильности Божественного измерения времени Августин по-прежнему трудился. Вчерне завершил второе аллегорическое изъяснение к Книге Бытия, многое в нем выправил. И от рассуждений о времени деятельности Господней органично перешел к рассуждениям о себе. Отсюда зародился биографический замысел «Исповеди», начатой им от недавнего настоящего к отстоящему на сорок с лишним лет назад, далеко ушедшему прошлому.
За четыре года пресвитер Августин дважды сопровождал епископа Валериуса в Картаг на синодальные собрания африканских епископов. По итогам первой поездки Аврелий оформил свое выступление перед высокой коллегией клириков в виде трактата «О Символе Веры». В другой раз в африканской столице он удостоился назначения епископальным помощником-коадьютором святейшего Валериуса.
Предстоятель Африки святейший прелатус Аврелиус внял просьбе весьма пожилого гиппонского епископа, надежно обеспечив его молодым, энергично действующим заместителем в разнообразных и многотрудных епархиальных обязанностях.
И то сказать, последним крупным религиозно-политическим деянием прелатуса Валериуса, какое могли упомнить разноверующие жители Гиппона, было удаление из городского форума кумиров языческих богов-демонов много лет тому назад при кратчайшем империуме кесаря Иовиана. Напротив, в бытность его коадьютора, преподобнейшего пресвитера Аврелия, всякое публичное отправление изуверских культов язычников оказалось под полнейшим запретом.
Без исключений и изъятий святой отец Августин добился от магистратов всего Гиппо Регия и окрестных земель, чтобы религиозные эдикты кесаря Теодосия Магнума и ограничения против язычества наистрожайше, ригористично действовали в полном объеме. Хотя не только по этой причине горожане начали понемногу воспринимать пресвитера Аврелия, как главенствующего в католической епархии Гиппона.
Более всех тому содействовал никто иной, как прелатус Валериус. Вовсе не напрасно он доверил чтение пастырских проповедей молодому коллеге, исподволь, мало-помалу приучая прихожан к мысли о неоспоримом единоличном авторитете отца Августина. Он не скрывал своей мечты поменяться с ним местожительством. Ему, дряхлому старику Теогену, отправиться на покой, на монастырское житие в сельской аркадии. Тогда как доблестному мужу нумидийскому Аврелию, находящемуся в расцвете зрелых сил, экклесиально переселиться в резиденцию католического предстоятеля Гиппона.
Опасался архиерей Валериус и того, как бы деятельного пресвитера, неустрашимого проповедника и знаменитого церковного сочинителя Аврелия, приносящего славу Гиппонской епархии, вдруг не переманили на какую-нибудь свободную епископскую кафедру в Нумидии или же куда-нибудь еще дальше в этой варварской Африке. Оно бы так и сталось в прошлом году стараниями и уговорами епископа Мегалия из Каламы, предлагавшему исконному гетулийцу Аврелию предстоятельские митру и мантию на беспокойном южном лимисе в Тамугади или в Тевесте. Но тому помешало тяжелое и неудачное ранение варвара Горса, едва не сделавшее могучего северного воина полумужчиной. Не приходится и говорить, чтобы просто так бросить его немилостиво помирать от увечий и душевных мук.
Теперь центурион Ихтис опять в самочувствии здоровее некуда, вновь плавает, ныряет как рыба. И упражняется, практикуется в боевом искусстве в содружестве с пресвитером Аврелием в уединении, на удалении от досужих глаз и злых языков на африканском берегу.
Скажи на милость, уезжать от цивилизованного морского средиземья в дикие горы? Ну уж нет! Дудки!
К примеру, Турдетана можно взять с собой на дальний юг — друг Скевий прикажет, старикашка Теоген не откажет. Но где найти такого изобретательного и предприимчивого помощника по политической части, как хитроумнейший Оксидрак Паллантиан? Горс Торкват вообще незаменим, если, насколько уверяет наш прохиндей, вскорости получит назначение примпилом портовой стражи и военных моряков Гиппона.
В то же время праведный муж Эводий даром засиделся бездеятельно в Тагасте. Пора бы его здесь рукоположить в пресвитеры. Пускай по старой памяти займется практической политикой безопасности в нашей экклесии помимо прямых церковных обязанностей…
Суммарно поразмыслив, Аврелий пришел к арифметическому выводу, что ему вовсе незачем менять место пастырского служения, если сумма его теологии от того не изменится, зато кое-какие слагаемые светского и республиканского окружения претерпят далеко не лучшие критические пертурбации. Многое в этой жизни изменяется наихудшим цифирным образом от перестановок, прямо и косвенно.
И впрямь, за кризисом следует лизис, говорят медики. Но оптимальнее по возможности избегать лишних ранений и никому ненужных болезненных травм.
«Разве блаженство состоит в том, чтобы быть терпеливо несчастным?»
Всяческие человеческие страсти и страдания способна оправдать лишь высшая духовная цель, чтобы там ни утверждали еретики донатисты в их лжеименном и предвзятом ригоризме раскольников. То есть схизматиков, определимся по-гречески.
Достоименно, из крепкого, сильного верой православного Гиппона предопределенно удобнее, способнее католически бороться с ересями и врагами святой, единой Aпостольской Церкви на Западе и на Востоке.
«…Опровержение еретиков ярко освещает мысли Твоей, мой Господь, Церкви и содержание ее здорового вероучения. Надлежит быть и ересям, дабы объявились испытанные среди слабых…»
Оттого Блаженный Августин не имел тактических возражений в малом во имя большего, принял к стратегическому ведению полномочия епископа-коадьютора. И впоследствии не посягал отрекаться, слагать митру полноправного предстоятеля христиан Гиппо Регия, каким бы ни было спорным его возведение в сан епископа при наличии здравствующего предшественника.
Данное неизбежное возвышение в церковном чине пресвитер Аврелий предвидел заблаговременно. Потому соответственно к нему подготовился, когда спустя год в Гиппон съехались предстоятели православных епархий из Каламы и Константины, чтобы посовещаться с немощным Валериусом, дождаться прибытия морем епископов из далеких мавретанских епархий Картенны, Типасы, западного Икосия и далее отправиться на восток в Картаг на синодальное собрание высших пастырей католического православия в Африке.
Аврелий нисколько не протестовал в то время как при большом стечении радостной и ликующей паствы в Павловой базилике его чересчур славословил, чрезмерно превозносил Валериус, попросившийся в почетную отставку у православных братьев и сестер. Не возмущался он и в течение церемонии возложения на него трехрогой пурпурной епископской митры и передачи золотого кольца епископа, какую торжествующе совершил достопочтеннейший Мегалий Каламский.
Весьма красноречивое недоумение и плохо скрытое возмущение новопоставленный епископ Августин Гипппонский выразил дражайшим коллегам несколько позднее в узком кругу, не на публике, перед обедом. Он указал им на то, что они пренебрегли постановлением вселенского собора в Аквилее, дословно и безусловно воспретившего передачу сана епископа кому-либо при живом предстоятеле епархии, причем отнюдь не отлученном с анафемой от Церкви Христовой.
Порядком смутив полдюжины епископов, было приготовившихся отменно и сильно отобедать в гостеприимном достославном Гиппоне, его новый церковный иерарх сменил гнев на милость. Он взял со всех присутствующих единодушное торжественное обещание на соборе в Картаге, куда они направляются, в особом решении упорядочить процедуру возведения в сан африканских предстоятелей Католической Церкви. И только потом, благожелательно улыбаясь, пригласил пресвятейших гостей к столу.
«Разве не искушение жизнь человека на земле всегда и всюду?..»
КАПИТУЛ XXV
Год 1151-й от основания Великого Рима.
3-й год империума Гонория, августа и кесаря Запада. 3-й год империума Аркадия, августа и кесаря Востока.
Год 397-й от Рождества Христова.
Гиппо Регий в проконсульской Нумидии. От июльских ид к декабрьским календам.
Функционально и рационально епископ Валериус готовил ему достойного местоблюстителя и преемника на протяжении трех лет. Очень многое он поступательно передоверил Августину, последовательно отходя от светской политической суеты, загодя предвкушая преспокойную монастырскую жизнь.
Валериуса почти все устраивало, в монастыре, организованном отцом Аврелием. И более всего, книжные, поистине апатические и квиетические занятия братьев книжных монахов, инструментально вдали от мирских беспокойств, сохраняющих и преумножающих письменную премудрость в иноческой обители, поименованной Новый Органон.
Со своей стороны и Аврелий не очень возражал, чтобы к нему ступенчато, с большего помалу переходили во множестве епископские организаторские озабоченности. Потому как не слишком гладко и скорострельно у него выходили, получались новые писания и сочинения. Ибо для качества, величины, величия и количества написанного наиболее необходима соответствующая и сообразная органичность.
Требовалось немалое время на организацию, осмысление и поиски формообразования пяти-шести проникновенно задуманных им больших многописьменных трудов. Между тем черновые наброски, к слову, тех же исповеди-проповеди и за ней буквального комментария-шестоднева вовсе не представлялись ему верхом правдивого совершенства, доказательности, убедительности.
И то и другое до него пытались совершить, сочинить, воспроизвести, представить на суд читателей не раз и не два не один из христианских церковных писателей. Гораздо того, истинная религиозность и благие намерения большинства из них у Аврелия не вызывали вопросов. Недоумения и недоразумения, нарекания производит лишь то, насколько им удалось отстоять религиозную истину и критически опровергнуть ложь врагов Бога истинного.
Если в двух трактатах против манихиев он слишком увлекся иносказательным толкованием Святого Писания вселенского христианства, то ныне ему предстоит задача подвергнуть аргументированной критике не в пример более опасные и зловредительные измышления еретиков донатистов и пелагиан в прямом и переносных смыслах буквы и духа.
Проще всего в кичливом самомнении отрицать, отрекаться безоглядно, отделяться без обиняков, отмежевываться в огульном критиканстве всего и вся вне серьезных раздумий. Не в пример труднее вдумчиво утверждать, не зарекаясь, не заговариваться, зарываясь в полемическом буквальном словопрении. И производительно добиваться того, когда б твои оригинальные мнения и частные взгляды смогли разделить другие, сделав духовную истину общим произведением, суммой, итоговым достоянием писателя и его читателей.
Кто это станет читать? — некогда не без горькой патетики далеко не сатирически вопросил Авл Персий. Видимо, этому поэту-стоику совсем не казалась незыблемой убежденность римского прокуратора Понтия Пилата, утверждавшего, что написал, то и написал.
Или же так захотел, пророчествуя, высказать необходимость евангельского писания Иоанн Богослов? Может статься, на эти пророческие слова святого автора истинно подвигнул, вдохновил Дух Божий, производственно подтверждая явление Иисуса Христа, как царя иудейского, вернее, в смысле властителя и неба и земли?
Пророчествовал также Овидий Назон, поэтически верно заявляя, что в нас есть Бог. Меж тем о божественном исхождении поэзии много рассуждал, говорил и Платон Афинский, у кого, очевидно, почерпнул эту литературную идею римский поэт.
Отчасти тому подобные мысли разделял в ту пору и Блаженный Августин Гиппонский, дожидаясь прихода вдохновения свыше, если он о том непрестанно просит Бога направить его размышления, укрепить осмысление в литераторском познании бытия. Так как всякий творческий генесис есть происхождение в развитии, дарованном человеку в вышних от райского Древа Премудрости Господней.
Оттого-то Аврелий Августин и не мудрил лукаво, не помышлял как-либо ханжески отказываться, лицемерно открещиваться, увиливать, уклоняться от постепенного перехода к нему всей полноты прав и обязанностей пресвятейшего епископа католической епархии нумидийского города Гиппо Регия. После выхода в свет доказательно победительного, в общем мнении, опуса против Мани с письменными трудами можно и погодить кое-какое уместное время для наступления воистину совершенного богодухновенного часа.
Да свершиться истинно!
Окончательно и экклесиально поменявшись местами с епископом Валериусом, епископ Августин взялся творчески обустраивать епископальную резиденцию и перестраивать отношения архипастыря и паствы.
Против публичных ожиданий, нового большого строительства он не затевал, что многие предполагали. А внешнего и внутреннего убранства довольно поместительного епархиального домуса, атрия и прилегающего сада фактически не менял.
Поначалу вся обстановка в доме осталась прежней по факту и обыденным актуалиям святейшего прелатуса Валериуса. Разве что новый гиппонский предстоятель тотчас приказал пожертвовать домашнюю серебряную и золотую посуду на нужды церкви, заменив ее на глиняную и деревянную. Только серебряные ложки и вилки Аврелий оставил в обеденном столовом обиходе.
Потом ступень за ступенью в латинской градации последовали другие изменения и новшества. Спустя пару нундин в домусе епископа не осталось ни одной старой или молодой женщины из так называемых религиозных диаконисс. Скопищу гречанок и сириянок, окружавших женскими заботами престарелого Валериуса, отец Аврелий мягко, но непререкаемо предложил переселиться в отдельную сестринскую общину в бывший дом пресвитера Эводия.
За ним, кстати, сохраняется право на домовое владение. Тем временем добровольческими осведомительными услугами столь ревностных душой, телом зорких и говорливых прихожанок святой отец Эводий по-прежнему благоусмотрительно пользуется.
Как говорится, вольному — воля, спасенному — рай в безгрешной плоти… Будь некто мужчиной или женщиной, в вечной жизни данный вопрос богословски разрешается бестелесно во благовремении…
Неволить никого епископу Августину нет нужды. Никто перечить ему не посмел. И выделил он нескольким старым ведьмам, злоязычным приживалкам Валериуса, сполна денег на дорогу, буде кто пожелает возвратиться на родину на Восток.
Еще ожидалось, что распорядительно и самовластно домохозяйствовать у него в доме быстренько примется родная сестра, незадолго до того овдовевшая и переселившаяся в Гиппон, пожертвовав все имение и достояние церкви брата. Однако этого не случилось, и набожной вдовице Юнии удалось получить доступ в епископскую резиденцию не далее атрия и левого таблина для посетителей, где прелатус Аврелий у всех на виду разговаривает, общается благопристойно со всеми особами женского состояния.
Домашних рабынь в доме пресвятейшего прелатуса Аврелия также ни одной не стало. Тех из городских рабов, кого не освободил старик Валериус, он бескорыстно отпустил на волю.
Также новый предстоятель гиппонской епархии великодушно обратил в колонов сельский эргастул во всех церковных имениях с выплатой всего лишь благотворительной десятины и первин деньгами или урожаем в натуральной форме. Ведь другие владельцы земель, бывает, требуют от своих поселян и треть, и половину от выращенного.
Ту же церковную десятину пресвитер Гонорат, придумавший такое умнейшее новшество, берет с ремесленников-операриев, какие работают под епархиальным договорным покровительством. И здесь так же, как и в случае с колонами, в срок удается получить урочными деньгами больше с зажиточных, чем с неимущих, хотя и не сразу.
Состоятельно таковая благотворительность допустима, коли у Церкви Божией есть непременное время от века. Ибо конечные времена и сроки Господь никому не соизволил в тождестве сообщить, чтобы там ни утверждали отвратные еретики хилиасты, превратно-дословно, толкующие Святое Писание без малейшего тебе здравомысленного переносного понимания…
По монастырскому смиренному заведению в доме своем епископ Аврелий не подразделяет работу на мужскую и женскую, если всякий труд, идущий на благо экклесии, есть почетный долг ее членов. Тождественно, любое сотрудничество в большом или в малом у организованных мужчин получается лучше, чем у безалаберных женщин, когда б мужскому роду вздумается чем-либо понимающе, артистически озаботиться. За исключением детородного плодоношения мужчине физически и физиологически в силу разума доступно всяческое обзаведение. (Скажем по-гречески: экономически и экологически.) Поэтому всем пресвитерам да диаконам, кому выпала великая честь поселиться подле в одном жилище с епископом Аврелием, нашлись задушевные занятия по уму и по сердцу.
Понятное дело, почему услужливый диакон Поссидий Эпулон, как малообразованный, заведует домашним обиходом пресвятейшего Аврелия, начиная от приготовления пищи и заканчивая отдачей грязного белья фулонам в стирку. О большем сущеглупый и неречистый Поссидий не смеет и мечтать, если вместе с пресвитером Алипием перебрался из Тагасты в Гиппон.
За столом Поссидий помалкивает, в многоученейшие беседы не встревает. Но молча улыбается честолюбиво, почтительно принимая благодарность гостей за поварское искусство вольнонаемной прислуги, а также свои собственные немалые добросердечные старания с продовольствием.
Грешен так-таки наш старательнейший Поссидий в чревоугодничестве. Если не себя, так званых к обеду любит непомерно потчевать и тем несказанно гордится…
Гонорат же теперь экономно предпочитает угощать избранных сотрапезников разговорами в дружественном кругу. А на публике и при чужих боится слова лишнего сказать. Выходит, неуместное смирение, несообразная кротость суть греховны, если по обстоятельствам возникает нужда защищать истину в бесстрашной проповеди.
Алипий, как прежде, страшно мучается врожденной неспособностью к вразумительной начертательной книжной речи. Едва возьмет в руки стило и табличку, тут же его устное красноречие, увы ему, увы, превращается в форменное, вернее, бесформенное письменное косноязычие.
Однако за столом он воистину вдохновляется едой, питьем, благожелательным общением. Потому очень удачно нашего милого Алипия осенило назвать новые установления, писаные и неписаные правила в доме гиппонского епископа святым братским орденом в малом коллегиальном минимуме. Или, берем по-гречески, микрокосмосом в душевном микроклимате.
Действительно: получается духовный орден-порядок в душеполезном телесном приложении к хаотической людской повседневности, мало покамест отвечающей универсальной гармоничной реальности, благословенно и благодатно в конечном счете многомысленно исполненной Богом мерой, числом, весом.
Мысль суть семя Божие и зерно.
Божественный предопределенный порядок есть везде и во всем. Его надо лишь выявить и надлежаще оформить в человеческом разумении.
К примеру, все безоговорочно согласились, чтобы епископ благоразумно устанавливал условие, сколько киафов кальдума надлежит выпить за вечерней обеденной трапезой.
Но как же трудно поддерживать этот обусловленный порядок, добиваясь смиренного ограничения в столь малом! Пришлось во имя космического упорядочивания наказывать лишением одного киафа тех, кто вдруг заговорит дурно и негодно о ком-нибудь из отсутствующих. В то же время за возмутительные разговорные и просторечные клятвы провинившийся вообще лишается вина до конца обеда.
Подумать только! Малое наказание-епитимья подействовало настолько порядочным, орденским образом. Нынче можно ограничиться за обедом тремя-четырьмя киафами вина на телесную душу. Сейчас никто вам и не подумает возразить, возмутиться не то что вслух, но и про себя в невысказанной обиде.
Обуздать грешные плотские задатки и повадки человека есть великое дело образованного культурного правопорядка!..
Своеобразные орденские правила епископ Августин Гиппонский вводил, установил не только для окружающих его духовных лиц, но и для мирян, нуждающихся в пастырском наставлении. Чрезмерную простоту, вседоступность пастыря в светском общении он не одобрял, не поощрял. Следственно, никоим образом не разделял тому подобных демократических воззрений, например, благочестивейшего епископа Амвросия из Медиолана, своего достопамятнейшего крестителя.
Да пребудет с достойно усопшим в Господе святителем нашим милость Его и добрый ответ по скончании времен!..
Покойный Амвросий, — мир праху его, — дозволял к себе свободный мирской доступ из-за кроткого смирения, стремясь избегнуть гордыни, свойственной его весьма патрицианскому родовитому италийскому происхождению. Тогда как некоему Августину, родом из провинциальных куриалов, такое самоуничижение без нужды. Потому что епископу Гиппона гораздо важнее смирять собственную благоприобретенную или злополучную умственную гордость. А для того прежде всего надобно соблюдение неукоснительного порядка, распорядка, регламента и дисциплинарности, как им самим, так и теми, кто его окружает.
В бытность пресвитером Аврелий с видимым одобрением позволял беспорядочно заговаривать с собой по окончании богослужений и проповедей. Чем иногда докучно и бездарно злоупотребляли бесцеремонные слушатели и читатели, спешившие поделиться с автором некими просвещенными, просветленными мнениями о только что услышанном или ранее прочитанном.
Отныне для них установлено четкое время с часу до пяти пополудни. В эти строго и непреложно назначенные урочные дни и часы Аврелий обычно правит епископский суд, непосредственно общаясь с читательской паствой. Да будут выслушаны обе противоположности!
Как-либо иначе, в ином безграмотном качестве или праздном употреблении епископ Аврелий Августин ничего не подозревающих относительно того прихожан тогда не рассматривал и не принимал в неоценимом личном общении. Если не сами судящиеся и жалующиеся, прости, Господи, сутяжные стороны, то их потомство всенепременно станут его читателями.
Вот вам и фасты, мои дорогие кверулянты и сутяги, для сочинителя и писателя Августина, ищущего познавательного вдохновения где придется…
Он заинтересованно спрашивает — ему подробно отвечают. Причем поинтересоваться судья вправе чем угодно, поскольку только ему одному решать, что и как, с каким таким делом относится и соотносится.
Потому-то епископ Аврелий судебным пастырским делам отдает ценное время после прандиума едва ли не через день, исключая неприсутственные дни-фестивусы, редкие особые полуденные мессы и сравнительно частые дальние поездки предстоятеля православного, католического Гиппона и окрестностей по церковным надобностям или экклесиальным сношениям. Своим судом и подсудными ему проступками паствы новый епископ озаботился отличительно на памяти любознательных гиппонцев — в собственном городском большинстве христиан-католиков.
В противоположность очень утомлявшемуся судебным присутствием пожилому Валериусу, предстоятельный Августин с присущими ему интересом и вдумчивостью к многоразличным обстоятельствам какого-либо дела отнюдь не сразу отдавал на суд магистратов даже насильственные преступления. Мог и попросить красноречиво, убеждая городских судей, милостиво смягчить меру наказания для какого-нибудь бесспорного злодея, подлежащего законной каре.
Как скоро выяснилось, римские законы епископ Аврелий отлично, основательно знает и понимает. Да и помогающий ему пресвитер Алипий превосходно осведомлен в имперском законоустроении. Последний, — знающие люди говорят, — в самом Риме подвизался выдающимся и успешным судебным оратором.
В основном к ним двоим обращаются с имущественными и семейными несогласиями, спорами, склоками, сварами, ссорами. Сначала Алипий обстоятельно расследует то или иное обращение, докладывает о нем гиппонскому архипастырю. Засим назначается день и час для замечательного пастырского разбирательства.
К слову заметить, безгрешного Алипия, практически знать ничего не ведающего о семейственных пертурбациях и турбулентностях, зачастую очень смущают и конфузят заурядные брачные неувязки, плотские недоразумения, родственные раздоры под настроение или обычнейшее физиологическое недопонимание промеж супругами. Но тут Аврелий неумолим, непреклонно заставляя помощника предварительно выслушивать, дотошно, придирчиво выспрашивать как мужчин, так и женщин.
Понимать надо: здесь ему не церковная тайная исповедь, но публичное выяснение, кем и почему не соблюдаются христианские заповеди… Маловато станет что-либо просто сказать на исповеди и тем облегчить душу, если грешные тела находятся со времен прародительского грехопадения в том же физическом качестве и количестве супружеских или фамильных нестыковок, неурядиц.
Вскоре всем стало ясно, что чем-либо телесным привести в конфуз или в замешательство пребывающего в обетованном безбрачии епископа Аврелия попросту невозможно никому и никогда. Потому как он запросто может принять сторону мужчины или женщины, сколь скоро придет к необходимому непредвзятому заключению о правоте кого-нибудь из них вне различий и отличий мужского либо женского рода.
Ибо душа главенствует над телом. И психология, — уместно выразимся по-гречески, — вполне может являться свободным искусством. Порой получше иных либеральных наук душевное исследование выявляет общежитейские нравственные истины, видоизменяемые в каждой эпохе…
Много чего общего можно понять, выяснить и обобщить в частном судебном присутствии.
На первый предвзятый взгляд человеческая нравственность представляется хаотической и неуправляемой по преимуществу для тех, кто предубежденно не желает разглядеть в ней упорядочивание и управление, осуществляемые свыше. Для того и существуют от Бога судьи с правителями в общественной согласительной договоренности между людьми.
Та же семья, предназначенная для упорядоченного продолжения рода человеческого, есть заповедь, договор между людьми и Богом. Однако все заветное и согласительное требует сообразного приложения к действительности.
Действительно и достоверно: разрешение на развод супругов святой отец Августин не часто, но все же давал, отнюдь не походя. Оттого-то ни за что и никому у него не удавалось развестись для повторного брака любовной похотливости ради.
Примечательно: сладострастие и корыстолюбие большей частью доводят людские души до судебных разбирательств. Тем не менее данным греховным вожделениям, похотям вовсе не дано повсюду неудержимо править человеческими сообществами и мирозданием, если их удачно получается добровольно укрощать благостыней или принудительно угрозой дисциплинарного воздействия. А для вящего общественного спокойствия у несметного в веках потомства Адама и Евы, будь то в истинной вере или в ложных суевериях, угрожающе и запрещающе изначально встает страх Божий.
Как раз во время проведения судебных слушаний Аврелий начал учиться успешно распознавать подлинное благочестие или набожность, не совместимую с любым искусным лицемерием, лицедейством, умелым напускным ханжеством. Достаточно суметь провести границу между совестливой, часто безотчетной, душевной боязнью совершить греховный проступок и сознательным самоустрашением перед плотским возмездием за его свершение, чтобы определить степень виновности или правоту каждого, кто предстает перед духовным судом пастыря, апостолически наделенного правом отделять пшеницу Божию от сатанинских плевелов.
Правомерно епископ Аврелий Августин не дал разрешение на развод слишком ревностной прихожанке Акме Филена, беззастенчиво и бездоказательно объясняющей намерение расстаться с пожилым супругом, утратившим-де силу мужества и крепость чресел. Не очень-то зрелого годами святого отца Алипия бесстыжая матрона Акме привела в величайшее смущение, заявив, что она должна исполнить Божью заповедь и разродиться по меньшей мере двумя отпрысками от полноценного мужа с твердо стоящим пенисом. Не так ли?
Ан тебе нет! Если для отца Аврелия, довольно вразумленного прежним мирским существованием, ее эротические ссылки на Святое Писание совсем не прозвучали убедительными и утвердительными. Скорее плотское, нагло вопрошающее кощунство исходит из уст этой молодой женщины, наверняка осознававшей, почему ей понадобилось выйти замуж за богатого старика-вдовца из знатной пунийской фамилии Филенов.
Срамные, однако, у нее уста, что на лице, что в промежности… И настоящей набожности ни на медный обол…
Примерно такой вывод сделал епископ Аврелий из продолжительной беседы с доминой Акме, невозмутимо узнав от нее, какими, — позор объявить! Способами ее престарелый муж нынче добивается удовлетворения по-прежнему его обуревающего приапического вожделения. И по завершении собеседования недвусмысленно пожелал, чтобы нынешний супруг матроны, а именно достопочтеннейший доминус Септимий Гамилькар Филена и впредь долгие года пребывал в добром телесном здравии, кое присуще здоровому старческому возрасту. Будет вовсе прискорбно, коли его внезапно постигнет какая-нибудь безвременная и нежданная насильственная смерть.
Развратного старца, весьма охочего до любовных услад, Аврелий ничуть не пожалел, хотя прекрасно понимал, отчего Септимию осталось не так уж долго жить при такой целеустремленной соотносительно юной жене. Можно было бы заставить его дать Акме развод через суд магистратов, но епископ не пожелал использовать пастырский авторитет для столь низменной цели, как сохранение временной жизни этому язычнику. Притом высокомерно полагающему, будто поклоняться сонмищу древних богов-демонов следует только потому, что так поступали многие поколения его благородных пунических предков. Тогда как единобожие годится лишь низкорожденным простолюдинам.
Прошли месяц, за ним другой, третий… За это время с высокорожденным Септимием чего-либо летального или танатического, определимся по-гречески, не произошло. Зато Оксидрак разузнал, и Эводий подтвердил: Акме законно побывала замужем в Тисдрусе; за пять лет брака ни разу не забеременела, не рожала и овдовела бездетной девятнадцати лет от роду.
При этом ее первый муж, тоже бывши преклонных лет, безвременно, скоропостижно скончался при подозрительных невыясненных обстоятельствах, якобы отравившись грибами, наподобие кесаря Клавдия. Доказать ничего не доказали, но у Акме шесть лет назад имелась доверенная рабыня, старуха со знаменательной кличкой Микала. Весьма сведущая тессалийская знахарка, по словам тамошних жителей, отправилась к языческим праматерям, однажды неосторожно погибнув от отравления трупным ядом, видимо, во время приготовления очередного колдовского зелья.
Родом красотка Акме из хорошей гетулийской фамилии, живущей в Тисдрусе. Поэтому молодой вдове родственники без труда вскоре подыскали нового мужа — дважды вдовца Септимия из Гиппона.
Кто из них переживет друг друга, не только гиппонскому епископу Аврелию было изначально яснее ясного. Но хитрый старик Септимий, кого никто и не думал называть ополоумевшим глупцом, как мог умно оберегал насущную жизнь. Ему даже пищу готовили обособленно от жены и ее прислужниц.
Да и обедал он вместе с ней за одним столом только изредка, при знатных гостях. И любимого младшего сына — главного наследника — нарочито отослал учиться в Рим в бережном удалении от смертельно опасной мачехи-христианки.
Сколь ни опасался язычник Септимий за свою жизнь, но смерть его настигла самым неожиданным роковым образом. В июльские иды он выбросился вниз с плоской кровли домуса, сиганул стремглав в атрий и прямиком угодил в бывший мраморный постамент статуи то ли Гермеса, то ли Меркурия. Опрометчиво размозжил безумец себе череп.
Незамедлительно брат и старший сын покойного обвинили в преступном колдовстве и наведении домовой порчи свежеиспеченную вдову. Потому как скоропостижно обезумел не один лишь Септимий, вообразивший мифическую обувь в виде крылатых сандалий языческого божества, но и два его ближних прислужника. Пекуниальный управляющий из отпущенников возомнил себя тритоном и ночью уплыл, утонул в бурном море, отдал концы вдали от пристани. А раба в домоправителях, возомнившего, будто он героический Геркулес, под утро в клочья разорвал лев в зверинце амфитеатра.
У двух рабынь из поварни смертельные фантазии оказались попроще. Обе безумицы, одержимые беснованием, вообразились в тот вечер птицами небесными и насмерть расшиблись, спрыгнув с городской стены.
Третья служанка наутро то ли душевно взбесилась, то ли натурально озверела: безобразно мяукала, рычала, царапалась скрюченными пальцами, бесстыдно по-кошачьи вылизывала у себя волосатый промежный срам. Потом изо рта у этой бешеной кошки пошла белая пена, и она издохла.
Как выявило спешное расследование магистратов, больше никто не пострадал и с ума не сходил. Ничего преступного не показали и пристрастные допросы под пыткой домашних рабов несчастно преставившегося доминуса Септимия Филены, а также личных рабынь домины Акме. Для того их всех выкупили в собственность города.
Подозреваемую в тяжком магическом преступлении вдову Акме собирались уж было выпустить на свободу из-под стражи, принимая во внимание поручительство влиятельных сродственников, как дело взял в духовное ведение епископ Августин Гиппонский. Тут магистраты и вздохнули, выдохнули с невыразимым облегчением, избавившись от столь каверзного сложнейшего судебного казуса.
По делу или не очень епископ взял на голову немало тупой боли в затылке и тяжелых умственных мук. Однако оставить в небрежении, безнаказанным такое физически неявное, умно задуманное, хитро сокрытое преступление он никак не мог.
Он лично и налично не исключал кое-какой своей вины в смерти полудюжины человек. Пусть вам даже если б он расторг брак злодейки-колдуньи Акме с погибшим мужем, то она вряд ли бы на том угомонилась. И потом смотреть на ее постную личину во время проповедей в базилике явно свыше его сил. Лучше бы покончить с этаким ханжеским безобразием и несомненным фарисейством раз и навсегда.
Закрыть и забыть? Да и дело, говорите, с концом? Но со многими грязнейшими концами, прибавим… Далеко не во всяком сомнительном случае обвиняемые освобождаются от преследования.
Совсем разобраться с этим делом, так напоминающим некоторые риторские контроверсии и все же очень с ними несходное, значит начисто избавить религиознейшую вдову Акме от всяческих подозрений, полностью ее оправдав и выгородив. Такое ему наперебой советуют Алипий с Эводием в противоречивых благих намерениях.
Мол, из города она так или иначе после всего такого прочего, произошедшего, будет вынуждена уехать. Дескать, в добрый час к удаче, какая всем нам очень пригодится.
Мотивы первого советчика совершенно понятны, если для пресвитера Эводия вдовица Акме была и остается прекрасной угодливой осведомительницей. Второй же наш правовед ее попросту боится, как непотребной, никуда негодной коварной блудницы и малодушно почитает за благо размещаться от нее где-нибудь поодаль.
Имелась еще одна закавыка, вернее, загогулина, коль скоро Акме Филена не далее как полугодом ранее преднамеренно перешла в католическое православие из секты донатистов. При всем при том неустанно заявляет во всеуслышание, словно бы эдак благотворно на нее повлияли проникновенные проповеди пресвятого отца Аврелия Августина.
Притом сама досточтимейшая Акме Филена, как это ни прискорбно осознавать, ему безумно нравится пышными женскими статями и призывным естеством детородной женственности.
Тем часом Эводий с Алипием, да и весь орденский клир призывают, умоляют суровейшего епископа Аврелия Бога за-ради и для пущего церковного авторитета очистить набожную вдову Акме от гнусных наветов и клеветы злопыхателей, признать ее невиновной по всем пунктам фамильного обвинения. Пускай же сумасшествие нескольких пострадавших в фамилии гиппонских Филенов простейшим образом, буквально по Евангелиям, достоверно объяснить, будто бы в них вселились обычнейшие мелкие бесы.
К тому же въедливые, воистину психологические допросы, учиненные епископом Аврелием домине Акме и ее доверенным служанкам, каких-либо признательных плодов покуда не принесли. Трое женщин, — и это, стыд подумать, его сестры по вселенской вере! — все как одна, упрямо отрицали и отпирались, сколько бы их по-отечески ни увещевал пастырь сознаться в смертном грехе злоумышленного убийства шести человек.
Невзирая на то, отец Аврелий уповал и надеялся на Бога, на установленный Вседержителем естественный порядок вещей, где следствие непременно вытекает из предшествующей ему причины, а тайное становится явным.
По-видимому Господь и натурфилософия помогли выбраться епископальному расследованию из затемненного тупика. Так как ценную и светлую мысль подсказал Горс Торкват, под чьим надежным приглядом в портовой темнице находятся три подозреваемых ведьмы.
Оказывается, там у них на Понтийском севере варвары используют для выпечки хлеба сорное злаковое растение, какое здесь в Африке полагают пшеничными плевелами. На этом самом зерновом сорняке, случается, произрастают в колосьях категорически несъедобные темные рожки, посредством которых тамошние колдуны погружаются как бы в пророческие видения. Эти рожки северные волхвы сушат, растирают в пыль и в мельчайшей дозе подсыпают в медовое вареное питье. Кстати вспомнить, отварные ядовитые грибы отвратными галльскими друидами применяются в тех же гадательных богохульных целях.
Признаться, жуть измыслить, если тому подобную пакостную гнусь в отравном количестве добавить в еду! Господи, помилуй! О том ведь и Плиний и Гесикий предупреждают…
Ядовитую натурфилософию не замедлило подкрепить и судейское дознание, когда по воле Божьей одна из прислужниц Акме, основательно впечатленная рассказом святого отца Аврелия о грозящей ее душе и телу вечной смерти в виде бессчетного умерщвления, кое в чем призналась. Очевидно, смертных телесных мук она не боится, коли терпеливо сносит их на этом свете. Но вот реально обрисованная перспектива бесконечное число раз умирать во плоти в многоразличных болезненных способах, не слишком превысила ее приземленное воображение, чтобы устрашить разнообразием уготованной ей никогда непрекращающейся погибели в загробном мире.
— …Нет худшей и большей смерти, чем та, когда не умирает смерть, дочь моя и сестра моя…
От нее святой отец Аврелий и дознался о неизвестном темно-сером порошке, украдкой подсыпанном ею в хлебное тесто на хозяйской поварне.
Похожего по ее описанию гибельного порошка в доме, конечно, не нашли ни крупинки, ни пылинки. Но ведь его можно заново изготовить, тем самым проверив отравляющие свойства злаковых плевелов, вроде бы вызывающих одержимость.
Сказать гипотетически в физике означает удостовериться экспериментально. Медикус Эллидий, воспользовавшись целеуказаниями центуриона Горса, отыскал в пшеничном поле сорные злаки и те самые темные рожки в ржаных колосьях.
В присутствии глубокоуважаемых очевидцев из магистратов отравленным хлебом, сдобренным валериановым корнем, накормили бродячую кошку. Бедное животное пришло в такую ярую одержимость, что с пеной из пасти бросалось на месте в стороны и вверх на четыре локтя. Вероятно, кошке удалось бы подпрыгнуть выше и дальше, но длина привязи не позволяла. И сдохла она достаточно быстро.
Совсем так же моментально лишилась присутствия духа подозреваемая Акме, в беспокойстве наблюдавшая за медицинско-следственным экспериментом. Решив, будто бы проницательный от Бога епископ прорицающе вник в ее злоумышления, сейчас же прекратила запираться и созналась в содеянном хитроумном отравлении.
Она отлично и логично понимала, отчего в дальнейшем ей обязательно предстоят неслабые пытки. И в противоположность ей преданным, сильным духом рабыням, терпеть жестокие муки слабовольно не захотела.
Проникновенно подействовали на нее и неоднократные беседы со святым отцом Аврелием о предуготованной ее нераскаявшейся душе скорбной участи. По крайней мере именно в это ему очень хотелось участливо поверить.
Рабыням, как невольным сообщницам по принуждению, епископ Аврелий милосердно попросил даровать жизнь и свободу. А вот их хозяйку передал на однозначное обязательное правосудие магистратов. Его духовный приговор ни христиане, ни язычники оспаривать не посмели. Но досуже рассуждали о свершившемся пророческом чуде распознания богомерзкого ведьмовства извлекающим правду христианским предстоятелем.
После случая с отравительницей Акме Филена писатель Аврелий Августин впервые обстоятельно задумался о подлинном и мнимом благочестии, о том, насколько человек может быть исповедимо правдив перед Духом Божьим. Почасту ли в способностях и в природе человека имеется необходимость говорить чистую правду в нелицемерном общении с ближними и дальними? И, наконец, в состоянии ли большинство людей не лгать самим себе, исследимо, сознательно общаясь наедине с собственной личностью?
Что есть благочестие, а что — та набожность?
Сравнить хотя бы, противопоставить лицом к лицу две набожности на днях позорно казненной Акме и достопамятной Моники, не постыдно умершей в благостном окружении родных и близких. А ведь они обе одна к одной так порой были схожи в их женских, едва ли не плотских сношениях с Богом и священнослужителями Его…
Отрешенные размышления, без лицеприятия обнажающие истину, нашли воплощение в написанном. К декабрьским календам у епископа Аврелия Августина уже были вчерне готовы кое-какие связные наброски «Исповеди», снискавшей ему славу в веках.
«…Ты же, Господь мой, возлюбил правду, и тот, кто творит правду, приходит к свету. Я хочу творить правду в сердце моем пред лицом Твоим в исповеди, и в писании моем пред лицом многих свидетелей…»
Теперь Августин пребывает в полной вдохновенной готовности открыто исповедаться и представить на пристрастное прочтение публике свои самые искренние и чистосердечные писания об осознанном пути к обретению истинного и действенного вероисповедания.
Нисколько не изменив старой умственной привычке, писал Аврелий по вечерам. Утром же, с рассветом правил и дополнял начертанное продуктивно накануне на многих вощеных табличках. Так что, если пресвятейший прелатус время от времени не появляется на утреннем богослужении в домашней часовне, весь его орденский клир знает: на епископа вновь снизошло рассветное вдохновение. Его даже завтраком в эти святые часы стараются не отвлекать от рукописей.
С отдельными очень личными отрывками из «Исповеди» он предварительно ознакомил ближних и присных своих. Комментировать их всуе ради красного словца или никому не нужной лести никто не осмелился. Потому что проницательный пресвитер Алипий Адгербал полагает: чем дальше епископ Аврелий Августин уходит от повседневной общежительной суетности, тем ближе он становится тем, кто читает его творения и слушает проповеди.
Стало быть, священные часы духовного творчества предстоятеля Гиппонской епархии подлежат всевозможному охранению от мелких мирских досаждений и мизерных светских треволнений. И лучше всех этим требованием проникся неразговорчивый диакон Турдетан, самолично разрешающий, кого и когда допускать к архипастырю до полудня. Или же, кому из мирян добро пожаловать вечером к обеду, исходя из высказанных как бы между прочим пожеланий патрона.
Иным нельзя, возбраняется, другим же можно и нужно свидеться на закате дня с епископом Аврелием. Поэтому с диаконом Турдетаном нисколько не спорит пресвитер Алипий, официально занимающий при епископальной канцелярии Гиппо Регия должность секретаря-письмоводителя и агента по эклесиальным делам. Так как святой отец Аврелий всем из орденских сотрудников уделяет немалую долю доверительных близких отношений и долговременных, рассчитанных на будущее, дух захватывающих церковных замыслов.
Пожалуй, среди мирян, наибольшим доверием епископа и его свободным временем невозбранно пользуется примпил портовой и береговой стражи Горс, по военному прозвищу Ихтис. Явственно благоволит к этому варвару из венедов и неуступчивый ибериец Турдетан, который, бывало, отправлял восвояси высокородного кесарского мужа Оксидрака, не ко времени добивавшегося свидания с Аврелием в неприкосновенные дополуденные часы.
Пускай себе Скевий Романиан из Картага у них в любой момент является вовремя. При этом вмиг становится правильным исключением, подтверждающим недоступный другим рассудочный распорядок. Или же представляет весь собой высшее дружеское явление иного порядка…
Ход мыслей и красноречивых рассуждений друга Алипия друг Аврелий включительно понимал без слов. Жаль, коли тому, кто ясно мыслит, вовсе не всякий раз по силам изложить эту ясность вслух и поболе того — письменно. То, что у нас яснее ясного в мыслях на уме, отнюдь не всегдашним модусом проявляется на письме и на языке, как бы нам того ни хотелось.
Хорошо бы научиться, укрепляя письменность, упражнять языковые мыслительные способности! Подобно тому, как в постоянных упражнениях мы крепко-накрепко учим тело воинским искусствам, вот так обучаться и книжному красноречию… Scriptum peractum est…
Два, а то и три раза в седмицу перед закатом Аврелий отправлялся на берег Африканского моря совместно с Горсом. Им неизменно сопутствовал Турдетан. Нередко пресвитер Эводий и лекарь Эллидий, иногда торговец Оксидрак присоединялись к закреплению боевых оружейных приемов в отдалении от просто недопонимающих или предвзято недоброжелательных посторонних глаз.
Не пристало миролюбивым святым отцам кому-нибудь вчуже показывать, в каком облике они практически и физически воспринимают блаженство миротворцев, вселенски правомочных владеть духовным и материальным оружием. Кем и как их наречь, есть вопрос правоверия и благовестничества.
К сожалению, во имя святости сана епископа Аврелию Августину, доблестному нумидийскому мужу, как ныне непозволительно и неприлично посещать публичные термы. Вестимо, евангельская уединенная домашняя простота тоже пригодна для ежедневных оздоровительных омовений, изгоняющих прочь телесную скорбь летом и зимой…
На декабрьских календах епископ Аврелий Августин отдал в переписку и распространение монастырским братьям личный откровенный молитвослов «Беседы души с Богом».
«…Воспишу хвалу имени Твоему, Господи! Сотворив меня по образу Твоему, соделал Ты меня способным достигнуть такой славы, что могу соделаться сыном Божиим…»
Блажен муж умиротворяющий…
В конце того же года епископ Августин Гиппонский принял серьезное миротворческое решение полностью искоренить в Африке ересь донатистов и безусловно присовокупить заблудшие души церковных раскольников к православной католической экклесии. Да будет так!
КАПИТУЛ XXVI
Годы 1152-1153-й от основания Великого Рима.
4-5-й годы империума Гонория, августа и кесаря Запада. 4-5-й годы империума Аркадия, августа и кесаря Востока.
Годы 399-400-й от Рождества Христова.
Гиппо Регий в проконсульской Африке зимой и летом. Однажды весной к югу от Константины.
Несколько лет кряду историю и предысторию африканского донатизма епископ Августин Гиппонский час к часу изучал подробно, досконально в показаниях свидетелей и в письменных документах, сколь это было в его возможностях. Вполне рационально, логично ересь донатистов он вывел из остатков захиревшей секты картагских тертуллианцев, воспрянувших духом в эпоху мучеников.
Иными словами, эти еретики безмерно расплодились, чрезмерно широко распространились за девять десятков лет со времени жестоких гонений на христианство, предпринятых безбожным кесарем Диоклетианом в 1056 году от основания Великого Рима. Так из малозначительной кучки захолустных доморощенных монтанистов вырос раскол. Или же, определимся по-гречески, схизму политически учредили восемью годами позднее на том скандальном синодальном собрании епископов в Картаге.
Основным подстрекателем, закоперщиком у раскольников выступил амбициозный епископ Донат из Касанеграса. Вот по имени того треклятого ересиарха, ярого низкопоклонника спорных писаний Квинта Флоренса Тертуллиана всех африканских схизматиков и сектантов со временем принялись именовать донатистами. Достоименно и заслуженно осужденный еретик Донат умер в северном изгнании после того, как его уклонение от правоверия вселенски изобличили западные и восточные епископы в Риме. За пределы Африки политическая крамола донатизма покуда не вышла и прозелитов не нашла.
С новой силой здешнее раскольничество возобновилось в годы империума кесаря Юлиана Отступника. Сегодня же оно бесспорно усугубляется республиканским мятежом в Мавретании, откуда на восток в Нумидию в угрожающей правопорядку численности откочевали вооруженные кoмaрки самых бесноватых донатистов, кичливо называющих себя греческим словом «агонистики», то есть способные к борьбе.
Или даже, — вы только подумайте! — в облыжном самомнении непримиримые еретики присваивают имя воинов Христа.
В то время как нумидийские поселяне-язычники давным-давно метко прозвали их по-латыни киркумкеллионы, то бишь бродящие вокруг клетей, когда б переводить это наименование на аттическое наречие. В общем: бродяги, сброд, алчно рыщущие у съестных припасов сельских жителей. Теперь же, требующие прокорма разбойно, нагло, с воинским оружием в преступных руках. Знаком креста лоб себе кощунственно клеймят…
Вот к чему порой приводят прекраснодушные измышления крамольных еретиков-ригористов, веками противопоставляющих христианство великоримскому империуму, сумасбродно смешивая духовное и телесное наподобие картагского пресвитера Тертуллиана, преданного анафеме, отлученного от правоверной Церкви Христовой за твердолобую приверженность старинным азиатским ересям монтанизма, хилиазма, новацианства.
Исстари эти еретики-диссиденты, где бы они ни объявлялись, ригористично отрицали, — увы, продолжают в том упорствовать, — богоданные способности и таинства Апостольской Церкви. Не воспринимают они ее полномочность, в благовестии учрежденную Святым Петром, отпускать грехи душевного тела человеческого. Хуже того, последователи самодельного африканского тертуллианства бездушно и бездуховно тщатся подвергнуть материалистическому отрицанию безусловное апостолическое правопреемство, вовек позволяющее в рукоположении совершать церковные таинства. Они по сю пору отвергают абсолютную возможность благодетельного прощения всякого раскаявшегося грешника и пребывание его в исправляющем лоне церковном.
Таким греховным образом строптивый епископ Донат, его тогдашние приспешники, нынешние поборники донатизма отказались и доселе отказываются признавать историческую правоспособность священства предстоятеля Нумидии епископа Кекилиана. Отколовшись от католического православия, домогаются крамольники распространить заразу сепаратного раскольничества. Историки пишут, что при кесаре Константине Магнуме африканских епископов-схизматиков набралось аж 270 строптивцев.
С тех пор здешние раскольники-сепаратисты безосновательно и голословно утверждают, будто бы святого отца Кекилиана, рукополагая, возводил в священнический чин недостойный клирик Феликс из Аптонги, якобы публично отрекавшийся от христианства в эпоху мучеников, какой воистину стал империум богомерзостного Диоклетиана.
Ну так что с того? Беспочвенно обвинять проще простого; сложнее доказать и обосновать вину. Ибо Промысл Божий продвигается в христианской эре Иисуса Спасителя от ничтожного и греховного к великому и безгрешному.
К мысли будь спрошено, кто из вас не без греха, лицемерящие фарисеи и ложно измышляющие книгописцы?
Не сами ли еретики, иже с ними пресловутый писчий книжник Тертуллиан, вовсе не благовестно до сих пор материалистично противопоставляющие Церковь Божию и Великий Рим, повинны в том, что вызвали гнев, разожгли негодование кесарской власти? Уж не те ли преступные и мятежные еретические измышления послужили причиной Диоклетиановых гонений?
Богу — неизменно богово, тем временем существующим властям преходящим надлежит отдавать кесарский денарий и рыбий статир храмовой подати. И не более того кесарям и первосвященникам следует в непреложном Провидении Господнем и предначертанном Предопределении Его.
Существование ересей в христианстве Господь Вседержитель предопределил исторически, если сам апостол Петр в трусливом естестве людском трижды бесчестно отрекался от Учителя своего, а недостойный ученик Иуда предал Сына Божия, рукоположившего его в посланники Господни. Предпосылки любых ересей естественны; они по существу заложены в самой событийной природе человеческих умствований, отвратившихся от неизменной истины Божией вследствие грехопадения и высокомерного ослушания. Лишившись бессмертия от плодов райского Древа Премудрости Господней, ветхий грешник Адам утратил и предвечное духовное познание, а несчастное потомство его обречено с той поры на познавательную деятельность по преимуществу в телесном изменчивом измерении. Оттого всякая ересь есть неправильное, неправомерное, несоизмеримое совокупление требований духа и тела. Поскольку любое ложное вероучение придает материальным сущностям излишнее, чрезвычайное значение в сравнении с потребностями духовной материи, движущей каждое материальное тело, оно несообразно правдивому порядку Божиему, гармонично исполненному мерой, числом и весом.
Еретикам недоступно, сколь-нибудь правомерное, разумное, премудрое буквальное толкование вероисповедания в совокупности с образным иносказательным пониманием сложнейших явлений духа и плоти. В том или ином безбожном соображении являясь избыточными материалистами, они по правде говоря лишены пророческого дара в Промысле Господнем. Их мнимые материализаторские пророчества чаще всего лживы, как выдумки плотского воображения, где уродливый переизбыток чего-либо частного переходит в недостаток общего разумения и умопостижения.
Что есть исторический вековой генесис христианства как не изобличение и разоблачение безбожных ересей?
Не счесть сколько раз неразумные еретические вымыслы опровергались правдолюбивой историей, а также предопределенным Вседержителем деятельным возделыванием, иначе скажем, плодоносящим развитием культуры времен и веков человеческих. Прошлое ересей сплошь заполнено бесплодной ложью, будущее им непостижимо, а настоящее есть потерянное всуе время в безумных умствованиях, когда погрязшие в химерических фантазиях фальшивые и тщетные вероисповедники скудоумно не понимают ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают.
В какой-то мере с наличием ересей и ложных правил веры можно кротко смириться. Ведь и все еретики читают, чтят, почитают Святое Писание; отщепенцы они суть только лишь вследствие земнородного понимания и натуральной недостаточности телесного зрения. Между тем дарованное всем людям от веры в Царство Небесное истинное духовное видение, они наособицу отвергают, так как бездарно настаивают на своем и отстаивают вопреки общей истине обособленные частные мнения.
В общественном виде ереси, еретические понятия, понимаемые во взглядах инакомыслия и разномыслия либо следования отдельным неправильностям вероисповедания, допустимы лишь до той черты и дозволительны только в той степени, доколе они не перерастают в церковный раскол. Ибо Католическая Церковь в православном образе Тела Христова должна быть всеедина.
Один Христос, одно крещение!
Как таковые разъединяющие верующих внутрицерковные ереси не слишком опасны; они легко преодолимы, как скоро им не пособничают, не способствуют, их не подпитывают власть имущие. Вот и арианство без внешней политической опоры империума в целом сходит на нет, оставаясь уделом недоразвитых северо-западных варваров.
Но южной Донатовой ереси и подавно стоит по-республикански опасаться, если она может стать прообразом отвратного религиозного казуса, предвосхищая глобальный раскол вероисповеданий между католическими церквями Востока и Запада. Ведь соседние с европейской Африкой египетские земли принадлежат уже Азии.
Совершенно иначе складываются, сцепляются каждодневные мирские события, когда носители и промыслители ересей в политии противовосстают подлежащей власти Великого Рима, чем второй год злокачественно промышляют злобствующие неуступчивые донатисты в комплекте с оголтелыми упрямыми киркумкеллионами-агонистиками…
Разоблачать политическую и вероисповедальную ересь донатизма пресвитер Аврелий убедительно начал пять лет тому назад, красноречиво выступив на синодальном заседании апостолических епископов в Гиппо Регии. Этой коллегиальной чести он удостоился в качестве выдающегося автора богословского трактата «О святости Католической Церкви», во многом определившего отношение правоверных христиан Африки к еретическим заблуждениям раскольников, несовместимых с истиной общественного благочестия.
С другой же стороны, внимание, проявленное африканскими епископами к начинающему пресвитеру, объяснялось тем, как он красноречивыми проповедями искусно подводит к истинному вероучению закоснелых донатистов. Притом покаявшиеся раскольники добросердечно, без тени ханжества бесповоротно обращаются в католичество.
Лицемерная любострастная отравительница Акме, коей понадобились развод и повторный брак, априорно запрещенные у раскольников, тут стала достойным сожаления исключением. Потому как многие добродетельные миряне из донатистской паствы искренне заблуждаются, неверно и невместно оценивая святость единой Апостольской Церкви.
В Гиппоне и в соседних городах за каких-то пару лет Аврелий успешно вернул к православному вероисповеданию немало заблудших душ. Так что местные донатисты имущественно утратили всю церковную недвижимость, полностью лишившись мест для многолюдных экклесиальных молений.
Неспроста нынче безместные раскольничьи пресвитеры во главе с неким подпольным епископом полны зверской злобы, нарекая католического предстоятеля Гиппонской епархии подлым соблазнителем, краснобайствующим ловчилой, заманивающим простые души в сети умственного обмана.
Бог им судья и мельничный жернов на шею… Да и в море окунуть бы ругателей, не без пользы упражняющих наше долготерпение и незлобивую кротость…
Площадную брань и тайные злословия видимых и невидимых врагов католического вероисповедания епископ Августин полагал за похвалу. Он не раз им предлагал встретиться, переведаться полемически, кабы публично и протокольно обсудить, буде таковые найдутся, чисто догматические разногласия между католиками и схизматиками.
Открыто отвечать, дискутировать с ним вблизи и вдали пресвитеры, епископы, приверженные донатизму, покамест не отваживались ни письменно, ни устно. Зато соответствующие письма, какие Аврелий диктовал Алипию, направлялись в разные концы Африки; их переписывали, перечитывали. Даже, бывало, читали католические послания гиппонского прелатуса на молитвенных сборищах донатистов.
В причинах и следствиях этих миролюбивых соборных увещеваний у раскольников кое-какие пресвитеры и клирики примирились с материнской церковью, раскаявшись, перешли в католическое православие. Сверх того, вместе с ними и паствой в течение последних лет в других городах понапрасну упорствующие старейшины еретиков тоже оказались лишены целого ряда церковных зданий, десятилетиями принадлежавших схизматикам.
По слухам, из-за того самые отъявленные, отпетые, разбойные поборники ереси поклялись-де предать смерти православного епископа из Гиппона. Что ж, посмотрим, лишенцы, кто кого одолеет!..
Со всем тем совладать с еретиками совсем непросто, если ряды кощунственно дважды крещеных зачастую пополняются теми, кто праведно недоволен, по их мнению, безнравственной жизнедеятельностью и недостойным поведением православного клира, особенно причетников. Нередко вторично богохульно окрестившиеся прозелиты донатистов открыто не высказывают еретических воззрений, но впотай поддерживают, подкармливают единомышленников, ведущих разбойный образ жизни.
Одно время Аврелий втуне, не слишком доказательно подозревал в тайном пособничестве еретикам прелатуса Валериуса. Да и сам-то он не избежал клеветнических обвинений в скрытной принадлежности к донатистской ереси и пособничеству церковному расколу. Мол, и безгрешный гиппонский архиерей Августин втайне повторно крестит бунтовщиков-агонистиков, очищая их и напутствуя на вооруженную борьбу с владычеством Великого Рима.
Коли кто-то старается придерживаться критериев праведной и святой жизни, следовательно, не избежать ему подозрений в донатизме. Потому как именно показным нарочитым благочестием окаянные ересиархи и лжепророки привлекают сердца простодушно верующих от Бога.
Однако, надо сказать, привлекательность эта ограничена людьми с посредственным смыслом и приземленным соображением. Так как не видят, не соизмеряют, не различают они простодушно ни духовным, ни телесным зрением беспутной гордыни донатистов.
«Таков собственный дух всех гордецов, живущих по земному человеку и превозносящихся своею тщетностью…»
Только сатанинской непомерной горделивостью возможно объяснить то, насколько донатисты в надменности безобразной противопоставляют себя Католической Церкви, видя праведность лишь в собственническом обособленном толковании правил веры. Оттого и совершают они особо обряды водосвятия и крещения, тем самым профанируя таинства церковные.
Все же и такие еретики многажды достойны прощения, ибо ведают, что творят. Их можно и должно переубеждать премудрыми словами истины и правоверия, примерами состоятельного благочестия, соблюдением чистоты священнического сана.
«…Существует естество, в коем вовсе нет зла или в ком невозможно никакое зло. Но естества, в котором не было бы никакого добра, быть не может…»
К примеру, в сочинениях закоренелых еретиков Тертуллиана и Оригена мы в состоянии отыскать много доброго и поучительного. Недаром же их щепетильно штудировал, внимательно читал блаженной памяти покойный епископ Амвросий Медиоланский.
К тому же и того и другого сочинителя немалое сонмище посредственных поверхностных умов, далеких от недюжинной глубокой проницательности святейшего прелатуса Амвросия, чтут словно бы отцов и защитников-апологетов христианства. Ибо Богу по силам и зло обращать во благо, превращая прошлые телесные умствования не только пресловутых ересиархов-отщепенцев в настоящие апологии духовной всеобщей вселенской веры, изначально коренящейся в недрах каждой разумной души, созданной и существующей в миметическом образе Божием.
Поначалу Аврелий Августин замыслил написать два трактата против многокнижного Оригена и довольно плодовитого Тертуллиана, у которого больше остроумия, нежели глубокомыслия. Но впоследствии раздумал это делать, если намного уместнее не вносить сумятицу в недостаточные пошлые умы, но опровергать плотские словоблудия, предубеждения, предвзятость еретиков в других существенно важнейших произведениях, когда б придется к слову да к мысли попутно и по более значимым поводам.
Не боялся он и того, что может как-нибудь появиться нечто, озаглавленное «Против Августина». Чему и кому быть, существовать в познании видимых творений, тому и не миновать испить горькую чашу облыжной критики или несправедливых опровержений.
«Истина исправит заблуждение, вера обличит неверие и обращение запретит отвращение».
Августин много думал, как же ему обличать отвратных еретиков. Однажды в прошлом году он пять дней и ночей подряд неотрывно молился, прося у Бога направить его размышления на пути истинные. В те дни он не правил епископский суд и мессу, не читал проповедей, ни с кем не общался, пребывая в наистрожайшем отрешении от всего земного и мирского.
Тогда же он изменил его прежнее отношение к Донатовой ереси и ее крайним способникам и сподручникам из разряда киркумкеллионов, чванливо величающихся агонистиками.
Прежде он, собственно, опасался призывать имперские власти предержащие и африканских магистратов к жестким правосудным мерам, направленным против еретиков-донатистов. Ведь некоторые из раскольников с охотой идут на мученичество; многие и многие примерно воздержаны в похотях, душевно презирая слабость плоти человеческой.
В этом и во многом другом по жизни они следуют за Тертуллианом, велеречиво писавшем, что праведным будет тот, кто презрев плоть, часто видит смерть близко и тем освобождается от крови своей — тяжкого и докучливого бремени для души, нетерпеливо рвущейся на свободу.
Отчасти гиппонский пресвитер Аврелий Августин разделял свободолюбивые воззрения Квинта Тертуллиана. Тем не менее, уже в сане епископа, будучи облеченным полномочиями архипастыря, направляющего клир и мирян, он предпочел несколько иначе относиться к последствиям изуверской нетерпимости и религиозного сектаторства. Так как крайности аскетических упражнений, успешно обуздывающих плоть самого аскета, на деле зачастую оборачиваются духовной невоздержанностью, становясь вместо смирения своеобразной гордыней, непомерно превозносящей адепта аскетизма над заурядной людской толпой, какую нетерпимый ригорист и моралист не может не презирать ненавидя.
Хорошо, когда б моральный ригоризм сумеет благоразумно ограничиться благовестным смиренномудрием, дозволяющим любить и врагов наших, миролюбиво прощая им прегрешения перед нами. Блаженны миротворцы, благоразумно добивающиеся в людях благоволения.
Другое разделение, коли благорассудительность, добрая воля в недостатке, однако налицо умственная ограниченность, узость мышления или же простонародное нерассуждающее невежество. Тогда якобы христианская абстрактная любовь ко всему роду людскому, безличное сочувствие к человечеству в целом превращается в узколобую ненависть к определенным группам людей либо их сообществам. Или же предметом ненавистного личного отношения становится какой-нибудь конкретный человек, олицетворяющий для ригориста общественное зло.
Бессильная злобствующая ненависть и гневная нетерпеливость — подручное оружие слабых душ и нищих умом. Напротив, сильные духом, богатые разумом вооружаются исправительной любовью и незлобивым долготерпением.
Не один год епископ Гиппонский кропотливо исследовал, проницательно наблюдал многоразличные проявления донатизма и самих сектантов из тех, кого он обратил в католическое правоверие.
Понемногу Аврелий Августин напрочь убедился как на исторических примерах, так и очевидным опытным путем, что лишь всеединое правоверие укрепляется преследованиями и гонениями. Тем временем запрещенные секты, благонамеренно поставленные вне общества и закона, чахнут и слабеют без поддержки устрашенной массы пассивных соучастников, нравственно, мысленно сочувствующих от мира гонимым сектаторам-отщепенцам.
Так-то вот предстают секционно на всеобщее обозрение раскол, развод, размежевание, раздел, разрыв, разлад между праведным истинно христианским мученичеством в Провидении Господнем и бездарным напрасным самопожертвованием не во имя Божие, но ради моментальных человеческих умыслов и сиюминутных людских устремлений, не имеющих будущего ни в преходящих царствах земных, ни в вышнем совечном граде в небесном Иерусалиме.
Стало быть, против злоумышленно упорствующих сектантов и схизматиков, коснеющих в центробежных ересях, позволительно применять не только экклесиальное принуждение, но и насильственную республиканскую дисциплинарную власть, устрашающе вынуждающую строптивых обособленцев-сепаратистов центростремительно следовать общечеловеческим установлениям великоримского имериума.
Власти духовные призваны наставлять и назидать власти светские, также являющиеся их неотъемлемой паствой. На этом основании епископ Августин Гиппонский синодально предложил африканским прелатусам обсудить и споспешествовать принятию четких принудительных мер против донатистов, под видом религиозности посягающих на имперский правопорядок Великого Рима.
Прежде всего по возможности и по обстоятельствам сердечно умолять, настоятельно просить местных магистратов не предавать публичным казням и мучениям богомерзких еретиков, схваченных с оружием в руках. Насколько получится, всемерно противиться театрализованным наказаниям преступных агонистиков в городских амфитеатрах. Не отдавать этих преступников, их соучастников, пособников на цирковое растерзание дикими зверьми, но сурово казнить, карать преступивших римские законы смутьянов без огласки, бескровно, путем удавления или утопления.
Еще лучше милосердно даровать жизнь данным врагам гражданского сообщества и Католической Церкви, в наказание продавая их в рабство как можно дальше от Африки. Потому что редкий схизматик помимо немногих раскольничьих епископов и пресвитеров сумеет кому-нибудь постороннему, нездешнему квириту, истому чужаку внятно и убедительно разъяснить, в чем же конкретно состоят его догматические разногласия с православным вероучением.
Вне сочувственного, заинтересованного мирского соучастия самые рьяные приверженцы еретических воззрений теряются, проваливаются в пустоту. Благодаря тому, что любая ересь в генесисе происходит не от неизменного Бога в истинном прорицании, но от пустопорожних изменчивых людских измышлений, взятая в моральном отчуждении и общественном осуждении она со временем ослабляется, истаивает, испаряется, улетучивается.
Да будет всяк еретик открыто судим по совести, обсужден в обществе и откровенно осужден в истово католическом мнении православно верующих!
Остается лишь в полноте времен и пространств соборно объяснить, растолковать пастве, в чем заключается истовый католицизм и единомысленное православие всеединой Церкви Христовой, как обиталища Божия. Для чего епископ Аврелий время от времени предпринимал челночные поездки по нумидийский городам, разъясняя пастырям-клириками и власть имущим мирянам синодальные позиции здравомысленной веры относительно умеренных донатистов и крайних агонистиков.
Без скрытого содействия и негласного одобрения местных властей предержащих никакая экклесиальная ересь сколь-нибудь длительный срок не продержится, не сможет самостоятельно обеспечить свое существование. Тождественно республиканской поддержкой и симпатизирующим сообщничеством влиятельных декурионов в установленном ряде мест можно уяснить, почему же поныне, столько долгих лет в Африке беспрепятственно процветают полностью донатистские епархии.
Тайно придерживающиеся, отчасти склонные к Донатовой ереси двоеверцы или же явно ее исповедующие схизматики да сепаратисты могли бы презрительно не придавать какое-либо значение догматической критике и духовным опровержениям Августина Гиппонского. Но вот простить ему, безучастно оставить безвозмездно то, как он непреклонно, неумолимо выставляет их вон за пределы гражданского, то есть цивилизованного сообщества они естественно, политически оказались не в силах стерпеть.
Столь несхожие между собой политичный любознательный торговец Оксидрак и пристально присматривающий за республиканской обстановкой в епархии отец Эводий каждый по-своему не раз зловеще, — понятно что доброжелательно, — настойчиво предупреждали прелатуса Аврелия о готовящемся, зреющим против него заговоре донатистов. Причем оба они сходились на том, что умертвить гиппонского предстоятеля злоумышляющие еретики намереваются втихомолку, скрытно, незаметно, будто бы в естественном порядке вещей. И все эти зложелательные тайные ковы, происки дабы не превращать так ненавистного им епископа Августина в праведного мученика за католическую веру.
— …Например, втихую отравить тебя каким-нибудь неизвестным медицинской науке ядом. И дело с концом, твое святейшество.
Сначала, по сведениям Оксидрака Паллантиана, коварным заговорщикам взялись пособничать обиженные родственники казненной в назидание отравительницы Акме Филена. Но из их злодейской затеи ничего ядовитого не вышло.
Как известно, шумные многолюдные мирские пиры и попойки святейший прелатус Августин попросту не посещает. Где и с кем из паствы он мог преломить хлеб в евангельской простоте загодя никто, кроме могучего молчаливого диакона Турдетана, никогда и знать не ведал. Тогда как подобраться к монастырской поварне епископальной резиденции, которой бдительно и рачительно заведует отец келарь Поссидий, никому из посторонних практически невозможно.
Тогда, по дознавательским данным пресвитера Эводия, злоумышленники сделали ставку на внезапное нападение из засады на постоянно разъезжающего по всей епархии епископа Гиппонского. Задумано каверзно так, кабы проповедник католического правоверия, известнейший в Африке, в письменных трудах своих знакомый бесчисленным христианам различных экклесий Востока и Запада, в одночасье пропал бы без следа, исчез без вести, без звука и вдоха.
Но и такое ни на дух не представляется возможным, потому что хорошо обученная отборная береговая стража Гиппона под военачальством примпила Горса Торквата не теряет бдительности. И подчистую не допускает проникновения, просачивания на вверенную территорию каких-либо с большего организованных вооруженных бунтовщиков-киркумкеллионов. А без значительного воинского превосходства в людях и оружии с обычным сопровождением архипастыря из Гиппо Регия никому не справиться.
Гораздо того, пришлые агонистики никоим модусом не могут похвастаться укрывательским пособничеством и продовольственным содействием здешних донатистов. Меж тем робкие и суеверные пейзане-язычники, из опасения страшных колдовских проклятий именем Христовым тоже подчас подкармливающие разбойных еретиков, перестали их пугаться, если весьма авторитетные христиане торжественно объявляют грозное ведовство, ворожбу, волшбу дважды крещеных мятежников смехотворными, недействительными и несущественными потугами. Анафему зазря колдующим недоверкам по-гречески провозглашают церковно да кафедрально.
К тому же о лютом изуверстве и страшнейших пыточных издевательствах, надругательствах мятежных киркумкеллионов над безоружными беспомощными жертвами, в окрестных гиппонских землях только малость слыхали кое-чего. Отдаленным зверским слухам люди в сущности не очень-то склонны доверять, когда у них в ближней округе все по-человечески тихо, мирно. Говоря немудренными латинскими словами — культурно, гуманно.
Тройка-другая оголодавших нелюдей-разбойников, схваченных с поличным, с кровавым оружием в преступных руках, не повод особо беспокоиться, без толку тревожиться. Когда ж так на земле было, чтоб тебе без дикого голодного разбоя и варварского алчного грабежа? Разве что в баснословном самодостаточном золотом веке Сатурна? Но в эту сумасбродную языческую басню трудно поверить, если говорят, пишут, мол, даже земной христианский рай с незапамятных времен испокон веков недреманно охраняет, неусыпно сторожит непобедимый ангельский демон-воитель с огненным мечом.
Со всем тем к смертельной угрозе покушения на его жизнь преподобнейший епископ Аврелий относился как к недостоверной людской молве, которая совсем не предстает демоническим божеством язычников, а скорее она сродни апокрифическим россказням, каковыми век от века полнится, обрастает как плесенью христианское вероучение. Различные досужие кривотолки, пересуды, слухи, сплетни он небрежно принимал во внимание, частично к сведению, выслушивал их, но нисколько к ним не прислушивался и по большому счету им не верил.
— Недосуг и ни к чему это нам, правоверные братья и друзья мои…
Хотя насколько опасно пренебрегать огульно, как правило, смутными человеческими свидетельствами и апокрифами, где именно тебе, дорогой, насчет тебя басня сказывается, рассказывается, ему довелось удостовериться, убедиться непосредственно в мартовские иды теплой африканской весной во время поездки в дальние края к югу от Константины.
Такое вот пастырское деловое и душеспасительное путешествие намечалось давно, о нем было многим известно не только в провинциальном Гиппо Регии, но и в теперешнем метрополисе римской Африки, то есть в Картаге. Готовился к нему святой отец Августин заблаговременно, наперед предвкушал огромное удовольствие от посещения прекрасно ему знакомых мест.
Дело в том, что помимо богословских дебатов и синодальных словопрений в стародавней нумидийской столице, а именно в Константине, ему предстоит посетить далекую лимитрофную Ламбессу, откуда великоримский империум военной десницей Третьего легиона кесаря Октавиана Августа некогда метропольно правил завоеванной гетульской страной. Притом на полпути между Ламбессой и Константиной обустроено высокодоходное масличное имение, когда-то безраздельно принадлежавшее его покойному отцу — тагастийскому куриалу Патрику Августину.
А впервые по этим землям Аврелий с усладительным интересом путешествовал, паломничал вместе с чадолюбивым родителем в отдаленном детстве по дороге на дикий южный лимис. Очень, знаете ли, полезно освежить в памяти кое-какие полузабытые впечатления, учитывая, что «Исповедь» он теперь предполагает композиционно начать с повествования о младенческих годах дома, в семье.
Сейчас в бывшем имении тагастийских Августинов размещается католический монастырь, обустроенный не без помощи и участия гиппонского архипастыря, подобно нескольким другим иноческим обителям, разбросанным тут и там в Нумидии. Да будет так, пусть и не вовеки веков Господних, то по мельчайшей человеческой мерке присно и памятно потомкам!
Помнится, наследственные отцовские земли, рабочий скот, рабов, зависимых колонов Аврелий передал, продал по сходной цене некоему Авлу Протагену, ударившемуся на старости лет в безмятежное книжное чтение. Тогда как на службе в Картаге, в Лептисе, Константине, премудрые свитки и кодексы тот кесарский мытарь среднего ранга собирал, копил не читая; разворачивал и раскрывал их редко — только, чтобы просушить, проветрить папирус и пергамент. Небрежная или аккуратная рука стороннего переписчика его библиотечных сокровищ вовсе не касалась.
Особое предпочтение упорный собиратель письменной премудрости Авл уделял сочинениям африканских компатриотов. Далеко не в последнюю очередь довольно почетное место в его обширном либрариуме занимают философские и теологические труды епископа Августина Гиппонского как ныне здравствующего и прославляющего Африку — достославное отечество многомудрых мужей прошлого. А среди прочего по сей час благополучно наличествуют в прочных книжных ларях отставного сборщика податей полнейшее и ценнейшее собрание произведений нескольких поколений старых философов-киренаиков, почти все опусы приснопамятного ересиарха Квинта Тертуллиана и без малого двести фолиумов — православно-католических и порой откровенно еретических — Оригена Александрийского, предположительно также уроженца близкой Ливии. Имеется там и богатое натурфилософское наследие Апулея из Мадавры и кое-что Минукия Феликса из ближайшей Константины.
Незадолго до смерти достоимущий и бездетный собиратель-библиофил Авл Протаген обрел святое крещение, затем завещал лично образованнейшему архиерею Аврелию Августину все движимое и недвижимое имущество на неизбывный помин души до Второго пришествия Христова. Благочестивый посмертный дар христианский священнослужитель-понтифекс Аврелий честь по чести пaтримoниaльнo принял, учредив на былой отеческой земле Протагенову монастырскую обитель, для чего из Гиппона отослал с нужными полномочиями для обустройства и сохранения нового библиотечного прибежища полдюжины братьев, праведно сведущих как в письменных книжных трудах, так и в сельских хозяйственных работах.
Спустя пару-другую лет после основания этого южного монашеского учреждения, доднесь пребывающего под личным покровительством гиппонского предстоятеля, ему вот удастся его посетить. Помолясь, с Богом в путь.
В дальнюю дорогу на юг святой отец Аврелий отправляется не одиночку, но, как водится, под охраной диакона Турдетана, а ему в поддержку по обыкновению конный полудесяток контуберналов центуриона Ихтиса из рядов надежных умелых воинов портовой и береговой стражи. На сей раз Аврелию сопутствуют избранные друзья. Сам Горс Торкват выступает во всеоружии, и снаряжается в поход лекарь Эллидий Милькар, сноровистый в обращении с остро отточенными режущими и колющими орудиями — неважно будь то хирургия или военное искусство.
Ихтису очень захотелось побывать у давних соратников в постоянном каструме у порубежной Ламбессы. Зато Эллидию позарез как понадобился сбор весенних лекарственных трав, с пользой для целительства произрастающих лишь на южных склонах Атласа.
Незваными, но избранными непонятно зачем страстно возжелали стать пресвитеры Эводий и Алипий, но епископ Августин наотрез отказался их брать с собой. И без них у него свита едва ли меньше, чем у высокородных комитов кесаря.
— Здесь вам не там. Скромнее надо быть, скромнее, братья и дети мои.
Незачем ничтожным рабам рабов Божьих, соработниками Христовым, предаваться царскому пышному чванству или кесарской триумфальной спеси в помпезном ослеплении блеском мирской суеты, облыжно принимаемой за немеркнущую славу на белом свете… Ее потом и с Диогеновым фонарем никому не сыскать, друзья мои…
Друг Горс, кстати сказать, поддержал друга Аврелия. Нечего там делать епископальному секретарю-письмоводителю в трудном воинском походе на дикий порубежный юг.
В утешение дорогому Алипию на время своего долгого отсутствия епископ со всеми почестями вручил ему золотой архипастырский перстень с правом вершить духовный суд. Хотя обычно эта честь церемонно доставалась пресвитеру Гонорату, у которого, между прочим, и хранится этот перстень с печаткой для неотложного скрепления церковных и секулярно светских документов.
Носить на себе любые золотые украшения Аврелию Августину не по душе. Ему с лихвой хватает драгоценного черного резного посоха — знака пастырской власти. И на личной печати епископа таким символом вырезано изображение трех рыб с навершия этого знаменательного, знаменитого священнического жезла, частенько вызывающего у язычников и еретиков суеверный ужас.
Этим ли знаменем Августину Гиппонскому суждено и впредь побеждать врагов правоверия? Хотя не оружием единым живо и сильно правоверное воинство Христово.
Всякая вера без дел мертва; смертно всевозможное природное естество, единожды лишенное животворящего Слова Господня. Един свят Господь властен в животе и в смерти. Ибо все из Него, в Нем и чрез Него. Во имя Отца, Сына и Духа Святого…
Благочестивые тринитарные размышления не помешали епископу отметить, как экономично, компетентно, аккуратно снарядил в дальний поход предстоятеля и его свиту домовитый пресвитер Гонорат. Подобрал хороших верховых, заводных и вьючных лошадей из конюшен епархиального капитула. Приставил к услугам двух добросовестных вольных конюхов, способных носить оружие. На воинский случай бескормицы снабдил трехдневным запасом провизии для людей и фуража для животных, подготовил все необходимое в полевом стояночном обиходе. Неровен час случится заночевать вне поселений? По делу уговорил Аврелия взять под седло доброго, но флегматичного саврасого мерина Домикиана, отличающегося покойной рысью.
В самом деле, им поспешать можно медленно; четверо путешественников, двое слуг и в сопровождающих пять отличных конных стражников примпила Горса выступили во благовремении. Как намечено, прибудут они в Ламбессу аккурат к пасхальным торжествам на Страстной неделе.
Епископ Августин с чувством поучаствовал в праздничном всенощном бдении на ступенях городской базилики Ламбессы. А в Светлое Воскресение Христово с тамошними клириками благостно отправлял полуденную мессу в постоянном каструме на площади у претория при большом стечении праведно верующих воинов.
Как раз преогромный воинский стан Августа и стоило бы назвать городом, а маленькую Ламбессу — его незатейливым предместьем, обслуживающим военно-материальные потребности римского войска. Ныне же и духовная нужда возникла, и потому на следующий день-фестивус в убедительной проповеди, потом же в продолжение небольшого диспута на форуме почетный гость из Гиппона наголову разгромил ересь тупоголовых кватродекиманов, сумасбродно пытающихся отмечать христианскую Пасху Господню по иудейским обрядам 14 нисана вне зависимости от того, на какой день христианской недели выпадает этот их так называемый «песах» в путаном и неточном греко-еврейском календаре.
Ни праздника им, ни субботы, ни воскресенья, скудоумным отщепенцам от вселенских соборных правил истинной веры!
В Протагеновой обители, куда через три дня приехал епископ Аврелий, каких-нибудь выживших из ума жидовствующих старообрядцев, доселе не признающих календарного православия и канонов Никейского собора, быть в принципе не должно. И потому он занялся тем, что предвкушал еще в Гиппоне — преспокойно углубился, с головой ушел в книжные сокровища. Диакон Турдетан как всегда при епископе. Центурион Ихтис остался пировать среди старых вояк южного каструма.
Лекарь Эллидий наладился было с монастырской братией в горы за молодой целебной зеленью. Но спешно прискакавший центурион сообщил об угрожающем прорыве с юго-востока многочисленных сил черных кочевников:
— …Имеются верные сведения. Две-три сотни номадов рыщут где-то между нами и Константиной. Основная вражеская масса обходит с запада Гетульские озера…
Аврелий с неимоверным сожалением оторвался от увлекательных библиотечных изысканий. Ведь у него на столе в скриптории лежит любопытнейший! Чуть ли не лучший, полнейший список Книги Бытия, похоже, с собственноручными пометками, пояснениями на древнееврейском языке того самого Оригена. Вдобавок из них явствует: и гиппонского архипастыря и александрийского мыслителя очень и очень интересуют одни и те же избранные места из генесиса неба, земли, человека. Надо же?!
А тут на тебе! Набег, разбег, наезд, разбойники, грабители… Все-то им неймется, мерзавцам…
— Добрые триарии говорят, как если б это могло стать отвлекающей внимание первой волной серьезного вторжения нового племенного союза южных варваров, — продолжил докладывать озабоченный центурион. — Не исключено, враги дерзнут всей конной массой навалиться между Ламбессой и Тамугади. За Ливийском болотом и южной Тритонидой их тьма-тьмущая скопилась. Пустыня и засуха на них давят и вынуждают наступать на север.
Знаешь, оставаться нам здесь небезопасно, прелатус. Сокрушительные номады во многолюдстве песчаной бурей хлынут. И заслоны лихо сметут, и все поселения буйно разделают, разнесут по бревнышкам, по досочкам.
Через несколько часов тут широко пройдет кавалерийская ала, чтоб очистить и прикрыть дорогу на Константину для беспрепятственного подхода подкреплений. Нам стоит не мешкая направиться вслед за кавалеристами из Ламбессы.
Если поблизости окажутся просочившиеся варвары, думаю, нас не тронут, побоятся военной хитрости, приманки. Потому как им неведомо, кто и сколько людей следуют за нами. Да и кавалерия может вернуться наскоком. О простых разбойниках и толковать нечего — разбегутся от воинской силы куда ни попадя.
Моих контуберналов о свежих конях я высылаю наперед с целью погони и поиска. Они у меня люди знающие, с опытом, следопыты проверенные. Тихо выследят варваров, проследят, доложат, кому надо. Войсковой символ для опознавания римских эксплораторов я им дал.
А мы с тобой рысью вскачь в Константину, где тебя ждут не дождутся к апрельским календам. И не сердись, преподобнейший, — так уж необходимые тебе свитки и кодексы захватим с собой.
С предложенной стратагемой Ихтиса его подопечный, пожав плечами, согласился, вздохнул обреченно. С военными не спорят касательно их воинской науки или искусства, быть может, просто немудрящего ремесла, как посмотреть. Им, профессионалам, виднее.
Посокрушавшись, епископ распорядился готовить три повозки с книжными ларями и зорко следил, как монахи их заполняли по его указаниям, грузили бережно. Оставшиеся фолиумы повелел потом спрятать в горах, в потайных пещерах, в обережении от дикарей, мышей и сырости.
В дороге Аврелий по сторонам не смотрел, но отрешенно размышлял об общем истолковании священных книг так, чтобы, в частности, его герменевтический комментарий к сотворению мироздания в генесисе смогли бы уразуметь простые незамысловатые умы, мыслящие по складам, читающие не более фолиумной странички в один присест, забывающие в конце книги ее начало. А в те же время и место, здесь, сейчас и далее правильно постарались оценить эти многослойные толкования образованные книгочеи, владеющие обширными книжными познаниями, умеющие видеть авторские мысли между строк и помнить буквально изложенное от первой фразы до последней.
Обращаться к посредственным, срединным читателям в этом труде он не намеревается. Либо полным невеждам, либо совершенным мудрецам истинно станут доступны его рассуждения. В неподдельном любомудром разумении религии не бывает золотой середины…
Позже Августин оформит и развернет эту идею религиозного бытия в другом месте, в другое время, по-другому выразит и запишет. Но покамест на внезапный посвист боевых стрел прежде всех разом ответили его плоть и кровь. Одновременно и диакон Турдетан, заслонивший патрона широкими плечами, грудью, собственным телом от внезапного разбойного нападения. Оценивающий опаснейшую обстановку рассудок вмешался не сразу. Сначала сказали непреложное слово долголетняя воинская выучка, безотчетная постоянная боеготовность и безошибочное наитие прирожденного воителя.
Не мир, но меч, принесенный Христом, когда оно предопределено, необходимо открывается, становится евангелием правды. В подобии или же преподобии? Все едино.
Подобно шести днем творения в скоротечном бою все начинается, длится, заканчивается единовременно, по разделениям, вмиг и в последовательности в прошедшем, текущем, в наступающем. Уничтожение есть созидание и вовсе наоборот, сверхбыстро и замедленно.
Аврелий выбросился из седла влево и укрылся в тесной промоине рядом с мощеным полотном римской дороги. Мгновением после его смертельно раненый конь взвился на дыбы и ринулся навстречу выстрелам вправо.
Однако весь смертоносный поток стрел приняли на себя Турдетан и его лошадь. Через какие-то секунды застывшей окаменелости они вдвоем медленно рухнули наземь, словно поверженная конная статуя.
Кажется, единомоментно действие происходит в непостижимой беззвучности. С первых моментов нападения жуткий пересвист тяжелых стрел, ищущих и непременно находящих живую цель, град, грохот каменных и свинцовых ядер, паническое ржание лошадей, яростные возгласы людей, треск дерева, железное громыхание колес — взаимно уничтожают друг друга, порождая слитную неразборчивость ужасающей оглушительной какофонии.
Обезумевшие с отчаяния возницы безуспешно пытались развернуть повозки и уйти назад за поворот из-под обстрела. Заводные и вьючные кони в безрассудном скотьем ужасе рванули, понесло их напролом вперед.
Случается и подготовленные люди в минуту смертельной опасности бегут на поводу, крепко взнузданные животной душой. Хотя у иных воинская выучка тела и сила разумного духа заставляют их смертную плоть идти наперекор полоумной трусливой природе человека.
Аврелий отметил, как справа неустрашимый Горс рассчитанным броском поменял место укрытия на обочине — плотно обрел убежище от несущего верную смерть ливня стрел и камней под опрокинувшейся повозкой среди рассыпавшихся книг. Между тем счастливо невредимый Эллидий разместился в напряженном оцепенении с подрагивающим кавалерийским мечом за двумя агонизирующими тушами вьючных лошадей, предсмертно навалившимися одна на одну.
Аврелий слегка высунул навершие боевого посоха, показывая оглянувшемуся Горсу, что жив-здоров и к рукопашной схватке готов. Тот в ответ ободрительно отсалютовал длиннейшим германским мечом. Эллидий им обоим виден, и оба надеялись, что Турдетан только притворяется погибшим или оглушенным падением.
Сразу за их спиной круто уходили вверх скалы, далее высилась непроходимая каменная осыпь, а обстрел шел из густых дебрей горных кустарников и низких деревьев с отлогого правого склона на подъеме дороги после поворота. Осталось в самообладании выждать, покуда коварные нападавшие не прикончат как будто неиссякаемые метательные боеприпасы и не выйдут лицом к лицу честно сражаться.
Аврелий и помыслить не мог бесславно, бесчестно, безвестно погибнуть из-за вражеского коварства. Тыл обеспечен, а бока надежно прикрывают друзья, собратья по оружию.
Воистину доблестный воин обязан уметь считать и рассчитывать на победу в самом, казалось бы, безнадежном положении. Когда справа с холма из зарослей на дорогу, испуская придушенные вопли посыпалась разношерстная разбойничьего вида толпа, он быстро прикинул: на обороняющихся приходится не меньше трeх-чeтырeх десятков нападающих.
Один к десяти не так уж все плохо, если их трое, а кто чего стоит, покажет бой. И вопят враги явно со страху, подбадривая себя нестройными выкриками.
Увидя в обороне лишь трех воинов, молча, решительно поднявшихся им навстречу, разбойники осмелели, оживились и в беспорядке, мешая друг дружке, напропалую бросились на этих немногих, выживших после истребительного нежданного обстрела из засады.
Подробности ярой жаркой схватки, кровавой бойни на уничтожение не слишком хорошо отложились в памяти у Аврелия. Хотя поначалу он хладнокровно старался, как можно скорее уменьшить число напавших выверенными защитными выпадами костяного навершия по глазам, в лицо и прицельным поражением металлическим острием. Затем, когда ножны застряли в горле у кого-то из врагов, поражал их обнаженным копийным лезвием в корпус, по конечностям.
Точно так же рядом работал обоюдоострым германиком Горс, нанося быстрые, выводящие противников из строя раны. Побок анатомически орудовал удлиненной кавалерийской спатой Эллидий.
Тому и другому к анатомии не привыкать стать…
Когда, отчего, каким образом в неравный бой на дороге врасплох замешались, победоносно врубились во вражескую сутолоку четверо легионеров, Аврелий не запомнил в горячке. Сказались самозабвение, исступленное смертельное стремление убивать, истреблять, рубить, колоть; рвать хоть голыми руками, зубами… Безудержное упоение сражением, одержимость своей и чужой кровью отлично знакомы любому воину, знающему о войне не понаслышке.
Немногие выдержавшие беспощадное столкновение разбойники было отступили к лесистым восточным холмам, дернулись в бегство. Но никуда не делись, скорчились ракальи в предсмертной муке там же на обочине мощеной римской дороги, обильно залитой кровью.
Кровавые лужи, валявшиеся кое-где отрубленные члены павших тел, вывалившиеся наружу перепутанные внутренности людей и животных никого не заботили, не смущали. Несомненно, уцелевшие, оставшиеся в живых имеют озабоченности поважнее.
Юркий легионер, — лет тридцать малому, значит, соображает, что к чему, — видать, не получил ни единой царапины. Он немедля принялся проворно сновать туда-сюда и деловито добивать раненых врагов, тщательно проверяя: часом не прикидывается ли хитро какой супостат мертвецом.
К удивлению Аврелия, успевшего к тому времени перевести дух и мало-мальски успокоиться, обрушившийся на путников неприятель оказался вовсе не ожидаемыми кочевниками, а непонятно откуда взявшимся разномастным, не то нумидийским, не то мавретанским сбродом. Оружие, доспехи, платье — самые разные, видимо, чуть ли не со всей Африки…
Не глядя он ощупал, цела ли заветная жемчужина в навершии посоха. Не амулет охранный в суеверии, но все-таки…
От бесполезных натужных мыслей оцепеневшего епископа не церемонясь отвлек подвижный легионер, за кем он безучастно наблюдал, опершись о посох, чувствуя лишь тупое телесное изнеможение. Да еще холодно что-то стало в пропотевших насквозь кожаных доспехах.
— Твое святейшество! Видели мы тебя у претория в нашем каструме. Коли ты в силах и не шибко ранен, напутствуй к жизни лучшей крещеную душу моего центуриона. Куркий Гальбиан лежит без памяти и долго не протянет.
Едва шагнув к тяжелораненому римскому воину, епископ тут же ощутил довольно болезненную рану в левом боку. Наверное, кто-то достал сзади пилумом. Опять живьем кровища закапала…
Преодолевая слабость и горе, епископ нагнулся, закрыл глаза усопшему причетнику Турдетану. Встал над телом с краткой молитвой.
Тут как тут подоспел врачеватель Эллидий, кое-как овладевший собой, обратившийся к исполнению врачебного долга. Изувеченные культи мизинца и безымянного пальца на левой руке он уже наспех себе перевязал, дурацки хихикал, дергал плечом и ничуть не мог решить, кому первому оказать медицинскую терапию или хирургию: задумавшемуся неподвижному Аврелию или прихрамывающему Горсу, с трудом ковылявшему, обходя с мечом наготове, разбросанные там и сям вражьи трупы.
Как кто, куда ранен не очень-то издали определишь, если каждого из победителей, словно искупали в крови с ног до головы. Поди пойми с виду, где там чья. Однако помимо чуточку подрезанных спинных мышц слева сзади ничего более зловредительного медикус Эллидий у пациента Аврелия не выявил, о чем он ему и заявил со смешком, обещав вероятное выздоровление пополам с Божьей и лeкaрcкoй помощью.
Эллидий никак не мог отойти от холерического боевого возбуждения, пока подошедший Горс не сунул ему за пазуху походную лагену с крепким каламским вином. Основательно хлебнув неразбавленного санацио, вкусно крякнув, суетливый лекарь, наконец, вновь обрел хирургическую твердость руки, посерьезнел и бестрепетно вырезал обломок стрелы, застрявший у центуриона в коленном сгибе.
— Очень нам нехорошо, Горс… Как бы худа не вышло с твоим коленом. Остальное — мелочи, порезы…
Тем временем в двух шагах от них святой отец Аврелий совершил елеепомазание и отпустил неизреченные грехи умирающему центуриону Гальбиану из 14-й усиленной когорты августианцев, преторскому помощнику. Даруй ему добрый ответ, Господи, на Страшном Судилище Твоем…
Подле, преклонив колена, молился за спасение души командира легионер Секст Ливий Гней Киртак. Он участливо помог епископу подняться, представился и толково доложил, отчего и почему пришли на выручку путешествующему гиппонскому пастырю бесстрашные римские воины. Всего-то вчетвером.
Как выяснилось, претор каструма отправил пятерку искушенных эксплораторов и вексилариев на розыск чертовой дюжины дезертиров — в основном лучников и пращников. Беглых легионеров они выследили, нашли среди пришлых киркумкеллионов, послали человека в Ламбессу за подкреплением, два дня вываживали, окучивали этот хаврус охломонов. В конце концов дождались кавалерийскую алу, но ее трибун, служака упертый, и слышать, знать чего-либо не пожелал о мелкой шайке дезертиров, о бродягах с непотребными женщинами. Мол, не до них, когда несметные полчища номадов на север рвутся.
Эксплораторы вернулись после бесплодных переговоров, застали в самом разгаре бой. По-быстрому пораскинули мозгами, каковы совместно силы, средства, и насели с разбега с левого крыла на искомых дезертиров, не очень-то рвавшихся в гущу сражения.
— Какой вход, такой и выход, твое святейшество, — по-стариковски мудро подытожил молодой ветеран-триарий. Помолчал, потом поинтересовался:
— Скажи, чего с теми богопротивными блудницами делать-то будем?
У дважды крещеных киркумкеллионов в трех милях к востоку отсюда в ущелье разбито стойбище. Там сейчас восемь женщин и три старухи. Большинство телок средь ясного дня шляются прямо тебе голышом. В раскорячку срам-устье стоймя подставляют, едва мужчинам того твердо захочется.
У одной стельной потаскухи наголо перевернутый крест выжжен над срамным женским местом. У прочих он на левой груди комлем кверху, перекладинкой понизу…
Не дослушав разведчика, епископ тяжело зашагал к ближайшему мертвому телу. Не гнушаясь, перевернул навзничь, откинул волосы со лба. Освидетельствовал еще несколько трупов поодаль. У одного лысоватого отыскал то сатанинское крестовое клеймо на затылке.
— Вот оно как… Антихрист клеймит прислужников себе… Ох близок путь от Донатовой ереси к Сатане, широки ворота в преисподнюю, — вполголоса произнес епископ. А вдогон полнозвучно, непререкаемо обратился к соратникам:
— Чисты омытые в крови одеяния праведных воителей. Ничто не запятнает их.
Для чистых все чисто. Для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть. Молвят они, будто знают Бога, а делами отрекаются, будучи грязны и непокорны.
Мой грех необходимого смертоубийства, и мне он воздастся, воины. За всех и за вся. Изничтожить всяко блудящих на свету и во мраке! Без малейшего упомина о нечестивцах с нечестивицами!
Примпил береговой стражи Гиппо Регия Горс Армилий Торкват! Распоряжайся нами, сын мой.
— Послушание и повиновение, прелатус, — подтвердил легионерским салютом полученный приказ выпрямившийся центурион. — Слушай меня, квириты! Выдвигаемся в следующем порядке…
Епископ хотел предложить задержаться, чтобы прежде отпеть павших, похоронить должным чином, особенно самоотверженного милого диакона Турдетана. Но не счел уместным прекословить воинскому начальнику, благочестный долг исполняющему. Пускай мертвые хоронят своих да чужих мертвецов. И поминальная заупокойная служба обождет.
Будет вечер, будет и утро воскресения умерших, погибших, скончавшихся от ран. Сотворение христианского мира продолжается. День седьмой вечного отдохновения и покоя ох не в скором времени наступит…
Вне временной погибели не станет возрождения в вечности небесной… Чему быть по воле Божьей, того никому не миновать в юдоли земной.
«Никто еще никогда не умер, кто рано или поздно не должен был умереть».
Taк или иначе неотвратимую смерть женщины киркумкеллионов встретили безмолвно, безропотно. Само заскорузло окровавленное обличье четверых воинов им говорило: на пощаду надежды нет.
Только одна из старух мерзостно заверещала, вымаливая лишние секунды никчемной, напрасной жизни. Не у Бога, а у людей. Верно оттого ее и прикончили в первую голову.
Не знающий жалости черный посох, — весь в запекшейся крови чернее самого дерева, — перекрывает теснину на выходе из ущелья. Не праздно бездействует в отрешенности железный жезл, но сурово грозит греховному поголовью.
Резали же, закалывали паршивых овец, чтобы не портили стада, германик центуриона, спата лекаря и гладий вексилария.
Работали накоротке, без замаха, сноровисто нанося точные удары под ребра в сердце, под лопатку, вскрывали яремные жилы.
Напоследок осталась брюхатая блудница, подлинная дщерь вавилонская в громадной тягости, предвещающей не сегодня-завтра явление выродка от многих неизвестных отцов. Она бесстыдно стояла, срамно расставив голые ноги.
Ее продолговатый громоздкий белый живот постепенно расширялся от ложбины промеж растопыренных грудей со вздутыми венами. Выпукло, округло беременное чрево еретички мерзко сужалось у бритого лобка, переходя на глубоко выжженное дьявольское коричневое тавро в форме опрокинутого креста.
Разделала непотребство кавалерийская спата искусного врача-анатома. Прямой укол в шею, фонтаном алая кровь, вмиг накрест вскрытие утробы, резкий поворот орудия и отделенная от малого и большого тел голова выношенного плода долой покатилась по земле, живо подскакивая. Сам в черных мелких завитках, похожий на мяч в гарпастоне, едва ли младенческий череп вослед подпрыгнул и замер, оскалив полный рот мелких, острых крысиных зубов, уставил долу незрячий взор.
На глазах изумленных или ничего не понявших сотоварищей ученый анатом бесстрастно подобрал голову монстра, дал стечь крови, тщательно обернул кожаным вретищем и спрятал в лекарской котомке. Несведущим и незнающим он по-докторски пояснил:
— Нормальный младенец вынашивается в материнской утробе стремглав, вниз головой, а этот урод разлегся поперек ее шире… Так и так намертво закупоренной роженице пришлось бы ой долго умирать в муках…
Обратно Ихтис, все еще коривший себя за непредусмотренную разбойную засаду, вел ему подчиненных с максимальной осторожностью. Потому кочевников-мародеров, шаривших на дороге посреди мертвых тел и их клади, заметили упреждающе, собственное присутствие ничем не выдали.
Тотчас скрылись, унесли ноги подобру-поздорову, убрались куда поодаль. Все-таки до полусотни воинственных номадов будет многовато на четырех донельзя усталых воинов.
— В 20 милях далее на восток, за перевалом, чуть спустимся, начнутся летние пастбища Лабеона Гетуллика, крупного коннозаводчика из Константины. Потом здорово укрепленная усадьба неподалеку, с отрядом по-военному вооруженных пастухов, — на ходу внес тактическое соображение неунывающий эксплоратор Секст Киртак. — Лошадками можно разжиться.
— Знаю, — отозвался епископ. — Я у достопочтенного Лабеона двух жеребцов на племя закупал. Тамошний вилик, — коли еще жив совопросник старый, — мне знакомец добрый…
На первом привале в хорошем безопасном месте у горной речки прополоскали заскорузлую амуницию, одежду, развесили в кустах, чтоб малость просохло. Сами с наслаждением омылись. Без вопросов и понуканий занялись чисткой оружия.
Исправный легионер Секст Киртак усердно приводил к порядку меч, уважительно поглядывая на сверкающее копийное острие боевого посоха пастыря разумных душ, иногда и безмозглых телес.
— Думаю, преподобнейший, это тебе смертоносную ловушку на том повороте лукаво приготовили. Наших дурных легионеров большим золотым тельцом некто подкупил на дезертирство, наемное убийство… Ракальи три дня и три ночи терпеливо поджидали тебя всей засадной хеврой.
В Ламбессе или же в Константине надобно крыс в подполье поискать, претору каструма в подробностях поведать о произошедшем.
— Нет, сын мой, никаких подробных докладов. Слабые умы могут повредиться, отпав от чистоты.
Из Константины я особо твоему начальству обо всем, что нужно, отпишу. Ты же мое пастырское послание с умом прочтешь, скрупулезно его запомнишь, как мы вместе от превосходящих сил безбожных номадов претерпели. Еле-еле в душу живу ушли, оставя на расхищение пожитки и ценную поклажу.
— Понял, твое святейшество. Вопросы веры — твоя епархия.
— Истинно так, юноша. Ты и раньше был понятливым умным мальчиком, Алкион, хоть и шалуном изрядным, непослушным.
— Да ты меня нынешнего никак спознал, вспомнил, мудрейший магистр Аврелий?!!
— Я всех помню, кого учил грамоте и послушанию в Тагасте. Вижу, и тебя кое-чему выучил, мой мальчик Секст из гетулийской фамилии Киртаков.
— Так точно, твое святейшество! Mнe послушание и повиновение власти света от света, от Бога истинного…
КАПИТУЛ XXVII
Годы 1153-1154-й от основания Великого Рима.
5-6-й годы империума Гонория, августа и кесаря Запада. 5-6-й годы империума Аркадия, августа и кесаря Востока.
Годы 400-401-й от Рождества Христова.
Гиппо Регий в проконсульской Нумидии во все времена года. Осенью о прошлом в Тагасте и в Мадавре. Следующим летом в Картаге настоящее в будущем.
О злополучной поездке епископа Августина в Гиппоне многие были немало наслышаны. Как-никак в жесточайшем столкновении с номадами погибли могучий диакон Турдетан и пятеро опытных береговых стражей примпила Торквата. Хотя этому никто в принципе не удивился — дикий юг он и есть дальний юг. Такое-сякое там заключается и приключается на южном лимисе. Как ни посмотри, на юге от цивилизованной Константины начинаются, простираются неведомые земли. Бог весть, чего в тамошних местностях случается, злоключается — в общем происходит превратно в непознанной дикости и варварском чужестранстве.
По возвращении из Константины гиппонский предстоятель и часа не отдохнул после изнурительных странствий. Наскоро выслушал краткие отчеты ближних и присных, отдал безотлагательные распоряжения. После того уединился на четыре самоотреченных дня и четыре бессонные ночи наистрожайше в затворничестве, в непрестанных молениях о спасении душ праведных или греховных, невзадолге покинувших жизнь тленную ради иного существования. Может, оно в райском вышнем блаженстве, а может, в адской пропасти вечной смертной муки, где бы обе эти духовные противоположности ни размещали плотские выдумки воображения человеческого.
Видеть и говорить с епископом в те отрешенные дни никто не осмеливался. Овощную пищу, хлеб, вино ему вечером ставили на столик в прихожей, утром уносили почти не тронутыми. А нечистую ночную посудину потребовалось выносить за ним лишь на третий день.
«Даже тело наше становится жертвоприношением, когда мы очищаем его умеренностью, если делаем это так, как должны делать Бога ради, предавая члены свои не греху в орудие неправды, а Богу в орудия праведности».
Достанет здравого смысла каждому, кто предпочтет душу телу. Ведь сильная разумная душа с большей легкостью носит члены своего тела, когда они бывают здоровыми и крепкими, нежели бы они стали слабы и тощи, присносущeй немощью денно и нощно отягощая душу…
На четвертый день Аврелия Августина просветленно озарило или же он к этому заключению пришел путем глубинных потаенных неосознанных внутренних размышлений, сопутствуемых молитвой, что наилучшей памятью о близких, неизбежно оборачивающихся далекими, ушедшими вдаль, должна быть его прилюдная жизнеописательная «Исповедь». И она же будет превосходным ответом язычникам, еретикам, маловерам, сомневающимся в действительности и действенности христианских католических истин, освобождающих человека от земнородной скверны, очищающих его от низменных грехов, издревле налагаемых царствами земными, возникающими не во имя Божие, но в силу человеческой суетности и демонских похотей ради.
Пойми это, кто может за-ради Бога, но не для человека сего — ничтожнейшего из ничтожных Аврелия Патрика Августина!..
Истинно праведна духовная любовь к Богу, но не к людям в их телесности. Оттого и в ближних наших должно возлюбить образ в настоящем безгрешного Бога, но отнюдь не себя самих, одержимых плотью и кровью, грехами и пороками.
«Ясно сознаю я, Господи, что люблю Тебя, тут сомнений нет. Ты поразил сердце мое словом Твоим, и я полюбил Тебя; и небо и земля, и все, что на них — вот они со всех сторон твердят мне, чтобы я любил Тебя, и не перестают твердить об этом всем людям».
В те дни молитвенный покой епископа неприступно, неутомимо оберегали по очереди днем и ночью пресвитеры Алипий и Поссидий. Подслушивать, прислушиваться под дверью его кельи они не решались, но сообразили по тому, сколько выпито вина, что святейший прелатус Аврелий неисповедимо облегчил задушевные тягости беседой с Богом и принялся за труды письменные. Вот-вот Божий этот человек вернется к людям из уединения. Господи, неужто и мы его «Исповедь» вскоре услышим, увидим, прочтем?
«Но какой пользы ради хотят они этого? Желают ли поздравить меня, услышав, насколько я приблизился к Тебе по благости Твоей, и помолиться за меня, услышав, насколько я замешкался под бременем моим? Я покажу себя таким людям.
Не малая уж польза в том, Господи Боже мой, что многие вознесут Тебе благодарность за нас, и многие попросят Тебя за нас.
Да полюбит во мне братская душа то, что Ты учишь любить, и поскорбит о том, о чем Ты учишь скорбеть. Пусть почувствует это душа братская, не посторонняя, не душа сынов чуждых, чьи уста изрекают ложь, чья десница — десница неправды, а душа брата, кто, одобряя меня за меня радуется, а порицая, за меня огорчается, ибо одобряет ли он меня, порицает ли, — он меня любит.
Я покажу себя и таким людям: пусть радуются о добром во мне, сокрушаются о злом. Доброе во мне устроено Тобою, это дар Твой; злое мое — от проступков моих, осужденных Тобою».
Самая последняя новость распространяется, обсуждается в городе и гласит: с дикого юга, где по природе кровожадны, злобны люди и животные, гиппонский епископ привез детеныша неукротимых лесостепных кошек. И Божьим чудом приручил его, сделав ласковым, домашним этого сервала.
В какой-то мере истина бывает и в пересудах людских. А котенка сервала Аврелию Августину подарил в Константине лошадник Лабеон Гетуллик. Его пастухи нашли маленького, едва прозревшего дикаря в лесу и подложили недавно окотившейся кошке. Та найденыша приняла как родного, с любовью и лаской. Зато малыша дико возненавидели деревенские коты и псы, обычно до одури боящиеся могучих, быстрых, словно молния, взрослых сервалов.
Бросок сервала стремителен как укус змеи; в беге, загоняя зайца или небольшую антилопу, он быстрее и выносливее степного пятнистого пардуса. И древолаз он отменный в охоте за птичьими яйцами и птенцами.
От кошачьих и собачьих врагов этот котенок почему-то спасался не на деревьях, а мигом вскарабкивался людям на плечи; бежал к первому, кто поближе. Из-за того его поначалу нарекли ироничным греческим прозвищем Демократ. Но когда он зачастил ласкаться ко всему народу без разбора, назвали Демафилом. С этой кличкой котенок попал к Аврелию и уютно пропутешествовал у него за пазухой всю дорогу до Гиппона.
Этого самого Демафила хитрый страж Алипий первым подпустил в келью к епископу. Видимо, для проверки: можно ли уже, нельзя заходить к предстоятелю. Продолжает ли молиться все так же строго сей неумолимый муж нумидийский?
О чудотворных приключениях их друга святому отцу Алипию давеча лишь обмолвился на исповеди доктор Эллидий, под большим секретом показав после страшнейший зубастый череп мелкого беса. Кабы не чудодейственные молитвы праведного пресвятого Аврелия, то вряд ли кто-нибудь из путешественников смог бы выжить в постигшей их передряге. В детали сражения с нечистью Эллидий не вдавался, да и Алипий благоразумно на том не настаивал. Не зря ведь епископ на время от мира затворился?
Теперь язычники и еретики только держитесь! Ужо будет вам не мир, но меч духовный от православных рукописаний Августина из Гиппо Регия!
В то самое время Аврелий cкoрoпиcнo набрасывал для памяти новые заметки к «Исповеди». Нашлось в них местечко и для Алипия, если тот у дверей епископа слонов слоняет бездельно, а не к завтрашнему суду материалы подбирает. Господи Боже мой!
«…Алипий родом из того же муниципия, что и я, происходил из муниципальной знати и моложе меня возрастом. Он учился у меня, когда я начал преподавать в нашем городе и позже в Картаге; очень любил меня, считая добрым и ученым человеком. Я же любил его за врожденные задатки ко всему доброму, достаточно обнаружившиеся в нем, когда был он еще совсем юн.
0днажды в полдень обдумывал он на форуме декламацию, которую должен был произнести, — это обычное школьное упражнение, — и Ты допустил, чтобы его как вора, схватила стража форума.
Думаю, Господи, что Ты разрешил это только по одной причине: пусть этот муж, столь великий в будущем, рано узнает, почему нельзя быть опрометчиво доверчивым при разборе дела и нельзя человеку с легким сердцем осуждать человека.
Он прогуливался перед судилищем один, со своими дощечками и стилем, когда какой-то юноша, тоже школьник, оказавшийся настоящим вором, подошел со спрятанным топором незаметно для Алипия к свинцовой решетке над улицей Ювелиров и стал обрубать свинец. Услышав стук топора, ювелиры, находившиеся внизу, заволновались и послали людей схватить того, кто будет застигнут.
Услышав голоса, вор бросил свое орудие, боясь, что его с ним задержат, и убежал. Алипий не видел, как тот вошел, но как выходил, заметил. Видел, что он удирает. Желая узнать, в чем дело, подошел к тому же месту и, стоя, с изумлением рассматривал найденный топор.
Посланные находят Алипия одного. Он держит в руках топор, на стук которого они прибежали. Его хватают, тащат, хвастаясь, что поймали на месте преступления вора. В сопровождении толпы людей, живущих около форума, ведут представить судье.
На этом и кончился урок. Ты тут же, Господи, пришел на помощь невинности, свидетелем которой был один Ты. Когда его вели, — в темницу ли или на пытку — с ним повстречался архитектор, бывший главным надзирателем за общественными зданиями. Провожатые чрезвычайно обрадовались этой встрече, потому что, когда с форума что-то пропадало, то он неизменно подозревал их в краже. Пусть наконец он узнает, кто это делал.
Человек этот часто видел Алипия в доме одного сенатора, к которому хаживал. Он сразу же узнал Алипия, взяв за руку, вывел из толпы, стал расспрашивать, почему стряслась такая беда, и услышал, что произошло. Он приказал идти за собою всему собранию, грозно шумевшему и волновавшемуся.
Подошли к дому юноши, совершившего кражу. У ворот стоял раб. Был это совсем мальчик; ему и в голову не пришло испугаться за своего хозяина, а рассказать обо всем он мог, так как сопровождал хозяина на форуме.
Алипий припомнил его и сообщил об этом архитектору. Тот показал рабу топор и спросил, чей он. «Наш», — тотчас же ответил мальчик, и когда его стали расспрашивать, то раскрыл и все остальное.
Так перенесено было обвинение на тот дом к смущению толпы, собравшейся было справлять триумф над Алипием. Будущий проповедник Слова Твоего и церковный судья во многих делах ушел, обогатившись знанием и опытом».
Этот не слишком знаменательный случай Аврелий потом захотел вычеркнуть, стереть, изгладить перевернутым стилусом, как не очень относящийся к делу и нарушающий связность, логичность повествования, но из любви к дорогому Алипию оставил в неприкосновенности.
С весны епископ взялся довольно часто посещать семьи, где имеются маленькие дети. Чего раньше за ним не водилось, так это того, что он подолгу разговаривал, играл с несмышленышами. Заходил он и к малышам в школы, чем навел великое смятение на учителей.
Его интерес к малым чадам людским святые отцы Эводий и Алипий объяснили по-евангельски просто подражанием Христу. Но в проповедях епископ Августин детского вопроса нимало не касался, и паства благонамеренно решила — это-де архипастырское умаление по причине скромности и смирения.
На самом деле сочинитель Аврелий вдумчиво изучал детей и сравнивал, ох с трудом восстанавливая в памяти, личные впечатления из малолетства с нынешним пониманием взрослого человека; ой как приблизившегося к старости.
«Услыши, Господи! Горе грехам людским. И человек говорит это, и Ты жалеешь его, ибо Ты создал его, но греха в нем не создал. Кто напомнит мне о грехе младенчества моего? Никто ведь не чист от греха перед Тобой, даже младенец, жизни которого на земле один день.
Кто мне напомнит? Какой-нибудь малютка, в ком я увижу то, чего не помню в себе?»
«Младенцы невинны по своей телесной слабости, а не по душе своей. Я видел и наблюдал ревновавшего малютку. Он еще не говорил, но бледный, с горечью смотрел на молочного брата. Кто не знает таких примеров?»
Был каждый день вечер, и было утро тоже в сочинительском творчестве. «Исповедь» Аврелий Августин примерно и назидательно вершил, будто суд над собой, творил как собственное мироздание в утренние рассветные часы, случалось, писал и до полудня; поздним вечером, бывало, сидел с табличками, строчил чуть ли не до петушиной пополуночи. Размахнулся аж на тринадцать книг-фолиумов. Ближе к концу лета приступил к написанию трех последних в основе богословских книг уже чернилами на папирусе, пока в черновом виде.
Труднее всего шли первые книги исповедального повествования. Поэтому как нельзя кстати пришлась, прямо на душу благодатно легла чудная идея Оксидрака съездить в Мадавру, заодно и родную Тагасту навестить. Стало быть, получится, — Аврелий это чувствовал, предвидел, — оживить полустертые детские и отроческие воспоминания без прикрас и лицеприятия.
В Мадавру, по словам проныры Оксидрака, святого отца Аврелия слезно зазывает с пастырским визитом добродетельная мать Элевтерия, основательница и настоятельница женского монастыря, не так давно приехавшая из ливийского Пентаполиса, до того жившая на Святой земле, в Палестине. О ней и ее чудесах целительства словом Божьим епископ кое-что слыхал, хотя переписки с ней не имел.
Тотчас заманчивое предложение Оксидрака Паллантиана горячо поддержал почтенный картагский ланиста Нумант Иберик, ничуть не забывающий патрона и былого воспитанника. О педагогическом прошлом у подопечного мальчика Аврелия он не устает передавать всем и каждому в Картаге. Порой обижается, когда ему не верят и ехидно осведомляются: не служил ли он случаем дядькой у Туллия Кикерона или Сенеки Младшего?
Впрочем, выглядит наш Нумант моложаво, дай Бог всякому, по-прежнему крепок духом и телом. Из мужского возраста никоим образом не выходит и весной обзавелся здоровеньким отпрыском от второй молодой супруги. Первая его жена Земия, к несчастью, умерла родильной горячкой несколько лет тому назад. Ее свекровь Эвнойя, она же старая нянька Аврелия, в прошлом году опочила в преклонных летах. А вот старичок Констант до сей поры жив, живет в доме у Нуманта из милости, жаль, из ума выжил.
В здравом уме Нуманта Аврелий ничуточку не сомневался, когда тот категорически постановил сопутствовать любимому патрону, незабвенному питомцу в поездке в Тагасту и в Мадавру. Скажите, кому не хочется показаться в родных местах доблестным, состоятельным, свободным нумидийским мужем? Там, где тебя знали, может, помнят сопливым мальчишкой-рабом?
В поездке на родину никак нельзя отказать и Алипию Адгербалу. Так что свита на сей раз у епископа подобралась изрядная, включая сюда пятерых вооруженных слуг и десяток береговых стражей. Меньше никак не годится, утверждает по-военному Ихтис. А также взяли, — куда от него деться? — пресвитера Эводия, обиженно настоявшего на своем участии в благочестном походе. Так что на хозяйстве в Гиппоне остается хлопотать без тагастийских старо-органических друзей-философов один-одинешенек отец Гонорат.
Неужто у нас сюда-туда поход с войском завоевательным, сопутники мои?..
Выехали на виноградных каникулах, пускай заботливый Ихтис тревожно советовал повременить до осенних холодов, ведь по его сведениям у Мадавры бродят шайки злостных агонистиков. Но центуриона даже безоружный и слабосильный Алипий не слушал. Чего там мирным путникам страшиться-то в обжитых родимых краях? Тем более, с такой силищей?
Ихтис с ними не поехал — служба есть служение, и супружница его некстати опять на сносях тужится. Зато Оксидрак, кого и почтенные года не берут, рядышком… Триумфатором выступает, прохвост, на дорогом богато убранном скакуне. И язвительно так комментирует помпезный выезд из городских ворот сатирическим крылатым словцом из «Аттических ночей»:
— Не каждому удается попасть в Коринф…
Интересно, на что или на кого наш прохиндей намекает?
В Тагасте этот индийский грекулюс Оксидрак не удержался и по окончании велеречивых приветствий, долгих докучных речей городских магистратов, пышно чествовавших почетного декуриона Аврелия Патрикуса Августина, неописуемо осчастливившего сим приездом родные палестины, сызнова съязвил:
— Есть пророки в чужом отечестве!
Выговаривать ему за кощунство и ерничество Аврелию не захотелось. И впрямь, кабы Сын человеческий искусился дьявольскими дарами на очень высокой горе, принял бы власть над царствами земными и сатанинскую славу их, то как бы его встречали сводные братья и сестры, недоверчивые соседи в Назарете? Небось, одеждами собственными его путь устлали? Но скорее всего бежали б очертя голову кто куда от мстительного царского гнева. У жестокосердных иудеев ветхозаветно так оно вовек. За соринку в глазу у царя тысячи глаз вынимают, и младенцев избивают скопом целыми селениями ироды-уроды…
Ни слова не сказал высокородному кесарскому мужу Оксидраку смиренный гиппонский епископ Аврелий. Не искушают его почести мирские, льстивые славословия людские, и дудки вам! Говорить не о чем.
Другой пошиб — писательская слава духовная в веках. Неистребимое честолюбие записного сочинителя, писачка-писателя — вековечный грех. Но куда ж без него? Прав вот-таки ересиарх Тертуллиан: прегрешение предваряет заслугу вечной жизни. Не согрешишь — не покаешься, не покаявшись, не спасешься…
«Гордым полезно впадать в какой-нибудь явный грех, чтобы это приуменьшало их самодовольство».
Не всякий порочный человек станет добродетельным; никто, однако же, не обретет добродетель, не вкусив добрую частицу порока.
Частично детские наивные грешки, но более всего отроческие и юношеские ух грешные безобразия, яснее ясного вспомнились на родине Аврелию. И Нумант о кое-каких порочных обстоятельствах напомнил. Найдется о чем писать нелицемерно, повествовать правдиво, раскаиваться исповедально, других предостерегая…
В городской базилике Мадавры, где епископ отслужил мессу по просьбе высшего клира и властных магистратов, он отметил среди прихожан присутствие в дальнем углу у колонны странно знакомой женской фигуры, плотно укрытой с головой монашеским одеянием. Чем-то, какими-то неуловимыми статями она ему очень напомнила жрицу Кабиро в давности многолетней. Потому и проповедь свою, вдохновенно импровизированную, вместо намеченного обличения ересей епископ посвятил тому, как устарелое язычество уступает, соступает дорогу прогрессивно шествующему современному христианству.
Ибо неостановим, неудержим, бесспорен совечный прогресс Божий от худшего к лучшему. Не в силах человеческих ли демонских необратимо повредить поступательному движению от безобразного хаотического невежества к форме и красоте Премудрости Господней…
По завершении богослужения роскошно разодетый Оксидрак, иронически улыбаясь, взял под руку скромную монахиню под покрывалом в глухой кукуле и подвел ее величаво к епископу, собиравшемуся было укрыться в ризнице. Путь в толпе им неоспоримо расчищали трое плечистых рабов, которых наш проныра, очевидно, заблаговременно отправил в Мадавру.
— Позволь тебе представить, преподобнейший, мать Элевтерию.
Монахиня откинула кукулу-капюшон, и удивленный до глубины души Аврелий мгновенно узнал под прозрачной накидкой бывшую жрицу Кабиро, склонившуюся в почтительном поклоне. Обмер, обомлел, но сию же секунду опамятовался, машинально благословил новоявленную преподобную мать. Как-нибудь иными словами он не мог подумать об этой жрице Великой матери полумертвых языческих богов, в одночасье обратившейся к религии Бога единого, истинного, живого, небеса сотворившего.
Мысленно вознеся хвалу Богу за свершившееся чудо обращения, епископ милостиво принял приглашение матери Элевтерии посетить пополудни иноческую женскую обитель и храм Рождества Богородицы. Лишь за редким исключением кто-нибудь может упомнить нечто подобное, когда он появлялся в жилищах женщин, принявших монашество.
Не иначе как зовут в бывший храм Кибелы, а прежний лупанар превращен в монастырь? Чудны дела Господни… Неисповедимы судьбы людские под водительством Твоим, Господи.
Кабиро нынче преподобная Элевтерия… Кто же ее греческим именем таким многозначащим в иночестве наделил? Или же она себя сама эдак нарекла языческим божеством свободы? И точно: познав внове благовестную истину, мы освобождаемся от нынешних пережитков и древних предрассудков.
Благочестивая мать Элевтерия не замедлила поведать святому отцу Аврелию свою историю. Чего-либо удивительного он не нашел в том, что она капитально разуверилась в язычестве, как только благополучно минул крайний срок, обещанного поганскими лжепророками существования христианства не более 365 лет. Многие так поступили вместе с ней.
Говорит, сны прорицающие перестала видеть, в сердце гулкую пустоту безверия ощутила, дар целительства иссяк. О некоем юноше Аврелии отчаянно вспомнила в старых видениях. Оксидраку тогда написала, а тот ей посоветовал святейшего прелатуса не беспокоить, лучше замуж выйти или окреститься. Надо же!..
Сердечно разговаривая с Элевтерией, принимая у нее душевную исповедь, Аврелий вдруг пожалел, что не ему довелось крестить женщину Кабиро. Хорошо бы на нее без просторных монашеских одежд взглянуть и кинкты, подвязывающей груди, как встарь в ритуальном танце перед идолом Кибелы.
Тотчас отогнав прочь непрошенное юношеское умонастроение, наверняка навеянное постоянной и неотвязной мыслительной работой над «Исповедью», он все же отметил: из женского возраста Кабиро не вышла, но плотскому вожделению, очевидно, не подвержена. Бесов в себе не тешит.
Да и в возрасте ли суть дела? Порой многими старухами да и стариками, подчистую утратившими все способности к зачатию и плодоношению, все еще полновластно владеет демон вожделеющего любострастия. С некоторых пор епископ таковых вожделенцев научился метко определять, как бы они ни лицедействовали во время исповеди либо в общении с ним, проницательным пастырем душ и телес людских.
Так как грешат не столько те, кто совокупляется тело к телу, прилепляется плоть к плоти, сколь вожделеющие в мыслях своих. Впадает в грех не тело, но любострастный ум человеческий.
Из-за того и женственную непорочность иногда нелегко разглядеть, если добродетель мало зависит от телесной целостности. Часом иная будто бы непорочная девственница, освидетельствованная повитухой, в умственной похоти и жажде постельных утех замужества гораздо развратнее и греховнее пожилой портовой шлюхи.
Мать Кабиро, вернее, преподобная диаконисса Элевтерия, как особа, не имеющая священнического сана, видно по-человечески безгрешна…
В последнее время Аврелий обрел эту необъяснимую способность различать, насколько душой человека владеет любострастная похоть, какие изменения и последствия она производит в мужской ли женской плоти. Он достоверно отмечал: было или нет у супругов плотское соитие накануне, состоялось ли зачатие, каков лунный месяц беременности; уверенно предрекает ту неделю, когда роженице на сносях предстоит опростаться.
Увы, грехопадение прародителей неразрывно связало пристойное заповеданное Господом деторождение с дьявольским вожделением мужского и женского тел, познающих искушение в брачном единстве.
Как бы то ни было, Аврелий более-менее точно возвестил жене Горса ее сроки и этого отца трех дочерей проникновенно о том предупредил полунамеком.
Наверное, уже должна разродиться. Неужели опять дочь у Ихтиса?.. Что ж, на все Божья воля…
«О, муж, употребляющий женщин как надлежит мужу: супругу умеренно, рабыню из послушания, и каждую воздержанно!»
В необычайном умении Аврелия духовно и снисходительно разбираться в сластолюбии и в результатах его убедился также лекарь Эллидий. Неоднократно проверял и удостоверился, но, согласно недвусмысленному пожеланию самого умельца, о том по-медицински не распространяется, о чуде не трезвонит на кимвале.
Между тем пресвитер Алипий, тоже посвященный в эти, скажем по-гречески, диагностические чудеса, добросердечно предостерегает окольно, обиняками благонравных прихожанок, чтоб воздержались подходить к причастию из рук прелатуса, проситься на исповедь после плотских услад или в течение тех самых дней ежемесячных очищений. Святому отцу Алипию жены и девы здравомысленно вняли, потому как в проблемах благопристойности наш дорогой пресвитер Павловой базилики — непогрешимый авторитет.
Будучи чуть знакомы, отец Алипий и мать Элевтерия друг другу моментально пришлись по сердцу, будто родственные души. Наоборот, старая орясина Нумант теперь опасается этой католической монахини еще пуще, чем в бытность ее языческой жрицей. Бормочет, мол, колдовство христиан сильнее, о наш доблестный свободный муж нумидийский.
Ну что с ним поделать? Каким был окаянным подневольным суевером-язычником, таким и поднесь пребывает в летах. Освободи и спаси, Господи, безвременно душу его…
В Мадавре Аврелий предержаще ощутил, как неизбежно проходят, уходят его сорок шесть земных лет от роду. Отрочество, юность давным-давно ушли, а полноценная зрелость всего лишь синоним здоровой старости, отделяющей образ прошлого безвременного рождения от столь же ускоренной временной смерти в образе будущем.
Вспоминая вчерашнюю юность, мы скоротечно постигаем наши сегодняшние зрелые либо старческие годы. Но разве исповеди о жизни, мемории-воспоминания пишут для того, чтобы понять себя в Боге? Это тебе ни к чему. Богу все про все про тебя досконально известно; и взвешен ты уместно на весах Его.
А покамест до финального окончания вселенских времен и пространств весьма далеко, чтобы там, сям ни утверждали извечные еретики — хилиасты, монтанисты, агонистики — будущее в настоящем имеет право оценивать, судить и осуждать нелицеприятно собственное свое прошлое.
Будь то дома в Гиппоне, в том достопримечательном путешествии Аврелий заносил на таблички памятные впечатления утром и вечером. Днем же внимательно наблюдал, узнавал минувшее, познавал наступившее, наступающее. Время от времени делал записи, едва покинув седло; на каком-нибудь постоялом дворе, в ином временном пристанище присаживался с письменными принадлежностями где придется. При этом вокруг мало чего могло избежать его испытующего взгляда.
Для епископа не составило большого затруднения углядеть, заметить, как местный проводник из Мадавры, приданные ему трое воинов, повели их отряд кружной дорогой, как необычно напряжены в боеготовности десяток всадников собственного сопровождения, сколь осторожен и бдителен к окружающей местности головной дозор гиппонских стражей Ихтиса. На привале преподобнейший не преминул прояснить у десятника охраны это тревожное обстоятельство.
Бесполезно лукавить молодой воин Сильва и не пытался. Сию же минуту объяснил, почему не захотел тревожить святейшего прелатуса, отвлекать его от благочестивых раздумий.
Еще в Гиппоне центурион Ихтис дал сесквипиларию Сильве строгий наказ, оберегая преподобнейшего, по возможности вооруженных стычек избегать, воздерживаться от пролития христианской крови. Без разницы течет ли она в жилах разбойных еретиков или православных воителей — равным образом напрасное кровопролитие огорчит и невыразимо расстроит святого отца Аврелия.
Теперь предполагается: на епископа Августина Гиппонского по всем вероятиям и разведданным зловредительные агонистики устроили засаду где-то по дороге из Мадавры домой. Большими силами им не собраться, а в малом числе они не очень-то страшны против умелых опытных воинов.
Сказать же во всеуслышание об этой угрозе десятник поостерегся, опасаясь, кабы ненароком не сочли трусом и не обвинили напрасно в недостатке римской воинской доблести.
— Ты правильно поступаешь, сын мой, — обнадежил его отец Аврелий. — Военная хитрость не есть нерешительная боязнь противника, но отложенная до поры до времени смелость и благорассудительное сбережение сил.
Да и с какой стати нам лишний раз отмаливать у Бога спасение грешных душ еретиков? — пустился в богословские рассуждения епископ, — пуще того, всуе сожалеть об их бренных телах и неразумных душах, неисправимо закосневших в богохульстве.
Враги наши, несомненно, должны быть нами любимы. Но не до безрассудства и всепрощения их телесных человеческих злоумышлений. Ибо благовестно разрешено, указано Иисусом Христом, что каждый вправе решать: отдать ли врагу последнюю тунику, либо продать ее, чтобы купить меч.
Однако Божьего милосердия ради будем полагать, будто проводник наш непреднамеренно ошибся и счастливо заплутал у трех дубов на распутье. Все ушли с миром…
Удачное путешествие в пространстве-времени, где прошлое плавно перетекает в настоящее или умопостижимо движется в обратном порядке, дома творчески вдохновило автора «Исповеди». Оттого поздней осенью настало долгожданное время переносить с вощеных табличек, дописывать, дорабатывать на папирусе целиком тринадцать книг пространного повествования.
Удалось ли ему цельно выразить себя в этих свитках, сочинитель доблестно и отважно взялся узнавать от ближних, домашних, избранных дорогих гостей, благоверно допущенных в орденское общежительство гиппонского архипастыря. Отныне ежевечерне по завершении обеденной трапезы Аврелий угощает собравшуюся братию чтением свежеиспеченного сочинения. Изначально просил не скупиться на критические замечания, но бесполезную хвалу сберегать молчком или наделять ею любопытных и непосвященных.
Вот и зачастил к неприхотливому монастырскому угощению гиппонского епископа чревоугодник Эллидий Милькар. В тщетной надежде хоть что-нибудь услышать о себе ни одного вечернего чтения не пропустил Оксидрак Паллантиан. Приехал из Картага нынче тяжкий на подъем Скевий Романиан, хотя морские путешествия его по-прежнему не страшат и корабельная качка не утомляет, в отличие от выматывающей душевное тело пыльной дорожной тряски верхом или в колеснице.
Как повод день наречения именем друга Аврелия само собой, это каждый год бывает, но друг Скевий вовсе недаром не убоялся зимних бурь на море. Ведь у требовательного к себе писателя раз-два и готово — изглажено другим концом стилуса, вычеркнуто каламусом все, чeгo тот воспримет лишним, неуместным в окончательном варианте авторской рукописи.
Один лишь друг Алипий безоговорочно отказался принимать участие в ежевечерних громогласных чтениях и бурных обсуждениях. Пусть себе предназначена «Исповедь» всему крещеному и некрещеному миру, но читать ее, внимать ей лучше наедине, молча либо тихо один на один, как давно уж заведено в исповедальной традиции апостольской церкви. Ибо хороший автор почти всегда изречено исповедуется, а благосклонный читатель зачастую священнодействует, совершая неисповедимое таинство проникновения в задушевные неизреченные глубины писательской мысли.
Ценные литературные замечания, дружескую нелестную критику Алипий сообщал автору только с глазу на глаз. Он же посоветовал Аврелию значительно подсократить первые несколько книг — убрать грубости, неблагопристойности, поберечь добрую память о фамилии Августинов из Тагасты и многое другое в жизнеописании юных и молодых лет будущего пресвитера и епископа.
Поначалу Аврелий возмутился, вознегодовал, даже обругал недобросовестного-де критика бесписьменными грубыми словесами. Да как можно погрешить против обнаженной правды жизни?!! Такой ты сякой, фарисей немазаный! В ханжестве зоил…
Однако немало поразмыслив, истово помолясь Богу, чрезмерно правдолюбивый сочинитель все же таки, скрепившись сердцем, согласился с доброжелательной критикой, о благонравии хлопочущей. Действительно, не стоит вводить в неприличное искушение слабые души, нищих Духом Святым, малых умом по возрасту или от природы первоначального грехопадения. Ибо умному достаточно малого, когда общеизвестное по жизни прилагается. Ну а тем, кто непристоен и бесстыден в интимных соблазнительных писаниях, то Бог им судья и мельничный жернов на шею.
На следующий консульский год к январским идам Аврелий извел уйму дорогостоящего папируса и с дружеской братской участливостью, с Божьей помощью завершил всецело правку тринадцати фолиумов «Исповеди» от первого до последнего. Тотчас писчие братья из пригородного монастыря Новый Органон под присмотром весьма и весьма престарелого, но еще бодрого отшельника Валериуса рьяно принялись переписывать, прилежно множить фолиант, о каком были изрядно наслышаны.
Потом среди гиппонской паствы с умилением сказывали, как на февральских календах отец Валериус, перевернув последнюю страницу «Исповеди» Августина, отрадно отошел в лучшую жизнь со знаменитой евангельской цитатой на устах. Пускай по правде умер старенький прелатус от выдернутого неосторожно волоска в ноздре и хлынувшей носом крови, благонамеренной выдумке многие в городе поверили всерьез.
Возможно, ему стоило дожить до глубокой дряхлой старости, чтобы окончательно убедиться в истинности собственного предвидения, давшего Гиппону, — да что там городу! — всему миру он открыл ярчайшего светоча христианского вероучения, помножив авторитет философского ума Блаженного Августина на авторитетность Церкви Христовой.
Весной фолианты «Исповеди», исполненные на тонком пергаменте в деревянном переплете со скрепляющими медными застежками, пресвитер Алипий начал отправлять по монастырям, призреваемым епархией Гиппона. Ученой братии предлагалось переписывать это произведение святого отца Аврелия и договариваться по разумной цене с тамошними книготорговцами, направляя весь доход в монастырский пекуний.
Чуть закончилась многоветренная морская непогода, манускрипт отправили на запад в Икосиум, на восток в Картаг. Потом первым же кораблем «Исповедь» ушла на север в Рим для попечительного распространения святейшим прелатусом города Святого Петра епископом Анастасием. Он ее тоже заждался и вот радостно дождался.
Зато Аврелий широкому обильному умножению личного многописьменного труда вовсе не радовался. Ему очень хотелось попридержать все тринадцать фолиумов, многое подправить, изменить, вычеркнуть, добавить.
Или же, как там у Горация в «Науке поэзии»? хранить, выправлять до девятого года?
Тем не менее править, мусолить рукопись можно до бесконечности. Оттого и достославный художник Апеллес нам императивно советует: руку прочь от готовой картины! Что написал, то написал. Восковыми красками на дереве или галлоидным чернилом на пергаменте. И в писательстве есть империум.
К тому же незачем плодить разные, во многом несовпадающие авторские списки, соблазняя дерзких или неряшливых переписчиков на произвол, неблагодарно искажающий букву и дух, однажды запечатленные в словах и строках. Список в оригинале рожденный и сотворенный должен быть не лучшим или худшим, но единым рельефным оттиском, образом, самолично рукой автора удостоверенным.
Действительно и достоверно: на июньских идах епископ Гиппо Регия отплыл в Картаг, поспешил на большое синодальное собрание африканских иерархов, пользуясь попутным западным ветром, преобладающим в эту пору года, освеженную дождями середины лета. Исповедимо и вестимо, на Иоанна Крестителя приходится летнее празднество окончания сбора первого урожая. Пришло время и автору громкого исповедального сочинения пожинать плоды благодатного творчества.
В Гиппоне у епископа нашлось не так уж много читателей. Наперечет известны книготорговцам те, кто сломя голову немедля разорился на приобретение дорогущего пергаментного фолианта «Исповеди». Люди победнее больше ее слушали в выдержках, в руках не держали. Поговорили и забыли. Мало ли чего боговдохновенного написал наш многоученейший прелатус?
С распространением сочинения его святейшества Августина на папирусе расчетливый отец Гонорат Масинта настоял погодить. Первые, достоимущие все равно станут последними, когда менее зажиточные читатели в массе возьмутся за тринадцать книг «Исповеди», переписанные на материалы подешевле. Тогда как для общественных библиотек предпочтительнее манускрипты на прочном переплетенном пергаменте.
В богатом Картаге, по сведениям книготорговцев, у «Исповеди» ожидаемо оказалось больше читателей и покупателей, чем где бы то ни было.
Неожиданностью стало преобладание среди них женщин. Как ныне всяко образованная благородная картагская матрона возжелала иметь личный список. Причем не самодельной домашней переписки, но оригинального монастырского исполнения, сотворенного во святости и благочестии. Причем приобретали востребованные манускрипты и ревностные христианки и супруги закоренелых язычников. Причем обсуждали они творчество прелатуса из Гиппона совместно, исключительно в дамском кругу, тишком, шу-шу-шу, без участия мужчин.
Между прочим, вслед за женами потянулись мужья, за ними родственники, клиенты…
Эту успешность звено к звену Аврелию убежденно предрекла матушка Элевтерия еще в Мадавре, когда он ей дал ознакомиться с кое-какими табличками, содержавшими юношеские воспоминания. Сейчас же ее пророчество полновесно подтверждается в цепочке неслучайных событий и предопределенных фактов.
Она, кстати, оказалась его попутчицей на большой торговой биреме в морском путешествии из Гиппона в Картаг. Ее тоже пригласили на епископальный собор в африканский метрополис; на нем среди прочего намечено обсуждение вопроса об устроении и поддержке православно-католических мужских и женских монастырей в провинции Африка. На корабле она в придачу предсказала, что среди нумидийских соотечественников тринадцать книг христианской «Исповеди» Августина станут пользоваться не меньшей блаженной популярностью, нежели языческие «Метаморфозы» Апулея в одиннадцати книгах, сколь бы ни разнились они между собой.
В литературном отношении писателю Аврелию, право же, несказанно польстило сравнение читательницы Кабиро, но ради вящего благочестия правоверный епископ Августин слегка попенял диакониссе Элевтерии за неуместность аналогии, приравнивающей словесную материалистическую форму к идеальному значимому содержанию.
— …Буква-знак мертвит, дочь и сестра моя, коли то или иное писание не животворит Дух Святый… Вспомни-ка о ветхозаветных Моисеевых скрижалях и предостережении апостола…
Кто вооружен правильным толкованием апостольских писаний, тот и предупрежден против славы мирской. Святого отца Аврелия Августина ничуть не смутило, что его узнают на улицах Картага, подходят под благословение, толпятся зеваки вблизи въездных ворот и у стен домуса Скевия Романиана, где он остановился.
Пришлось даже множество раз благословить крестным знамением преподносимые ему с почтением различные списки собственных сочинений. Это у злоехидных и буйных школяров Картага наполовину в шутку, наполовину всерьез возникло и пошло себе гулять поверие, — как моровое поветрие, Господи, помилуй! — будто произведения гиппонского мыслителя приносят удачу на экзаменационных испытаниях.
Прости их, Господи за все и за вся, пускай ведают они либо нет, чeгo творят, негодники.
Ехидства подбавили Скевий и Оксидрак, предложившие за их счет установить на картагском форуме статую некоего Августина из Гиппо Регия. Мол, для поклонения школяров сгодится. Меньше будут у ворот шнырять и под копыта коней лезть.
Аврелий благодушно посмеялся вместе с друзьями. Зачем ему недолговечные мраморные почести? Переменчивы приязнь и сочувствие стад людских. Сегодня того либо другого идола форума популярно возводят на пьедестал, воскуривают фимиам, завтра забывают наглухо. Или того хуже: оплевывают, глумятся, свергают. Примерами вся вселенная полнится.
— …Ибо, друзья мои, авторитетно указано нам евангелистами Матфеем и Лукой, что вся слава царств земных передана Дьяволу. Кому хочет Лукавый дает ее на время. Намедни дал, назавтра отобрал…
Целых две христианские седмицы провел Аврелий в Картаге. Сначала преходяще заседал и красноречиво дебатировал на соборе епископов. О Господи, словно от нимфы Эхо, слова, голоса и боле ничего! От бесплодных словопрений после отдыхал в доме Скевия за дружеским общением по вечерам. Потом коллегиальные оппоненты и сторонники разъехались по епархиям. Теперь по утрам Августин мог беспрепятственно уединяться за работой. В те дни он последовательно занялся давно задуманным глубокомысленным шестодневом «О Книге Бытия буквально», не обращаясь к прежним заметкам и наброскам на эту космогоническую и филогенетическую тему.
«Материя предшествует форме по происхождению, а не по времени».
«Возможность вложена в мир по слову Божию как бы в семени… Из чего в порядке веков возникает все в свойственное каждому время; а теперь — в действии, приличествующем времени, — в том действии, которое Бог совершает доселе, когда в свое время надлежало произойти Адаму из персти земной, а жене — из ребра мужа».
КАПИТУЛ XXVIII
Годы 1156-1163-й от основания Великого Рима.
7-14-й годы империума Гонория, августа и кесаря Запада. 7-13-й годы империума Аркадия, августа и кесаря Востока. 2-й год империума Теодосия Младшего, августа и кесаря Востока.
Годы 402-409-й от Рождества Христова.
Гиппо Регий, Нумидия, Мавретания. Oт Рождества до Пасхи, от Пасхи к Рождеству.
Над шестодневом епископ трудился тягостно, в постоянной умственной муке производя на свет комментарий к сотворению мироздания и человека. Тужился, силился, страдал, рожал истерзанным умом… Но иногда тягучие родовые потуги, терзания его отпускали. К добру ли, к худу? Случайно либо нет?
Случалось, он нередко неделями, месяцами не притрагивался костяным стилем к недоконченным табличкам. Самому прежде следовало понять, о чем таком он пишет, а это далеко нечасто получалось образно, логично и рационально, не хуже, чем у Аристотеля. Точный образ не есть неудобоваримое подобие, но переложение, развитие предопределенной вечной идеи-рацио.
Нечто подобное с ним время от времени происходило в продолжение работы над рукописью «Исповеди». В этом он определенно признался, написав, что в такие несчастные дни умственного ненастья он весь себе делался неугоден. Где уж тут просветленно, благовестно возлюбить ближнего своего как самого себя, если собственную личность воспринимаешь как врага? Боже упаси дружественных ближних от этакой любви!
Если твоя пасмурная ненавистная ленивая, тупая натура грешит супротив тебя, твоего разума, то сколько раз надо ей это прощать? Может, ни разу? Не то она тебе на шею сядет, заставив пожизненно пребывать в тунеядствующей темной глупости. Рановато нам еще думать о светлом дне седьмом заслуженного покоя и отдохновения, если Еву и Адама искусил в раю Сатана умственной леностью будто бы дарового божественного, ангельского познания всего и вся.
Поэтому противопоставить столь отвратному расположению малоразумного духа во избежание греховной праздности можно и нужно смену мыслительной деятельности или предмета беспрестанных размышлений. Таким интеллектуальным модусом Августин сочинил довольно резкое возражение «Против Фавста», когда этот его старый-престарый знакомец по манихейской молодости откликнулся на «Исповедь».
Тот манускрипт Фавст нарочито прислал с гонцом, снабдил похвальной дарственной надписью.
В учителя к юному Аврелию набивается наш литерат-элоквентор… Хорош подарочек! Но для нового доказательного опровержения манихейских бредней сгодился сполна.
Однако более всего от богословия и философии могли отвлечь повседневные хлопоты экклесиальные да церковные. Например, среди года (отнюдь не в конце его в преддверии Рождества Христова — так нам всем!) внезапно потребовать от святого отца Гонората подробного хозяйственного отчета о жизнедеятельности Гиппонской епархии.
Расходы, издержки, протори колоссальны, а прибыли и доходы — сущий мизер в минимуме. Наверное, зря это он, недальновидный предстоятель, запретил нашему экономному Гонорату покупать земли за пределами епархиального духовного ведения. В то время как запрет на вложение церковных денег в рост местным прибыльщикам вполне оправдан моральными соображениями филантропии и сохранением доброй славы гиппонского клира. Негоже одной рукой давать бедным вдовицам и сиротам, а другой обирать их посредством загребущей крабьей клешни безжалостных ростовщиков.
Но опять же, откуда церкви пекуний брать на непосредственное прокормление тех ж вдов, сирот, калек, немощных жалких стариков?
Вот наш щедрый жертвователь на церковные нужды Оксидрак насмешливо предлагает обложить ежегодной десятиной всех христиан города и окрестностей, кто имеет право прибегнуть к суду епископа. Утверждает, будто добьется благоприятного мнения декемвиров в данном вопросе. Годится ли вообще такое?
А где деньги брать на поддержку монастырей? Вразуми, Боже, если в прошлом году в Картаге запальчиво пообещал помогать монашеской братии, сестринствам, откуда бы они ни приезжали с прошениями о благотворительном вспомоществовании. Оговорился, конечно, возможностями экклесиальными.
Само собой подразумевается: по кормежке протягивай ножки. Не то тяни ручку за подаянием.
Даже доброхот Алипий, тоже озабоченный церковными расходами и доходами, говорит об устройстве епархиального хозяйственного суда для торговцев из христиан. И судебные начеты особо строго взыскивать с язычников, тягающихся с правоверными. Себя самоотверженно предлагает в беспристрастные неподкупные судьи.
Скажите на милость, не каждый же раз смиренно просить достоимущую паству об экстраординарных даяниях? Или дарованные золотые и серебряные церковные сосуды обращать в звонкую монету?
Некоторые священнослужители назойливо доказывают, как бишь необходимо взимать определенную денежную мзду с прихожан за отправление церковных обрядов в отпевании усопших, освящении брачных уз, крещении младенцев… И пресвитер Гонорат, увы, в их корыстном ряду далеко не последний.
Вот где мытари! Никак задумали Божьей благодатью в розницу торгованить? Раз так, я их, сквернавцев, не хуже Святого Петра разделаю, проучу, когда тот смертно посрамил Симона Волхва. По самые тестикулы прокляну любостяжателей!.. Больно и членовредительно…
Вновь вернувшись к незлобивости и кротости размышляющего духа, епископ принял решение впредь не отказываться от всяческих добровольных даров, какие бы лукавые неверные данайцы их ни подносили. Церковь Божия в любом раскладе сильнее всех врагов истинной веры. Xотя принятие имущественных благодеяний порой чревато неприятностями и нежданными хлопотами.
Что ж, всевозможное владение той либо другой собственностью сулит заботы, треволнения, беспокойства. Довлеет тревог мирских каждому, кому не чуждо широкое естество человеческое. Такова кара Божия за первородный грех прародителей. Но и это иго, бремя легко, коли Церковь берется за гуж во имя вящей славы Господней.
Вон насмешник Оксидрак называет авторитетнейшего гиппонского архипастыря, поднаторевшего в проповедях устных и письменных, — прости нас, Господи, за людское тщеславие квадратное, — точнее, обзывает принцепсом церковным, владетелем храмовым. Давеча придумал величать: твое святейшество дукс-понтифекс. А ведь по правде всякий клирик от мала до велика меньше, чем раб рабов Божьих в светском обиходе.
Как тут жить и трудиться не по человеку, но по Богу в апостольском подражании Сыну Божьему? Наставь и укрепи в служении праведном, Пресвятая Троица!
Вот высокородный кесарский муж, досточтимый проконсул Оксидрак Паллантиан, один из наших декемвиров гиппонских, завещание на днях составил многообещающее, публично его удостоверя. Истинно достоимущий благодетельный вклад в церковный пекуний выходит в миллионном исчислении.
Надо полагать, благодарен, коль в «Исповеди» его не задел, как он рабом-педагогом подвизался. Понимает: в моральном долгу он у меня за то, что когда-то от крестильной купели увильнул, проходимец суеверный.
Помягче бы с ним надо обходиться, и непреложно к святому крещению склонить прохиндея. Право слово, не ходить же ему, эдакому прохвосту, пролазе, проныре до могилы в катехуменах недоношенных?..
В прошлом году вон упросил крестить своего отпущенника Титуса, в диаконы поставить эту орясину. Дескать, покойного Турдетана заменит. Вряд ли, куда ему, дуролому похотливому, до покойника, славного безупречной добродетелью?..
Так оно всегда: званых, незваных пруд пруди, а действительно избранных раз-два и обчелся…
Почти каждый год в мае или в июне епископ посещал Картаг, чтобы деятельно поучаствовать в коллегиальных братских заседаниях высоких клириков Африки. Как-то раз доброжелательные коллеги, — может статься, себе на уме, не очень благоволящие к гиппонскому иерею собратья, — устроили либо подстроили ему публичный диспут с видным манихейским аскетом-бодхисатвой Феликсом, коего сектанты в неоправданном почитании именуют электором-избранником.
Господи, кого они избирают в учителя-то? Поучать желает, но сам-то учиться ни в какую не хочет. И видимо, ничему никогда не научится, невзирая на усердное умерщвление плоти.
В тот день Аврелий был особо гневен на себя, сущеглупого. Перечитывал, правил на рассвете собственные бытийные рассуждения о происхождении зла, генесисе первородного греха и ужаснулся туманной невнятности, нечленораздельному многословию плодовито записанного накануне.
В итоге сорвал гнев на горемычном Феликсе. Вовек ему счастья не видать, несмотря на имя! Быть может, этому манихею ведом кое-какой толк в аскетизме, но только не в открытых дебатах против профессора риторики Аврелия Августина. Откровенное издевательство, форменное измывательство над манихейским невежеством под злоехидный смех собравшихся продолжалось два с лишним часа.
Помниться, когда-то здесь в Картаге не менее злоязычно молодой профессор Аврелий состязательно прохаживался и топтался по мнимой учености старого профессора Эпистемона.
Господи Боже мой, как же давно это было! Никто ничего тут и не помнит, канула в Лету та соревновательность. Но истина развивается в новом качестве веры, ищущей и обретающей форму в интеллекте, образуя память и понимание. Истинно исправляет упорствующие заблуждения!
Адепт Феликс оказался упорен в манихействе. Не поленился, духом укрепился, чтобы через полгода приехать в Гиппон и бросить вызов святейшему прелатусу Августину прямо в базилике во время проповеди. Пришлось с ходу вступить в полемику, в эристику, в словесный бой. Второе разгромное поражение аскета смутило, заставило призадуматься. В третий раз святой отец Аврелий мягко собеседовал, долго увещевал Феликса на монастырском подворье Нового Органона.
Там приезжий попросился пожить, поразмыслить в иноческом окружении. А мыслить ему помогал святой отец Эводий, очень подозрительный к пришлым еретикам. Он же по прошествии года благолепно окрестил раскаявшегося и обращенного манихейца.
А еще до того был случай с богатым торговцем зерном неким Фирмусом, тоже попавшим смолоду в манихейские сети и подумывавшим, как бы расстаться с сектантами, слишком вольно запускавшими обе руки в его мошну. В один не то счастливый, не то несчастный день гиппонского предстоятеля угораздило, начав воскресную проповедь с развенчания арианской ереси, вдруг ни с того ни с сего полностью обратить весь пыл критического опровержения на манихейцев. Ни к селу, ни к городу занесло, возможно, потому что утром на глаза случайно попался какой-то опус то ли Фавста, то ли Мани.
Пусть ученый авторитет гиппонского архипастыря незыблем, непоколебим, и паства восприняла его резкий переход как должное, вечером за трапезой он сознался орденской братии в ораторской оплошности. На что брат Алипий ему резонно напомнил евангельский логий Христов о словах, которые приходят сами по воле Божьей.
Так оно и вышло, когда на следующий день пополудни Оксидрак едва ли не силком приволок к Аврелию упиравшегося Фирмуса. Оказывается, тот конфузливый купец у него на мессе присутствовал, прятался, охломон, за спинами прихожан и решил, что проницательный проповедник чудом выявил, высмотрел одного-единственного еретика, украдкой пробравшегося в храм, и немедля взялся громить его ересь.
Это уж, несомненно, знак свыше, и немного погодя святой отец Гонорат, благочестиво наставлявший в вере катехумена Фирмуса, окрестил должным чином этого бывшего манихея. После того, естественно, оприходовал в пользу церкви немалое пожертвование почтенного Фирмуса в виде дохода от продажи за морем в Остии груза пшеницы с целого пятивесельного корабля.
«Остается, таким образом, предположить, что эти начала сотворены способными к тому и другому виду, то есть и к тому, в каком наиболее обыкновенно проходит свое существование все временное, и к тому, в каком совершается все редкое и чудесное, как угодно бывает Богу производить то, что свойственно времени».
Так, исходя не только из духовного умопостижения, часом от обыденности и повседневности писал дословный теологический комментарий к Книге Бытия святейший прелатус Аврелий Августин.
Частенько он склонялся чуть ли не к еретической мысли, не исключающей эволюционного подхода. Быть может, Господь поныне творит каждого человека и душу его, зачем-то искушая материально и тем, вероятно, совершенствуя божественный образ во плоти перстной?
Неисповедимы нам будущие судьбы людские в творческих предначертаниях Вседержителя, бесподобно и неповторимо всему придавая форму, из былого ничто сочиняющего видоизменяемое мироздание…
Таким вот подобием однажды приехал к нему застенчивый юноша из Картага с огорчительными вестями. Ох, искушение на земле владение, обладание всяческим имущественным достоянием и состоянием!..
Пресвитер Алипий и диакон Титус тотчас допустили заезжего молодого человека к преподобнейшему Аврелию, чуть услышав, что сюда пожаловал старший сын достославного сенатора Руфа Юбина Микипсы, чьи предки родом из Гиппо Регия, возможно, из царской нумидийской фамилии. Оно неудивительно, если этот состоятельный картагский патриций пожертвовал высокодоходное маслично-виноградное имение церкви нашей. Как же, как же! Вестимо, слыхали братья, как прочел сей достоимущий муж «Исповедь» святейшего прелатуса Августина, умилился душой, преисполнился благоговения и выделил немалые плодородные югеры в окрестностях города Гиппона на благочестивые дела.
Очень разным людям предназначалась и доныне предписана жизнеописательная «Исповедь» Августина.
«Что же мне до людей и зачем слышать им исповедь мою, будто они сами излечат недуги мои? Эта порода ретива разузнавать про чужую жизнь и ленива исправлять свою. Зачем ищут услышать от меня, каков я, те, кто не желает услышать от Тебя, Господи, каковы они?»
Итого, минули три года; видимо, левая рука картагского сенатора осознала-таки, сколь щедро направо-налево отделяет, расточает фамильное добро правая конечность. Или же наоборот. Кто их ведает по отдельности, справа или слева нечто нашептывают демоны-бесы своекорыстия природному скряге? И делают прежде свободного человека рабом единого греха жадности, скопидомства, скупости, не прощающего ни долги, ни должников.
В личном письме к епископу Аврелию Августину декурион Руф Микипса бесцеремонно потребовал передать его сыну Гераклию все права на владение и распоряжение имением и виллой Ларикиум. Дескать, прежнее пожалование отменяется, бывши совершено в течение лихорадочной болезни во временном помрачении рассудка.
Немедленно был вызван пресвитер Гонорат с документами. Тут же епископ уяснил — дарение-то высокочтимого сенатора с подвохом, предусматривающим лишь пользование доходами от данной собственности, а права на нее перейдут новому собственнику согласно завещанию только в случае безвременной кончины дарителя. Завещание сенатор Руф как вдруг изменил, объявив единственным наследником и пользователем вышеозначенного достояния сына Гераклия.
Епископ поначалу безмерно огорчился, узнав, сколь пагубно повлияла на умственные способности картагского декуриона его «Исповедь». Хотел было проклясть взбалмошного старика Руфа, посягающего не столько на церковное имущество, сколько подрывающего святость и авторитетность Xристианской Церкви сквалыгу. А того-этого нахального юнца, зловестника худого, сына блудного и приблудного немедля гнать вон, прочь, долой, восвояси…
Впрочем, необдуманные, необратимые решения всегда были Августину не свойственны, не присущи. Присно решать с кондачка, повинуясь первому движению душевного тела, значит подчиняться природе человека, извращенной первородным грехом неоправданного своеволия от райского древа сомнительного демонского познания будто бы всего доброго и злого.
Откуда зло, что есть добро? Во всяком случайном варианте истинного добра маловато в бренных богатствах земных, пусть вам они именуются плодородными землями. Ибо все земнородное подлежит финальному Божьему всесожжению, скажем по-гречески, холокосту в конечной полноте времен и окончательной протяженности пространств.
Космогонически поразмыслив по поводу и по случаю, Аврелий выслушал компетентные мнения пресвитеров Гонората и Алипия по данному имущественному вопросу. Иными словами, от душевного к духовному, от низшего к высшему. Иногда и в обратном порядке.
Преимущественно оба эксперта сходились на том, что поддаваться сумасбродному давлению выжившего из разума непорядочного Руфа не стоит. В своем ли уме тот находился, когда изменял завещание или же снова впал в детство, старческое размягчение мозгов, памяти и помраченное скупердяйством сознание?
Те же вопросы без сомнения возникнут у судей-магистратов Гиппона. А пока суд да дело, наложат они секвестр на спорные гиппонские земли. Меж тем право использования последних, — не пропадать же добру? — пребудет за нынешним пользователем, то есть католической епархией Гиппо Регия в лице ее христианнейшего предстоятеля прелатуса Августина.
В положительном приговоре-узуфруктусе судебных властей Гиппона сомневаться не приходится. Засим последует черед правосудия магистратов Картага и светлейшего викария кесаря Гонория в провинции Африка.
Юноша Гераклий весьма кстати от него привез личное послание, где кесарский комит ненавязчиво советует преподобнейшему отцу Августину уступить великодушно отеческим пожеланиям сенатора Руфа.
То же самое окольно рекомендует в братском письме предстоятель Католической Церкви в Африке епископ Аврелиус. Ему нет нужды подробно объяснять брату Августину, насколько важна поддержка имярек (читай Донат) нынешнего викария, в деле и в свете борьбы с ересью донатизма. Имеются и некоторые фамильные обстоятельства в этом малоприятном и малопристойном казусе с наследственным имением Ларикиум.
Ознакомившись и вдумчиво перечитав заново все три письма, в запечатанном бережении доставленные Гераклием, гиппонский епископ решил побеседовать также с самим гонцом.
Юноша ему и поведал искренне, без утайки почти библейскую историю, как молодая мачеха добилась от старика Руфа, чтобы старшему сыну, очевидно, не оказавшего ей любовного почтения в женственном естестве, был выделен отрезанный ломоть в виде спорного Ларикиума. Повествовал о том наследник обиняками, явственно стыдясь за несуразного отца и его похотливую супругу.
Из отцовской воли он выходить не намерен и покуда не может. Но по вступлении в законную посмертную силу завещания готов безотлагательно передать не очень праведно нажитое наследство по его истинному благочестивому назначению. Если на то будет дано милостивое согласие святейшего прелатуса, он всей душой желал бы временно поселиться на вилле Ларикиум вместе с немногими друзьями, дабы основать философскую христианскую общину по знаменитому блаженному образцу той, какая существовала в медиоланском Кассикиакуме.
В такой благочестивой и любомудрой просьбе столь преданному и памятливому читателю «Исповеди» епископ никак не мог отказать. Во благо любое доброе желание должно непременно исполниться на этом свете или на том. Ибо всякая проповедь Слова Божия не пребудет слабосильной. Верно слово истины преподающего!
Не то слово тот еще слабоумный отец благонамеренного Гераклия. Бог с ним, с тем сумасбродным старцем Руфом. Пускай живет, покуда Бог его терпит, и земля носит.
Прощеный Аврелием картагский декурион прожил еще достаточно долго, чтобы он успел о нем начисто позабыть. А вот скоропостижная кончина гиппонского магистрата Оксидрака Паллантиана оставила неизгладимый след в его памяти. Августин даже было приступил к четырнадцатой книге «Исповеди». Надо ведь как-то почтить ушедшего друга, какой он ни есть, каким бы ни был? Однако другой всеохватывающий замысел вскоре полностью овладел его разумной душой писателя от Бога.
Дабы описать близкое, требуется от него полнозначно удалиться в пространстве-времени. Либо уметь отстраняться от происходящего и произошедшего. Но куда ж тут отрешиться, если в собственном домусе предательски, вероломно убит Оксидрак смертельным ударом меча от ребер к сердцу?
К расследованию убийства знатного друга епископ приступил по горячим следам. И ничего определенного не выявил, никого бесспорно виновного не обнаружил, не глядя на то, что на посылках у него служат высокопоставленные гиппонские квесторы. Даже нарочитый посланец из Картага от нового африканского викария, высокородного Маркеллина спешно прибыл в Гиппо Регий с агентскими полномочиями юридикуса. И он подчинился епископу в непростых следственных действиях.
На пару с доминусом Оксидраком также убита, зарезана точным кинжальным поражением в яремную жилу молоденькая комнатная рабыня Мапалия. Точно так же хладнокровный убийца оставил и это орудие злодейства в теле жертвы. Все для того, чтобы на него не брызнуло, не попало ни капли крови. И длинная кавалерийская спата, и малый мавретанский кривой кинжал хранились в хозяйской спальне. Зато с места преступления похищен большой ларец сандаракового дерева с крупными драгоценными камнями.
Двойное убийство явно совершил кто-то из своих, из домочадцев. Собаки во дворе домашнего убийцу пропустили без звука. Тот молосский кобель у дверей спальни храпел себе и сопел, завыл дурным собачьим голосом лишь под утро, наверняка почуяв кровь и смерть, когда до ветру погулять невтерпеж захотелось дурню бесчувственному.
Не зря в благовестии предупреждает Сын человеческий: домашние человека суть враги его.
Пристрастные допросы под пыткой рабов Оксидрака чего-либо вразумительного в основном не дали. Даром что один неверный слуга из привратных стражей невнятно признался в содеянном убийстве. Но указать местонахождение похищенного ларца не указал, так и умер внезапно в продолжение хоть мучительного, но умелого дознания под наблюдением самого медикуса Эллидия.
Казалось бы, вот он, благополучно найден низкий убийца. Бог лиходея внезапной смертью покарал. Но епископ Аврелий в это простое да пустое объяснение совсем не верил и дела закрыть не позволил.
Ведь настоящий злодейский преступник ходит где-то рядом, и посмеивается над правосудием, мерзавец!
Тем временем язычники в союзе с еретиками злоехидно пустили гнусный слушок насчет того, кому в первую очередь выгодна смерть богатейшего Оксидрака. Тайное обязательно должно стать явным, не то благолепию и евангельской чистоте церкви Гиппона будет нанесен неизбывный урон, трудно поправимый моральный ущерб.
А ну как останется нераскрытым такое тяжкое преступление? Ох надолго злопыхатели ославят тебя безудержным стяжателем богатств неправедных, запятнанных кровью…
В дурное верится легко, коли Сатана и демоны-ангелы его от Бога отпали…
Всячески увещевал вероятных подозреваемых епископ, призывал сознаться чистосердечно. Запретил пыточный спрос над ними, велел подлечить. Подолгу собеседовал с каждым, скрупулезно исследовал все обстоятельства дела, свидетельства из жизни вероятные.
Благодарные узники, избавленные от пыток, силились ему помочь, усердно припоминали все, что было в последнее время в доме Оксидрака, а чего и вовсе не бывало.
К слову, домоуправитель Aгапон, заикаясь, указал на диакона Титуса, охраняющего, прислуживающего святейшему прелатусу. Дескать, мог тайком пробраться в знакомый особняк, якобы потому что к хозяйской рабыне Мапалии неровно дышал, клинья подбивал, от ревности-де молчаливо страдал.
Словам отпущенника Aгапона епископ серьезного значения не придал, счел оговором, клеветами и наветами, если умершая Мапалия нечего уж не скажет, не покажет следствию. Наверняка тщится увильнуть от дальнейших пыток, грекулюс хитроглазый. Голова не тыква…
Да и слушок дурнопахнущий может пойти на поживу злоречивым пустомелям и пустосвятам. Бесперечь скажут, разнесут, не побрезгуют клеветники: пастырь недобрый благословил-де прислужника своего на убийство церковной выгоды ради.
Для порядка и очистки совести епископ спросил диакона, не отлучался ли куда тот в ночь убийства Оксидрака и его рабыни? Глянул на него Аврелий сурово, тяжелым пронизывающим взором. Он на всех в то время так смотрел, скрывая скорбь от потери старого друга. Пастырским посохом причетнику он не грозил, только навершие поглаживал.
Диакон дрогнул в лице, но вроде бы искренне, путаясь в словах от усердия, заверил архипастыря: ночевал-де безотлучно у его дверей. Никуда и мысли не было уйти, оставив в небрежении долг христианской любви преданного слуги-телохранителя.
Верно, не лукавит прелюбодей…
Где в ту ночь находился любвеобильный Титус, мог бы достоверно сказать кот Гинемах. Но, известное дело, скот он бессловесный, слушать умеет прекрасно, но ответа от него хоть тысячу лет жди не дождешься. Правда, в то утро с рассветом сервал эдак косо посматривал на Титуса, усами поводил, плотоядно облизывался.
Был когда-то наш боевой котяра Демафилом, потом нарекли его Гинемахом, то бишь Жен побивающим, потому как смолоду женщин невзлюбил после одного случая. И не нравится сервалу, когда почует он от диакона сильный запах человечьей самки в течке и в сладострастии. А Титус еще тот ходок за женским родом, конгенитально…
Иных прегрешений, кроме молодого малообузданного сластолюбия, епископ за диаконом не находил.
В поисках доступной женственности орясина Титус способен на многое. За что и наказуем обыкновенно строгим постом, молитвой и страхом подцепить постыдную греческую болезнь.
Но бесстрастное убийство из корыстных побуждений не в обычае у сладострастников. Податливой женской плоти довлеет им не только в портовых лупанарах. Однако и однако, здесь по соседству хватает грешному диакону Титусу одинаково падких на любовные утехи рабынь и свободных женщин.
Прости им, Господи, ибо они ведают, что творят, что вытворяют с мужчинами… Не замечен в корысти Титус, и дудки вам!..
Камешек подозрения в огород диакона епископ все же забросил. Как-то раз, поутру беседуя с Гинемахом, спросил безответно о причастности отпущенника Титуса к злодейскому убийству патрона. Хотя это и немыслимо по здравому рассуждению.
Кот того не знал, зато Аврелий отлично помнил, как после гибели Турдетана такого вот прислужника ему приставил Оксидрак, поручился за него, рассказал, откуда взялся этот крепкий германский варвар из племени франков.
Оксидрак недорого выкупил этого гладиатора из амфитеатра, точнее, загонщика зверей, если смертельные схватки людей давно уж под христианским запретом церкви и кесарей. Взял он его у великолепно им обоим знакомого картагского ланисты Нуманта. Звали его в ту пору довольно неприличной гладиаторской кличкой Титин Маммит Филитерус, то бишь Любитель больших титек и продажных женщин. Переименовал его пристойно покойный Оксидрак, к себе приблизил, на волю отпустил.
Пресвитер Эводий, дотошный в душевных дознаниях, отпущенника Титуса наставлял в катехуменах, впоследствии окрестил, принял в добровольные причетники. И ничуть не возражал, когда верный набожный Титус принялся служить святейшему прелатусу Аврелию уже в сане диакона.
В тот пасмурный день Аврелий пополудни вышел из дверей портовой темницы, где под бдительным присмотром примпила Горса Торквата содержались подозреваемые в жестоком убийстве высокородного Оксидрака. Настроение духа у епископа было не менее мрачным, нежели вчера, когда он горестно жаловался Гинемаху на ход тупикового безрезультатного расследования.
Взглянул нахмурясь на диакона Титуса, в сердцах хватанулся за черный посох. Послать бы надо рысью вскачь обормота германского домой за кое-какими табличками, свериться с прежними показаниями подозреваемых. Сопутствующий ему Гинемах проскользнул вслед за хозяином, хребет злобно выгнул, зашипел на искомого диакона, ощерился, словно собирается в нападение броситься на недруга.
Как раз в тот миг острый солнечный луч пронзил густые хмурые тучи в небе, ударил в навершие эбенового посоха. Матово засветились три рыбы из слоновой кости, а удерживаемая ими черная жемчужина неожиданно засияла ярчайшим, точно неземным блеском. И тут пораженный, зажмурившийся Титус как грохнется на колени, да как начнет в нечаянном убийстве каяться, вопить, бить в грудь, рвать себе бороду. Ну давай признаваться во всем, в чем никто и не думал его всерьез подозревать.
Выходит, убил он патрона Оксидрака, сгорая от дикой похотливой ревности, пробрался никем не замеченным в спальню, увидел с вожделенной Мапалией… ну и ничего дальше не помнит.
Центурион Ихтис опомнился быстрее опешившего епископа Аврелия, минутным делом связал убийцу покрепче, мешком швырнул в повозку, кликнул стражу, гикнул и, нахлестывая лошадей, помчался на форум к магистратам. Пускай под запись судьям винится покаянно, злодей.
Правильно делает Ихтис. Его, между прочим, как одного из наследников Оксидрака, тоже обвиняла злоязычная народная молва в таинственном искусном убийстве. Честный справедливый суд не может обойтись без гласности и публичности.
За центурионом верхом на чужом коне махнул епископ. Он к той минуте сообразил в чем тут суть и дело, а объятого Божьим страхом суевера надобно дожимать поскорее.
Очевиднейшее доказательство!
Вскоре соображения епископа сполна подтвердились перед судьями и публикой, охочей до судебных слушаний, перипетий и рекогниций. С удовольствием, с замиранием сердца послушали, как варвар Титус жутко испугался черного посоха епископа. Будто бы подобно кольцу царя Соломона сей волшебный жезл дает возможность святейшему прелатусу понимать язык животных. Вчера, мол, его святейшество прелатус Августин громко разговаривал с котом Гинемахом, а тот ему тихо рассказал, что в ночь убийства грешного диакона Титуса дома не было и быть не могло до самого рассвета. Значит, надо признаваться грешнику, не доводя дело до пыток на допросе с пристрастием или, — оно еще тебе хуже! — адского загробного воздаяния.
Твердит, как убивал не помнит, а ларец с камнями с собой прихватил, чтобы замести след, отвести подозрение; закопал его украдкой в саду епископальном под грушей. Гинемах все это видел и может подтвердить.
Еще жемчужина на посохе его святейшества светильником Божьим вдруг как зажглась обвиняюще от первоначального доброго света первого дня творения…
Все тогда случившееся до сих пор живо припоминается епископу. Живет и здравствует наше прошлое в настоящем. Если же достойно расчертить его знаками письменными, то оно и в будущее перемещается, поучительно и назидательно.
Совершенно раскаявшегося убийцу, как то: расстриженного диакона Титуса, бывшего гладиатора Титина, варвара из племени франков, квирита, вольноотпущенного Оксидраком Паллантианом — казнили в цирке Гиппо Регия милосердно без пыток и увечий согласно приговору скорым отсечением головы от шеи посредством топора.
Большая часть в огромном размере ценной движимой и недвижимой собственности погибшего от руки клиента патрона по завещанию без судебных тяжб отошла церкви Гиппона. Окрещен был завещатель или нет по закону значения не имеет.
Вот они перстные богатства мирские! И ржа общественной людской зависти их съедает, и воры подкапываются в частном порядке. Даже для церкви бывают весьма обременительны пресловутые материальные блага.
Да и благо ли оно, как скоро за его приобретение должно расплачиваться дорогой ценой утраты ближних и близких? Пускай не все мы умрем праведно, но все воскреснем, — не без горечи утешает праведных апостол.
Спустя год Аврелий лишился Скевия Романиана. Трехвесельный корабль давнего друга в страшной буре разбился о скалы у берегов Сардинии. Обломки триремы и бренные останки погибших волны вынесли на берег. Мертвое тело Романиана, судовладельца из Картага, опознали по фамильному перстню с конской головой из рубина.
Три четверти значительных богатств Скевия Романиана по завещанию достались куриалу Аврелию Августину из Гиппо Регия. Тем не менее епископ согласился лишь на десятую часть наследства, уступив прочее вдове и двум сыновьям погибшего. По судебному соглашению с другими основными наследниками десятина Аврелия составила богатейшие земли в Мавретании у Картенны с плодоносящими садами-плантациями олив, смоковниц, гесперид, перешедшими в нераздельное бесспорное владение церковью Гиппона.
В мавретанских городах Картенна, Кесария, Типаса, в других тамошних муниципиях епископу доводилось бывать и раньше по экклесиальным делам. Хотя больше он путешествовал верхом по Нумидии, повсюду пламенно и пылко выступая против ересей во имя истового правоверия.
Еще лучше православные по-католически христиане не только в провинции Африка узнали о гиппонском предстоятеле из его знаменательных книжных творений. Свое достоименное буквальное толкование Книги Бытия ему все же удалось завершить. Наступала католическая пора иного вселенски знаменитейшего труда и других свершений в предназначенное ему по воле Божьей двадцатилетие.
На пятьдесят пятом году жизни знаменитый писатель Августин из Гиппо Регия все чаще приходил, подступался к мысли, что он слишком уж много по-стариковски смотрит назад, клонясь вниз, вместо того, чтобы глядеть вперед и вверх. И богодухновенно взирать от низкой преходящей юдоли тленной к вышнему царству вечности Господней, от этого града земного к небесному граду Божьему.
Sursum corda[3].
†
ФОЛИУМ СЕДЬМОЙ. УХОДЯ ОТ ЦАРСТВ ЗЕМНЫХ, ГРАДА БОЖИЯ ВЗЫСКУЕМ
КАПИТУЛ XXIX
Год 1166-й от основания Великого Рима.
17-й год империума Гонория, августа и кесаря Запада. 4-й год империума Теодосия Младшего, августа и кесаря Востока.
Год 411-й от Рождества Христова.
Гиппо Регий весной, Картаг летом, Кесария Мавретанская осенью в проконсульской провинции Африка.
По смерти воистину высших друзей — Скевия и Оксидрака — епископ Аврелий напрочь перестал посещать дома очень богатых людей Гиппона, непрестанно, пускай и напрасно, зазывающих его отобедать в пиршественной избыточности со многими изысканными, но чаще всего с простейшими, пустейшими развлечениями. И по прошествии лет он редко изменял этому личному монастырскому уставу воздержанности и умеренности.
Непременно приглашают не из приязни, но по светскому сдержанному обычаю или же с тщеславным упованием. А вдруг да и удастся залучить такого именитого писателя-архиерея? Притом его брезгливые отказы, щепетильные странности, выборочную отстраненность от мира воспринимали в городе как должное, если у христианского предстоятеля Гиппона и Нумидии имеются самобытные душевные обыкновения, духовные установления, религиозные причины приближаться или отдаляться от кого бы ни было тут и там.
Хотя б здесь вспомнить о богатейшем Флакке из дальней Тeвесты, недавно, на апрельских календах приезжавшем в Гиппон к Аврелию погостить на несколько дней.
К тому же и при посещении Картага архипастырь Аврелий Августин, даже возглавив христиан Нумидии, неизменно, непреклонно отклонял приглашения на обеденные пышные симпосии, невзирая на обиды и недоумения влиятельных достоимущих особ. Напыщенная прямо-таки уставная показная роскошь столичных богачей ему в особенности претит, если духовно они прозябают в умственной нищете и по жизни всецело пребывают в бездельном тунеядстве.
О различных трудах праведных, о неизжитой бедности, о нажитых людьми разнообразных богатствах в их духовном и телесном сопряжениях епископ Августин Гиппонский в те годы, последовавшие за небывалым, неслыханным разграблением Рима вестготами бывшего кесарского комита Аларика, неустанно и пространно размышлял, многоречиво выступал с предержащими проповедями, кратко и емко писал о грядущем Граде Божием, свободном от разбойничьей алчности к золоту и серебру, не знающем нищего богатства и позорной сатанинской славы земной.
Одно дело — славное богатство, и совершенно иное — бесславные деньги-пекуний.
«Богатыми мы называем людей мудрых, добродетельных, справедливых, для кого деньги или не имеют никакого значения, а если имеют, то самое небольшое. Они больше богаты добродетелью, благодаря чему и в телесных нуждах бывают довольны тем, чем владеют.
Бедными же мы называем людей жадных, кто от века стремится к приобретениям, но извечно нуждается. Как бы много или мало у них ни было денег, не нуждаться они не могут.
И самого истинного Бога мы именуем богатым, но богатым не деньгами, а всемогуществом.
Богатыми называются также люди денежные, но в плотской душе они бедняки, если жадны. Равно и не имеющие денег прозываются бедными, но по духу и плоти они богачи, коли мудры».
«Когда нравы испортились, порок создал противоположный порядок вещей: бедность общества и богатство частных лиц.
Зато в Граде Божием не будет особой нужды обогащать общественную казну за счет частного достояния там, где общим сокровищем будет сокровище истины».
Поистине мудрость мудрости рознь, если не мудрствовать лукаво. А Ферродика не Ларикиум.
Касаемо, кстати, общей умудренности молодого Гераклия епископ Аврелий испытывал некоторый философский скепсис. Какой-либо любомудренной общины единомышленников на благоустроенной в достатке вилле Ларикиум не возникло. Картагские приятели Гераклия взяли и покинули этот сельский приют умственных занятий. Юные умники разошлись, разъехались кто куда, испытывая неодолимое отвращение друг к другу после нескольких месяцев нескончаемой праздной болтовни. Разговаривали без устали, спорили яростно, бранились до хрипоты, но письменных диалогов из их далеко не платоно-сократовского словоговорения не вышло. Всем было противно сначала ежедневно, потом еженедельно читать, вычитывать, поправлять, править за собой то, чего там за ними прилежно настрочили два писчих раба.
Так же не получилось у Гераклия на сей раз в одиночестве подружиться с дорогими истинами Аристотеля, дабы связать их со Словом Божьим. Увы, отнюдь не все на земле завязывается, что на небесах разрешается.
Не обнаружив ни устного, ни письменного любомудрия, засел наш юнец за поэзию. Накропал две-три хромые поэмы, какую-то тусклую бессвязную трагедию о нумидийском царе Гиемпсале. Потеряно начал и не нашел чем закончить тягомотный эпос о Югуртинской войне..
Ничего из его патриотических сочинений Аврелий не читал, только слышал о них вкратце на исповеди от оного безуспешного и безутешного начинающего автора.
…А вот в Святом Писании наш Гераклий Микипса довольно сведущ. Благовестно знает что почем, кому или чему следует проникать в игольное ушко, чтобы заслужить местечко в Граде Божием, в настоящем отечестве истовых христиан. Потому без грустных сожалений расстался с наследием благородных исторических предков в духовном понимании и вещественном смысле, — умозаключил нумидийский архипастырь.
И то сказать, честным рачительным виликом заблаговременно снабдил будущие церковные земли хлопотливый отец Поссидий Эпулон, всеобъемлюще, управляющий всем большим епархиальным хозяйством… Экономически и экологически, выразимся в новой словесности старыми словами по-гречески…
Аврелий с легкой грустью вспомнил, как ему стало жаль отпускать давнего друга, многохозяйственного, домовитого Гонората, еще прежде милого Алипия возведенного в сан епископа. Теперь вот настает время честь по чести избрать, посадить на кафедру, облачить в митру и мантию епископа дотошного дознавателя Эводия.
Более-менее им под стать достойную, умную замену он, Аврелий Августин, уж давно неспешно готовил. И о судьбе юного Гераклия ему стоит поразмыслить экклесиастически, во благовремении и благочестии.
Писать с толком этот юноша, может статься, научится с годами. Не все же начинают молодыми да ранними, намного чаще бывает молодо — зелено… Но читать с умом он уже сейчас умеет. Видимо, поэтому и критик из него получается толковый, обстоятельный, многознающий, из этого нашего ближнего диакона…
Епископ, поморщившись, с нескрываемым неудовольствием оглянулся на двух других свитских причетников.
Неужто без этих самых двоих здоровущих обалдуев никоим чином не обойтись, если некий пресвятейший, некто преподобнейший посещает бедных с пастырским словом и благостыней? Не тут-то было! Ходи со свитой. Как бы какой грубости от озлобленной нищеты не случилось, — уперся на своем опасливо предусмотрительный отец Эмиллий, и всё тут. Получи, отче, в добрый час к удаче двух остолопов из причетников, тупоголовых и прожорливых.
Вон оба дуботолка стоят, тупо и скучно в небо смотрят, но зевать бескультурно и чесаться по-собачьи опасаются при строгом епископе. Дубинки, окованные железом, в рукавах рясы прячут, о скудоумцы атлетические.
Хотя для пущего усиления и благочиния хватило б одного бесстрашного Гинемаха на поводке и умнейшего Гераклия с чистыми табличками.
Да и кто из грубого и суеверного языческого простонародья неудачно осмелится хоть как-то задеть епископа, коли с ним всеустрашающий нечестивых черный посох?
Ох боятся суеверы-язычники всего осязуемого, телесного, видимого. Тогда как в незримое всечасное благое содеятельное присутствие Бога Единого поверить не желают… знать, не способны. Возможно ли, невозможно… Произвольные ознаменования, чудеса самовольные им подавай, облыжно рассуждающим маловерам и недоверкам, зазнавшимся в неполном знании и земнородном звании.
Прах им к праху!
Неимоверную магию, колдовство, невероятное волхование повсюду видят вместо человеческой науки, искусной техники, которые, впрочем, от Бога, а не от поганых богов-демонов и кумиров их. По звездам гадают, олухи, лженаучно. Мнят, будто в лице звездного неба нечто различать умеют, а на земле знамений благословенного времени разглядеть не могут.
Ибо уходящее античное язычество суть мрак, хаос, страх, дисгармония, невежество, рабство. Напротив, грядущее в полноте людских сердец, времен и пространств христианство всемогуще несет свет, гармонию, безграничное познание и неустрашимую свободу…
Лишь посредственные срединные умы через пень-колоду, с пятого на десятое или же вообще от греческих календ постигать не постигнут христианскую премудрость. Шумят, галдят бестолково…
Выйдя из трехъярусной инсулы, перенаселенной беднейшим людом, епископ неторопливо проследовал в не менее шумный квартал операриев у городской стены. Сегодня он решил перед обедом наведаться к подопечному кузнецу Марию, кого он в благорасположении недаром переселил из горного сухопутного юга на север в приморский Гиппон.
Положа руку на сердце, среднее, в различных смыслах, сословие епископ не очень-то жаловал. Но Марий Гефестул отличен недюжинным, далеко не промежуточным умом. Наверное потому, что усредненной грамматике не слишком-то обучен. Вернее, ни в альфу, ни в омегу ее нигде не одолевал. Еле-еле распознает знакомые латинские словеса в слитных строках чего-либо написанного.
Трудно даже понять голова или руки приносят ему не такой уж малый, но и не слишком уж большой достаток.
Основное кузнечное дело у него спорится, делается, размещается на гиппонских корабельных фaбрикaх, а дома он возится с железом и углем, с прочими металлами, расплавами в познавательных целях. При этом ручной домодельной работе предшествует труд мыслительный. Либо благолепно сопровождает ее, когда Марию что-нибудь из божественного или душеполезного читает вслух его маленький любимец Аспар.
С кое-каких пор их любимым чтением на двоих стали рукописные труды, так сказать, одного святейшего прелатуса, — не без авторского грешного самодовольства подумалось Аврелию. Но естественная горделивость его моментально оставила, едва вновь заявилась навязчивая мысль о том, для кого же и почему он нынче пишет двадцать с лишним книг нового произведения «О Граде Божием».
Посвящение высокородному кесарскому мужу Маркеллину первых четырех книг — одно дело, весьма немаловажное и политичное, выразимся начистоту. Но кто станет читать последующие фолиумы в продолжение сегодня, завтра, послезавтра, спустя десятилетия, быть может, столетия в посмертии писателя?
Например, его основные бытийные идеи-рацио в комментарии-шестодневе утонченный книгочей Гераклий и малограмотный кузнечный фабер Марий сумели понять в общем-то одинаково ясно и душеспасительно. Зато те, кого можно класть по тринадцать на дюжину, в недоумении и недоразумении разводят руками, пожимают плечами. Случается, хмурят брови, пытаясь уловить ересь. Особенно, из числа приземленных в обыденности клириков.
Как бы теперь «Градом Божьим» пронять, вразумить эту посредственную пошлейшую массу, скопище заурядов? Удалось же ведь популярно, доходчиво достучаться до многих из них с «Исповедью».
К примеру, завидущая и загребущая мачеха Гераклия было задумала оттягать виллу Ларикиум, оспорив завещание покойного супруга. Однако же чуть прознав о непреклонном намерении пасынка пожертвовать всем имением и состоянием в пользу экклесии Гиппона, картагская матрона Фульвия тотчас прекратила всяческие поползновения на чужое наследство. Письмо епископу Августину прислала с нижайшими многословными извинениями.
Тем не менее Нумант утверждает, клянется старый суевер, словно бы вдова Фульвия Микипса, известная в Картаге под неприличным прозвищем Вульвия, обмочилась со страху, узнав от домашних язычниц-служанок об ужаснейшем чернейшем посохе. Мол, с его помощью и колдовской силой древнейших богов гиппонский епископ, оскорбленный ее притязаниями на церковное добро, так проклянет нечестивицу соборно, что хоть живьем в гроб ложись и помирай со стыда. Потому что-де от сияния черной жемчужины в навершии посоха у распутных женщин как начнет отвисать промеж ног титанический кобылий срам, и что обе женские груди потом срастаются в одно гигантское лошадиное вымя.
По словам Нуманта, картагская досужая молва убежденно сотворила целый миф. Якобы посох епископа Августина в стародавние допотопные века, когда люди и боги еще жили вместе, принадлежал пунийскому божеству Ваал-Хаммону. А призванный в покровители города, заложенного царицей Дидоной, пунический бог иногда мог животворить себе сидячую статую с посохом, если того хотел и удовлетворялся приносимыми жертвами.
Настали другие века, и недостаточно удовлетворенные людьми боги перешли на сторону Рима. Поэтому из покамест неразрушенного римлянами Картага божественный посох поскорей скрытно вывезли в Кирту для пущей безопасности. После того он долго и тайно хранился в храме Великой матери богов Кибелы в Мадавре. И бывшая главная жрица того древнего храма, перейдя в христианство, вручила эту древнейшую реликвию епископу из Гиппона.
В данный народный миф Нумант верит всей душой и убедительно, выпучив глаза, подтверждает его всем желающим. Передает, дескать, лично всему был очевидцем.
И чем же изложенная небылица отличается от прочих языческих басен-сказаний? Очевидно, ничем. Господи, помилуй суеверов!
Хвастливый ланиста Нумант из отпущенников тагастийской фамилии Августинов, конечно же, профессионально разбирается в оружии. Что собой представляет посох его незабвенного патрона, этой старой орясине отличнейшим образом известно. Но о том ему велено помалкивать.
Вот чего он не знает, так это того, что прежнее копийное острие, когда-то изготовленное из отцовского пилума, недавно заменено обоюдоострым лезвием крепчайшего гибкого железа, влет и встречь пробивающего любой броневой нагрудник, сокрушая металл и ребра врага. Слава тут Богу и нашему искуснейшему операрию Марию!
Эх вот бы кто-нибудь сделал чудо-орудие, проникающее сквозь броню тупоумия, предубеждений и предвзятой твердолобости!..
Все новое, ясно как Божий свет, побивает устарелое. Жаль, когда не сразу и не с налета.
Новые ножны, лучше прежнего замаскированные под эбеновое дерево, Нумант враз легко заметит. Летом в Картаге придется показать и остальное. Так тому и быть, бессловесно держать язык на привязи его не надо учить, различает где мифы, а где скифы. Здесь Родос, здесь, дорогой, и подпрыгивай в полном вооружении…
От обеда в доме оперария Мария Гефестула епископ Аврелий не отказался. Даже немного развлек собравшихся чтением кое-чего из новейшего собственноручного сочинения. Правда, читал с табличек не сам, передоверил диакону Гераклию изложить опровержение против звездочетов, их якобы судьбоносных предсказаний и обоснование свободы человеческой воли.
К удовлетворению автора по сути кузнец в основном уразумел его ученые богословские рассуждения.
— …Я тебе так скажу, твое святейшество. Тот, кто чего-нибудь свободно создает, творит своими руками по собственной воле, тот и в единого Создателя крепко верит.
А те, которые чужим созиданием живут, уверены, будто все само по себе выходит, делается, рождается… Стихийно, по естеству, как говорил мне константинопольский купец Кериот.
Ты его, может, помнишь, святейший прелатус?
— Помню, — коротко отозвался епископ, — продолжай, сын мой.
— Так вот, коль знаешь, откуда что искусно взялось, ты волен повторить сделанное. Понятно, не так, как наш Господь, но по мерке малого человеческого ума, сноровки, каких-никаких знаний.
Незнающий ищет малые причины в звездах, естественных демонах, в стихиях, в людях, не ведая о большом и главном.
Не боги, которые вовсе не боги, горшки-то обжигают, железо крепко-накрепко закаливают и не стихия огня, даже не люди этим заняты, а сложнейшая мысль человеческая, внушенная Богом…
Зажиточного фабера Гефестула епископ Августин без колебаний зачислял в простые умы, хотя бы потому, что мог сию же минуту, не обинуясь опровергнуть, низвергнуть его доводы красноречиво и риторически. Но зачем хоть в малости смущать в твердом вероисповедании новоокрещеного неофита?
Да и возражения, опровержения, беспощадную критику больше пристало обращать к колеблющимся, слабым умам, пусть себе поднаторевшим в писчей грамотности, вроде тех храмовых книжников и говорливых фарисеев, кого вдребезги разносил по синагогам Сын человеческий.
Еретики, как ныне смущающие малообразованные души, вполне сродни тем говорунам, о каких пишут святые авторы Евангелий. Оттого, подражая Христу, борьба с фарисейскими ересями неизбежна и необходима во имя вящей славы Господней среди маловерной и слабоверной паствы.
Поэтому жесткие авторитарные меры против еретиков донатистов, превентивно предпринятые два года тому назад восточным кесарем Теодосием Младшим, следует непреложно распространить в Африке. Тем более, если первейший епископ Иннокентий пишет нам из Рима, что соответствующий эдикт западного кесаря Гонория вскорости будет обнародован.
Дай Бог, чтобы кесарский указ поспел к синодальному собранию африканских предстоятелей нынешним летом в Картаге. Чего лучшего пожелать, как не разделать вчистую донатистов прилюдно и принародно?..
В Картаг епископ отплыл в добрый час с попутным ветром. С эдиктом Гонория, кесаря и августа Запада он хорошо ознакомился. Продиктовал Эмиллию и Гераклию множество писем в разные концы Африки, самолично съездил, потрудился в душу живу переговорить куда поближе. Скажем, прогрессивно и конгрессивно…
Таким образом, — выразимся на вернакулярной латыни Августина, — прогрессивный расклад мирских и духовных сил, скрытых и явных симпатий, мировоззрений и мнений на том грандиозном синодальном конгрессе африканских иерархов, на тот момент несомненно католического православия, был заранее понятен нумидийскому архиепископу. Из более чем пятисот предстоятельных священнослужителей подавляющее большинство императивно и демонстративно отвергали донатистские уклонения от правоверия в доктрине, в догматах, в приложении их к мирской политической практике. Остальных соборно присутствовавших церковных иерархов провинции Африка он числил среди колеблющихся и сомневающихся в правомерности суровых властных мероприятий, республикански направленных на окончательное искоренение экклесиального раскола.
Стало быть, прежде требуется исторически документально, догматически доказательно, рационально, логично развенчать Донатову ересь. Тем самым в июньские иды в Одеоне проконсульской столицы на защиту святого дела правоверия выступили Августин из Гиппо Регия и Аврелиан из Картага.
Против них синодально по согласованию назначены ораторы, компетентно защищавшие еретические заблуждения: Петилиан из Константантины, Эмеритус из Кесарии, Примиан из Картага. Все трое в прошлом отъявленные донатисты.
Адвокатами Дьявола в те античные века никого еще не называли. Но ведь и представителей противоположной сатанинской стороны надлежит выслушать, коль скоро речь зашла о вопросах святости и священства?
Когда-то тут, на сцене картагского Одеона ритор Аврелий Августин получал венки, справлял триумфы за блистательные победы в поэтических декламациях. Теперь же он не прославляет себя самого, но защищает православие при гораздо большем стечении слушателей, если в арбитрах этого далеко не литературного состязания состоит высокородный кесарский муж и викарий провинции Африка сиятeльный Маркеллин Флорид.
Всё ли мы помнить способны, чего мы не в силах забыть? Верно оттого в тот день воистину театрально блеснул ораторским искусством Аврелий, как никогда ранее.
Бывает, и молодость много чего знает, а старости по силам сохранить молодые способности к познанию, преодолевая извечную косную немощь старческого заизвесткованного ума. Ибо разумный книжник, познающий Царствие Божие, благовестно выносит из сокровищницы разума как новое, так и старое в продолжение всех веков человеческих.
Триумфальная победа католического единоверия в исторических свидетельствах, в неопровержимых догматах и в богооткровенной доктрине святости единой Апостольской Церкви, свершившаяся на четвертый день в июньские иды в картагском Одеоне, была неоспорима. Это торжественно подтвердили сначала викарий Маркеллин, а затем особым эдиктом кесарь Гонорий, поставив под тотальный запрет всевозможные проявления донатистской ереси и коллегиальную деятельность ее пособников.
Собор в Картаге епископ вспоминал c благодушным удовольствием.
Великие же дела производятся публично на форуме! Быть может, некоторым способом и в театре… Господи Многомилостивый, подаждь нам совершение!.. В большом и в малом…
Надо же, с каким плохо сокрытым беспокойством смотрел на мой посох тот Эмеритус из Кесарии. Еще один суевер, что ли?
Зато Нуманту твердое гибкое лезвие, рубящее обычное железо, пришлось по сердцу: радостно прыгал, скакал. У себя в школе наскакивал на деревянного учебного болвана с этим вот чернейшим посохом как мальчишка.
Насмерть теперь никто не сражается, но театр боевых действий по-прежнему устраивают, преступников и зверей травят на потеху публике… Не иссыхают дикие обычаи амфитеатра…
Вот и поди, разбери их, этих суеверов в ихней театральности. И одно у них, и другое все вместе. Тогда как людской обычай — отнюдь не лучший учитель, чего бы там ни утверждал демагогически Туллий Кикерон.
Истинный Бог в помощь тем, над кем не властны выдумки человеческого воображения…
По дороге домой в Гиппон на корабле, пока военная быстроходная трирема на веслах преодолевала встречный западный эурус, епископ не прекращал также размышлять о ересях. Ведь в последние годы объявились сравнительно новые измышления британского пелагианства и сирийского несторианства, но их он не находил чрезмерно опасными.
В отличие от почитай побежденного донатизма, они ограничиваются только догматическими разногласиями; смутного мирского переустройства их приверженцы вовсе не требуют, не ждут. Может быть, лишь до поры до времени они столь безвредны? Следовательно, и эти еретические заблуждения от мира сего подлежат преодолению, искоренению и уничтожению.
По возвращении из Картага очень неожиданно для многих, суровый епископ вдруг милостиво разрешил, присоветовал власть имущим в преддверии виноградных празднеств возобновить в городском театре гистрионические действа. Но только лишь греко-римские трагедии и комедии нравоучительного содержания, где в протагонистах по сцене бесстыдно не шастают, не появляются потешно из машины ложные языческие боги. И зрители со здравого ума не сходят и не буйствуют безумно.
Ранее архипастырь Августин непререкаемо воспретил истово правоверной пастве присутствовать, зреть, глазеть, ротозейничать на безбожных лицедейских постановках в древнем театре Гиппона. Потом же магистраты вообще наложили запрещение для всех на устройство гистрионских спектаклей не без воздействия своих коллег — квестора ветеранов Горса Торквата и главного городского медикуса Эллидия Милькара.
Театральная снисходительность епископа имела место быть до того, как до него дошли неприятные вести о неугомонных еретиках из донатистов, казалось бы, совершенно ниспровергнутых и обезоруженных. Не то не в жизнь не видать бы жителям Гиппона никаких мимов-миметиков вкупе с актерами-гистриониками.
Первой о мавретанских смутьянах гиппонскому предстоятелю написала мать Элевтерия из Мадавры. Затем последовали тревожные сообщения с запада от епископа из Икосия, после из Картенны, из других городов Мавретании о сосредоточении возмутительного еретического охвостья и отребья под крылом преподобного аскета и книжника Эмеритуса из Кесарии. Возмущаются, ропщут ниспровергнутые еретики на неправедное-де судейство комита Маркеллина, облыжно заявляют, будто основному докладчику епископу Эмеритусу он воинской силой угрожал, рот затыкал, честной публике записи не давал вести, что и значится в протоколах у отдельных непредвзятых католиков. В тех же католических книгах записаны, дескать, неопровержимые и праведные доводы епископов Примиана с Петилианом. Якобы авторитетнейший Августин Гиппонский лично доподлинно недоволен недостойным судилищем, настропалившим дурного кесаря Гонория на жестокие гонения против африканских праведников.
Свое настоящее неподдельное неудовольствие Августин высказал в ноябрьские иды, врасплох нагрянув в мавретанскую Кесарию. Кому тут неймется, изверги рода человеческого?
Тем не менее в неблизкий путь на запад епископ собирался без спешки. Ему и пресловутые книги в руки, где подробно, протокольно записано чуть ли не слово в слово, кто, как и о чем заводил речи в Картаге.
С собой он также предусмотрел взять девятерых контуберналов Ихтиса, точнее, тех, с кем в прошлом году совершил дальнюю поездку на юг, на железные рудники близ Тевесты. Само собой центурион Горс их опять возглавил, и ни один ветеран не уклонился от намеченного похода.
Третьим пунктом по важности в походном списке пошли пресвитеры Эмиллий и Поссидий. Первый слишком засиделся на месте, пора ему проветриться, а второй непринужденно воспользовался отличным предлогом заглянуть хозяйственным оком в обширные церковные владения неподалеку от Картенны. Третьим же напросился отец Эводий. Диакон Гераклий не в счет — как заведено, он безотлучно секретарем при епископе.
Кот Гинемах в регестр епископа заведомо не входил, если в прошлогодний южный поход на загривке у хозяйского коня вьючным мешком возлежал, летом в Картаг на корабле в плавание пускался, в других интересных путешествиях посуху, по морю побывал. Пускай бурные воды, порывистые ветры ему не по нраву, но они и людям в осенне-зимнее непогодье тоже не очень-то нравятся.
Но дело есть дело, а долг всегда остается долгом. Пусть мы и прощаем должникам нашим, но только не в вопросах веры и правоверия.
В порту Кесарии, простившись на время с отцом Поссидием, отправляющимся далее в Картенну, епископ и его внушительное сопровождение, не замешкав, пересели с корабля на приготовленных добрых лошадей из картеннского епархиального хозяйства. И без каких-либо происшествий, если мерзкая погода побоку, устрашенные городские стражи обочь, без промедлений, а также без предупреждения рысью прибыли на форум, спешились у базилики. Поторопившись, поспели удачно в самый раз к поздней воскресной обедне.
— …Так молвишь, Эмеритус, слова вольного Христова тебе не дали проронить римские завоеватели? — вопрошающе и обвиняюще объял своды базилики мощный угрожающий голос церковного пастыря Нумидии. — Так изреки его мне, исконному гетулийцу Аврелию из тагастийских куриалов.
Скажи его нам, коли со мной в свидетелях гиппонский магистрат Горс Торкват, северный варвар из венедов с римским когноменом. Скажи его диакону Гераклию Микипсе, тому, кто родом из фамилии царей нумидийских.
Скажи-скажи, каковы твои род-племя, зелот Эмеритус. Из какого иудейского колена Данова, Иудина ты вышел!
После же мы поговорим с тобой о католической Церкви Божией, где нет ни эллинов с иудеями, ни римлян, ни варваров. Где один Христос, одно крещение, не два и не три, но все-все в Пресвятой Троице триединой…
Оторопевшему, онемевшему Эмеритусу на минуту привиделось, словно бы грозный Августин зрительно раздвоился. Похожи ведь фигуры архипастыря из Гиппона и настоятеля Павловой базилики пресвитера Эмиллия. Оба высоки и сухощавы, у каждого длинный черный посох, равно укрыты восточными долгополыми рясами-плащами, головы, лица до бровей укутаны клобуками. У кого чей посох страшнейший?
Колени у Эмеритуса, лишившегося всякого дара речи, подогнулись, он побледнел мертвенно, удушливо посинел, позеленел словно утопленник. Упал бы наземь, но расторопный причетник вовремя поддержал сомлевшего архиерея.
Тем временем не смолкал раскатистый обвиняющий глас не в пустыне, но в людном храме Божьем:
— Говори, Эмеритус, отвечай! Доверяешь ли ты вести записи ученейшему отцу Эмиллию?
Отчего молчишь, притча во языцех лукавых?!! Запамятовал прежние доводы? Так диакон Гераклий тебе враз напомнит!
Глянь на эту гору свитков у него в руках. Немалая ее часть, книжный разумник Эмеритус, твои благие синодальные словопрения, рассуждения в Картаге. Вон сколь наговорить тебе довелось, заблагорассудилось!
Вновь тебе слово вольное принадлежит!
Указующий посох Августина от диакона обратился на молчащего, обомлевшего кесарийского епископа. Но тот ничего не замечал; в невыразимом ужасе закрыты его глаза, широкие рукава облачения прикрыли перекошенное страхом лицо. Не видел он, но почувствовал, содрогнулся всем телом, когда неудержимо устремилось на него страшное чернейшее копье в жемчужном блеске…
Разумеется, красноречивый в полемических жестах архипастырь физически не метал громовым посохом в оппонента. Он просто-напросто повелительно указал на него, как профессор ферулой на нерадивого ученика. Что и отметил наблюдательно въедливый Гераклий.
Однако другие вовлеченные наблюдатели потом ошеломленно, пораженно сказывали, будто в тот миг полностью поседел, облысел, оплешивел мавретанский иерарх Эмеритус. Хотя скептический Гераклий волос на голове еретика, плотно повязанной митрой, счесть никоим образом не смог; точно так же, по его мнению, и прочая богомольная публика, случившаяся в тот день и час в базилике Кесарии Мавретанской.
К безмолвному истукану епископ далее обращаться не пожелал. Проникновенно понизив голос, он многообещающе произнес:
— Вспоминай, благорассуждай и думай, мой преподобнейший друг Эмеритус, думай. Наутро по окончании ранней обедни мы продлим содержательно нашу дружескую дискуссию в подобающем формообразовании. Здрав будь в любви христианской.
Ободряющие крики, гневные возгласы, яростные вопли ненависти, разом пришедших в разумение ближних приспешников и родственников кесарийского архиерея Августин Гиппонский не мог внятно расслышать. К тому времени в окружении тяжеловооруженных контуберналов он покинул притвор базилики, но задержался задумчиво на ее беломраморных ступенях, оглядывал убранство форума метрополиса Мавретании Кесарийской, давал единоперстное благословение правильно верующим.
Тотчас же к нему поспешил, подскочил почтенный городской декурион Фабиан, отдышавшись, степенно представился, сослался на доброе знакомство с покойным высокородным Оксидраком. Рассыпался в похвалах черной индийской жемчужине в навершии посоха святейшего прелатуса. Во время оно чуть было ее не прикупил, кабы сошелся в цене с прижимистым покойником, царствие ему небесное.
Засим Фабиан извинился за стариковское отвлеченное многословие и конкретно предложил свои услуги по созыву сенаторов, декурионов Кесарии, дабы предстоятель Нумидии, как лицо духовное, разъяснил местным властям эдикты западного и восточного кесарей в отношении еретиков донатистов. Желательно бы услышать и о мнении сиятeльнeйшeгo Маркеллина, августейшего викария африканского…
Позже, благословив здешние власти на борьбу с еретиками, предложенное ему обеденное гостеприимство достоимущего сенатора Фабиана епископ вежливо отклонил, но провести ночь в его доме согласился. Богатый патриций-ювелир Фабиан с приглашением малость припоздал, если раньше него к редчайшему гостю из Гиппона успел подкатиться кесарийский грамматик и книготорговец Анник Кастор Скрибон. Предъявил себя гостеприимец родным внуком Клодия из Мадавры, где в грамматической школе доселе не забывают, чтят знаменитого алюмнуса Аврелия.
В разных обличьях иногда появляется перед нами наше прошлое. Особливо, если кто-то кого-то с целью употребил когда-то, чтобы произвести потомство, где-то вольно или невольно.
В гости к Аннику епископ не взял контуберналов Ихтиса, за исключением самого центуриона Горса и вексилария Секста. Таверн и лупанаров в городе наверняка немало, а о большей безопасности внутри городских стен не приходится беспокоиться. А угрожать кому-либо десятком вооруженных до зубов легионеров христианскому предстоятелю Нумидии и вовсе здесь без нужды. Пускай завтра поутру у базилики придутся ко двору, солидно явятся для излишнего порядка.
Друг Горс другу Аврелию не возражал, но подчиненным ему воинам дал приказание не разбредаться, цивильным излишествам предаваться запретил, указав во всеоружии ожидать утра на постоялом дворе у конюшен. Мало ли чего?
С меньшего утолив голод постной пищей, епископ удалился от пиршественных щедрот довольно состоятельного молодого грамматика Анника, облюбовав тихий уголок в уютной и теплой личной библиотеке амфитриона. Хватит в гостях братского разговорного общества святого отца Эмиллия во всяком занятии, кроме письменных трудов, стремящегося походить, равняться на брата Аврелия.
Ум и мысли человека на языке его. К сожалению, отнюдь не всем от Бога дано думать в молчании.
Там же в библиотеке у Анника епископ решил покойно заночевать пополуночи в простоте с котом Гинемахом под боком. Уж больно им вдвоем не хотелось тащиться в холод, в дождь, в грязь, в темень, в слякоть, в унынии ковылять в роскошный особняк к торговцу Фабиану. В лектике, чтоб рабы занесли? Нет, увольте от чванства. И диакону Гераклию можно скромно постелить в соседней клетушке у раба-либрария.
Епископу никто не перечил, коль скоро на него напал стих литературного вдохновения. Отчего грамматик Скрибон без лишних слов преисполнился благоговения и еще больше возблагодарил судьбу за незабываемую встречу, о чeм возможно теперь годами рассказывать ученикам. Гость в дом, и Христос в нем!
Осторожный Ихтис все же тихо приказал эксплоратору Сексту остаться незаметно где-нибудь во дворе или рядом. В ответ искушенный ветеран молча вскинул кулак в легионерском салюте.
Епископ еще не спал, когда поспешно вернулся распалившийся центурион, переполошил руганью весь дом и наедине, отчасти успокоившись, поостыв, доложил прелатусу о разбойном нападении на мирных пресвитеров из Гиппона:
— …Вмиг закололи Анникова раба с факелом, ублюдки!
Нападало на нас не меньше полутора десятка, прелатус Аврелий. Негодяи истинно возжелали смерти неспособного держать оружие Эмиллия, рвались к нему точно взбесившиеся псы. Эводий его надежно гладием прикрыл со спины, ну а мне пришлось жестоко и поскорее переведаться с ракальями встречь и поперек.
Думаю, пятерых или шестерых я насмерть угомонил, умиротворил в горячке, покуда прочие не бросились наутек прочь от моего чудо-германика. Славная рубка оружия и брони вышла!
Сбежали и легкораненые, а по темному времени преследование лиходеев невозможно. И святых наших отцов надлежало оберечь.
Знаешь, Эводий с перепуганным до икоты Эмиллием со мной в целости. Алкиона с тутошним рабом я срочно послал за нашими контуберналами. Через полчаса жилище и школу Анника они возьмут под надежнейшую войсковую охрану.
Прости за нечаянное беспокойство, Аврелий.
— О чем речь, мой милый Горс? Блаженны миротворцы! О спасении заблудших душ жестоковыйных агонистиков я уж помолился мысленно.
Давай-ка, сын и брат мой, выпьем чуток каламского, восславим всепобеждающего Господа и скажем: мир дому Его…
Назавтра Эмеритус Кесарийский нашел в себе силы и некоторую отвагу, чтобы появиться в базилике. Однако же от дебатов под запись еле слышным голосом устранился, разочаровав, обескуражив отчаявшихся, последних из донатистов пораженческой фразой:
— …Книги, записанные достойными епископами в Картаге, истинно содержат доказательства того, победили мы в той дискуссии либо были побеждены.
Впоследствии ни один открытый ревнитель донатизма среди епископов или пресвитеров Африки в письменной истории человечества никак не обозначился. И после нашествий вандалов и арабов эта христианская ересь прямого продолжения не возымела.
«Основоположенное в причинах доныне производится Богом в следствиях».
КАПИТУЛ XXX
Годы 1167-1169-й от основания Великого Рима.
17-19-й годы империума Гонория, августа и кесаря Запада. 5-7-й годы империума Теодосия Младшего, августа и кесаря Востока.
Годы 412-414-й от Рождества Христова.
Гиппо Регий, Нумидия в проконсульской провинции Африка в календаре мирского жизнеустроения, а также богодухновенного сотворения и свершения.
Епископ Аврелий думал и думал, весьма озадаченный дух захватывающим прожектом святого отца Поссидия возвести за городской стеной к западу на холме новую базилику с укрепленным монастырем. Но в конце концов постановил отказаться от такого дорогостоящего и беспокойного предприятия. Проще перестроить, переделать обширный домус Оксидрака, превратив его в соборную обитель Божию. Засим освятить этот храм молитвой, апостольским таинством крещения и достойного наречения именем Святого Первомученика Стефана. Причем Апеллес из Ферродики берется выложить мозаикой изображения апостолов и святых над алтарем.
Хотя стоит ли, нет ли затевать и эту большую перестройку епископ все же не мог решиться необдуманно наобум. Где Троя, а где троянцы?
Что там уцелело от великолепного и помпезного храма царя Соломона в земном Иерусалиме? И второе колоссальное церковное устроение христопродавцев-иудеев Господь попустил римлянам предать огню, разграблению и разрушению. Меж тем в Египте храмовая цитадель фарисея Хонии пребывает в руинах, в мерзости запустения.
Одобряет ли Творец строительство высоченных башен вавилонских, тщеславно сооружаемых якобы в поклонение Ему? Ведь Всевышний не в рукотворных храмах живет, как говорил первомученик. Небо — престол Его, а земля — подножие ног Его.
Не принял же Он растительную жертву от царя-земледельца Каина, первостроителя одного изначального града земного. Но предпочел тельца от жертвоприношения царя Авеля, как пастыря стад скотьих и человечьих.
Не в искушение ли телесное вводит Вседержитель тех людей, кто сумасбродно смешивает, не видит, чем различен любой низменный град земной от вышнего Града Божия?
Тем менее и тем более на все наличествует Господне произволение, как и свобода воли людской, Провидением предусмотренная, однако им неисповедимо не ограниченная…
Размышляя над этиологией то ли церковного, то ли мирского жизнеустроения, Августин принял окончательное решение, кому будет обращено его многотомное произведение, трактующее переход от античной культуры к христианской цивилизации. Тогда как он едва ли не предвосхитил самого себя, в духе Гая Саллюстия написав о том во вступительном слове книги второй «О Граде Божием».
«Если бы свойственное человеку слабое разумение не осмеливалось противиться очевидной истине, а подчиняло свою немощь спасительному учению как врачеванию, пока не исцелит его божественная помощь, получаемая от благочестивой веры, то людям здравомыслящим и выражающим собственные мнения с достаточной ясностью не было бы нужды тратить много слов для того, чтобы доказать ошибочность того или иного ложно составившегося представления.
Но наиболее распространенная и отвратительная болезнь глупых душ нынче состоит в том, что свои неразумные движения они защищают так, как будто они — сам разум и сама истина. Даже если им кто-либо и представит вполне ясное доказательство их ошибочности, насколько таковое может быть предоставлено одним человеком другому, обороняются они в крайней слепоте. Вследствие чего не видят очевидного, или по крайнему своему упрямству не признают того, что видят.
Поэтому приходится говорить пространно о самых очевидных вещах. Не для того, чтобы представить их зрячим, а для того, чтобы дать их осязать ощупывающим и зажмурившимся».
Позднее в книге семнадцатой Блаженный Августин искренне отметит:
«Я постараюсь, если смогу, соразмерить свою речь так, чтобы, продолжая с соизволения Божия это свое сочинение, не сказать ни слишком много, ни слишком мало».
Косвенную цитату из Светония епископ счел уместной для знакового пояснения eго воззрений также людям литературно образованным. Об этом он и ближнему диакону Гераклию не раз толковал благонамеренно и откровенно. Дружески поверял близкому человеку сокровенные мысли о неукоснительном соблюдении правил веры в религиозном миссионерском писательстве, чтобы произвольным употреблением слов не породить нечестивого мнения о тех предметах, которые ими обозначаются. Ведь и Аристотель и Платон о божественном одно говорили понимающим ученикам, однако же несколько иное писали, распространяли среди невежественных профанов, в темноте, во мракобесии народном искажающих, извращающих истины философии и религии.
— …Коли я, смиренный исповедник Слова Божия в словесном пространстве, во времени историческом изобличаю бесчестное и бесстыдное язычество, сын мой Гераклий, то направляю эти многокнижные рассуждения к простым суеверным умам, способным простодушно, понимай, малодушно загрязниться, отпав от чистоты евангельской веры. Не пустого суесловия ради мы изобильно красноречиво проповедуем, но для просвещения и обогащения нищеты умов человеческих.
Умному довольно малого, чтобы его вера счастливо устремилась к максимальному познанию. Глупцу же необходимо многое объяснять и разъяснять, приноравливаясь к его мизерному минимальному пониманию простейших умопостижимых истин.
Скажем, один из примитивных способов объяснения неукам и неучам состоит в изобилии авторитетных цитат и частых ссылок на авторитетность дотоле написанного, общеизвестного и общепринятого. Касаясь того же экклесиально, то есть общественно канонизированного Священного Писания, мы придаем нашей речи необходимую каноническую убедительность, применяясь к душевному соображению людей посредственных, поверхностных, малообразованных, малограмотных или вообще бесписьменных-безграмотных.
Ты же не хуже меня знаешь, мой Гераклий, насколько они умелы в расспрашивании, и сколь неловки, неуклюжи в понимающем усвоении ответов услышанных либо прочитанных. Следственно, чем меньше мы подстрекаем скудоумцев на глупейшие вопросы, тем больше они проникаются доверием к истинности наших утверждений.
Божественная истина должна последовательно оставаться непреложной истиной даже в скудном и кургузом одностороннем соображении простонародных умников, сколько бы поколений благородных предков они ни насчитывали. Ибо благородство цивилизованного разума отнюдь не всегда определяется кровным происхождением, но зачастую приобретается самокультурой и самопросвещением.
Разумная душа, получившая самообразование, обретает способность к широкому многостороннему познанию, пребывая несокрушимо твердой в вероисповедании и неустрашимой в проповедничестве.
Исходя из чего мы, к примеру, можем с пользой для освещения и освящения истины, какой не понимал Понтий Пилат, избирательно ссылаться на оспариваемых сочинителей прошлых веков: донатиста Квинта Тертуллиана, пелагианина Оригена Александрийского, хилиаста, монтаниста Иринея Лугдунского. Мы в состоянии пользоваться подходящими цитатами из подложных посланий «К евреям» или «К Тимофею», «К Титу». Хотя прекрасно знаем, кто такие Ориген с Тертуллианом, Ириней, боровшийся с чужими ересями, проповедуя свое жидовствующее еретичество. А также осведомлены в том, что Святой апостол Павел к означенным эпистолам руку никогда не прикладывал.
Богословам, просвещенным в герменевтике и библейской литературе, отлично известно, почему в наилучших списках в подлиннике предстают неподдельными лишь пять творений апостола. Одно обращение к римлянам, два послания к коринфянам, воззвание к галатам, письмо к богатому Филимону Колоссянину — апостол доподлинно написал, надиктовал, правил собственной рукой. Прочие же произведения ему лишь приписываются с большим или меньшим правдоподобием.
Будь в той мнимой подложности уверены невежды, неуки, неучи, то могли бы они горестно возопить: а где же религиозная истина? И, естественно, поместят в разряд неправдоподобной сомнительности все письменное наследие апостола. Усомнившись неуважительно, изверившись нечаянно, пошатнется их вера, которая не совсем вера, но суеверное пристрастие к авторитетной букве.
Для нас же важнее животворящий дух познания, позволяющий нам находить во всех включенных в церковный канон посланиях апостола некоторые его подлинные мысли из устных проповедей, из несохранившихся писем, развернутые далее, рационально, логично согласующиеся, сообразные тому, что он провозгласил в произведениях, несомненно, принадлежащих его стильному письменному творчеству.
Вот тебе и правило веры, Гераклий. Почаще переворачивай стиль и заглаживай шершавое восприятие умов недостаточных и умников малообразованных. А на гладкой чистой табличке напишешь тогда, чего тебе вздумается, даже если это далеко расходится с расхожими представлениями. Немного, но умно для избранных и умных в той же книжке для глупых. Поскольку разумные читатели читают много и быстро, а не так чтобы очень неразумные — медленно и мало.
Возьми — читай…
Здесь диакону Гераклию порядком надоело молчать, потому, воспользовавшись риторической паузой, он ловко ввернул умное тематическое дополнение, выразившись по-гречески:
— Потому-то, отче Аврелий, — мы не без горьких сожалений отвергаем, как безнадежно фальшивый апокриф, переписку Павла Тарсянина с Сенекой Младшим. К нашему общему несчастью, в ней прискорбно маловато от Павла и еще меньше от Сенеки.
— Именно и достоименно, сыне мой Гераклий, сущий мизер, коль голова не тыква, — согласился епископ и возобновил по-латыни рассуждение-дискурс на заданную тему.
— Возьмем другой пример с четырьмя нашими Евангелиями и другими бессчетными апокрифами с той же историей о нисхождении-кеносисе, о первом пришествии Спасителя. Нам с тобой достопамятно ведомо, почему, отчего ни один из первозванных апостолов не может значится среди святых авторов.
Мы достоверно знаем, когда епископы, — впрочем, тогда их еще не все так называли, — то есть пресвитеры христианских экклесий впервые начали обсуждать — признавать, а если признавать, то какие именно списки благовестных сочинений. И было это во времена империума кесаря Адриана. А до усмирения кесарями Веспасианом и Титом мятежного еврейского Иерусалима никаких упоминаний о каких-либо первоапостольских письменных евангелиях в действительной церковной истории не имеется.
Святые апостолы Петр и Павел при жизни чего-либо о них знать не знали и никогда их не упоминали ни с одобрением в образе чтения духовного, ни с осуждением за историческую недостоверность во плоти. О чем говорить, если на деле ничего не было?
Различные сборники логиев Христовых действительно уже были при кесаре Домикиане, ходили по рукам больше на Востоке, нежели на Западе. Но страсти Христовы никто из очевидцев описать не дерзнул.
Пожалуй, Святой апостол Иоанн, как самый младший из первозванных, мог бы дожить до империума Траяна. Однако усвояемые ему Евангелие и Апокалипсис в христианских церквях принялись полнозначно изучать, списывать только спустя двадцать лет в правление кесаря Антонина Пия. Хотя кое-какие наши епископы полагают Иоаннов Апокалипсис древнейшей из книг Нового Завета, анонимно сочиненной во времена Веспасиана Флавия, когда опять пошли слухи и иудейские страхи об Антихристе-Лженероне.
Так оно или не так — вопрос доселе спорный. Но, бесспорно, что Святой апостол Матфей, кому другие наши ученейшие епископы и пресвитеры усвояют авторство первого литературного благовестия, до развязывания бунтовщиками Иудейской войны умер в палестинском Декаполисе, пастырских путешествий он не совершал и посланий не рассылал, проповедовал среди обрезанных иудеев и в сектах назореев, письменного наследия по себе, очевидно, не оставил.
Мать кесаря Константина Магнуса, святейшая женщина Елена и ее преданные комиты, преторианские дознаватели сто лет тому назад тщательно обыскали всю Палестину. Гроб Господень нашли, нетленные останки порубленного Креста Господня обнаружили, а вот списков Матфеева протоевангелия на древнееврейском или на сиро-халдейском языке отыскать не сумели. Даже следов его не выявили у еретиков елкасаитов и назореев. Хотя последние-то должны были их хранить, беречь как святая святых, списывать дословно в доказательство своей правоверности и апостольского правопреемства.
Видимо, на то была Божья воля, коли у пресвятейшей Елены не получилось сыскать протоевангелие. Или же его попросту не существовало, что тоже допустимо.
Как нам писал пресвитер Иероним, назорейский кодекс, им увиденный в Алепии, являл собой сокращенное переложение с греческой основы благовестия Матфеева на безгласные еврейские письмена. По содержанию выходит как бы Марк вкратце с некоторыми апoкрифическими добавлениями еретиков. Все это Иероним перевел на латынь для канонического обсуждения епископов.
Во всяком роде ради сохранения канона, во избежание разночтений и писчего произвола первозванные Христовы ученики, как правоверные иудеи в законе Моисеевом, должны были, собравшись все вместе, обязательно занести в точности слова Сына Божия на каменные либо медные скрижали. Но этого не сделали.
Верно никаких заповедей, нагорных проповедей на ровном месте им не диктовал под запись Иисус Христос и скорописи от них не требовал, однако кротко увещал о сохранении новых и старых сокровищ книжной мудрости. По-видимому, они не поняли иносказание Учителя или не захотели понять в невежественном произволе типично человеческом и ученическом.
Все же божественному явлению Евангелий, по моему разумению, мы обязаны ученикам, правда, уже другим и значительно позднее. Ибо изначально само слово «евангелие» в переводе с греческого означает «дар, награда гонцу за добрую весть». В благодарность усопшим, преставившимся магистрам своим писали Евангелия благодарные алюмнусы, боговдохновенно взявшие апостольские первичные и вторичные псевдонимы.
Думается, первым алюмнусом-евангелистом стал неизвестный нам последователь Святого Марка, принявшего мученическую кончину еще при кесаре Нероне. Под старость, дожив до гонений Домикиана Флавия, законно и беззаконно ополчившегося на тех, кто вел иудейский образ жизни, этот ученик, опасаясь за насущную жизнь, постарался упорядочено описать для будущей памяти, все, услышанное им от учителя, перебравшегося в Рим вместе с самим Святым апостолом Петром.
Писал наш римлянин Марк Секундус как мог и как умел на греческом койне, явно не зная древнееврейского, стараясь ничего не сочинять от себя. Но мы признаем его труд богодухновенным, а его самого истинно святым автором, потому что его римское западное евангелие взяли за основу два других восточных толкователя благовестия. И помним, видим, что первоучителем письменного благовестничества был Святой апостол Павел, на кого косвенно, окольно, порой полемически, ссылаются оба евангелиста-сочинителя.
Boзмoжнo, писали они исторически независимо друг от друга. По всей видимости, тот, кто творил под именем Святого апостола Луки, был жителем Александрии Египетской; c чьих-то слов ему было известно содержание Евангелия по Матфею.
Но не столь достоверны предположения, где и кем сочинялось Евангелие от имени Святого апостола Матфея. Ориген пишет, что под псевдонимом мытаря Левия Матфея какой-то член назорейской общины изложил на письме это греческое благовестие в Антиохии Сирийской в эпоху Веспасиана, но с ним у нас мало кто согласен.
Зато епископу Атанасию из Александрии, нашедшему в туземном Мусеуме самые старые и полные списки Деяний апостольских, Евангелия от Луки, епископы склонны доверять. Очевидно, их святой автор лично общался, учился у лекаря Луки, вторичного апостола из посвященных 70-ти, который был сподвижником Павла Тарсянина и племянником Варнавы Киприота.
Между прочим, оба наших Евангелия — по Луке и по Матфею, а также несколько апокрифических произведений, включая евангельское сказание Псевдо-Петра, впервые стали обсуждаться, изучаться в Риме практически одновременно. Это ли не есть перст Божий направляющий?
Это — история в свете истины. Однако неискушенные в исторических и филологических изысканиях простодушные верующие читатели мало-помалу с течением веков приняли сочинительские псевдонимы за подлинные имена, непомерно, незаслуженно превознося и почитая первозванных 11 апостолов, судорожно, беспорядочно метавшихся в двоеверии между погибельным храмовым иудейством и нарождающимся бессмертно христианством правоверных.
Тем не менее, думали сами о себе четыре евангелиста истово по-христиански: скромно и смиренно, по мере той веры, какой было угодно Богу, наделить их. Потому-то они по благодати подписались, назвались именами первичных и вторичных апостолов.
Жаль, растолковать разницу между заслугой и благодатью слабо и мнимо верующим, привыкшим поклоняться посмертным восковым, глиняным личинам, истуканам и болванам, как будто великим гигантским предкам, зачастую невозможно. Нередко и вовсе вредно для дела правоверия.
Пусть так и будет в желаемом благочинии… Как-никак земная ночь есть упорядоченная тьма в полуночном времени.
Причем разочаровывать малоразумное темное стадо, разуверять сонмы неученых людишек умным образованным просвещенным пастырям вовсе нет нужды. Так как проще простого бессчетным слабо верующим, страдающим умственной нищетой, извериться и даже утратить религиозную убежденность, став полными изуверами.
Вот и епископы на свое усмотрение, властно указывают верующим, какие священные книги им надлежит читать, оставляя диалектику, эристику, майевтику, дебаты, полемику о достоверности и происхождении тех или иных писаний для синодальных собраний людей компетентных и сведущих, стойких в католическом православии и правоверии.
К слову, из всех апокалипсисов я позволил читать в церкви лишь Иоанново творение, поскольку на острове Патмос его записали и преумножили верные ученики того первичного апостола из 12-ти. Иные же предстоятели экклесий христианских его до сих пор запрещают к повсеместному чтению во избежание расползания ересей, вызываемых неполным, нелепым, обыденным пониманием аллегорий Иоанна Богослова.
Правда, в этой книге многое говорится прикровенно, кабы дать упражнение уму читателя. И немного в ней есть такого, что своею ясностью дает возможность привести к уразумению остальное, пускай и с трудом. Хотя бы потому, что книга эта повторяет одно и то же так многоразлично, будто она говорит все новое и новое. Между тем при доскональном исследовании обнаруживается — говорится-то разными словами то же самое.
Наша с тобой праведная вера, алюмнус мой Гераклий, великолепно, радостно полнится, крепнет любым знанием в истинной мудрости. Ибо не только вера безгранично стремится к познанию бесконечного Бога, но и познание Божие, осознание в Боге движутся навстречу истовой вере, тут и там даруя праведникам путеводные указания, вехи мыслительных достижений.
Наоборот, вернее, малодушно замирая на полпути к мудрости, простецы и невежды, беспорядочно умножая куцые, убогие полузнания свои, бессознательно множат печальное число скорбных застойным разумом недоверков.
Вот здесь, чтобы избегнуть недоверия, маловерия, слабоверия, неукам и неучам крайне необходимо подталкивающее, начальственное авторитетное пастырское слово, поучительно исходящее из прошлого в настоящее. Оно для них истово определяет нерушимый порядок вероисповедания.
Правила веры суть империум для паствы. И чем ближе они располагаются, приспосабливаясь, к умственному убожеству и природному скудоумию большинства, тем охотнее большая часть пасущегося на религиозных пажитях стада духовно им подчиняется.
Если празднование Рождества и Крещения Христова душевно совпадает с традиционными языческими cатурналиями и c поклонением кумиру восточного Митры, тем лучше для упрочения христианства и ниспровержения язычества. Чтобы затем подняться, мы прежде опускаемся.
Ибо каждому должно достигнуть такого высокого состояния духа, в котором он, возложив его упование на истинную религию, не боготворил бы мир, как некоего бога, а хвалил бы мир ради Бога, как дело Божие. И, очистившись от мирских мерзостей, непорочным восходил бы к Богу, все мироздание сотворившему и сотворяющему.
Вот почему я не возражаю против ширящегося в народе боготворения пресвятой Девы Марии как Богоматери, непорочно зачавшей и непорочно разродившейся в девичьей целостности без родовых мук Божьим чудом и соизволением. Истинно, радуйся, Благодатная!
Нет у меня каких-либо предстоятельных возражений, что в женском монастыре под главенством добродетельной инокини Элевтерии установили мраморную статую Богоматери в пышном восточном платье, молитвы ей возносят, цветами украшают.
Епископ Алипий нам пишет: его прихожанки в Тагасте убеждены, как если бы у благочестивой целительницы монахини Элевтерии из Мадавры недавно девство восстановилось Божьим чудотворением. Говорят, с лица она теперь юница юницей.
Не знаю, не знаю, может, выберусь как-нибудь, навещу ее по старому знакомству, посмотрим. Понятно, не на ее генитальную промежность, а внешне на облик юный. Или она сама мне о том письмом сообщит благопристойно.
Во всяком случае во всемогуществе Господнем православным католикам сомневаться не стоит. Всесилие Господа нашего и еретики не отрицают. Вон Тертуллиан со слов ересиарха гностиков Маркиона утверждает: у Святого апостола Павла, обрезанного по еврейскому обычаю во младенчестве, в зрелости вновь крайняя плоть его пенис беспорочно укрыла. Чудо оно и есть чудо, если вера твоя непоколебима, и сердце не обрезано в суетности мирской.
Оттого чудесную девственную непорочность Матери Божьей епископам надлежит всячески восславлять, всуе не поминая о будто бы кровных братьях и сестрах Иисуса Христа. Сколько было младших жен и вдов в Назарете у еврея Иосифа бен-Илии, якобы родившего сына Иешуа от старшей жены Марии, не может иметь исторического значения для истинно верующих.
Хотя бы в противопоставление нечестивым язычникам, каких вокруг нас полным-полно…
Bor давеча Филена Младший с помпой и овацией на весь город выдавал замуж дочь. Но накануне случились конфуз, непотребство и бесстыдство в предрассудках идолослужения. Достопочтеннейшие гиппонские матроны на ближней пригородной вилле втихомолку усаживали невесту женским влагалищем прямо на каменный фаллос демона Приапа в потайном домовом капище. Мол, народная традиция для плодовитости в здоровом потомстве.
Суеверие суеверием, но впопыхах из-за неловкости поганые старые язычницы разворотили ей все девичье нутро, вызвав неудержимую кровоточивость. Доверенная повитуха с членоповреждением не справилась. Пришлось скрепя сердце через стыд, страх спешно среди ночи звать, доставлять умелого доктора Эллидия Анатома. Так его называют язычники и суеверы, боясь и уважая.
Глубокоуважаемый в нашем городе хирург Эллидий и спас несчастную невесту, едва не лишенную напрочь жизни и детородного здоровья вместе с хрупким девством. Говорит, кровь он ей затворил, далее ее врачевать согласился лишь за большие деньги. Но новобрачному мужу под угрозой публичного судебного преследования и позора запретил к ней телесно вторгаться в течение месяца до очередного естественного кровопускания и очищения от остатков неплодного женского семени.
И смех и грех. Ты, наверное, о том слыхал. Рабы, конечно же, разнесли этакую позорную сплетню по всему городу. Но Эллидий-то мне исповедовался без утайки. И вовсе не обо всем насчет этого казуса в благородной фамилии Филена я тебе сейчас рассказал.
Думай и ты, Гераклий, чтобы знатные, влиятельные, образованные мужи Гиппона к тебе на исповедь наперебой просились, признавая твое неоспоримое пастырское превосходство в благочестии, религиозной учености и дарованном смиренномудрии.
Для чистых священнослужителей Божьих всякое тайное знание чисто. Для нечистых же профанов и открытое всем Святое Писание обращается в камень преткновения, оборачивается скалой соблазна и грехопадением…
Епископ замолчал в задумчивости. Диакон тоже не нарушал молчания, глупые ремарки второго собеседника не вставлял бездарно. Он, собственно, наиотлично подразделял, где кончается наставительный дискурс, а где начинается вольная дискуссия.
А задумался наставник невольно о собственных племянницах, которых он не так давно удалил от себя и из Гиппона. Иначе было нельзя.
Обе ханжи чрезмерно возомнили о себе, словно властительными диакониссами повсюду вмешивались, наушничали на пресвитеров без меры, оговаривали кого ни попадя, время даром отнимали. Бывало, до полудня к нему порывались, домогались внимания.
В строительные распоряжения и затраты отца Поссидия пару раз самовольно, своекорыстно встревали, как будто по поручению епископа. Подгадили нашему главному строителю основательно, за что получили от него обидную смешанную кличку — Гарписсы. Иными словами, гарпии-диакониссы, мифологически на пищу гадящие.
После же обидевшийся за их наветы отец Статилон в сердцах обвинил эту парочку самозваных епископальных диаконисс в междусобойном женском блуде. Ославил их тем, как они молодых женщин целуют в губы при встрече, обнимают чресла и груди их бесстыже ощупывают.
Безосновательное обвинение епископ не подтвердил. Будь оно так, ему-то эдакая лесбийская порочность очевиднее, чем напрасному обвинителю.
Требовательный отец Эводий на должности экклесиального дознавателя был не в пример преемнику тщательнее, сдержаннее и остроумнее, приговаривая: безответственность не есть достойный ответ на оговор.
Одна — достославно и безоговорочно добродетельная вдова, другая — старая дева, точнее, издавна не девица, потому что ранее физиологически в умеренности и осторожности употребляла мужские гениталии рабского состояния. Теперь же и та и другая телесную похоть подчистую отставили на пороге окончания плодородного женского возраста.
Старческое бесплодие в женском роду и сексуcе довольно рано наступает, а темпераментум по Гиппократу требует соответственного позднего приложения. Если не во грехах, то в обрядовой набожности проявляется возрастная природа человека — как у мужчины, так и у женщины.
Да и набожное умонастроение двух родов человеческих бывает нестабильным, прерывистым. Вот и две Гарписсы оставляли в целом искреннее кроткое исповедание веры в базилике. А едва выйдя вон на паперть, одним рывком, целиком обращали жестокосердные помыслы на удовлетворение неутолимой светской жажды властвовать.
От дурной смеси властных характеров у двух племянниц, дочерей покойного брата Корнелия, епископ Аврелий претерпел не так уж много и долго. Вскоре подходящее им обеим женственное должностное место он неумолимо определил в дальних церковных угодьях поблизости от мавретанской Картенны.
Откуда вышли, туда и пошли… конгенитально, негодницы…
Когда много женской амбиции, да мало мужской амуниции, женщин должно держать вдали от своевольной власти-империума. Или же доверять им положенные от вышестоящих мужей строго определенные полномочия в экономическом деле правления и управления виликами, поселянами, торговцами. Земля всех и вся стерпит из праха в прах…
Положа рука на сердце, епископ Августин Гиппонский часто спрашивал себя: уж не осуетился ли он в общежитейском мудрствовании, в судоговорении, в экклесиальных неотвратимых заботах? Испрашивал о том ответы у Бога и каждый раз вновь находил их в состоятельном творчестве, продолжая боговдохновенно излагать, доказывать предопределенное свыше неизбежное движение от преходящего Града Земного к вечному Граду Божиему.
Данное продвижение для него неоспоримо поступательное, подобно тому, как три года назад он приступил к написанию первой книги, а сейчас уже прогрессивно правит, корректирует одиннадцатую, набрасывает заметки к двенадцатой и тринадцатой, обдумывает содержание последующих фолиумов. Десять книг сочинения «О Граде Божием» на сей день находятся в распространении и в переписке. Их вполне возможно читать последовательно, изучать исповедимо; в точности так же, как исследует сочинитель Августин от сотворения мира историю рода людского в Граде Земном.
Кому-то может привидеться, будто история человечества ходит безумными, кривыми извилистыми тропами, топчется, вертится вкруговую, слепо тыкаясь вокруг, извивается змеей-спиралью. Или поворачивает нерешительно вспять, словно замкнувшись в порочном круге каких-то извечных коловращений. Избави, Боже, от подобного безумия!
Ничего подобного никому и в голову не взбредет, сколь скоро у кое-кого взбрендивший разум не изменяет мышлению. Для этого достаточно взглянуть, как воочию развертывается, скажем по-латыни, прогрессивно эволюционирует, от сотворения человека христианство, предрасположено оставляя позади отсталое, грубое, вульгарное языческое миропонимание в сочетании с ограниченными во времени и пространстве предполагающими, вопросительными размышлениями тонких философов-язычников.
«…Если бы мы сказали, что с того времени, как Бог создал человека, прошло не пять или шесть, а шестьдесят или шестьсот тысяч, шесть или шестьдесят миллионов лет; или стали бы увеличивать эту сумму во столько раз, что не нашли бы и названия для обозначения количества лет со времени создания Богом человека, то и тогда можно было бы спросить: почему Бог не создал его раньше?»
«О том же с любопытством могут спрашивать и потомки через шестьсот тысяч лет, если на столько времени продлится жизнь смертных людей, — то рождающихся, то умирающих, — и их невежественная немощь. Могли поднимать этот вопрос и те, кто жил прежде нас. Мог, наконец, и сам первый человек или на другой день после своего создания, или в тот же день спрашивать, почему он не был создан дотоле.
Но если бы он был создан ранее, этот спор о начале временных вещей имел бы те же самые основания и прежде, и теперь, и впоследствии».
«Философы этого мира полагали, что можно или должно решить этот спор не иначе, как допустив кругообращения времен, когда одно и то же постоянно возобновляется и повторяется в природе вещей, и утверждали, что и впоследствии беспрерывно будут совершаться кругообращения наступающих и проходящих веков, будут ли эти кругообращения в мире постоянно пребывающем, или он, возрождаясь и погибая через известные промежутки, будет всегда представлять в виде нового то, что уже прежде было и что будет опять.
Это — насмешка над бессмертной душой, и вывести ее из унизительного состояния даже в том случае, если она достигла мудрости, они решительно не могут. Потому что у них она постоянно стремится к мнимому блаженству, но беспрестанно возвращается к истинному несчастью.
Ибо как можно назвать истинным то блаженство, на вечность коего никогда нельзя надеяться, потому как душа или по крайнему невежеству не знает, что ей в действительности угрожает несчастье, или несчастнейшим образом страшится его при обладании блаженством? А если она никогда потом не возвратится к несчастьям и от бедственного состояния переходит к блаженству, то, значит, бывает нечто новое во времени, не имеющее временного предела.
Но почему в этом случае не то же бывает и с миром? Почему то же не бывает и с человеком, созданным в мире? Почему бы ему в здравом учении стезею правого пути не избежать каких-то мнимых кругообращений, изобретенных ложными и каверзными мудрецами?»
Платона и платоников писатель Августин не пожалел в «Граде Божием». Но к библейскому царю Соломону, невзирая на склонность к язычеству первостроителя храма единому Богу, отнесся уважительно, памятуя о правилах католической веры, авторитетно опирающихся на Святое Писание, и не забывая о безграмотной пастве.
«…Некоторые полагают, будто бы и то, что написано в первой главе книги Соломона, называемой Екклесиаст: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое; но это было уже в веках, бывших прежде нас», — сказано об этих кругообращениях, возвращающих и восстанавливающих все в одном и том же виде.
Но он сказал это или о том, о чем говорил выше, то есть о поколениях, из которых одни проходят, другие приходят, о круговых движениях солнца, о течениях рек или, пожалуй, о родах всех вещей, какие появляются и исчезают. Были, например, люди и прежде нас, существуют они и вместе с нами, будут и после нас; так же точно те или другие животные и деревья.
Самые чрезвычайные явления, выходящие из ряда обыкновенных, хотя отличаются одни от других и о кое-каких рассказывается, что они были только один раз, насколько они вообще чудесны и чрезвычайны, непременно и прежде были и будут. Ничего нового и небывалого не представляет собой то, что чрезвычайные явления бывают под солнцем.
Некоторые, впрочем, толковали его слова в том смысле, будто Мудрейший хотел дать понять: уж все было сделано в Предопределении Божием и потому ничто не ново под солнцем.
Во всяком случае, с правою верой несовместима мысль, будто этими словами Соломон обозначил те самые кругообращения, какие, по их мнению, повторяют те же самые времена и те же самые временные вещи. Притом так, чтобы, как в известный век философ Платон учил учеников в Афинах в школе, называвшейся Академией, так и за несметное число веков прежде через весьма обширные, но определенные периоды, повторялись тот же Платон, тот же город, та же школа и те же ученики. И впоследствии, по прошествии бесчисленных веков, снова должны повториться».
В противоположность застойному задубевшему язычеству, пребывая в развитии, развертываясь в пространстве-времени, христианская цивилизация не терпит бессмысленных повторений. Она их ликвидирует, аннулирует, отменяет диалектическим отрицанием отрицания, как будет показано и доказано много столетий спустя со времен прорицающего творчества епископа из древнеримского Гиппо Регия.
Христианская интеллектуальная культура все пускает в ход. Для нее годится и материалистическое развитие наук, технологий, методологий. Ереси христианство упражняют и укрепляют. И даже атеизм является не более чем органичной, пусть себе парадоксальной, принципиальной дополнительностью в единстве и борьбе противоположностей той же христианской цивилизации, предопределенной, организованной Логосом Господним. Словом, цивилизация, культура суть Град Божиий и правоверный переход к нему.
Ad hominem качество изначальной веры переходит в количество научно-технологических познаний, вовсе не исключая принципа обратной связи, когда на протяжении веков постоянно повышается качественный уровень человеческого развития в духовной и материальной сферах.
Августин Гиппонский оставил будущим ученикам немало цивилизационных провозвестий в двадцати двух томах сверхэпохального сооружения «О Граде Божием». Так как помимо блестящего опровержения олигофренической вульгарно-доисторической фикции о цикличности культур и цивилизаций, поддержанной языческими философами, фундаментальный мыслитель Аврелий Августин составил поистине энциклопедический свод античных знаний, мировоззрений, изложив, изъяснив христианам, что есть суперстрат христианства, каковы его божественные основы, трансцендентные истоки, а также естественная предыстория в ментальном субстрате прошлых и пошлых различного толка верований в ложных богов-демонов.
Энциклопедичность, широчайший охват и систематичность объемного изложения потребовались религиозному философу Августину, чтобы верифицировано, аподиктически и апокалиптично доказать, утвердить свою основную гносеологическую идею необратимого антиэнтропийного христианского прогресса от развивающегося, эволюционирующего Града Земного к телеологическому Граду Божиему. При этом Августину удалось показать, правильно истолковать, что Божественное Провидение, спасая человечество, нисколько не исключает свободу воли человека, добродетельно, правоверно способствующему прогрессивному развитию либо греховно, злобно препятствующему ему, коснея в ересях гиблого застоя или пугливого мышления, погибельно обращенного вспять. То есть к первородному злу грехопадения прародителей.
«…Теми же самыми ангелами возвещено было чудесное от этой погибели спасение Лота, жена которого, оглянувшаяся в пути назад, превращена была мгновенно в соль, таинственно поучая тем, что на пути спасения никто не должен желать прошлого».
Пожелание лучшей событийной будущности всегда, везде и во всем, на земле и в небесах — такова сущность христианства, не только в Символе Веры предусматривающего взаимодополняющее существование человека в настоящем образе краткосрочном, так и в чаянии будущей пожизненной вечности.
О вечном посмертии или мнимом земнородном бессмертии мы говорить не станем в расширяющейся астрономической Вселенной, обреченной на энтропию в ознаменование конца всех веков, стран, сторон, координат и пространств.
«Ибо не было и не будет времени ранее или позднее времени».
Итак, что же еще нам может сказать Августин спустя шестнадцать столетий? Пожалуй, multum, non multa, каким бы мульти-исполинским ни выглядел его труд даже в современном убористом полиграфическом исполнении.
Хотя в цифровом обличье мало что, но много на соответствующих носителях и гаджетах «Град Божий» смотрится компактнее. Думается, Августину этот технический вид приглянется, как только он уяснил бы непосредственную связь столь любимых им сакральных чисел, духовной цифири с компьютером-вычислителем. Eo ipso от новоязычного слова «дигитальный» наш протагонист, технологически или чудотворно заглянув в будущее, несомненно придет в полный лингвистический восторг.
Igitur, последнюю, — хоть на пальцах-дигитах считай, — двадцать вторую книгу «О Граде Божием» епископ торжествующе завершил на шестидесятом году земного бытия в третий день до сентябрьских календ. Большое должное дело всей его жизни сделано.
«Считаем долг настоящего великого труда с помощью Божией исполненным. Для кого он мал или для кого слишком велик, пусть простят меня. А для кого достаточен, пусть не мне, но вместе со мною воссылают благодарение Богу».
Эту благодарность епископ счастливо, блаженно вознес в конце августа месяца 414 года от Рождества Христова.
КАПИТУЛ XXXI
Годы 1170-1173-й от основания Великого Рима.
20-23-й годы империума Гонория, августа и кесаря Запада. 8-11-й годы империума Теодосия Младшего, августа и кесаря Востока.
Годы 415-418-й от Рождества Христова.
Гиппо Регий в Нумидии зимой и летом. Июньские календы в мавретанском Сетифисе.
«В течение времен мы ищем настоящее и не находим его. Потому что безо всякого промежутка совершается переход от будущего к прошедшему».
В шестьдесят календарных лет епископ ни много ни мало не претерпевал жалких ощущений дряхлого немощного старца, изможденного годами и болезненными невзгодами душевного тела. Ведь время, вмиг уходящее в прошлое, безвозвратно уносит с собой отнюдь не все и далеко не сразу.
Человеческие минуты, часы, годы непочтительно, не прощаясь, скоропостижно уходят, а почтенный возраст задерживается, длится вовсе не для того, чтобы налагать на пожилого человека невыносимое изнурительное ярмо старческих болезней, хворей, недугов, скорбей и немощей. Образ смертного будущего, как ни крути. Пускай иному старику-долгожителю самоубийственно мнится, будто ему ничего не остается делать, кроме как самостоятельно завернуться в саван и медленно ползти на кладбище, чтобы не утруждать окружающих. Другой же пережиток прошлого окаянно вымаливает у Бога последние вздохи, судорожно цепляясь скрюченными подагрой пальцами за собственную душу, не позволяя ей покидать плоти, отжившей свое.
Обе подобные нелепости пусть далеки будут от ума человека мыслящего! Даже душа, тягостно умирающая в Адаме, легко оживает во Христе.
Кому хватает здравого смысла предпочесть разумную душу телу, у того плоть следует за духом, вживе отдаляющим тление и старение. Вот почему епископ Аврелий не оставлял воинских упражнений и верховой езды.
Как и прежде сопутствуют ему и соучаствуют в физической культуре, располагаясь поодаль от военной гавани на пустынном побережье Африканского моря, доктор Эллидий и центурион Ихтис.
Погибшего диакона Турдетана епископ час от часу поминаeт добрым словом и заупокойной молитвой. И ко всем его заместителям, местоблюстителям у своей, что называется, пресвятейшей особы не слишком благорасположен. За это он себя частенько укорял. Но что тут с собой поделаешь? Видимо, по-другому не мог, не хотел в невольной, въявь незаслуженной неприязни к ближним причетникам.
Сейчас вот он тоже не может припомнить имен двух новых дуботолков, опять из отпущенников, каких ему на днях благонамеренно приставил в охранение отец Поссидий. Присматривают за лошадьми, отгоняют дубинками нежеланных посторонних? Ну и Бог с ними, коли грех рукоприкладства предваряет заслугу бодрого долголетия у патрона…
Наяву явление благочестия. Потому как прежние причетники рукоположены во священство, нынче отправляют пастырскую службу в монастырях и церквях, поднатаскавшись с большего в священных писаниях и богослужении. Зато ближайший диакон Гераклий ни в какую не соглашается принять сан пресвитера, человек-упрямец. Говорит насмешливо, ему-де в причетниках хорошо, если мелкие умом новоявленные пастыри плодятся и множатся поскорее овец, отчего скот телом мельчает в подобии, слабеет и вырождается.
За то насмешник принимает муку мученическую от Ихтиса в упражнениях с кавалерийским мечом, усиливающих телесную крепость. Не хочешь держать в руках тяжкий пастырский посох, мил человек? Так носи длинный кинжал на поясе, так же востребующий неутомимой практики в закреплении навыков самообороны и защиты правого дела.
Блаженны миротворцы, нареченные сынами Божьими, приносящие меч Христов и праведное умиротворение. Коль скоро соглашаешься со словами учителя, то и потрудись в благорасположенном воинском искусстве, укрепляющем тело и дух, ученик и сын мой…
«Мир несправедливых по сравнению с миром праведных не может и называться миром, это ясно тому, кто умеет предпочитать правое неправому и упорядоченное превратному. Ведь и то, что превратно, в какой-нибудь части, какою-нибудь и с какою-нибудь частью чего-либо, в чем находится или из чего состоит, непременно умиротворено».
В прошлом году гиппонский пастырь тождественно умиротворился обустройством водопровода и воздушного обогрева в его жилище. На том настоял отец Поссидий, и епископ ему не возражал. Благо ту осеннюю перестройку он выдержал, пережил вдали от домашних пертурбаций в длительной поездке по провинции, вплотную занявшись разоблачением, опровержением и противоборством пелагианской ереси.
Тепло в доме — величайшая вещь, если охладевшая с возрастом кровь не очень-то обогревает все-таки старящееся тело на седьмом десятке урожденных лет. Как ни кутайся в теплые многослойные одежды, ни жмись к жаровне, стилус закоченевшими пальцами не удержать, мысли словно застывают. Спину и плечи противно знобит, едва закончишь писать и встанешь, чтобы размяться и разогреться. Господи Боже мой!
Только язычник Аристотель мог утверждать, будто мозг есть большая железа, служащая охлаждению тела. Чему, дескать, свидетельствует слизь из носа как будто мозговое выделение. Наверное, голова и мозги у него были устроены не так, как у обычных людей. Уж верно не по-христиански, насколько уверен наш ученейший Эллидий…
К словам медикуса Эллидия епископ прислушивался, доверял его обширным врачебным познаниям. И полностью с ним соглашался в том, что реальные натурфилософские и физиологические знания нисколько не могут противоречить правильно понимаемому христианскому вероучению.
«Все, чего только могли бы сказать физики о природе вещей на основании верных доводов, все это, как можем мы показать, не противно нашим писаниям».
Ибо подлинная физическая наука и праведная религия Бога истинного друг друга дополняют, взаимообогащая для вящего общественного блага.
Показательно: этим летом, когда в гражданской общине Гиппона, не разбирая сословия и достояния, вдруг грянула свирепая моровая зараза, по морю завезенная из Картага, куда она прибыла из парфянского Ктесифона, доктор Эллидий Милькар ей со всей решительностью воспротивился. Убедил в том епископа Аврелия Августина, а с его красноречивым авторитетным содействием добился того, чтобы коллеги магистраты наглухо на месяц закрыли порт для въезда-выезда и посуху категорически прекратили доступ в город подозрительным приезжим, пришлым бродягам из дальних краев.
— Никому и никуда не бежать, не то еще хуже будет, — пригрозил черным посохом епископ непослушной пастве, ни на «u», у-у не смыслящей в натурфилософии и в либеральном искусстве врачевания. — Покорно и смиренно принимайте неминуемое бедствие, коли прародители против повеления Бога согрешили и всю природу мира запятнали грехопадением…
Грозному пастырю городские нобили и плебс вообще-то вняли. И чрезвычайные средства, предписанные медикусом Эллидием, приняли к частному сведению и кое-как к исполнению.
Тоже мне, умники пустоголовые, роптать вздумали, неуки, против науки и милосердия Божьего… В жизни и в смерти неистребима глупость людская. Хотя болезнь и заразу можно одолеть совместными усилиями, а дурака излечить дисциплиной, если Бог его раньше не приберет…
Епископ не страшился посещать заболевших, утешать их, наставлять, отпускать им грехи у последней черты. Засучив рукава, по-братски ухаживал за умирающими и выздоравливающими из бедных семей. Мерам предупреждения заразы, профилактическим прескриптам медикуса Эллидия он следовал неукоснительно и видел, что делает смертельная болезнь с теми, кто в невежестве пренебрегает милостью Божьей, дарованной в научном виде медицины.
Некоторых эта внутриутробная хворь разделывает всухую за один день и менее. Бедняги несколько часов без памяти корчатся в диких судорогах, в бреду, пока смерть не разлучит душу с телом.
Другие же в мокром виде перемежающейся рвоты и периодического обильного поноса страдают 2–3 дня кряду или пару недель с облегчениями. Потом либо излечиваются совсем — телом и духом, либо окончательно умирают телесно.
У таких больных члены тела страшно холодеют, рассудок помрачается, сердце раз к разу замирает. Снова и снова приступами густой липкий пот, тошнотное расслабление, блевотное истечение темной желчи и бесцветных жидких испражнений. От ужасающей потери жизненных жидкостей все их тело иссыхает, синюшная кожа туго обтягивает ребра, западают живот и грудь, черты лица заостряются, костенеют, глаза проваливаются.
У того, кто до болезни был толстяком, кожа обвисает, собирается в мокнущие нехорошие складки. У толстых женщин смарщиваются, пустыми мешками обвисают ягодицы и груди.
Смертельно теряющих влагу страдальцев доктор Эллидий принудительно врачует теплым соленым питьем, усаживает в горячую воду. Понос и блевоту им облегчает; даже иногда вовсе прекращает посредством лекарственных настоев.
В общем свыше двух триенсов заболевших у Эллидия результативно выздоравливают. У других городских лекарей результаты похуже: у них выжил, не умерев, лишь каждый третий.
Эту моровую болезнь, убивающую внутренности человека, медикус Эллидий и его коллеги именуют мертвой желчью. По их ученому мнению, причина ее кроется в омертвении и разжижении внутренних соков, ответственных за усвоение телом влаги и соли. Поэтому насильственное соленое питье в данном случае должно излечивать. Жалко, не всех и не сразу.
Однако наш Эллидий предполагает то ли еще более глубокое объяснение, то ли в ересь впадает, утверждая, как если бы любые болезни вызываются мельчайшими отравными частицами, всюду рассеянными в сырой воде, в воздухе и на почве. А условным происхождением эти болезнетворные партикулы имеют останки тел, прах, персть в какой-то мере бессмертного ублюдочного потомства допотопных блудниц, совокуплявшихся с падшими демоническими ангелами.
Разгневанный на нечестивцев Господь безусловно всемирно затопил потопом всю землю и все зло на ней. Но стихии воды за сорок или за сто дней всю заразу не смыть, не растворить и не очистить. Абсолютно очищает и элементарно излечивает исключительно божественный огонь с верхних небес. Не случайно пророки в конце времен предрекают глобальное очистительное всесожжение всех древних стихий-элементов, то есть старой земли у нас под ногами и старого ближнего неба над головой для предуготованных новых земель и небес.
Оттого в противостоянии чумным моровым поветриям действенны окуривания, близкие к стихии огня. Равным образом стихийно излечивает, прижигая раны, раскаленное железо. Это, ясно как Божий свет, не апокалиптический холокост, но его заповеданное людям малое подобие…
Библейскую версию происхождения болезней в толковании доктора Эллидия епископ не поддерживал, но и не опровергал. Быть может, оно и так, если для него, как богослова, событийные стихи Ветхого Завета, повествующие о плотских соитиях земных женщин и ангелов небесных по-прежнему предстают несколько темными и неясными.
Ясно одно — врачеватель Эллидий совершенно прав, настаивая на всевозможных очищениях для предупреждения и предотвращения болезней. Скорее здесь больше натурфилософии, нежели теологии.
Например, крепкий щелок из выгоревшей древесной золы, каким Эллидий настойчиво рекомендует обмывать руки и лицо после посещения заразных больных, близок к стихии огня. Им же надо прополаскивать одежду и мыть столовую посуду.
Тогда как хорошо прокипяченная вода объединяет сразу две очистительных стихии. Несомненно очищает и соль как часть земельного элемента. Не зря Спаситель иносказательно упоминал соль земли, в благовестии наделяя апостолов даром исцеления. А водой и солью в свою очередь придают духовное очищение от грехов в таинствах церковных.
Опять же тотальный запрет Эллидия на все сырое, почти необработанное от грешной земли: воду, фрукты, овощи, вяленую в тени рыбу и сырокопченое мясо — вынуждает прибегать к чистой стихии огня в виде вареной, жареной и печеной пищи.
Гарум, пряности и вино он, кстати, не запрещает. Первый долго и крепко настаивается как рыбный рассол, а второе и третье есть продукт долголетнего преобразования соли земли и солнечного жара, вбираемого растительной полужизнью.
Морская соль и солнце, между прочим, благотворно воздействуют на тело. Равно теплые купания животворят после упражнений в военном искусстве в здоровом поте лица, невзирая на лица и возраст.
Глядя на практикующихся в нападении и обороне соратников, епископ, утомленно присевший на песок передохнуть, вспомнил, как же яростно Эллидий ратовал за свежую воду и очищение городской клоаки.
Когда в июльские ноны разразилась эта проклятая холера, дождей не было примерно с месяца два. У окрестных поселян едва ли не половина урожая пшеницы на корню бедственно погорела. И в большой гиппонской клоаке дерьмо-какатум на беду застоялось, намертво закупоренное. Двое городских рабов золотарей задохнулись до смерти, попытавшись прочистить дерьмопровод.
Тогда и спустили все городские источники, водоемы, цистерны и фонтаны бурным потоком на промывание дурной плотины. Размыли, пробили какатум. А потом по предписанию магистратов горожане с проклятиями пользовались только свежей чистой проточной водой из акведука. Далеко таскать, зато живые здоровее стали во всех органонах, если верить доктору Эллидию.
После августовских календ никто в Гиппоне больше не умер от убийственного истечения органических нечистот спереди и сзади. Город со всех сторон сделали доступным не только для подвоза провианта от своих колонов.
Эллидия шепотком до сих пор проклинают за санитарные строгости, ограничения, чрезвычайные предосторожности. Напротив, некоего пресвятейшего прелатуса даже язычники чересчур превозносят, громогласно славословят за чудесное избавление города Гиппо Регий от повальной моровой напасти. Дескать, его чудодейственными молитвами праведника, волшебным именем Христовым еле-еле в душу живу уцелели, если в недалекой Сицилии в отдельных приморских городишках население почти поголовно вымерло, на понос изошло. Зато у нас, мол, воистину богоспасаемый град Божий, не то что у некоторых.
Помилуй, о Господи, невежд и суеверов!..
Позднее епископ пожалеет: зря это он авторитетно не предложил воздвигнуть Эллидию статую на форуме. Побоялся он в ту пору, как бы этакому чудотворящему врачу-натурфилософу не стали поклоняться суесловно, суеверно в подобии нового африканского Эскулапа. Может статься, и не всуе, коль скоро кто-нибудь из умных потомков догадается его святость исторически подтвердить и правдиво обосновать…
Один лишь Господь располагает существовать в настоящем, неизменно и неограниченно ничем и никогда. Тогда как человеку свойственно обустраивать жизнь, познавательно применяясь к прошлому, организованно отвечая на произошедшее. Либо мыслительно жить в непознанном будущем, выстраивая предварительно намерения, расчеты, решения.
«Но как бы там ни было, у всемогущего Бога и высочайше блаженного Творца не оказалось недостатка в предусмотрительной мудрости, чтобы и из осужденного человеческого рода наполнить Град Свой известным предопределенным количеством граждан, выделяя их не по заслугам, ибо все люди без исключения подверглись осуждению в своем испорченном корне, а по благодати, и показывая освобожденным как на примере их самих, так и на примере неосвобожденных, сколь велики Его им дары.
Ибо всякому очевидно, что не по заслугам, а по незаслуженной и милосердной благодати он избавляется от зла».
В том и состоит всемерная свобода воли праведного человека, чтобы по доброй воле следовать Провидению Господнему. И злоименно его неправомерно отрицают еретики пелагиане, бездарно закрывая глаза на очевидность благодати святого крещения, вызволяющего не плоть, но разумную душу от первородного греха. Имеются у них и другие еретические измышления, столь же нуждающиеся в обоснованном искоренении.
В том, отчего основатель и промыслитель секты пелагиан британский монах Морган, обосновавшийся в Риме под именем Пелагий, безнадежно запутался между Кикероном и Оригеном, у епископа Августина Гиппонского не было ни малейших сомнений. Взять хотя бы суетное пелагианское «Послание Диметриаде», извращающее само понятие свободы выбора между добром и злом.
Изобличая пелагианство, нумидийский архипастырь написал несколько книг и в том числе достоименный труд «О природе и благодати». Противоборствовать этой ереси он и подавно решил в обязательном порядке, поскольку в ливийскую Киренаику, спасаясь от вестготов Аларика, переселились Пелагий и его видный красноречивый наперсник Келестий. Более того, у Августина объявился личный идейный недруг — заморский епископ Юлиан из Эклана в италийской Кампании, порядком сноровистый в писательстве и плодовитый в диктовке еретических писем.
Прошло не более восьми лет, как пелагианская ересь в Африке отправилась по дороге в никуда вслед за донатизмом с напутствием в образе запретительного эдикта кесаря Гонория и ему соответствующей православной всецерковной анафемой от католических епископов Запада и Востока. Попутного всем ересям ветра в общественное небытие и религиозную отверженность!
«Однако же в тяжком иге, лежащем на сынах Адама от дня исхода из чрева матери и до дня погребения в общую матерь, заключается и это удивительное зло затем, чтобы мы были благоразумны и понимали, что настоящая жизнь сделалась для нас мучительной вследствие того в высшей степени непотребного греха, созданного в раю. И что все, совершаемое в нас Новым Заветом, имеет отношение ни к чему иному, но к новому наследию нового века…
А пока же, понимая это, ходить нам в надежде, со дня на день совершенствуясь, и умерщвлять духом дела плотские».
Епископ так и поступал, нисколько не противореча собственным сочинениям. В один ненастный вечер за обедом он на весь присест оставил без вина отца Поссидия, дурно и неаппетитно отозвавшегося об отсутствовавшем докторе Эллидии. Брату Поссидию, явно перебравшему где-то перед трапезой крепкого каламского мерума, брат Аврелий молча указал двумя перстами на запрещающую злословие и клятвы надпись, выпукло выложенную на гладкой дубовой столешнице черепашьими пластинами.
Орденское правило непреложно, и Поссидий конфузливо приумолк. Пускай он всего-то навсего искусился остроумно, учеными словами пошутить, заметив, мол, Эллидий Анатом очень нынче занят гоэтикой, магически гадая на будущие патологические несчастья по человеческим потрохам.
Научно-медицинская шутка епископу определенно не полюбилась, хотя бы потому, что святой отец Поссидий не удосужился прочесть соответственных глав из «Града Божия». Да и воскресные проповеди архипастыря, нередко затрагивающие с осуждением демонские вредоносные пceвдoнауки вроде магии, гоэтики, теургии, герметики, апотелесматики, главный епархиальный хозяйственник словно позабыл безответственно.
Видать, в самый раз ему напомнить о надлежащем отношении православных католиков к многообразным проявлениям демонического вмешательства в человеческие дела. Или умопомешательства, коль речь заходит о душевных болезнях простонародья на почве колдовства, ворожбы, ведовства, волшбы, волхования, знахарства, называемых словами, далекими от греко-римской учености.
Уже добрых семь-восемь лет со времени расследования преступных деяний друидов на юге страны епископ обязательно привлекает просвещенных медикусов для судебного исследования зловредительных магических случаев, колдовского наведения порчи и тому подобных темных бесовских безобразий. Причем освидетельствованию на предмет душевного нездоровья, психических патологий, — определимся по-гречески, — подлежат как подозреваемые, так и потерпевшие со свидетелями.
В такой вот связи третьего года ученейший доктор Эллидий весьма сокрушался, что ему не удалось освидетельствовать ученую женщину математика Гипатию из Александрии. Обвиненная в нечестивых гаданиях по звездам, приносящим несчастья, она затем была бессудно растерзана грязной и подлой простонародной толпой. Христиане ли смертно согрешили в стадном озверении либо убили ее озверелые язычники — значения не имеет, если Эллидий вполне уверен в доказательствах сумасшествия у женщин от излишнего изучения и обдумывания непосильных для слабого женского интеллекта натурфилософских или религиозных проблем.
Епископ помолился за спасение души рабы Божьей Гипатии, язычница она там или нет. Ему тоже было ее очень жаль, вероятно, невинно убиенную. У себя в Нумидии он такого бы не допустил, как скоро его непременно звали, умоляли исследовать чудотворной духовной силой и апостолической властью всяческие сверхъестественные преступления.
Пускай себе среди замешанных или от них пострадавших порой не находилось ни одного христианина, тут и там не суть важны вероисповедания. Потому как неустрашимого и подчистую не имеющего суеверий, сведущего в демонологии святейшего прелатуса Августина из Гиппона, нередко слезно просят рассудить по справедливости, выявить повинных и оправдать невинных. Так-то вот он внял просьбе епископа Декима из Сетифиса и наметил прибыть туда, несмотря на то, что эта епархия уже в Мавретании, хотя и в близком соседстве с Нумидией.
Тяжкое обвинение туземная народовластная молва возложила на молодую побродяжку, неизвестно откуда взявшуюся в Сетифисе. Грозящую смертью вину на нее налагают за наведение порчи на людей и скот, выразившейся во множестве выкидышей, в неплодности женщин и опавшем обомлении детородства у мужчин. Ко всему прочему ведовству подтверждают обвинительное заключение многими зловещими, возмутительными пророчествами-проклятьями, услышанными в живую из ее уст.
У себя в епархии епископ, Бог знает когда, положил решительный конец всем старухам-ведуньям, языческим магам, народным колдунам, лживым метопоскопам, поганым апотелесматикам, составляющим гадательные гороскопы. К счастью, древнеримские законы XII таблиц позволяют разделываться с этой порочной богомерзостью гораздо решительнее, нежели эдикты против ересей, провозглашаемые христианскими кесарями современности. Не в укор будь им сказано: кесарям — кесарево…
И возмущают общественное спокойствие магические злодеяния иногда поболе, нежели иные республиканские ереси. Наверное, то же самое политическое возмущение и случилось, непростительно сказалось в Сетифисе…
Чтобы спокойно разузнать различные обстоятельства, очевидно, непростого мавретанского дела, епископ заблаговременно за неделю отправил туда трех прознатчиков.
Первым выехал юркий старикан монах Филодокс. Этот бывший рыночный меняла уж не раз и не два в порученных ему целях дознания достоверно разведывал обстановку, собирая много ценных сведений и малую лепту на прокормление никому не ведомого монашеского братства, где-то за южными горами обращающего в христианство диких эфиопов. Помнится, в Ферродике он когда-то хорошо и негласно поработал.
Независимо от Филодокса и друг от друга обо всем происходящем в Сетифисе в свой черед дознавались двое почтенных торговцев из Гиппона. Марий Гефестул солидно, согласно общается с христианами, а разбитной Секст Киртак вращается и угощается с язычниками.
На второй день в июньские календы епископ Аврелий и его многочисленные сопутники погрузились на большую торговую трирему юного кормчего Аспара, направляющуюся из нумидийского Гиппо Регия в мавретанский порт, ближний к Сетифису.
Опытные воины-триарии, тройной меди сорокалетние ветераны под началом центуриона Горса завели на корабль лошадей, меж тем людям не надо указывать их места на корме и у ростра.
Привилегия въезда в чужой или свой город верхом зачастую производит соответствующее триумфальное впечатление, показывая, насколько архипастырь уверен в победе над любым злом, явись оно из самой преисподней греховного естества. В седлах они с Ихтисом держатся покамест крепко, а молодым сам Бог велит быть всадниками-пастырями. Иначе какие же они доблестные и благородные нумидийцы?
Диакон Гераклий порядочно управляется с конем — царственные род, племя себя показывают. Не очень ему уступает и тот прыткий лекарский помощник. И сам медикус Эллидий не забывает о своем достославном нумидийско-пуническом происхождении.
Сразу видно: соображающие и понимающие бесспорно превосходнее тех, кто, иже скоты, живут и чувствуют без смысла и разума.
Гинемах тут исключение. Старый умный кот по-прежнему впечатляет малоразумных и внушительного вида сопровождения доминуса Аврелия нимало не портит. Как бы он ни отяжелел, утратив былое неимоверное проворство, но чуткие усы, настороженные уши, тигриные клыки и орлиные когти на месте…
По прибытии в Сетифис, когда все и вся утряслось с торжественной встречей и размещением на постой, поздним вечером епископ Аврелий с понимающим котом Гинемахом принимали с докладами разведчиков. Прежде всех вполголоса докладывал пронырливый лысый монах Филодокс. Прохвост вполне оправдывает имя собственное любителя выслушивать, выспрашивать людские мнения.
— …Осмелюсь тебе поведать, твое святейшество, здешний епископ Деким по правде держит волка за уши, вернее, волчицу. Потому что разный местный люд, кто креститься, кто пальцы скрещивает, но упорно твердит: дурная пророчица Волюксия умеет превращаться в зверский облик, исчезая в темноте и пряча горящие глаза.
Христиане и язычники епископом гораздо недовольны, готовы взбунтоваться. Магистраты и нобили на его стороне, а простолюдины против. Уж больно он корыстолюбив и похотлив. Будучи в доле с шурином от покойной жены, деньги в рост дает. Христианской десятины ему мало — берет, где возьмет, не сеяв, не рассыпав. С поваренными рабынями промежного беса похоти тешит, о прошлом годе портовую блудницу взаперти держал в эргастуле на вилле, покуда не сбежала.
В епископы, ты знаешь, он прямо скакнул из военачальства над береговой стражей. С агонистиками рьяно воевал, сан священнослужителя принял и готово — он в предстоятелях.
Но не ведомо тебе, как выбирали отставного центуриона Декима через кровавое ночное побоище в базилике. Его контуберналы расстарались. Соперника Декима, пресвитера Бокха вынесли под утро замертво, с ним две дюжины мeртвякoв. Раненых никто не считал, самодеятельно или с родственной подмогой до дому побрели, добираясь. Ночной горшок побили, но за собой чисто вымыли, прибрали и молчок.
Подозреваемую в порче Волюксию те же верные Декимовы причетники-чистильщики выхватили из толпы уши развесивших язычников. Христиане тоже уверяют: сперва хотел он ее, лжепророчицу, ему в наложницы потихоньку, ан не вышло, люди громко возмутились.
Ее от греха подале упекли в узилище, а устрашенные ею суеверы из наших с тобой маловерных собратьев по вере, твое святейшество, духом как-то собрались, возроптали, под угрозой бунта потребовали изуверской публичной казни злопророчащей ведьме. Сначала-де ее бичевать на форуме, после в цирке оскопить ей женственность, распять на кресте, перебив голени, потом разорвать на пять частей, растянув между необъезженными гетульскими жеребцами…
Епископ невозмутимо, не переспрашивая, выслушивал монаха. Вольно прознатчику выговориться. Монолог он все тебе проясняет.
Аврелий многое сам до того вызнал из доверительной беседы с грешным Декимом, назойливо предлагающим, прежде чем позорно казнить, публично изгнать легион демонов из ведьмы Волюксии. Нумидийский предстоятель также обстоятельно побеседовал с одним растерянным судебным квестором из декурионов, раньше не знавшим, как ему поступать, кому и чему верить. По нему же видать! Теперь себя не помнит от радости, сонмы языческих богов благодарит тот добрый римлянин Меммий, если буйные злые мавры в массе поуспокоились, дождавшись приезда того, кто призван решить дело миром и разрешать от грехов по христианским заповедям.
— Жаждущим непотребных зрелищ христианам, забывающим о любви к врагам нашим, эта пресловутая Волюксия, твое пресвятейшество, видится исчадием ада, — монотонно докладывал между тем Филодокс. Он никого, впрочем, не осуждал, если на земле сильнодействующе судит епископ, а на небесах — всесильный Господь.
— Она действительно прикидывается не волчицей-друидессой, а жрицей поганской богини Исиды. Носит между грудей ее деревянное изображение с младенцем Гором на руках. Оно бесстыдно нагое, им она мужчин запугивает, говоря: и у них промеж ног станет так же гладко, когда мужество с корнем отсохнет.
Хотя в основном Волюксия предрекает общественные бедствия, злосчастья, жуткие потрясения городской и сельской жизни. Выкликает о землетрясениях, о потопе, вопиет о вулканическом разрушении христианских храмов, убийстве епископов и священников. Зловеще пророчит вторжение неисчислимых полчищ северных варваров с железными зубами…
С этим и епископ мог бы отчасти согласиться. Волей-неволей в нечто подобное поверишь, если они с Ихтисом не один раз обсуждали угрозы с юга и севера. Скажем, не приведи Господь, организованной воинской силе вестготов какого-нибудь рекса Атаульфа вздумается нанять корабли и переправиться в Африку, тогда вся проконсульская провинция ляжет к их ногам. Долго они здесь не удержатся, но пока их отсюда выбьют легионеры западного кесаря, может, и восточного, разруху от такого вторжения трудно вообразить.
— Представь, пресвятейший прелатус, эту безродную Волюксию язычники почтительно именуют Мавретанской сивиллой.
С месяц тому назад она навела великий страх, кощунственно бросив на алтарь Петропавловской базилики табличку со словами: Мене, Текел, Упарсин. Диакон сдуру их вслух зачитал. Прихожане было подумали: колдовское заклинание, демонов вызывающее. Оцепенели, заголосили в ужасе, затряслись, кое-кто из женщин в падучей принялся биться оземь. Когда пресвитер растолковал, что это из христианского Святого Писания, перепугались еще сильнее…
Отпустив монаха Филодокса с благословением, епископ занялся выяснением языческих мнений в толковании торговца Секста Киртака.
— …Послушай меня, преподобнейший. Среди язычников есть немало горячих голов, найдутся такие и в городской охранной когорте. Наверняка попытаются отбить эту свою сивиллу по дороге на форум для судебного слушания. Или на то отважатся перед казнью.
От лысого до лысого народец здесь отчаянный, задорный, редкие ристания в цирке обходятся без драки, помнят, как не так давно агонистиков беспощадно изничтожали.
Если нашу прорицающую войну непорочную весталку Волюксию укокошат в свалке, оно тебе полбеды. Если же освободят, жди вселенской свары промежду христианами и язычниками. Их здесь приблизительно половина на половину, стенка на стенку… И получай маленький Армагеддон внутри немалого города…
Соображения вексилария Секста епископ присоединил к делу и к размышлению. Велел хорошо выспаться, а с рассветом ходкой рысью вскачь в Мадавру с письмом. Полдня туда, день обратно и не позднее третьего дня вживе предоставить ему в конной лектике мать Элевтерию. Трех контуберналов от центуриона Горса он получит в охрану.
Третий доклад епископ выслушал от купца-оружейника Мария Гефестула, тождественно прибегнувшего к библейскому образу.
— Я вот что тебе скажу, твое святейшество… Этот вот Сетифис истинно Содом и Гоморра в случке с пандемониумом…
Епископ ничуть не удивился, когда на другой день пополудни анамнез в принципе простого кузнеца подтвердил ученейший доктор Эллидий, сразу по приезду ретиво принявшийся за расследование, исследование и освидетельствование пациентов.
— Ты не поверишь, Аврелий! В любом портовом лупанаре африканского побережья побольше порядка и благолепия, чем в этом вот Сетифисе Мавретанском. В кварталах операриев чуть ли не все подряд вповалку и в лежку заражены срамной греческой болезнью.
Глядеть не надо каждому и каждой промеж ног на истечение гноя, когда локти и колени симптоматично опухают, а глаза примечательно гноятся даже у малых детей, не вошедших в мужской и женский возраст. Кругом грязища, вонища, закисшее дерьмо aж по нундинам не вычерпывается. Грязный народец эти мавры…
Как их желчемертвенная зараза обошла стороной ума не приложу!
Выкидыши у них однозначно от похоти в ранние месяцы беременной тягости. Сунул, вложил подальше, покрепче — и выблядок выталкивается. То же самое у них с овцами и козами выходит, если кому-то женщин и мальчиков мало.
Вместе с тем популярные в городе женское бесплодие и множественная утрата мужской производительной силы так же объясняются запущенной формой генитального греческого заболевания. У многих оно протекает незаметно, без неудобств и боли.
Какая-нибудь ведьма имярек, как ее там Волюксия? Здесь совершенно ни при чем. Корень безобразий в невежестве. Как ты говоришь, незнание равносильно глупости.
Сущеглупую Волюксию, подозреваемую в ведовстве, я посильно исследовал и осмотрел со всей внешней тщательностью. Говорить со мной она не захотела, но, похоже, какая-то душевная неустроенность у нее все-таки есть, сколь скоро верить тому, чего о ней сказывают. И причина ее психического расстройства мне известна, если у нашей худосочной девственницы вмертвую зажато детородное устье.
Спасибо контуберналам Горса, легонько взяли, на весу растянули эту помойную кошку за руки, за ноги, обездвижили. Ученик мой шустрый обнажил тело к досмотру.
Должно быть, когда-то ее смертельно напугали грубым насильственным лишением девственности. Вряд ли то были поклоняющиеся египетской Исиде. Те веками умеют это делать аккуратно и безболезненно. Принявшей жреческое посвящение она никак не может быть.
В заключение однозначно выделяю: каких-либо сатанинских, бесчувственных демонических меток, принадлежащих досмотренному телу на грудях, ягодицах и в паху, я не обнаружил.
Снизу и сверху записывать нашу тощую красотку Волюксию в ведьмы тоже ни к чему по возрасту. Без долгой выучки ведовства не бывает.
Насчет ее возмутительных прорицаний это уж тебе выносить духовный приговор, прелатус Аврелий.
С вынесением пастырского вердикта епископ не торопился и формальное судебное присутствие открывать не спешил. Пешком в окружении свиты он степенно прогуливался по городу, приглядываясь к домам и к лицам людей. Пополудни исповедовал того пожелавших мужчин и женщин в атрии епископального домуса. При всем том от совместных богослужений с местными клириками, нахмурившись, устранился без объяснений.
Два раза епископ посетил в тюрьме девицу Волюксию; собеседовал он с ней наедине, без посторонних свидетелей и очевидцев.
С каждой прогулкой по Сетифису раньше невозмутимое лицо Августина Гиппонского очевидно мрачнело, хмурилось все больше и больше. А его прирученный сервал помногу начал походить на некое апокалиптическое чудище, готовое покарать, пожрать нечестивцев.
Трехдневное упорное хмурое, сумрачное молчание знаменитого христианского проповедника, чудотворца и аскета поначалу вызывало у горожан недоумение, после же стало вселять тревогу и беспокойство. Неизъяснимый всесторонний страх постепенно закрался в грешные души. Что же он, праведный человек Божий, теперь им скажет, укажет?
Встретив мать Элевтерию у городских ворот, Августин всего лишь безмолвно поклонился ей в благодарность за своевременный приезд.
Назавтра в главной городской базилике негодование, печаль, гнев, горестные сожаления пастыря о заблудших, об утонувших в пучине первородного греха христианских душах вначале пролились горькими, горючими слезами во время воскресной мессы. За ними настала пора гневной и яростной обличительной проповеди против грехов современных. Второе обличение пастырь произнес там же в повечерии. На следующий день в другой базилике он столь же ярко, с апостольской убедительностью проповедовал, изобличал все те же смертные плотские грехи и грешников им подверженных. Четвертая проповедь при огромном скоплении верующих прозвучала в городском театре, не вместившем всех желающих.
Кто сподобится благодати? Кому можно надеяться в тот день, в день гнева? Горе Сетифису, ибо его ждет участь пострашнее, чем Господня кара Содому и Гоморре. Господь не станет искать здесь праведников. Но покарает всех тут и сейчас, спустя тысячелетия или неисчислимые тысячи тысяч лет. Ибо никому не миновать того дня бедствий и несчастий. Завтра и сегодня, в любой момент он здесь рядом с нами, день тьмы и мрака, мглы и бури, день трубы и яростного клича над всеми земными градами…
Когда епископ взял обеими руками вперехват черный посох, воздел его над собой, в театре и в городе не оказалось ни одного человека, кто бы осмелился ему не повиноваться.
Предпосылки и обстоятельства для повиновения у всех сограждан Сетифиса были многоразличны. Но равнодействующая сила единомыслия и единодушия порой стоит превыше разнонаправленных желаний, чаяний, устремлений и похотей людских.
Объединяй и властвуй в единоверии. Ибо всякая власть предпослана от Бога. Все через Него и от Его произволения.
В Сетифисе с удовлетворением, особо не рассуждая, подчинились духовному и душевному решению Августина Гиппонского о полной невиновности девицы Волюксии в колдовских злодействах. И ее добровольное намерение удалиться от мира в женский монастырь матери Элевтерии воспринято не менее одобрительно и умиротворенно. Как христиане, так и язычники.
Но до того предпослано, обстоятельно случилось небывалое и неслыханное. По приказу Августина в одной из базилик собрались только женщины и жены выборочно по именам из разных частей города для собеседования с добродетельной целительницей Элевтерией о печальных физиологических последствиях плотских утех.
В это же время доктор Эллидий Милькар избранным мужам и мужьям в другой церкви прочитал впечатляющую, внушительную санитарную проповедь о вреде человеческой нечистоты и срамной греческой болезни. А епископ Аврелий Августин предложил всем, кто в такой нечистой хворобе грешен, добровольно, без принуждения наложить на себя самих епитимью-наказание в виде годичного воздержания. Так как велико милосердие Божие, всем возможно надеяться, уповать на душевное облегчение и утешение телесных страданий еще при этой жизни. В том числе не только христианам, но даже язычникам от Адамова корня.
КАПИТУЛ XXXII
Годы 1174-1180-й от основания Великого Рима.
24-28-й годы империума Гонория, августа и кесаря Запада. Два года империума узурпатора Иоанна. Первый год империума Валентиниана III Плакидия. 12-18-й годы империума Теодосия Младшего, августа и кесаря Востока.
Годы 419-425-й от Рождества Христова.
Гиппо Регий в проконсульской провинции Африка. В основном в летние и осенние месяцы.
«Тела эти не одряхлели бы от старости и не приблизились бы по необходимости к смерти. Это состояние поддерживала в них чудная благодать Божия в виде Древа жизни, стоявшего посреди рая вместе с запрещенным древом. Однако же они [прародители] принимали и другую пишу, кроме одного древа, какое было запрещено. Запрещено не потому, что оно само по себе было злом, а ради внушения им чистого и искреннего повиновения, составляющего великую добродетель в разумной твари, находящейся под властью Творца и Господа».
В потомстве ветхого Адама старость, — какая она ни на есть радостно бодрая, умственно активная, деятельная или же отупело инертная, дряхлая, пасмурная, — постоянно дает знать невольными потерями, утратами, физическими лишениями, вынужденными запретами.
Старится человек разумный; вместе с ним словно стареет и все, что его окружает, исподволь год за годом уходя в жизнь иную и в воспоминания. Подразумевается, если иной раз он еще не лишен способностей эту жизнь ясно воспринимать и четко вспоминать. А также ему есть, кого поминать братским, любящим словом за упокой и желать им доброго ответа на окончательном Страшном судилище Христовом, кем бы они когда-то ни были в душу живу.
Конечно немаловажно, живет ли чья-нибудь разумная душа в праведном ожидании седьмого дня упокоенного отдохновения от земной суеты сует и всяческой суеты людской. Но для милосердной любви ради нужно молиться и за суетных язычников, за ближних и дальних неприятелей наших, осуетившихся в житейском суемудрии. Пусть и далеко спасение от грешников, близка к ним милость Божия. А паче иного чаяния действует дружеская молитва.
Когда пришло печальное известие, что в Картаге спокойно умер старый ланиста Нумант Иберик, епископ Аврелий Августин ночь напролет в домовой часовне горячо молился за однозначный спасительный ответ языческой душе давнего друга. И после не забывал о нем в памятных молениях.
Потом спустя приблизительно полгода из далекой южной Капсы епископу Августину Гиппонскому была доставлена значительная сумма на помин души новопреставившейся Сабины Галактиссы, согласно ее завещанию добродетельной вдовы, непостыдно в одночасье скончавшейся от апоплексии. Аврелий уступил страстной мольбе молодого священнослужителя, благоговейно исполнившего волю усопшей, и оставил его при себе. К таким своим преданным читателям и почитателям он по-авторски не может не испытывать благоволения.
Теперешнее близкое присутствие пресвитера Аксиона не вызывает у епископа каких-либо неприязненных воспоминаний. О Сабине он помнит, час к часу умершую добром поминает с чувством дружеской духовной любви. Даруй ей, Господи, вечный покой в лоне Авраамовом…
Умирают люди, погибают животные, испытанные в стародавнем содружестве с человеком. Околел, отбросив копыта в почетной отставке на монастырском пастбище, немало проживший вконец одряхлевший вороной жеребец Коммод. За ним последовал, где-то в окрестных зарослях сгинул его старый походный спутник — храбрый рыже-серый кот Гинемах, однажды утром не вернувшись к хозяину из последней охоты.
С недавних пор, — наверное, года два-три, — Аврелий взял в обыкновение перебираться на летнее жительство в Новый Органон в июле-августе. В город теперь по мере надобности его доставляют в пароконной повозке. Бывает, и верхом, как в молодости пресвитером, хорошей рысью, стараясь сохранить прямую посадку, он с достоинством, не без юношеской гордости, въезжает в южные ворота.
Случается, и авторская горделивость кое-кому благо приносит. Недаром он включил в гиппонский клир образованного отца Аксиона, прибывшего из Капсы. Епископ с удовольствием заметил, как немедля взревновал к пришельцу диакон Гераклий. Тотчас призадумался упрямец о сане пресвитера, чтоб хоть тут сравняться с соперником, состязательно не уступающем ему ни в учености, ни в красноречии.
Оба они учились в Картаге у профессора Эвлодия. Только Гераклий у нас постарше будет. Он, задрав нос, уже в майористах ходил, когда родители отдали Аксиона в обучение высшей риторике. Нынче же Аксион — пресвитер, то есть старейшина, а Гераклий всего лишь диакон, в переводе с греческого пребывающий прислужником. Однако целомудренной скромности быть смиренными прислужниками-министрами Нового Завета обоим нашим книжникам все же не достает изрядно…
С дальним министерским прицелом епископ поручил молодому отцу Аксиону судебные разбирательства брачно-семейных неурядиц и сумятиц среди паствы, определив ему в помощники и докладчики диакона Гераклия. Сам он обычно сидел себе скромно, молча где-нибудь рядышком сбоку или позади с писательскими табличками на скамеечке.
Коль молчит непроницаемо предстоятель, то и к нему никто не дерзает обращаться, поворачиваться, понапрасну отвлекая от духовных раздумий какими-то мелочными человечьими дрязгами. Он авторитетно здесь и в то же время его тут нет, тем часом судьям и сутягам предоставляется полная свобода выбирать из противопоставлений добра и зла, Бога и человека, души и тела.
Плоть разъединяет, дух соединяет. Не бывать стать настоящей власти от Бога в распрях, раздорах, в разделах. Объединяй людские противоположные стороны и властвуй над ними.
Так-то оно так… Но может ли быть христианская экклесия образцом, прообразом, архетипом гражданской общины, взыскующей Града Божия? Что в экклесиальной общности от изменчивого грешного человека, что от неизменного Бога, греха не имеющего? Кто они, члены тела Христова в церкви дела Божьего?
По делу в благовестии не приходится сомневаться и вопрошать. Где двое коллегиально собираются во имя Его, там и Он рядом с ними. А если их по ходу общелюдских дел не два и не три человека, но сотни, тысячи, миллионы? И в будущем неуклонно умножатся тысячи миллионов во множестве городов-полисов, кесарских царств земных или в одном всевеликом, вселенском доминате. Уяснят ли они цивилизованно, политически все вместе Предопределение во святых? Станут ли далекие потомки лучше, полнее, глубже, проникновеннее, нежели временем отдаленные предки, в откровении понимать, связуя с собственным улучшенным развитым сосуществованием, вечные неизменные заповеди-тестимонии Господни?..
Обо всем этом и многом другом Августин писал и прежде, размышлял о взаимосвязях, задавал себе тому подобные религиозно-философские вопросы; старался пророчески разрешить их по мере той веры, устремленной к познанию, какую уделил ему Господь. Со всем тем на шестьдесят седьмом году земного бытия можно кое-что пересмотреть, а кое-чего добавить, развить, углубить…
Замысел нового многокнижного труда о приложении к добродетельному и благотворительному Граду Земному всего, заповеданного Богом, о понимании прореченных путеводных истин в провозвестиях Ветхого и Нового Заветов у Августина понемногу созрел в умудренном прошедшими годами порядком преклонном возрасте. Сколько лет на размышление и сочинительство ему отпустит Господь, он не знал. Но всемерно уповал на помощь Его, ясность мысли, остроту стиля и пронзительность разума, которому вроде бы еще не грозят старческое слабоумие, тупое недомыслие и недоразуменное болезненное бессилие.
Истинно сила в познании и в осознании умной души в Боге!
Дай, Господи Боже мой! В малом увидеть великое, чтоб и впредь так оно посильно и разумно познавательно складывалось, получалось. Ведь труд-то предстает немалый — вновь двадцать с лишним книг, назовем их «Зеркалом». И столь же зеркально хорошо бы соорудить пять-шесть фолиумов «Книжного пересмотра».
Как ныне на грех первородный, всякое время года и сами годы несутся вскачь без удержу. Но и на то воля Божья… Вслед за Рождеством и Крещением, смотришь, на носу Пасха Христова, за Рождеством Богоматери сызнова осень. Скажем так, у стариков всегда осеннее существование и состояние, покуда не придет зимняя омертвелость. Где гроб, там и саван. И оба предмета надлежит предуготовить предусмотрительно…
По прошествии года, может, полутора после появления в его ближнем кругу красноречивого отца Аксиона, епископ предложил ревностному диакону Гераклию во благо читать и предметно комментировать Евангелия прихожанам Павловой базилики.
Сколь припоминается явственно, раньше-то наш ученейший секретарь от такой чести принципиально отказывался, ссылаясь на молодость и неопытность. Зато теперь молодчик ухватился обеими руками за паству и новозаветные писания. Да и судейство одному, другому, видимо, благоприятно поспособствовало…
Минули два-три года, волею Божией безвременно скончался избранный настоятель Павловой базилики отец Эмиллий. Само собой способно, согласно мудрецу Хилону из Лакедемона, о покойном только хорошее, но из других сентенций по поводу тоже слова не выкинешь.
Чего тут ни скажешь, если боязливец Эмиллий поддался безрассудному страху? Понесла его нелегкая, собственно, лошадь; несчастный поводья растерял, в седле не удержался и на ровном месте бряк наземь, словно мешок с отрубями. Постыдно свернул на сторону шею, посох переломил пополам.
Хотел он, ободрясь во всем, походить на своего предстоятеля, включая верховую езду, да не все вышло в тишь да гладь. О благодати и помина нет.
Помнится, Гераклий назвал Эмиллия моей полуденной тенью. Мол, отчетлива она, резка по краям, но, увы, слишком коротка…
Тем не менее, отбрасывать тень на память покойного, мы не станем. Мир праху его…
Отпевание и погребение святого отца Эмиллия состоялись чином наидостойнейшим многая клиром и притчем церковным при большом стечении верующих и любопытствующих. Также достопамятно почтил покойного и святейший прелатус Алипий Адгербал из Тагасты.
Назавтра, не откладывая еще более важного дела и занимательного зрелища, избрание нового настоятеля храма взамен умершего епископ Августин устроил по-старинному, по жребию, положившись на волю Божию. В этом-то благочестивая паства, собравшаяся на выборы в изрядном кворуме, нисколько не могла усомниться.
Нацарапав острым костяным стилусом на деревянных тессерах провозглашенные имена пресвитера Статилона и диакона Гераклия, он положил два жребия в серебряную чеканную чашу, встряхнул ее хорошенько, затем протянул епископу Алипию, как былому настоятелю базилики Святого апостола Павла. Тот, нимало не колеблясь, вынул один из тайных жребиев и сразу же огласил его:
— Радуйтесь, братья и сестры, приветствуя пресвятейшего Гераклия, ныне настоятельствующего служителя вашего. Ведите же избранника Божия к апостольскому таинству рукоположения…
Впрочем, святому отцу Статилону тоже предстояли избрание и жребий, но несколько месяцев погодя на кафедру епископа в Тибилисе, откуда он родом.
Между прочим, из родных мест Тагасты старинный друг Алипий как-то привез в подарок другу Аврелию двух ручных геннетов. Пушистые маленькие зверьки лихо охотились на мышей, то и дело норовивших поближе подобраться к книжным ларям и полкам. Кроме того, едва ли не за один день поголовно извели всех змей в саду.
Эти геннеты из тех, кого издавна приручают гетулийцы, охотно угощались орехами, осторожно беря их с ладони человека, лакомились сладким молоком. Однако достославного понимающего кота Гинемаха им, к сожалению, не заменить. Слишком уж они малы размером, силой и крохотным звериным умишком.
Примерно так же не выдерживают сравнения всецело хорошо управляемые пастырями христианские экклесии, гражданские общины муниципиев, имеющие справедливых и мудрых магистратов, с обширным плохо устроенным великоримским доминатом. Пускай он сегодня и разделен надвое якобы для лучшего правления и обороны от нашествий варваров.
Целое создается из частей. Но как быть, если сумма разрозненных частностей никак не укладывается в общую стройную целостность?
Повсюду и везде уродливое безвластное разделение, бесцельная шаткая рознь, непорядок, нестроение, неустойчивость, неуверенность в завтрашнем дне, неуважение к власти предержащей. Хотя за что ее уважать?.. Нет временщика-узурпатора Иоанна, зато есть несмышленый во младенчестве кесарь Валентиниан Терций и властительная мать при нем, от которой чего-либо хорошего ждать не приходится…
Справедливости ради Аврелий время от времени задавался вопросом: не преувеличивает ли он ненароком плачевное, горестное состояние Великого Рима? Раньше-то он был куда большим умиротворенным оптимистом, если память ему не изменяет?
Ведь частенько старческий дряхлеющий разум криводушно становится изменником ясному мышлению, предаваясь слабоумным бессмысленным сожалениям о прошлом, смутно жалуясь, мелочно сетуя на настоящее, коего он уж не понимает. Полудохлое языческое старичье стареет, болеет, духом и телом слабеет, оттого кому-то из них и кажется, облыжно верится, будто весь мир катится туда же, в тартарары, в адскую пропасть вкупе с ними заедино. Или же в бессильной стариковской злобе кое-кому из еретиков монтанистов очень хочется, чтобы мироздание провалилось на месте разом с ними, ненавистниками и завистниками.
Нет радости нечестивым! Бога они забыли и себя вместе с Ним, недоверки!
Те же, кто не запамятовали о бескорыстной христианской любви к ближним своим, доброжелательно относятся к неизбежным переменам и надеются на Град Божий, приходящий на смену Граду Земному. Верные чтут Бога истинного и кротко вздыхают о небесном отечестве.
Ибо Христос воспринял человека, как изменчивую тварь, долженствующую изменяться к лучшему. Доколе человек этот не отступает от Бога, Бог Своим присутствием оправдывает его, освящает и делает блаженным. Словом, возделывает, окультуривает его и охраняет. Сказано ведь благовестно: не прейдет род сей…
Умиротворившись парочкой силлогизмов и евангельской цитатой, Аврелий по большому счету благожелательно пожалел о несчастных стариках с окостенелыми или тягучими размягченными мозгами. Сам-то он не устает благодарить Бога за сохранение в его возрасте твердой памяти и незамутненного упругого здравомыслия. Тем более, его семьдесят лет вовсе не за горами, за долами в юдоли земной в миру и в политии мирской.
Совсем это не праздник и не юбилей — нечему тут радоваться, не есть хайре, выразимся по-гречески… Но политика грехов наших ради…
На протяжении последних десяти лет епископом руководит вовсе не праздный интерес к великоримской политике. Прежде всего обязывают, приказывают статус и модус нумидийского архиепископа. Теперь вот дискурс, какой можно было бы назвать историософией на том же аттическом наречии.
Без политики изреченной ни за что не обойтись, когда исторически язычники, еретики, безбожники, кто во что горазд, уныло бубнят, гундосят протяжно, будто христианство подтачивает, разъедает, разъединяет Великий Рим. Будто бы христианское вероучение несовместимо с гражданскими устоями жизни и стабильным упорядоченным империумом.
Как бы не так, квириты!
Никоим образом истинная вера не может повредить республике, если она в действительности общенародное дело, духовно объединяющее власть имущих и верноподданных. Только так и никак вам иначе!
В доказательство достаточно вспомнить религиозную политику кесаря Теодосия Магнума или взять в пример рассчитанную на долгое будущее властную деятельность его внука, Теодосия Младшего на Востоке. Да и на Западе все бы складывалось по-другому, не столь безрадостно и беспорядочно, кабы не вновь поднимающая змеиную голову неизжитая ересь арианства среди северных варваров и римской знати.
В восточной части великоримского домината христианство, благодаря проповеди Святого апостола Павла, развернулось, развилось и укрепилось ранее, чем в северных и западных краях цивилизованного средиземья. В Слове Божьем там и власть кесарская держится тверже, решительнее, доблестнее в нынешних непростых и тревожных обстоятельствах. Не зря молодого кесаря и августа Теодосия Секундуса придворные льстецы-греки беззастенчиво именуют василевсом, то есть царем-рексом.
В то же время на Западе все одновременно и хуже и лучше. Авторитетность первейшего апостольского предстоятеля в Риме сегодня признается всеми католическими клириками православного Запада и Востока, а кафедра его ныне походит на престол. Потому к личным посланиям нынешнего епископа Римского святейшего брата Келестина, какие направляются брату Августину в Африку, нельзя не отнестись с исключительной серьезностью, вселяющей тревогу за близкое будущее великоримского ипериума на Западе.
Также на Западе значительно больше образованных церковных иерархов патрицианского происхождения, оказывающих серьезнейшее влияние на благородные сословия и простонародье. Достойны упоминания и неоспоримые успехи западных церквей в деле обращения германских языческих племен в христианство, чем нисколько не могут похвастаться восточные епископы и пресвитеры, никуда и носа не высовывающие за рубежи римской цивилизации. После Святого апостола Андрея Первозванного никто и не думает нести слово Божественной истины далее на север, на восток к сарматам, венедам, скифам.
Ихтис вон сам пришел и принял истинную веру. И Европа в Африке ему более по вкусу, нежели Азия, где он окрестился.
— …Так говоришь, сын мой, светлейшая Галла Плакидия склоняется к арианам?
— Толкуют, что в Ближней Испании лет десять тому один пресвитер арианец помог ей бежать, когда рекс Сингерик, умертвив их с рексом Атаульфом потомство, поместил ее самое в рубище посреди пленников…
Безотлагательному разговору с магистратом Горсом Торкватом, только что воротившимся из Италии с торжеств, посвященных провозглашению Валентиниана Плакидия кесарем и августом Запада, епископ уделил все утро. К тому же это ничуть не могло прервать его раздумий, относящихся почти к той же политической тематике.
Ту же Галлу Плакидию новый рекс вестготов Валлия отослал в Равенну, обменяв ее у кесаря Гонория на 60 000 модиев пшеницы. Некоторые говорят, что шестьсот тысяч. Однако людям свойственно преувеличивать, не понимая действительных значений больших чисел, поэтому будет чуточку правдоподобнее делить на десять или даже на сто каждую цифру, какую приводит народная молва и тупоумно записывают невежественные историки. Достоверно простой народ умеет считать до двадцати, а далее ни-ни.
Стало быть, можно верить тому, что незадачливый кесарский военачальник Констанций прижил с Галлой не более и не менее как двоих отпрысков, после чего помер. Только вот чьи они?
Доводы, говорящие о том, как если бы Валентиниан есть плод кровосмесительного союза брата и сестры, звучат вполне убедительно. Иначе зачем было кесарю Гонорию отсылать Галлу в Константинополь к Теодосию? Затем престарелый бездетный дядюшка Гонорий в одночасье назначает младенца племянника своим первым наследником и преемником, в конце концов оставив побоку усыновление комита Иоанна.
— …Скажи-ка мне, Горс, верно, что многописьменный епископ Максимин из вестготов сейчас при Галле? — наконец Аврелий задал вопрос очень и очень его интересовавший.
— Да, святейший, говорят, его довольно часто у нее видят. По стародавнему знакомству она обстоятельно склонна к мирному и военному сотрудничеству с вестготами…
Получив подтверждение сведениям, ранее поступившим от епископа Келестина, нумидийский предстоятель благословил и отпустил с миром неурочного собеседника. На минуту он даже возмечтал о немыслимом переселении соплеменников Горса в Европу.
Скажем, обратив их в христианство, поселить за южными африканскими горами на свободных землях. Номадов они уж точно сумеют держать в узде, если хотя б каждый десятый из венедов — воин, подобный центуриону Горсу Торквату в разуме и в физической силе. Не то им бы никак не выжить на холодном севере среди неприветливой дикой природы, предпосланной людям в испытание или в укрепление их доблести и умственной состоятельности.
Хотя испорченная грехом природа порождает лишь граждан земного града нечестивого Каина, но граждан града небесного состоятельно рождает благодать, освобождающая природу людскую от греха. Потому апостол первых называет сосудами гнева Божия, а вторых — сосудами милосердия. Его слова в точности относятся к невозделанным воинственным дикарям, противодействующим носителям культуры и к невеждам, ожесточенно препятствующим промыслителям истинной мудрости.
Насколько высшие причины, предопределяющие будущее, заложены Вседержителем в прошлом, настолько природа и человек производят в ежечасном настоящем низшие причинные обстоятельства, случайно затрудняющие или же по случаю способствующие Промыслу Господню, — отметил на табличке епископ и вошел в русло вчерашних своих рассуждений об империуме и религии.
В противоположность разрушительному язычеству, христианство не подрывает основ власти подлежащей, но укрепляет их в той мере, в какой власть имущие воспринимают истовое вероисповедание и законопослушны воле Божией, пренебрегая сатанинской славой мирской. Так, многие благосклонные к набожности римские кесари древности смогли бы стать христианами в случае авторитетного апостольского благовестничества.
Причин, почему же этого не могло случиться ранее, а нынешней Церкви Христовой не очень удается скреплять западный империум, вероятно, имеется, и прежде имелось, весьма немало в различном множестве исторических фактов и актов.
Возможно, первая из них, если не во главенстве, то по времени, состоит в распространении новых книжных сокровищ христианской истинной мудрости. Прежде всех бед самым дурным образом на развитие христианства повлияло более чем полувековое отсутствие письменного благовестничества в великоримском принципате.
Принял доблестную кончину Святой апостол Павел, несправедливо обвиненный в том, чего он не совершал, и некому стало авторитетно проповедовать Слово Божие для людей грамотных, образованных, сведущих, определяющих политику в метрополии и в провинциях. Тогда же при кесаре Нероне отошел в вечность, оказался распят стремглав Святой апостол Петр. Но опять-таки не в качестве проповедника христианского вероучения, а как мятежник-иудей.
Будь оба эти апостола живы, они совместно и наособицу сумели б отделить добродетельное христианство от кровожадного мятежного иудейства в глазах римлян, владевших на ту пору империумом. Один стал бы апостолом истинно избранных, другой же Ї просто званых.
О Нероне или Калигуле речь не идет, однако ж кесарь Тит из фамилии Флавиев по своим душевным и умственным свойствам мог искренне прислушаться к евангельской проповеди, подобно Константину Великому и его матери — блаженной памяти светлейшей Елене.
Пускай бы после, при безбожном Домикиане Флавии, начались гонения на христиан. Тем большим откровенным сочувствием к ним преисполнились бы человеколюбивые образованные кесари из фамилии Антонинов. Так ведь в историческом тождестве и произошло двести лет спустя, когда Флавия Елена и ее сын Константин Флавий Клор присмотрелись откровенно к христианству по окончании преследований за веру, учиненных кесарем Диоклетианом, потом отправившемся сажать капусту.
Насаждать, взращивать евангельские зерна надо было гораздо раньше, отнюдь не разбрасывая их бездумно на камнях и по мощеным римским дорогам. Но, как учил Спаситель, помещать их на добрую почву.
Еще при первых Флавиях правоверным мужам апостольским надлежало отделить пшеницу Божию от иудейских плевел фарисейства и назорейства, согласно учению Святого апостола Павла. Затем показать Риму и миру, что экклесии христиан не выявляются беззаконными подпольными коллегиями, по-крысиному, воровски, из катакомб подкапывающимся под сокровища римской культуры и образованности, в чем веками, увы, не без оснований обвиняют христиан их заклятые недруги.
Тогда при Антонинах никто бы не посмел злобно преследовать, гнать добромысленное христианство. И мысли бы такой не возникло — объявить христиан политическими врагами римского народа и сената, как оно, к несчастью, имело место быть в минувшем проклятом прошлом.
Каин, где брат твой Авель? О том Господь спрашивал невежественных церковников, но они Его не слышали, изо всех сил домогаясь убить в разумных душах верующих римскую культуру. Обособленный от мира отщепенский псевдоцерковный град земной в экклесиях возводили, а Града Божия чурались, скудоумцы. Ни кесарям не отдавали кесарева древние невежды, ни Богу — богова.
Ни тьмы им, ни света, ни гроба, ни савана! Поднялись неучи и едва не похитили Царствие Небесное!
Будь иначе, просвещенное христианство утвердилось на триста лет ранее. И поныне уверенно, непреклонно поддерживало, укрепляло великоримский империум Словом Божиим. Теперь же мы видим в печали и гневе, как умирающее в гнилой лихорадке язычество тащит, влечет за собой в могилу безвидного хаоса греко-римскую культуру. Кабы не единая вера Христова, то у варваров со всех концов света вообще не осталось морального сожития и созидательной цивилизованности. Или того хуже…
Где днесь многие былые гордые царства земные? Где Ниневия, где Вавилония, где бескрайний македонский империум василевса над василевсами Александра Магнума? Пали, распались, низвергались они в безверии, в бессилии и в беспорядке.
Хотя не к добру и не к худу в слабом ограниченном разумении человеком неисследимы судьбы Господни. И нынешнее материальное зло Он упорядоченно обращает в завтрашнее духовное благо, бережно взращивая и насаждая нашу христианскую эру и цивилизацию. Сухие же ветви и неплодные смоковницы подлежат проклятию и очищающему огню.
Тождественно Провидение Господне исправляет, как стилусом, войнами сглаживает испорченные нравы людские, а моровые поветрия и зараза ранней старости избавляют гражданские общины от чрезмерно расплодившихся грешников, бестолковых неуков, кичливых неучей, слабомысленных невежд во грехе первородном. Справедливую же и похвальную жизнь смертных в то же самое время этими поражениями Господь поныне упражняет и после испытания или переносит их в лучший мир или удерживает на этой земле ради пользы других.
Тот же Моисей сорок лет водил евреев по пустыне, чтобы в примерных лишениях друг за другом погибли, повымерли неправедные, роптавшие на Господа, несправедливые, неразумные. X м, oт лысого до лысого…
Разумеется, во имя неразборчивого человеколюбия библейскому пророку следовало бы прилежно сберечь всех. Но Бог превыше людских предположений и хотений. Он каждому воздает, когда и как Ему благоугодно в жизни и в смерти, видимо и невидимо. В том и состоит Премудрость Божия, чтобы тысячекратно блаженными стали не видевшие, но уверовавшие, насколько смогли и сколь сумели от малого к великому.
Разум движется и верой направляется правильно от низшего в высшему. Однако же, и не без порядка, являющимся связью предыдущих и последующих причин.
Что толку корить неразумие допотопных праотцев вкупе с праматерями? Смыли их в небытие дни гнева Господня, и нету тех предков человечества. Тем более Ноевым потомкам Господь открывает беспримерно больше мудрости и понимания Провидения, нежели ветхозаветным патриархам. Сколько бы кратких лет последние ни прожили по отдельности, после них люди, взятые в человеческой совокупности, гораздо дольше существуют многие тысячелетия и далее продлят годы и труды свои в Новом Завете до Второго пришествия Христова.
А то, что было триста лет тому назад, мы из свершившегося предопределенного будущего предвзято наблюдаем, умопостижимо сожалея о прошлом, где многое произошло вовсе не так, как нам бы того хотелось.
К примеру, если кесарь Нерон Агенобарб, нисколько не разбирая, устроил огульные гонения на всех обрезанных бунтовщиков-иудеев, то кесари и августы из фамилии Антонинов, их комиты и викарии взялись избирательно, старательно преследовать именно христиан за веру в единого Бога. Нерона особо не волновало, как там, что, чего: то ли какой-то Хрест в Риме, о котором пишут историки, или некто Февда в Иерусалиме подбивает спесивых евреев на неповиновение римским властям, низлагающим гордых и щадящим покорных. А вон при Антонинах произошло целых два, не в пример более значительных гонения, а христиан стали каверзно заставлять отрекаться от истинной веры.
Но и это было вo благо, коль скоро кесарские власти принялись насильственно отделять праведных смиренных христиан от гордых порочных иудеев. По крайней мере христианским экклесиям-коллегиям чуть меньше приписывали преступлений, учинявшихся бесноватыми иудейскими зелотами и сикариями.
И тогдашние жертвы и их гонители в исторической данности все же заблуждались различным образом…
Епископ отложил стило и взялся перечитать, то, чего он писал приблизительно по данному поводу ранее. Все-таки пересмотром собственных прежних мнений стоит уделять постоянное внимание, порой повторяя то, что повтора достойно.
Действительно, надлежит еще раз упомянуть для возможных еретиков и слабоверующих:
«Мы, опираясь в истории нашей религии на божественный авторитет, все, что только ему противоречит, не сомневаясь, считаем решительно ложным. Как бы там ни рассказывалось обо всем прочем в светских сочинениях, истинно ли остальное, или ложно, оно не даст нам ничего для жизни праведной и блаженной. Ибо человек обновляется от греха в познании Бога и воли Его».
Нет блаженства в незнании, сходном с греховной глупостью, как не найти его в еретическом суемудрии. Ныне весьма познавательно и понятно, как три века тому назад при кесаре Адриане одни суетливые и скудоумные плохие последователи Христа, ожесточив сердца в гонениях, увязли в болоте невежества, полностью отрицая Великий Рим и ненавидя все его культурные достижения. Другие же умники, тоже называвшиеся христианами, осуетились в мудрствованиях, бросились в гностические бредовые ереси, разложились на сотню сект.
Куда там им всем было думать об упорядоченном поступательном развертывании благой вести Спасителя в сонмищах язычников, продолжавших самоубийственно поклоняться ложным богам, злоехидно разрушавшим, бесовски разлагавшим безнравственностью империум и гражданские общины!
Вот почему по завершении более-менее устойчивого наследственного правления Антонинов великоримский империум в течение столетия принялись жесточайше сотрясать политические смуты в череде кратковременных кесарей и августов, власти которых было меньше, чем на один день, месяц, год или полтора. Тогда как чуть укрепившиеся в господстве на больший срок, так сказать, благороднейший Публий Валериан или благоразумный воитель Домикий Аврелиан немедля брались за гонения против христианства, без разбора предавая мученической погибели православных католиков и гностических еретиков.
Подвигали их на то великоримский республиканский дух, сословные предрассудки, наущения демонов и, как правило, превратные мнения народной толпы. Потому что тем временем безграмотная чернь во всех римских провинциях продолжала повально причислять христиан к одной из самых зловредных человеконенавистнических еврейских сект. Достаточно почитать философов позапрошлого и предыдущего веков, того же Апулея из Мадавры. И у него можно отыскать по-гречески: раз еврействующие христиане изуверски празднуют какой-то песах 14 нисана, будто ламии пьют кровь младенцев в седьмой день субботы, постоянно устраивают кровавые иудейские мятежи и войны, то условно, предосудительно они суть супостататы и апостаты рода человеческого. Берем просто по-латыни — противники и отступники.
Где только ни охотились безотступно на Христовых мучеников целых два века, словно на диких зверей, подлежащих поголовному истреблению! Потому что в преступлениях мятежных иудеев и еретиков, навроде агонистиков, облыжно обвиняли законопослушных христиан.
Безусловно, праведное мученичество укрепляет веру. Но вместе с тем супротивно оно не дает развиваться веротерпимой к малым человеческим грехам очистительной христианской любви…
Не грешники, но еретики и невежды — вот два главных внутренних врага православия, каких мы обязаны возлюбить и искоренить!
Со всем тем, как на грех гордыни высоколобого ума, предать анафеме всех скопом невежд и еретиков ну никак нельзя огульно. Не то в экклесиях некоторые особо рьяные католические пастыри прoвaльнo останутся совсем без паствы и сами очутятся в еретиках-отщепенцах.
Сколь скоро поискать, не спеша поразмыслить, то и на это можно найти указания, пророчества, предвосхищения в Святом христианском Писании. И подправить прежнюю дерзость утверждения, как если б Ветхий Завет от горы Синайской, рождающий в рабство, не приносит другой пользы, кроме той, что служит очевидным доказательством Новому Завету… Апостола можно понять, а нам примерить его взгляды к современности…
Над «Зеркалом» и «Пересмотром книг» епископ иногда работал в одно и то же дополуденное время. Перечитывал и подправлял, включая им написанное давным-давно, десятилетиями ранее, еще до того, как он принял святое крещение и священнический сан.
Отнюдь не само по себе на ум пришло правомерное сравнение. Так и потомки, взирая с высоты прожитых всечеловеческих лет, в благодеяниях нового изобилия духовных богатств, имеют безусловное право не соглашаться со стариной, подвергать эту античность прогрессивной ревизии, выправлять устарелые воззрения пращуров. В том и состоит поступательное движение духа, когда Премудрый Господь дарует последующим поколениям улучшенное и улучшаемое осознание, осмысление Промысла Своего, приближая, обращая человечество к Себе… Не то вся история покажется пустыми обольщениями по преданию человеческому…
Вечером за обедом епископ громко пожаловался на жизнь, ни к кому конкретно не обращаясь, причем именуя особу свою в третьем лице. В последнее время эта безличность вошла у него в дурную стариковскую привычку, будто он праздно брюзжит, бесполезно сетует; трагедь, театр устраивает, а не дает ближним своим простое братское наставление по делу. Это он понимал, осознавал, но не всегда получается исправить себя самого даже мудрецу почтенного возраста и еще более уважаемой сановитости.
Сегодня епископ начал трагически сокрушаться об отсутствии в орденской библиотеке необходимых ему для работы манускриптов. Дескать, непонятно зачем растащили по кельям нерадивые собратья труды сочинителя Августина, вовремя на место их не возвращают; не сыскать и много чего прочего от мыслителей прошлого; стояли себе фолиумы, никого не трогали, не интересовали, и вдруг их ни мало ни много вовсе не стало…
Вот при блаженной памяти пресвятейшем Валериусе подобного безобразия не водилось. Все помнят, как старичок без устали хлопотал в монастырском скриптории и очень заботливо относился к библиотечным делам преумножения письменной мудрости…
Святые отцы Гераклий и Поссидий понятливо переглянулись. А доктор Эллидий, кое-кого цитируя, добродушно пошутил о старике, способном оплодотворить юную девушку, меж тем старухе для той же цели благого размножения всенепременно потребуется юноша. Наш юнец, если что не так, и старикашке окажет благотворительность по соседству.
Епископ молча развел руками. Ну писал он такое, было дело, правда, без последнего греховного предположения. Всего написанного не исправишь, и оно остается.
Неделей позже, может, и раньше в орденской библиотеке воцарились образцовый распорядок и новый диакон библиотекарь. А по окончании текущего года епископ получил письменный подробный отчет-регестр. В нем значилось, сколько переписано манускриптов в епархиальных скрипториях и в опекаемых монастырях, где новые книги хранятся, куда и кому отправлены в Испанию, в Италию, в Галлию и в римские провинции на востоке.
«Показывая, что именно этот порядок должно соблюдать, сам Иисус Христос говорит: «Книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, каковой выносит из сокровищницы своей новое и старое». Он не сказал: «старое и новое», что сказал бы непременно, если бы не желал отдать предпочтение достоинству перед временем».
Возьмите и читайте.
Scriptum sapienti sat est[4].
КАПИТУЛ XXXIII
Годы 1180-1184-й от основания Великого Рима.
2-6-й годы империума Валентиниана III, кесаря и августа Запада. 19-23-й годы империума Теодосия Младшего, августа и кесаря Востока.
Годы 426-430-й от Рождества Христова.
Гиппо Регий и Картаг в проконсульской провинции Африка. От осени к последнему лету.
«Умная душа исполняется и оплодотворяется истинными добродетелями. Это благо нам заповедуется любить всем сердцем, всей душой и всеми силами. К этому благу мы должны приводиться теми, кто нас любят, и в то же время вести тех, кого любим сами».
Как ни бери, не совсем благоприятно, когда с тобой обращаются, полагая законченным стариком, пуховой ватой любовно обкладывают. Но что поделать, коли осенью кое-кому стукнет, брякнет, крякнет 72 старческих года от роду? Пережитком прошлого, слава Богу, покуда не заделался, но так-таки ох все-таки…
И то правда, когда подступают, вернее, уже наступили стариковские немощь и слабосилие. Шаг стал каким-то походя шатким, валким… Да какая тут поступь, походка! Так просто, ковыляние с кряхтением. Шаркаешь, и ноги влекутся. Переставляешь их вперед, вбок, кабы не упасть невзначай, не сверзиться неприлично сану. И ног-то у тебя, загадка Сфинкса, уж не две, а три.
Раньше на посох не было нужды опираться, носил его с легкостью на весу для вящего благочиния и внушения должных чувств пастве. Нынче же он не жезл авторитетный, но средство передвижения немощных членов. Притом непомерно тягостное для ослабевших рук…
Кожаная слоистая подметка объявилась на ножнах, чтоб не стучал попусту по литостратуму в доме, мозаичных полов в базилике не корябал своею тяжестью и весом тяжко опирающегося тела… Братья сапожным порядком, задельем поусердствовали…
Все же епископ впадал в некоторый грех преувеличения, непорядочно и бездельно расписывая такие-сякие свои немощность и слабосилие. Впрочем, голова не тыква, ему теперь не до воинских продолжительных тяжелых упражнений с боевым посохом. Так не так, возьмешь его, покрутишь немного в руках, корпусом уходя вправо, влево, чтоб охладелую кровь чуточку разогнать по жилам, разогреться, скрипучие кости малость размять.
По правде сказать, верховые прогулки он себе сожалеюще запретил. Голова кружится, посох боишься выронить; потом ни встать, ни сесть без скрипа, щелканья и треска в суставах…
По взморью он сейчас медленно прогуливается в пешем строю, если принимать за таковой его недюжинную свиту, побок и позади готовую чуть что подхватить, поддержать под руки. Любимый сын Гераклий вообще за локоток старичка придерживает, не давая идти побыстрее. Не ровен час пресвятейший и преподобнейший запнется, споткнется… о камень преткновения… Плавная речь предстоятеля, очень его интересующая, прервется…
— …Где нет никоего облика, ни минимальнейшего правопорядка, где ничто не приходит и не уходит, нет, мой Гераклий, ни дней, ни смены времен, власти, ни старости, ни молодости. Един свят Господь неизменен в знании упорядоченного созидания…
Когда люди, незнающие и неверующие, приобщаются к вере, оберегаются в ней знамениями и великими чудесами, засим берутся питать и помогать в какой-нибудь житейской нуждишке ближним, не зная, зачем это надо делать и с какой целью, то одни не дают настоящей пищи, а другие ее не получают. Причем первые не поступают согласно святому и правильному намерению, вторые же не радуются их даянию, не видя еще плода, а вкусив, сей же час неблагодарно о нем забывают.
Беспутная беспамятная паства без пастыря не знает о благодарности и справедливости. Точно так же неведомы эти понятия бесцельному пастырю без паствы.
Без кормчего, знающего, куда и зачем ему плыть, корабль не поплывет, а повлечется по воле стихий, хотя б имелись на борту кормило, ветрило и полный комплект весел с гребцами.
К чему я клоню, ты понимаешь, Гераклий. Назавтра во время воскресной мессы я намерен объявить тебя моим полномочным коадьютором, считай, викарием в епархии Гиппона.
Кого нам надо, тотчас изберут прихожане, открыто проголосуют по-сенатски ногами, коль скоро ли, медленно я присоединюсь к избраннику. А в моем завещании ты назначен главным наследником и правопреемником в священстве епископата. Об этом также православные узнают завтра, возрадуются о тебе и восплачут обо мне.
Года три-четыре я еще протяну относительно в здравом уме и твердой памяти. Как дальше и дольше — не знаю. Думаю, надеюсь, молюсь о том, Господь смилуется и освободит меня от напрасного и бездарного существования в скотском обличье слабоумной плоти…
Или же вы с Эллидием мне поможете по воле Божьей. Грех будет на мне, и я за него в ответе. Ты меня уразумел, сын и брат мой?
Пресвитер Гераклий мельком оглянулся на свиту из клириков, причетников, охранников, почтительно отстающую в отдалении от сокровенного разговора епископа и его ближайшего сподвижника.
— Другие, отче Аврелий, весь свой век на даровщину кормятся, на клоаку трудятся. Как птицы поднебесные не сеют, не жнут, только свиристят, галдят и гадят неблаговестно.
О бренной плоти не беспокойся. Ответственно обещаю: полоумным позорищем и неразумным посмешищем ты у меня не станешь, в чем и клясться мне незачем.
Аврелий никогда о том не говорил, никому не признавался, но всегда в его самобытном философском жизнеустроении он мечтал обзавестись настоящими учениками. Не теми, кто слушает разиня рты, но умеющими, знающими, о чем говорить, что писать в развитие и в распространение мудрых мыслей учителя.
Такого вот ученика-алюмнуса он обрел в лице Гераклия Микипсы, точнее, прозорливо заметил, высмотрел будущего аколита, последователя и комментатора творений учителя-магистра. Пастырь добрый с необходимой пастве толикой зла из святого отца Гераклия тоже получается замечательный и значительный во времени суровом, немилосердном.
Тем временем святому отцу Поссидию, который в письмах безуспешно тщится комментировать жизнедеятельность во благолепии того самого престарелого, пресвятейшего и преподобнейшего, давно пора воссесть на кафедру епископа в естественном и экклесиальном порядке вещей. Скажем, в Салдах. Так как праведно воспользовавшийся смертными благами, приспособленными к миру смертных, получит большие и лучшие…
И перестанет лепить, диктовать Бог ведает что в братских посланиях невпопад… Еще мемории зачнет про святейшего Августина кропать…
От моря нумидийский архиепископ двинулся обратным путем к высоким стенам и башням Гиппо Регия мимо укрепленного военного aквaтoрия у линии береговых скал, приспособленных к обороне с суши, через предместье вдоль рва, не так давно расчищенного и углубленного. Лектикой и носильщиками он не пользовался, отдавал предпочтение смиренному хождению пешком. Пускай дело-то и не в смирении, как бы ему ни умилялась восхищенная паства. Раньше переносной способ перемещения во времени и пространстве полагал несносным высокомерием, теперь же в носилках его стало попросту невыносимо укачивать.
Но вот от корабельной болезни, благодарение Богу, как в молодости, он ничуть не страдает. Прав Эллидий, наверное, свежий ветер и морская водяная соль помогают не поддаваться качке. Так что вскорости можно смело отправляться в Картаг, нимало не боясь показаться немощным, беспомощным и болезненным старцем.
Тем не менее, на крепостную башню к центуриону Горсу, осматривающему работы по укреплению стен, Аврелий взобраться не осмелился. Подождал терпеливо внизу у ворот.
Подняться-то наверх по лестнице он поднимется, пожалуй, не слишком запыхавшись, однако благополучно спуститься по крутым ступенькам без весомого и несомого содействия пары дюжих прислужников не очень получится. Голова снова закружится, и слабость в ногах одолеет. А побок с крепким квестором ветеранов выглядеть столь слабосильным как-то неловко. Ведь разница в возрасте у них считай никакая.
Зато Ихтис от скоромного пропитания мясом половину жевательных зубов растерял, клыки сточил, а у некоего святейшего прелатуса они почти все в целости. Ну и зрение на оба глаза вполне покамест ему годится вблизи и вдали.
— …Что скажешь пригожего, Горс, о тех странных чужеземных соглядатаях, меры деньгам не знающим? Тороватого торговца Вириата и его помощника Гензерика, надеюсь, ты видел?
— С почтенным Вириатом близко познакомился. По разговору он тоже из народа германских вандалов, но прикидывается луситанцем из Гадеса. Купец он фиктивный, хоть и болтлив, но себе на уме. Тогда как молодой Гензерик почитает за воинскую хитрость помалкивать.
Знаешь, оба варвара похожи на воинов рангом не ниже контуберналов какого-нибудь германского рекса, возможно, комиты. То, что две триремы нашей фабрикации у Мария заказали, то явно не из своего торгового пекуния римским золотом вперед расплатились. За счет рекса можно и пожить весело из корабельных сумм. И разведку провести в богатом цивильном Гиппоне.
— Кто из них старше, кто младше?
— Коли подумать, то молчаливый Гензерик. У старика — пекуний, у молодого — империй. Гензерик, между прочим, к моему мечу с любопытством приглядывался, хотя продать не предлагал.
— Присматривай и ты за ними, мой Ихтис.
— Навряд ли сейчас смогу. Наши щедрые заказчики и расточители царских серебряных талантов сегодня нежданно отплыли в Картаг. Обещали до зимних ветров вернуться, нанять, прикупить моряков и гребцов.
Скажи, прелатус, а ты когда в гости к высокороднейшему и августейшему Бонифацию отплываешь?
— Через три дня отбываю на синодальное собрание предстоятелей Африки. Вручу вот чинно золотой перстень Гераклию и в путь путем, благословясь, с Божьей помощью.
— Молодого Гераклия в коадьюторы ставишь?
— Ты и о правопреемстве предстоятельном наслышан?
— Кто ж, Аврелий, того не слыхал? Знаешь, весь город, даже язычники по птицам гадают, кому завтра в Павлову базилику добро пожаловать, а кого в незваных за порогом на форуме оставят.
Меня-то по старой дружбе не забудешь?
— Могу и позабыть ненароком, коли последние становятся первыми…
На прощание епископ этим двойным смыслом дал понять собеседнику: от него не укрылось, что тот кое-чего не договаривает, и варвар из иберийских вандалов Гензерик не так чтоб очень был молчалив с нумидийским римлянином из венедов Горсом Армилием Торкватом, влиятельным провинциальным магистратом из Гиппона.
В столичный Картаг епископ направлялся с предпосланным удовольствием. Встреча с почтительными собратьями епископами, обсуждение мер против арианства и прочее пойдут автомaтом, скажем по-гречески. Но, быть может, это его последняя во всех значениях поездка в город риторской юности. К тому же предстоящее личное свидание со вновь назначенным викарием Африки высокородным Бонифацием предстанет небесполезным политическим событием.
Епископу известно, какие смешанные чувства настороженности, признательности, раздражения, восхищения комит Бонифаций к нему испытывает заочно. Рассчитывает он на его непроизвольную или произвольную поддержку и далее, если правы те, кто полагают вероятное: тщательно и осторожно Бонифаций готовится восстать против Валентиниана и Галлы.
Не без опасений африканский викарий признателен нумидийскому архиепископу за удаление из провинции ретивого прознатчика местных дел и сборщика кесарской подати комита Паскентия. И восхищен тем политическим искусством, с каким правоверный Августин расправился с арианином Паскентием, выставив того на смех сначала перед католическими епископами в Каламе, затем в архипастырских посланиях, разосланных, явленных для соборного чтения по церквям православной Нумидии.
Тягаться с письменным красноречием и насмешливой убедительностью Августина явно оказалось невмочь Паскентию, неосторожно написавшему ему бранное письмо, каковое было таковски прокомментировано и представлено образчиком арианского тупоумия. Потому как сердиться в неправоте присуще и ложным богам-демонам и еретикам, глупо отрицающим единосущность Троицы. За то Господь и поразил внезапной сидячей смертью ересиарха Ария прямо на горшке с нечистотами.
Начистоту сказать, от имени и по поручению Аврелия добросердечно, с неизбывной любовью ко врагам нашим сработал Гераклий, но это непосвященным вовсе знать необязательно. Недруги и без того распускают злоехидные сплетни о старческом предсмертном слабоумии гиппонского епископа. Дескать, не ест, не пьет благовестно, чтобы беса внутри не питать. Это, кажется, от пелагианина Юлиана, спевшегося с арианином Максимином.
Надо же!.. Мы вам играли, пели, а вы не веселились… Посмотрим и присмотримся…
От приглашения на роскошный обед к викарию Бонифацию епископ Августин не уклонился. По монастырскому обыкновению отведал овощной пищи, умеренно прикладывался к чаше с кальдумом, разбавляя воду заморскими винами. Во время достойного пиршества он с пониманием выслушал красноречивую здравицу гостеприимца, многозначительно польстившему дорогому гостю его же риторически переработанной цитатой из второй книги «О Граде Божием».
— Мы чтим Бога, установившего для созданных тварей начала и цели их бытия. Того, Кто содержит, знает и располагает предпосылками вещей, даровал разумным душам задатки к речи, способность предсказывать будущее, исцелять общественные недуги людские.
Мы чтим Того, Кто распоряжается началом, течением и завершением войн, когда ими надлежит исправлять и очищать человеческий род…
Насколько высокородный Бонифаций надлежащими деяниями оправдает данное ему родителями имя, Аврелию нет нужды гадать по звездам. И он вам совсем не золото, и неимоверно добрых дел от этого властителя проконсульской Африки в тихой, мирной безмятежности ждать не стоит…
На следующий год поздней осенью предусмотрительный комит Бонифаций, выждав прихода времени сокрушительных зимних бурь, поднял мятеж против Великого Рима. В течение зимы-весны последующего консульского года он взбаламутил, безжалостно поставил вверх дном всю подвластную ему провинцию от Геркулесовых столпов на западе до Ливийской пустыни на восточной границе с Азией.
К сожалению, твердо править ею самопровозглашенному империуму заведомо не под воинскую силу без опоры на иноплеменных наемников из германских варваров. Тем более, когда вдобавок требуется мощно и непреклонно противостоять им.
Епископ ничуть не сомневался: разношерстные отряды вандалов, аланов, готов, свевов хитроумный Бонифаций, не лишенный красноречия и образованности, заблаговременно призвал в своечастную поддержку. В одном лишь просчитался мятежный проконсул, не предполагая, что его воинские силы возьмет под собственную властную руку молодой рекс вандалов Гензерик. Недооценил его Бонифаций, немного ошибся, за что ему суждено поплатиться головой и целой римской провинцией Африка.
Как отметил тогда епископ в набросках к «Зеркалу», люди в мирской политике, в построении преходящих царств земных посильно их слабому уму кое-что в минимуме предполагают, чаще всего ошибочно. Зато Бог всесильно и максимально располагает всеми политическими причинами и следствиями. Нет и не будет никакой организованной людской силы на земном шаре, какая смогла бы сколь-нибудь продолжительное время успешно противиться предписанному в вышних развитию исторических событий. Бессмысленно сопротивляться совечным идеям Промысла Господня, непогрешимо исполненного мерой, числом и весом.
Для того и просуществовал свыше тысячи лет Великий Рим, а израильское царство им уничтожено, чтобы повсеместно утвердилась религия Бога истинного. Так и Рим должен в неизбежный черед пасть во имя вящей славы Господней, если молодые, полные новых сил варвары окажутся лучшими христианами по сравнению с одряхлевшими, отжившими свое римлянами.
За ежегодной политической и республиканской суетой сует следует видеть непреклонное развертывание христианской цивилизации отдаленного будущего, сколь бы неприглядными нам ни представлялись картины вчерашнего темного прошлого, нынешнего мрачнейшего настоящего и завтрашних, вроде бы беспросветных предстоящих дней, месяцев, лет…
«Бог насадил не только рай, но и все то, что рождается теперь. Ибо кто другой творит все это и ныне, как не Тот, Кто доселе делает? Но теперь Он творит из того, что уже существует».
В мирском сосуществовании не найти чего-нибудь лишнего, коль скороспело не допускать безбожной мысли, будто вся вещественность движется хаотически сама по себе, не имея предопределенной причины в изначальном духе человеческом и в душевных жизненных взаимосвязях. Тождественно происходит в прилагаемой людьми политике, состоящей из согласованного сцепления обстоятельств и существенных предпосылок.
Так, призвание части вандалов комитом Бонифацием по существу ослабило их позиции в Испании. Между оставшимися не у дел разгорелась борьба за власть, чем не преминули воспользоваться иберийские вестготы, выдавив всех вандалов и их германских союзников в Тингитанскую Мавретанию, где к тому времени успел закрепиться военачальник Гензерик. Он-то и сделался новым рексом вандалов, притом на новых, завоеванных без сражений и схваток африканских землях. Самым естественнейшим образом к нему примкнули мавры-кочевники, всегда готовые к безудержному грабежу и насилиям, если им не препятствуют, но принимают на службу в качестве и количестве конного вспомогательного войска.
В то же время в большом числе вестготы, не знающие иных занятий, другого образа жизни, кроме войны и разбоя, не имея чем и кем заниматься в Испании, обратились по старой памяти к вдове иберийского рекса Атаульфа, Галле Плакидии, счастливо превратившейся в матерь-регину малолетнего италийского кесаря Валентиниана. Естественно, светлейшая Галла Регина, собрав немалую мощь, отправила их воевать против союзника вандалов, нашего гостеприимнейшего Бонифация…
Прибытию вестготов в Гиппон епископ был рад по разным причинам.
По его настоянию городские магистраты мятеж Бонифация не поддержали ни в первый год, ни во второй. Насущного воинства сполна хватало обезопасить муниципий от сторонников мятежного комита, пока тот усмирял, отбрасывал южных номадов, попытавшихся употребить себе на благо общественную смуту в провинции. Однако от сомкнутых сил вандалов и мавров рекса Гензерика, неудержимо накатывающихся с западного направления, Гиппону вряд ли удалось бы отбиться самостоятельно.
Во многих кровавых стычках на западе, на юге, на севере Бонифаций основательно истощил подчинившиеся ему вооруженные силы провинции и согласился на посредничество Августина в вопросе примирения его с Галлой Плакидией. Но мирно договориться с Гензериком у нумидийского предстоятеля не получилось.
Возможно, он сам оказался в том злополучно виноват, когда воинствующе обрадовался появлению в городе личного давнего недруга по переписке, арианского епископа Максимина. На радости такой он его живьем разнес вдрызг и вдребезги, логически аргументировано, догматически неопровержимо уничтожил морально на публике в полемической дискуссии.
Так его максимально!.. Возьмем по-гречески, полемика есть война, друг мой арианский…
Писать — одно дело, а говорить, вооружившись ораторским искусством, — дело другое, порой с непредсказуемыми политическими последствиями.
Сказанное в республиканской политике подчас равнозначно сделанному на практике. Вестготских комитов, присланных готско-римской региной Галлой, он, dictum factum, победил, переубедил, де-факто заставил, продиктовал встать на сторону православия. Но тех же малоразумных арианцев из числа вандалов Гензерика, непримиримо ожесточил против Католической Церкви.
Хотя, быть может, и не Августин Гиппонский довел их до бесчинств на завоеванных нумидийских землях, где они встретили серьезное сопротивление легионеров Бонифация и вестготов Галлы. Лютой злобы рексу Гензерику и его свирепым верноподданным также подбавил гиппонский магистрат Горс Торкват, публично со смешком рассказавший, как забавно его пробовал подкупить будущий правитель вандалов. Ихтис очень нелестно отозвался о его умении пить крепкий мерум и владеть мечом.
Вестготские комиты Галлы умело, грамотно воевали с легатами Бонифация, но выдержать натиск количественно превосходящих вандалов, аланов, мавров, в массе взбунтовавшихся против Рима, они не смогли. Даже объединившись с недавним неприятелем, войска провинции были вынуждены отступать на север к морю под защиту стен Гиппо Регия, отходить к Картагу. Меж тем основная часть воинской силы Бонифация задержала врага на юге у Константантины, опираясь на укрепленную линию постоянных каструмов Ламбесса-Тамугади-Тевеста-Дугга. Тем самым в превратностях войны Картаг и Гиппон оказались окружены и взяты в осаду полчищами отвратительного неприятеля.
Те же комит Бонифаций и его ближние контуберналы в силу диктаторского стечения военных действий стали принуждены противником приискать убежище в осажденном Гиппоне, — отметил епископ и задумался о дальнейшем развитии войны с вандалами. Он уже отправил личное послание восточному кесарю Теодосию и теперь ждал его ответа или сразу же присылки мощного числа кораблей, войск из Александрии Египетской.
Должен же племянник в Константинополе пособить тетушке в Риме вернуть ее добро? Либо отобрать у нее достояние, каким она не сумела распорядиться должным способом…
Находясь в окруженном городе, нумидийский архипастырь не переставал уделять внимание епархиальным заботам во всей стране. Лично принимал, размещал, устраивал пропитание, утешал спасшихся беженцев — пострадавших за правоверие клириков, диаконов, мирян. Еще раньше он разослал письма с позволением монастырским братьям и сестрам без колебаний покидать обители ввиду приближения арианских вандалов, не имеющих за душой ничего святого. Но оставил на заданное усмотрение епископов и пресвитеров: по совести и долгу спасаться ли им бегством либо добровольно встречать глумление над святостью их сана и очень возможные смертные муки.
Должно быть, епископ Эводий в данное время добрался в Рим, по заданию предстоятеля убеждает консулов и сенаторов в бедственном положении Африки. То же самое поручено милому Алипию в Константинополе. В помощь ему направлены две очевидицы — мать Элевтерия и молодая монахиня с греческим когноменом Аитема, каким заменено ее старое мирское имя Волюксия…
В первый же месяц осады многим знатным гиппонским согражданам епископ убедительно предложил отослать семейства, чад и лишних домочадцев прочь из города, обреченного на тяготы, лишения, фатальные неизбежности. Да и самим благородным декурионам и куриалам, не способным носить оружие, отправляться поскорее в безопасные края, покамест на приморских укреплениях их доблестным защитникам удается отбивать приступы вандалов. В качестве доброго примера он им указал на квестора ветеранов Горса Торквата, чья семья уже не подвергается опасности. Другой расклад — сам Ихтис, который военачальствует над устойчивой обороной порта и предмостных подходов к нему.
— …Прикидываю и раскладываю, святейший прелатус Аврелий, мы с примпилом Сильвой выстоим пару лет при безусловной поддержке готов. Бешеным вандалам, знаешь, зубы-то железно пообломали, отбив полдюжины приступов. Горячую кровь железо холодит.
Но если готы бросят воевать или в хладнокровное предательство ударятся, нам морские ворота не удержать. Это обязательно случится, если не в этом году, так непременно через полгода или полтора германским варварам непременно наскучит торчать в осаде, не видя богатой добычи и случайной наживы, сколько бы им поденно ни платила светлейшая Галла.
Хорошо, когда б и вандалам надоело нас осаждать бесплодно. Не любят варвары сидеть долго у стен или стоять на них. Но злопамятный рекс Гензерик не отступится, покуда меня не достанет. Что ж, я в стратагемах ко всему крепко-накрепко приготовился. Посмотрим еще, кто кого.
Касаемо крепости городских стен, тебе, знаешь, беспокоиться нет нужды. Высокородному Бонифацию деваться некуда, как до последнего удерживать Гиппон для кесаря Теодосия, тогда он с ним в победителях. Зато из-за мятежа Галла и ее комиты никогда не простят ему ни поражения, ни победы…
Военные соображения Горса епископ принял к раздумьям, кое-что для себя решил, просил у Бога внушить ему, если не совет, то предчувствие. Вполне возможно, время уходить для него наступит пораньше, чем для ближних и присных. Как ни посмотри, ему все же семьдесят пять с лишним лет.
За его столом теперь тесно собираются епископы, нашедшие временное спасение и свободу от преследований за неприступными стенами Гиппо Регия. Меж тем о настоящем освобождении праведных Христос Спаситель непреложно позаботится.
Однажды в майские календы на третий месяц осады нумидийский архиепископ задумчиво обронил за обедом:
— Мне хотелось бы, чтобы вы это знали, друзья и братья мои, в эту годину страшных бедствий и несчастий. Я испрашивал у Бога: благоугодно ли Ему освободить нас от воинственно осаждающего и несносно досаждающего нам врага? Или же во всевидящих очах видится иное, коль скоро служителей Своих укрепляет Он неустрашимой доблестью, дозволяющей покоряться воле Его в ниспосланных Им испытаниях? Либо милость Его распростерта столь широко, что Tы, Господи Боже мой, возьмешь смиренного просителя в лоно Свое?
Помолимся же Господу Богу нашему, братья и друзья мои, за наш покой в мире, за тех, кто нас защищает, и за тех, кому нужна защита… От кого и от чего каждый решает сам в себе. Един свят Господь за всех…
Спустя несколько дней Августин внезапно слег в изнуряющей тело и душу лихорадке. На второй день ясность мышления и неизменный разум к нему возвратились, благодаря энергичному лекарственному врачеванию медикуса Эллидия. Хотя общая изнеможенная слабость по-прежнему его одолевала. С постели он больше не поднимался и работал лежа: писал, читал, диктовал письма. Брался за посох, словно желая встать, когда в подробностях выслушивал воинские новости о ходе осады и прибытии подкреплений из Рима.
Двумя с половиной месяцами позднее он перестал касаться посоха, прислоненного к изголовью кровати. А ослабевшие пальцы не могли удержать ни стилус, ни вощеную табличку у груди. Незадолго до того он отдал распоряжение перенести на пергамент его последние заметки.
Три дня он провел в молчаливом молитвенном бдении, после же попросил переписать отдельные краткие псалмы царя Давида и прикрепить листы на стене, чтобы он их мог прочесть, чуть повернув голову.
С той минуты он решительно и властно воспретил, прерывая его молитвенную беседу с Богом, входить к нему в келью кому бы то ни было за исключением прислуживающих безмолвных причетников. Один раз приходили утром, в урочный час помогая оправить потребности естества и поддержать чистоту беспомощно расслабленного тела. Вторично заходили вечером после заката, принося немного пищи и вина.
По прошествии десяти дней и эти малые телесные нужды уж отпали за ненадобностью. Настало время попрощаться с ближними, немножко поговорить, ободрить, дать утешение остающимся. Например, вспомнить о наступающих виноградных каникулах и временном перемирии.
Августин мирно скончался в час пополудни в третий день до сентябрьских календ. Он еще слышал скорбный шепот за дверью, осторожные шаги грузного Ихтиса, чей-то тихий плач, наверное, Гонората. Но никого из друзей и братьев он к себе не позвал.
Когда жизнь минула на семьдесят шестом старческом году, обернулась прошлым, то оборачиваться назад не имеет смысла в преддверии будущего. Пусть последние станут первыми…
«Живым остается одно: обратиться к Тебе, Своему Создателю, и жить, больше и больше приближаясь к источнику жизни, и в свете его видеть свет, совершенствоваться, просвещаться и находить счастье».
Епископ сомкнул глаза, неглубоко вздохнул, и последнее жизненное дыхание оставило его бренное душевное тело. Началась другая, в первопричине совечная жизнь чистого духа Августина Гиппонского, блаженного книжника, наученного Царствию Небесному.
Ноябрь 2013.
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОЙ РЕДАКЦИИ РОМАНА «БЛАЖЕНСТВО ПО АВГУСТИНУ»
L. b. s.
Последующие редакции, переиздания необходимы, поскольку без авторских ляпсусов и стилистических изъянов изданных книг в человеческой природе и породе не бывает. Просим заранее принять наши извинения и редакторские правки в дальнейшем.
Bce еще не окончена лингвистическая борьба c анахронизмами в тексте, являющимися в навязчивом виде неизбежных зaимcтвoвaний-кoнтaминaций из новых варварских языков, ныне именуемых: романскими, германскими, семито-хамитскими, тюркскими et cetera — еще немыслимыми в IV–V веках нашей Xристианской эры. Tо жe противоборство происходит в орфографии и орфоэпии стилевых архаизмов, нами транслитерированных c латыни и койне. Ох уж нам эти цеканья, дзеканья, цезари-кесари, центавры-кентавры, ангелы-аггелы! К тому же нам еще немало досаждают анахронизмы из средневековой латыни будущего, о какой во времена Августина никто и понятия не имел.
Cей же час, если хоть кто-нибудь из благоволящих к нам читателей после прочтения этого романа даже в нынешнем виде обратится к трудам Блаженного Августина, ознакомиться с его «Исповедью» и паче умного чаяния сумеет превозмочь толщину фолианта «О Граде Божием», то мы нашу сверхзадачу сочтем выполненной. Читайте с Богом.
Читать первоисточники весьма увлекательное занятие даже в малограмотных переводах сомнительной адекватности стилю и языку произведения. Тoгдa можно убедиться, что едва ли Блаженный Августин предполагал, как впоследствии популярно исказят его мысль, когда с осуждением и досадой включил в одну из книг «O Граде Божием» хлесткий шутейный вопросик гностических софистов о том, чeгo там делал Господь до сотворения мира. Увы, Августину до сих пор спустя полтора тысячелетия с лишним приписывают раздраженную реплику, будто бы в начале начал Бог создал ад для тех, кто об этом спрашивает. Притом допускают эту расхожую литераторскую передержку довольно грамотные писатели и редакторы, небрежно, халатно не дающие себе труда сверить неадекватную сомнительную цитату ad fontes.
Аналогично этому же безосновательному легкомысленному суемудрию в наши времена небрежные популяризаторы продолжают стереотипически измышлять для античного апологета Тертуллиана парадоксальную фразеологическую нелепицу об абсурдности веры в воскресение Христово. Дескать, верю, потому что абсурдно. А средневекового схоласта Буридана облыжно в ходячем мнении банальной эрудиции походя идиоматически делают автором несуразной бродячей басни об осле, умершем-де с голоду между двумя равнозначно и аппетитно зеленеющими лугами. Причем с течением столетий свежие пажити фигурально усохли до двух охапок прелого сена.
Схоластика схоластикой, какое бы значение ни придавать этому термину в вульгарном словоупотреблении. Поэтому совсем станет замечательно, если б к нашему историко-теологическому опусу приступили те, кто знаком, пусть не со всеми, то по меньшей мере с некоторыми из произведений Августина, обладая маломальской богословской подготовкой. Им несомненно найдется, что к чему заново обдумать, где-то поспорить с автором, с чем-то согласиться благосклонно, а что-то неприязненно отвергнуть.
Можно и вовсе, не рассуждая богословски, принять «Блаженство по Августину» как исторический роман в духе натурализма, порой усложненного и отягощенного литературно-стилевыми изысками постмодерна.
Потому-то сюжетно-фабульная сложносоставная конструкция «Блаженства по Августину» состоит из трех пространственно-временных сфер. Первая хроносфера, будучи кругом солнца в галактическом движении, олицетворяет христианское вероисповедание Августина. Вторая область в теме и реме — лунная круговая орбита его натурфилософских и теологических интересов. Третья — предопределенный земной орбитальный путь от рождения до смерти и воскресения в конце времен. Был вечер, и было утро, как сказано в Книге Бытия.
Вместе с тем мы определенно, событийно заявляем будущим критикам и нынешним читателям, что все вымышленные персонажи и эпизоды нашего беллетристического произведения суть реальные отражения мыслей, чувств, поступков главного героя, реконструировано взятые непосредственно из сочинений писателя церковного Святого и Блаженного Августина, епископа из древлеримского Гиппо Региуса.
И бысть тако писахом!
†
КРАТКИЙ ВОКАБУЛАРИУМ ДРЕВНЕРИМСКИХ РЕАЛИЙ
Авгур — гадатель по полету птиц.
Авлетика — игра на духовых музыкальных инструментах.
Агонистики — африканская террористическая тоталитарная секта.
Аитема — постулат.
Акваторий — гавань.
Алюмнус — ученик.
Аколит — последователь и ученик.
Акт — деяние.
Aктa диурнa — дежурство; ежедневные известия.
Акусматик — слушатель учебного курса.
Аподитерий — предбанник с гардеробом для верхней одежды в общественных термах.
Апология — речь в защиту чего-л. или кого-л.; адвокатская практика.
Апотелесматика — астрология.
Апофегма — афоризм.
Артифекс — артист, мастер.
Асс — обесценившаяся медная монета; целая часть в дробях; 16-я часть в нарицательной стоимости денария.
Атрий — крытый двор или открытая площадка в римском особняке.
Ауспиции — гадания по внутренностям жертвенных животных или человека.
Ad fontes. — К первоисточникам.
Ad hominem. — Применительно к человеку.
Ad narrandum, non ad probandum. — Чтобы рассказать, а не доказать.
Бальнеатор — банщик, массажист.
Бирема — парусно-гребное судно с одним рядом сдвоенных тирских весел, либо в египетском устройстве по два гребца на весло. (См. Светоний «Жизнь 12 цезарей», Юл. 39; Кал. 37; Нер. 31.)
Борисфен — река Днепр.
Бракарум — длинные широкие брюки зимней униформы легионера.
Булла — медальон, ладанка.
Бургус — система военных крепостных сооружений.
Вексиларий — знаменосец; боец спецподразделения; легионер активного резерва.
Beнeды — cлaвянcкиe плeмeнa кривичeй и рaдимичeй.
Вербум — глагол.
Bигилия — стража, промежуток времени ночного караула; c 9 до 12 — вторая, c 12 до 3 — третья, c 3 до 6 — четвертая.
Вилик — управляющий сельскохозяйственными делами.
Вилла — сельская усадьба, поместье.
Викарий — наместник провинции, губернатор.
Вокабула — слово.
Галактисса — молочница.
Гарпастон — спортивная игра, сходная с регби.
Гарум — ферментированный густой рыбный соус длительного хранения.
Герма — верстовой дорожный столб c барельефным изображением мужских гениталий.
Геспериды — апельсины и мандарины.
Гиматий — женский или мужской плащ греческого образца.
Гистрионик — актер.
Гладий (гладиус) — короткий обоюдоострый римский меч испанского происхождения.
Гоэтика — нечестивая магия. (См. «теургия»).
Декемвир (децемвир) — член городского органа власти.
Декурион — член самоуправления муниципия или городского совета.
Демиург — творец, создатель, мастер, ремесленник, мастеровой.
Денарий — золотая или серебряная монета весом около 5 г.
Диалектика — искусство вести спор.
Дидаскаликус — ученый, учительствующий.
Дискипул — школьник.
Дисциплина — палка, трость погонщика.
Домина — хозяйка, госпожа.
Доминат — вид общеимперского правления в поздней античности со времен Гая Диоклетиана; государство.
Доминус — хозяин, господин, государь.
De Civitati Dei. — O Граде Божием.
Dictum factum. — Сказано — сделано.
Иды — 15-й день в марте, в мае, июле, октябре; 13-й в остальные месяцы.
Иконографика — портрет углем или чернилами.
Империум (империй) — власть, правление, держава; государство; первоначально: командные права полководца.
Имплювий — дождевой водосборник.
Инсула — многоэтажный жилой дом.
Igitur. — Итак.
Каверна — пещера, грот.
Календы — первый день месяца.
Кальдарий — парная.
Кальдум — вино, разбавленное подогретой водой.
Калькеи — офицерские высокие сапоги из мягкой кожи; кожаные гетры.
Карнифекс — палач.
Картибул — небольшой стол на массивной ножке из камня.
Каструм — укрепленный военный лагерь.
Катехумен — оглашенный.
Кафедра — высокий стул учителя.
Квирит — полноправный римский гражданин.
Квадратный — интеллигентный, образованный.
Квадранс — одна четвертая.
Кверулянт — жалобщик.
Киаф — 0,045 л.
Kиркумкeллиoны (циркумцeллиoны) — бродящие вокруг клетей. (См. «Агонистики».)
Клоака — канализация.
Когномен — родовое прозвище; имя.
Колон — крепостной поселянин.
Кoмaркa — территориальная команда, банда.
Комит — первоначально: друг и приближенный военачальника-императора; член военного совета полководца; сановник высокого ранга.
Коммисацио — пир, попойка.
Контроверсия — учебное упражнение в риторике в виде развернутой речи о вымышленном судебном деле.
Контуберналы — соратники, сослуживцы из одной лагерной палатки; личная гвардия полководца; штабные офицеры; флигель-адъютанты.
Конфессио — вероисповедание.
Крематический — финансовый.
Криста — султан или гребень на шлеме легионера.
Кcениолум — радостный подарок для гостя.
Кубикул(ум) — спальня, небольшая комната.
Кукула, куколь — капюшон.
Куриал — представитель муниципального самоуправления; член сословия, имеющего право быть избранным в состав местного органа власти.
Clavum clavo. — Гвоздь гвоздем, кол колом, т. е. отменять подобное подобным.
Лабрум — таз, корыто.
Лагена — глиняная бутылка с широким горлышком.
Лектика — паланкин, носилки.
Либрарий — переписчик.
Либрариум — библиотека.
Лимис — граница.
Лимитрофный — приграничный.
Литостратум — цементный пол.
Локоть — 42–48 см.
Лора — низкокачественное вино из отжимков.
Лупанар — бордель, публичный дом.
Магистр оффиций — сановник высшего имперского ранга.
Магистры доместиков — командующие пешей и конной дворцовой гвардией.
Магистр — учитель, мастер.
Maйeвтикa — диалог у сократиков; обмен репликами в риторике.
Маны, лары и пенаты — духи предков; домашние божества.
Медиолан — город Милан.
Метопоскопия — гадание на будущее человека по его телосложению.
Мерум — неразбавленное вино.
Мизер, мизерный — несчастье, несчастный.
Миля — 1,48 км.
Модий — 7,83 л.
Мульсум — слабоалкогольный ферментированный напиток из белого вина или виноградного сока с медом.
Муниципий — административно-территориальная единица римского домината.
Miserere nos, Deus! — Помилуй нас, Господи!
Multum, non multa. — Много по значению, но не по количеству.
Натурфилософия — греко-латинское естествознание.
Нимфей — храм водных божеств.
Ноны — 7-й день марта, мая, июля, октября; 5-й в остальные месяцы.
Нундины — девятый день или треть месяца; базарный день.
Nunc dimitis — Ныне отпущаещи.
Овация — малый триумфальный парад в пешем прохождении.
Операрий — ремесленник.
Орикалькум — металл для изготовления оружия и доспехов.
Охломон — глупец из простонародья.
Палестра — спортивная площадка.
Панкратия (панкрация, панкратион) — бои без правил.
Папас — папаша.
Пегниарий — гладиатор, вооруженный бичом или шестом.
Пекуний — финансы, казна, кубышка, бюджет.
Пергола — легкая пристройка; полотняный навес.
Пилум — метательное и колющее оружие, копье средней длины.
Полигистор — знаток истории.
Примпил — старший центурион.
Прандиум — полуденный завтрак, ланч.
Принципат — вид общеимперского правления от Октавиана Августа до Гая Диоклетиана.
Пролегомены — введение.
Проскрипции — черный список.
Протагонист — главный герой; действующее лицо.
Прохиндей — проходимец, ловкач; авантюрист, побывавший в Индии.
Пунический, пунийский — финикийский.
Рацио — логичная мысль.
Регина — царица.
Регестр — реестр, список.
Рекс — царь.
Ростр — корабельный нос.
Сальтус — латифундия.
Санацио — эликсир.
Сардонический — судорожный.
Секстарий — 12 киафов; 0,55 л.
Селла — стул, кресло, скамья.
Семис — одна вторая.
Серв — раб.
Сесквипиларий — старший воин, получающий повышенное денежное содержание.
Символ — словесный или предметный воинский пароль.
Симпосий — банкет, пирушка.
Скиссор — гладиатор, действующий двумя мечами или мечом и кинжалом.
Скрипторий — мастерская по копированию книг.
Солецизм — в риторике неправильность речи, не нарушающая смысла высказывания.
Спата — прямой кавалерийский меч.
Стадий — 185–189 м.
Стратагема — план, военная хитрость.
Стратум — этаж, ярус.
Суасорий — в риторике убедительное сочинение на заданную тему.
Scriptum factum. — Написано — сделано.
Scriptum peractum est. — Написано означает исполнено.
Sursum corda. — Горе имамы сердцы.
Таблин — большая ниша-комната в атрии.
Тавматургия — чудотворчество в положительном христианском смысле.
Талант — 20,47 кг.
Тепидарий — ванная комната, санузел; теплое моечное помещение в общественных банях, также служившее гардеробом для ценных вещей.
Тессера — жетон.
Тестикулы — мужские яички.
Теургия — у неоплатоников: способности и способы сверхъестественной деятельности, предоставляемые высшими силами, сущностями, существами; у языческих жрецов: магический статус полубога-чудотворца от темных или светлых богов.
Тимпан — барабан.
Транскурс — марш-маневр.
Триарий — опытный воин из третьей решающей шеренги центурии или манипула.
Триклиний — столовая зала.
Триенс — одна третья.
Трирема — парусно-гребное судно с одним рядом строенных тирских весел, либо в египетском устройстве по три гребца на весло.
Тукеттум — род ветчины.
Унция — 30 г.
Фабер — изготовитель, ремесленник; искусный мастер.
Факт — событие.
Фасты — штатное расписание выборных должностных лиц муниципия; распорядок присутственных дней, государственный календарь.
Фестивус — выходной праздничный день.
Ферула — линейка, трость.
Физиология — греко-римское природоведение.
Фиск — казна, налоги, бюджет.
Фригидарий — прохладное место отдыха в термах.
Фунт — 327 г.
Фурор — ярость, гнев.
Фут — 29,8 см.
Fiat voluntas Tua. — Да будет воля Твоя.
Хрия — изречение.
Элоквентор — красноречивый оратор.
Эльпис — надежда.
Эксплоратор — разведчик.
Эпиникия — хвалебная речь победителю на Олимпийских играх.
Эпона — о женщине: ослица, кобыла.
Эргастул — состав рабов в сельской вилле; казарма, тюрьма для рабов.
Эристика — дискуссия, где все средства хороши.
Этиология — предварительное исследование происхождения речевого материала в риторике.
Этопея — характеристическая вымышленная речь в риторике или ее аналог у античных и средневековых историков.
Eo ipso. — Tем самым.
Юбилей — радостный праздник.
Югер — 0,25 га.
Юридикус — в провинции судейский чин высшего ранга.
Примечания
1
Lectori benevolo salutem. (L.B.S.) (лат.) — Привет благосклонному читателю. Старинная формула авторского этикета.
(обратно)2
Написанное сделано (лат.)
(обратно)3
«Горе сердца», ввысь сердца! — Возглас католического священника во время мессы. (Библия, Плач Иеремии, 3.41).
(обратно)4
Написанное понимающему достаточно (лат.)
(обратно)





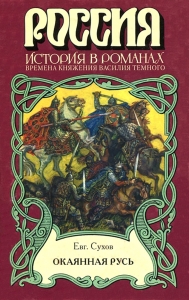
Комментарии к книге «Блаженство по Августину», Иван Катавасов
Всего 0 комментариев