Евгений Федоров БОЛЬШАЯ СУДЬБА Роман
ПРЕДИСЛОВИЕ
25 мая 1951 года исполнилось сто лет со дня смерти одного из выдающихся представителей отечественной металлургической науки Павла Петровича Аносова. Несколько ранее, в ноябре 1948 года Совет Министров СССР принял специальное постановление об увековечении памяти «великого русского металлурга, основоположника учения о стали и родоначальника высококачественной металлургии».
Имя этого замечательного деятеля русской науки и техники в течение почти целого столетия оставалось незаслуженно забытым, а сделанные им великие открытия были присвоены различными иностранцами. Между тем Павел Петрович был исключительно одаренным человеком. Он своим упорством, необычайным трудолюбием и научным подходом к исследованиям добился выяснения причин, от которых зависит качество стали. Какой бы области ни касался пытливый ум Аносова, всюду он открывал и вводил новое, всюду и везде стремился принести наибольшую пользу родине. Достаточно сказать, что под его руководством была создана новая техника металлургии, проведены огромные научные исследования, охватившие весь процесс металлургического производства. Стремясь открыть тайну булата, он разработал основы выплавки, разливки, ковки, отжига, закалки, механической обработки и контроля качества стали.
П. П. Аносов намного опередил открытия иностранных ученых. Так, например, он первый изучил влияние различных элементов на свойства стали и, таким образом, на сорок семь лет опередил в этом вопросе английского металлурга Гатфильда. В 1837 году П. П. Аносов провел исследование, открывшее возможность передела чугуна в сталь. Следовательно, русский ученый на тридцать лет опередил братьев Мартен. Павлу Петровичу принадлежит честь установления зависимости качества металлов от их кристаллического строения. Он впервые в мире применял микроскоп для изучения структуры металла. Этим самым он опередил английского ученого Сорби более чем на четверть века. Аносовым был произведен и ряд других важнейших открытий, имеющих огромное значение для нашей отечественной промышленности и сельского хозяйства.
Однако в условиях царской России, в условиях угодливого низкопоклонства перед иностранным, всё это было забыто и многое незаконно приписано зарубежным изобретателям.
Вполне понятно, как важно знать подробности о жизни и работе П. П. Аносова, ибо познание его трудов, его борьбы за совершённые им открытия приводит нас к ознакомлению с истоками отечественной качественней металлургии, воспроизводит перед нами историческую обстановку, в которой происходили исследования и открытия великого русского металлурга. И как хотелось бы нам воссоздать и оживить его образ, представить его в плоти и крови со всеми сомнениями, думами и переживаниями!
С этой точки зрения новый роман Евгения Федорова «Большая судьба», посвященный деятельности П. П. Аносова, представляет несомненный интерес. Надо сказать, что о нашей отечественной металлургии и ее выдающихся деятелях вышло очень мало книг. Многим известны «Воспоминания металлурга» академика М. А. Павлова, «Жизнь инженера» академика И. П. Бардина, биографический очерк И. Александрова и Г. Григорьева о И. Г. Курако, изданный «Молодой гвардией» в 1949 году. Роман Е. Федорова «Большая судьба» является, по сути дела, первым крупным художественным произведением об одном из замечательных русских металлургов.
Перед автором стояла большая и весьма ответственная задача показать, хотя бы в общих чертах, доступных для понимания широких кругов читателей, характер и условия работы П. П. Аносова, а также восстановить его живой облик.
Следует отметить, что автором проделана серьезная работа: он лично посетил места деятельности П. П. Аносова и ознакомился с ними; им были извлечены из различных архивов (Алтайского, уральских и архива Ленинградского Горного института) все имеющиеся данные об Аносове, были изучены многочисленные литературные источники, а также труды самого П. П. Аносова. Таким образом, труд литератора сочетался здесь с трудом кропотливого и добросовестного историка.
В результате перед нами правдивая и волнующая книга. Через весь роман красной нитью проходит органическая связь П. П. Аносова с народом. Великая, неиссякаемая любовь нашего трудолюбивого народа к родине вдохновляла П. П. Аносова на его подвиги, помогала ему в минуты тяжелых испытаний и вселяла веру в лучшие времена. В романе Федорова перед читателями проходит вереница полнокровных душевных образов русских умельцев: сталевар Н. Н. Швецов, знаменитые златоустовские граверы Бояршиновы и Бушуевы, легендарный Иван-Крылатко, охотник за уральскими самоцветами Евлашка и многие другие талантливые простые люди.
Роман «Большая судьба», само собою разумеется, не вскрывает в полной мере технологических процессов, проведенных Аносовым. Он как бы пунктирно намечает их. Однако, несмотря на это, основное доходит до читателя, не загромождая его внимания излишними данными, имеющими исключительно технический интерес.
Кроме этого, в конце книги имеется своеобразное, написанное в очерковом плане послесловие. На первый взгляд, оно как бы не входит органически в книгу повествования, но приходится признать, что оно законно и необходимо. Это послесловие как бы прожектором освещает прошлое, только что прочитанное, дает возможность лучше понять и оценить заслуги П. П. Аносова.
Книга Евгения Федорова является патриотическим произведением, убедительно показывающим приоритет русской технической мысли в области металлургии. Познавательная ценность романа бесспорна. Широким кругам советских читателей, и особенно молодежи, интересно будет прочесть эту книгу о простом, душевном и вместе с тем великом русском металлурге Павле Петровиче Аносове.
Академик Н. Т. ГУДЦОВЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ МОЛОДОГО ШИХТМЕЙСТЕРА ПАВЛА АНОСОВА
Санкт-Петербургского Горного кадетского корпуса унтер-офицер Павел Аносов, одетый в парадную форму, медленно проходил по набережной Васильевского острова. Высокий, стройный, в треугольной шляпе и в белых панталонах, со сверкающей белой перевязью вокруг гибкой талии, он шел, играя каждым мускулом, ощущая радость здоровой молодости. Восемнадцатилетнему юноше казалось, что сегодня весь Петербург смотрит на него, радуется ему и любуется им. Завтра на торжественном акте Аносову вручат аттестат об окончании корпуса, и он вступит в самостоятельную жизнь. От сознания этого на душе юноши было легко и весело, но вместе с тем печаль, как тихая капель, просачивалась в сердце.
Становилось радостно при мысли о том, что впереди ждет неизвестное и заманчивое: самостоятельная жизнь, увлекательная работа, о которой он так мечтал; что навсегда уйдут в прошлое скучные уроки — фехтование, танцы, катехизис, латынь, отрывавшие время от любимых занятий по металлургии.
Обо всем этом недавно только мечталось, так опостылели стены корпуса, но вот сегодня, сейчас, когда подошло время покидать корпус, сердце Аносова тоскливо сжималось при мысли, что больше он никогда-никогда не возвратится сюда! Никогда он не сядет за учебники, не подойдет к школьной доске и не будет с таким огромным нетерпением ждать субботы, чтобы пойти в отпуск к знакомым. Всё, что происходило в корпусе за семь лет учения, неожиданно повернулось к нему новой, привлекательной стороной. Стало жаль покидать сделавшийся родным Горный корпус, преподавателей и расставаться с товарищами. Даже город с вечно хмурым, серым небом, моросившим дождем и пронизывающими туманами сегодня выглядел иначе: Петербург под утренним солнцем вставал над широкой рекой обновленным и чудесным. Сегодня всё, всё выглядело светло и радостно! Нева, серебрясь под солнцем, величаво текла в гранитных берегах. Воздух был необычайно прозрачен и свеж. Высокое нежно-бирюзовое небо простиралось над столицей. В садах и скверах неподвижно застыла листва, чуть тронутая легкой позолотой, но, кроме этого, ничто не говорило о надвигающейся осени. Август в этом году выдался солнечный и тихий.
Миновав деревянный Исаакиевский мост, Аносов ускорил шаги, и вскоре перед ним встал знакомый фасад Горного корпуса. Когда-то некрасивые, разбросанные в беспорядке здания чародей-зодчий Воронихин превратил в стройное художественное целое, поражающее своей красотой. На Аносова всегда особенно сильное впечатление производил фасад корпуса. К Неве спокойно спускалась широкая гранитная лестница пристани, последние ступени которой часто заливала невская вода. Прямо перед лестницей поднимался высокий фронтон, лежащий на двенадцати строгих колоннах, вырастающих без цоколя. Здесь всё было соразмерно и создавало впечатление гармонической тяжести. Здание всем своим видом, пропорциями и профилями как бы символизировало трудности горного дела, которому призваны будут служить питомцы Горного корпуса.
Аносов неторопливо поднялся по лестнице в прохладный вестибюль. У швейцарской его встретил служитель Захар, отставной гвардеец с внушительным лицом и седыми баками. Он, как показалось Аносову, грустно посмотрел на унтер-офицера. Обычно Захар не отличался словоохотливостью: был строгий, исполнительный служака, и по утрам, когда над крышами только-только занимался скудный северный рассвет, бил на барабане побудку. Юноша с улыбкой посмотрел на старика и обронил:
— Ну, отслужил твой барабан для меня свою службу!
— Что верно — то верно! — согласился Захар. — Уедете и забудете нашего брата. В большие люди выходите!
— Что ты, Захар, разве можно забыть! — с искренним сожалением отозвался Аносов. — Не раз вспомню!
— В народе так поется, — тихо и добродушно отозвался служитель:
Отломилася веточка От кудрявого деревца, Откатилося яблочко От садовой яблоньки…Захар грустно посмотрел на юношу, пыхнул дымком из коротенькой глиняной трубочки и душевно вымолвил:
— То-то же, не забывайте нас. А в жизни и труде берегите простых людей, Павел Петрович; они всегда будут вам верными помощниками.
— Спасибо за совет! Эх, Захар, Захар, если бы ты знал, как жалко мне покидать тебя!
— Ну уж и жалко! Тоже скажете! — просиял служитель и кивнул в сторону классов: — Суматоха кругом! Велик будет праздник, и съезд ожидается большой!..
Аносов пошел дальше. Гул и звонкие голоса наполняли залы. Вот уже много дней с утра и до поздней ночи здесь кипело оживление: везде красили, чистили, мыли. В учебных залах учили танцевать, маршировать, петь, фехтовать. Корпусный капельмейстер Кудлай, тонконогий и перетянутый в талии словно оса, со встрепанными волосами, то хватался за голову и горестно раскачивал ею, то громко взвизгивал:
— Не так! Не так! Ах, боже мой, что я с вами буду делать!
Завидев Аносова, он закричал:
— Иди, иди сюда! Ты нам нужен!
Но Павел знал, что сейчас начнется самое скучное: длинный тощий кадет Бальдауф должен читать свои стихи. Аносов промчался мимо распахнутой двери и юркнул в спальную камеру. Тут в проходах между койками расхаживали с озабоченным видом его товарищи — выпускные унтер-офицеры. Видно, и они переживали свое предстоящее расставание с корпусом. Высокий громкоголосый Алеша Чадов выкрикивал фразы из речи, которую собирался произнести при вручении ему аттестата. Со стороны он очень походил на рассерженного индюка.
Навстречу Аносову бросился широкоплечий унтер-офицер Илья Чайковский.
— Павлуша! — обрадованно закричал он. — Где ты бродишь? Ты ничего не знаешь! Мы поедем на Урал! На Урал! — взволнованно повторил юноша и хлопнул друга по плечу.
— Не может быть! — засиял Аносов. — Это счастье. Я всегда мечтал о горном деле!
— Но там глушь; и это после Санкт-Петербурга! — лукаво заметил Чайковский.
— Разве ты недоволен? — удивленно спросил Аносов.
— Нет, я очень и очень доволен, милый мой! — улыбнулся кадет и обнял друга за плечи. — Я все эти годы мечтал о российских просторах, о суровых горах и дремучих лесах. Часто во сне вижу себя кладоискателем. Знаешь, Павлуша, мы, как волшебники, будем открывать сокровища. На Каменном Поясе, в скалах, — огромные подвалы, мы подходим к мшистым камням и говорим вещее слово: «Сезам, отворись!». Перед нами распахиваются недра и, смотри, сколько богатств в них! — Юноша мечтательно вскинул голову и посмотрел на друга.
— Вижу их, вижу эти сокровища! — весело подхватил Аносов. — Вот железо — из него будут ковать плуги и мечи. А вот камни-самоцветы. Так и горят, так и переливаются огнями. Любуйся: тут рубины, сапфиры, яхонты, вишневые шерла[1], а вот аметист, горный хрусталь. Много есть диковин на Урале. Есть там целые горы из железа и медной руды. И платина, и золото! Дивен Урал!
Чайковский улыбнулся другу:
— В давние годы русский рудознатец Ерофей Марков впервые в нашей земле, на Урале, отыскал золото. И Михайло Васильевич Ломоносов воздал сему должное; так возрадовался, что оду написал. Послушай:
И се Минерва ударяет В верьхи Рифейски копием, Сребро и злато истекают Во всем наследии твоем. Плутон в расселинах мятется, Что Россам в руки предается Драгой его металл из гор, Который там натура скрыла…— Рифеи — так в древние времена наш народ величал Урал. Ломоносов верил, что русские не в сказке, а въяве добудут богатства из недр земных на удивление всему свету и на устрашение врагам России!
Аносов ласково обнял друга за плечи. Заглядывая Чайковскому в глаза, сказал сердечно:
— Илюша, прекрасны твои слова. Ломоносов — наша краса и гордость! Мы все пойдем по его пути! Он написал для нас, русских металлургов, свои «Первые основания металлургии, или рудных дел». Это — евангелие для российских горщиков. Только Михайло Васильевич создал подлинную науку о недрах, как и где находить металлы и минералы!..
— Врешь, Аносов! — резким голосом закричал долговязый, с белесыми глазами кадет. — Врешь! — зло повторил он. — Ничего ваш Ломоносов не создал. Он сам учился в нашем Марбурге!
— Эк, куда хватил! — усмехнулся Чайковский и горячо продолжал: Эдуард, как тебе не стыдно, ты говоришь неправду! Великий русский ученый Михайло Васильевич Ломоносов многое дал науке!
— Верно, верно, Чайковский! — подхватили кадеты.
— Во-первых, я не просто Эдуард, а фон Гразгор, и мой дедушка в Прибалтике имел собственный фамильный замок. Во-вторых, за дерзость я приглашаю вас драться на шпагах! — крикнул долговязый кадет.
— Погоди, лозоискатель, никто с тобой драться не будет! — усмехнулся Аносов. — Величие Ломоносова доказано великой любовью к нему нашего народа!
— Ты не смеешь меня звать лозоискатель! Я буду настаивать на вызове! — побагровел фон Гразгор.
— Не шуми! Сам знаешь, братец, — где, как не у вас, отыскивают руды лозой! — спокойно сказал Чайковский, и на лицах столпившихся кадет заиграли улыбки. — Разве тебе не известно, дорогой, что ваши горные ученые берут ореховый прут-вилку и, пользуясь колебанием сего зажатого прута, ищут месторождение руды? Погоди, впрочем; о сем сказано и у Ломоносова… Павлуша, дай-ка мне! — он взял у Аносова книгу. — Послушайте, братцы! обратился он к товарищам и с легкой иронией стал читать:
— «Немало людей сие за волшебство признают, и тех, что при искании жил вилки употребляют, чернокнижниками называют. По моему рассуждению, лучше на такие забобоны или, прямо сказать, притворство не смотреть, но вышепоказанных признаков держаться, и ежели где один или многие купно окажутся, тут искать прилежно». Вот что с Запада занесли горные мастера, лозовую вилку, а Михайло Васильевич Ломоносов завещал нам тщательно наблюдать окраску воды, цвет земли, характер растительности, обломки камней при ручьях и реках. Он сказывает в сем труде: «Ежели тех камней углы остры и не обились, то можно заключить, что и сами жилы неподалеку». Вот оно как!
— Он врет! Всё врет! — продолжал кричать Гразгор и, сжав кулаки, пошел на Чайковского.
Кругом зашумели…
— Что за крики, господа! — неожиданно раздался решительный голос, и на пороге появился Захар. — Кажись, Остермайер идет! — оглядываясь, выпалил он. Все сразу притихли. Кто не знал этого злого и надоедливого педагога, от проницательного взгляда которого ничто не ускользало! Выговоры его были просто невыносимы. Этот брюзга с желтым желчным лицом наводил тоску на кадет. Пойманного в шалости мальчика он уводил к себе в кабинет, удобно усаживался в кресло, а виновника ставил напротив. Ровным, дряблым голосом он монотонно начинал распекать пойманную жертву. Не повышая голоса, не отпуская бранных слов, медленно, иезуитски Остермайер «тянул за душу». Шалун, держа руки по швам, молча «ел» наставника глазами и чувствовал себя самым несчастным на свете.
И час, и два мог распекать питомца Остермайер, вытягивая из него все жилы. Воспитателя боялись не только кадеты, но даже и давно окончившие корпус горные офицеры. В классах ходил о том анекдот. Рассказывали, что в один прекрасный вечер за тысячи верст от Санкт-Петербурга, в Барнауле на Алтае, сошлись несколько товарищей горных офицеров, чтобы за ломберным столом перекинуться в картишки. Несколько часов в ночной тишине шла неторопливая карточная игра. Каждый глубокомысленно обдумывал возможные ходы. Вдруг в комнату ворвался один шутник, товарищ по корпусу, и с порога в ужасе оповестил: «Остермайер идет!». Все мгновенно спрятали карты, повскакали с мест и с напряженным вниманием уставились на дверь, ожидая придирчивого наставника, забыв, что он находится за тысячи верст от Алтая.
Захар лукаво подмигнул Аносову и более решительно повторил:
— Господа, иде-ет!..
Безотчетный страх охватил кадет, и они разбежались. В комнате остались только Аносов да Захар.
Служитель улыбнулся кадету.
— Молодец, Павел Петрович! — похвалил он его. — Справедливо поступили. Не смей трогать нашего батюшку Михайлу Васильевича! Не дано господам Гразгорам порочить русский народ! — И, притопывая башмаками, старик, добродушно ворча, пошел к лестнице.
Аносов нагнал его, схватил за руку:
— Спасибо, Захар, от всей души спасибо тебе!
Отставной гвардеец удивленно уставился в Аносова:
— Помилуй, это за что же спасибо?
— За Ломоносова. За то, что любишь его! — восторженно сказал юноша.
По морщинистому, чисто выбритому лицу служителя прошла светлая улыбка. Дрогнувшим потеплевшим голосом он проговорил, глядя на молодого кадета:
— Батюшка-сударь, голубчик ты мой Павел Петрович, а кто же из русского народа не любит Михайлу Васильевича? Правда, его иноземцы затирали, старались ущемить, но простому народу, как никому, всё это видно! — Старик лукаво прищурил глаза и зашептал ласково: — Ах, Павел Петрович, милый ты мой, он-то, наш простой народ, всё знает, всё видит, его не проведешь. Хоть и имечко перелицуй, хоть и в веру другую перекинься, а уж замашки да ухватки никакой крещеной водой не смоешь и никаким пачпортом не укроешь… Наш человек сердечно любит всё свое, родное, и делает подвиги не ради славы, не для злата, а для всей своей земли. То разумей: чем больше его мучают, тем милее он народу. Видит простой человек, что ради него мается бедолага. Да разве когда забудет русский народ Ломоносова! Умный человек даже из другого народа преклонится перед Михайлой Васильевичем, потому он для всего света старался… Вот оно что! А народ никогда в своем чувстве не обманется. Расскажу тебе одно…
Старик и кадет спускались по широким ступенькам лестницы. Захар повел по сторонам глазами и предложил:
— Зайдем в мою каморку, скажу тебе про одно заветное…
Они спустились в комнатку служителя. Она помещалась под каменной лестницей, — маленькая, плоская, прижатая грузным сводом. Небольшое окно на уровне вымощенной серыми плитами панели глядело в темные невские воды.
Глубокая тишина охватила Аносова. Звуки в это подземелье доходили глухо, отдаленно. Он много раз бывал у Захара, и его всегда трогала чистота и опрятность его более чем скромного жилья. На стене висел палаш с начищенной медной рукояткой, на плетеном ветхом кресле — мундир с медалями. Старик перехватил вопросительный взгляд гостя и пояснил:
— Вот скоро господа на торжество съезжаться начнут, в парадном мундире встречать буду! — Он прошел вперед и уселся у окна.
— Садись, сударь! — указал он глазами на стул. — И я посижу; стар стал, ноги гудят; видать, вовсе отслужился, да вот нет сил уйти от ребят. Привык к вам, ой, как привык, сударь!
Аносов уселся напротив старика, тот смущенно признался:
— А я ведь у порога стоял и всё от слова до слова слышал. На душе радость забушевала: ловко вы с Илюшей фон барона отбрили… Ух, брат, много их на русской шее сидит!..
От похвалы Захара лицо Павла вспыхнуло. Чтобы перевести разговор на другое, он напомнил:
— Ты что-то интересное хотел рассказать, Захар.
— Что ж, это можно, только — по тайности. По душе ты мне пришелся, сударь. Преклонилось мое старое сердце к тебе, потому что чует оно: добр ты к простому человеку. Не заскоруз еще ты, Павел Петрович, в делах житейских! О народе и речь поведу, а ты верь старшему. Много, много пережито и переведано, горбом дошел, что к чему. Ты, сынок, в жизни прямо иди, не гнись; не бойся бури, не сломит! На свой народ надейся, прислушивайся к нему! Ты простому человеку доброе слово, как золотой лобанчик, подари, а он тебя большой любовью укрепит, никогда не выдаст в беде. Помни, милый, нет никого сильнее, умнее и вернее нашего простолюдина! И чуток он, и добр, и сердечен. Не лукавь перед ним, не криви душой: народ всё чувствует, всё ценит, всё знает, и его не обманешь. Довелось мне своими глазами увидеть многое. Скажу тебе, сударь, старое-бывалое. Только, чур, царским величеством о нем запрещено говорить! — Старик встал, неторопливо подошел к двери, прислушался.
— Ты это о ком, Захар? — удивляясь осторожности старика, спросил Аносов.
— Известно, о ком, — прошептал тот: — о нем, о батюшке Емельяне Ивановиче.
— О Пугачеве! Да ведь он и в наших краях прошел грозой. Дворяне сказывают: великий душегуб был!
Захар нахмурился.
— Ты не очень, сынок, бранись! — сурово перебил он.
— Да это всему свету известно! — с жаром вымолвил Аносов.
— Простой народ другое говорит! — твердо сказал старик. — Это верно: для господ он душегуб и разбойник, а для нас — защита и надёжа!
Горный кадет столько наслышался о жестокостях Пугачева, что удивился ласковому тону старика. Прошло больше четверти века, а в светских гостиных всё еще боязливым шёпотом говорили о «злодее, потрясавшем трон монархии». Между тем Захар таинственно продолжал:
— Для бар он душегуб, потому что помсту за крепостной народ вел и простому люду волю и правду нес. Мне самому довелось видеть Емельяна Ивановича в тяжелый смертный час и услышать его честное слово к народу…
Юноша притих, жадно ждал продолжения рассказа, но старик на минуту смолк; подумав, решительно махнул рукой:
— Ладно, так и быть, расскажу. Давненько это случилось, а вот на душе такое, будто вчера довелось видеть и слышать его. Известно вам, я в гвардии ее величества служил и по случаю событий в Москве был. И в этот самый день, когда на Болоте его терзали, наша рота караул у Лобного места держала. Затемно нас привели на Болото, выстроили, и стою я ни жив ни мертв, а на сердце поднялась великая смута. Посреди нашего каре — высокий помост, позади — народу видимо-невидимо. Слышно, как шумит, ропщет люд. Вот только солнышко поднялось из-за Москвы-реки, заиграли-залучились золотые маковки кремлевских церквей, и в эту пору пуще загомонил народ, заволновался, будто под ветерком деревья прошумели. Скосил я очи и вижу: среди народа двигаются сани с помостом, на них скамья, а на скамье сам батюшка Емельян Иванович сидит. Глаза так и жгут, а в руках две свечи ярого воска. Ветерок колышет пламя свечей, воск на глазах плавится и стекает ему на руки, а он, батюшка, с жалостью смотрит на простых людей и всем кланяется. Глянул я вначале на него, потом на эшафот, а там столб с воздетым колесом, на солнышке блестит острая железная спица. «Мученик ты наш, мученик! За народ страдать будешь!» — и злость, и жалость меня тут взяли, зашлось от обиды мое сердце. Кажись, взмахнул бы штыком да и пошел на бар. Сытые, выхоленные, нарядные, тут же расхаживают они и улыбаются. И вот схватили его, батюшку, под руки и поволокли на эшафот…
— Ты всё это сам видел? — с бьющимся сердцем спросил Аносов, и ему вдруг стало бесконечно жаль Пугачева.
— Как тебя сейчас! — старик вздохнул и сокрушенно пожаловался: Солдат присягой связан, поставили — стой, скажут: стреляй, — стрелять будешь! Ну, а что у меня на душе было, не спрашивай… Скинул Емельян Иванович шапку, вздохнул полной грудью, взглянул на небеса, на Кремль и сказал народу: «Не боярам в Кремле сидеть! Меня казнят, а народ не казнишь; правду он сюда принесет. Берегите ее, братцы!».
— Да этого он и не говорил, Захар! — перебил Аносов. — Из правительственных листков известно, что струсил он, всё кланялся и плакал: «Прости, народ православный, отпусти, в чем я согрубил перед тобой, прости, народ православный!».
— Эх, милый, так это в господских грамотках так прописано, а в народе иное хранится. Я сам видел и слышал. Так и всколыхнуло меня, когда на площади весь народ ахнул в одну грудь: «Держись, батюшка, держись крепко! Не погибнешь ты под топором, унесем тебя в своем сердце…» Это верно! Палачи в ту пору сорвали с него бараний тулуп и потащили к плахе. Вырвался он, вскинул голову и закричал: «Не трожь, корявая рожа, смерти за свой народ не боюсь! — А сам всплеснул руками, опрокинулся навзничь на колоду и приказал: — Теперь руби, дворянская собака!». И палач вмиг отрубил ему голову…
— Не говорил он эти слова! — взволнованный рассказом старика, выкрикнул Аносов.
— Ты, сударь, не спорь. Тебя в ту пору на белом свете не было, а я уж в гвардии служил, и сердце мое не обманешь. Сам слышал! — убежденно подтвердил Захар: — А через три дня колёса, сани, эшафот и тела загубленных сожгли, в пепел обратили. Только я уголек всё-таки один уберег!
— Что ты говоришь! — вскочил юноша.
— Уберег и храню, как святыню. Ведь кровью Емельяна Ивановича он полит. А народ с кострищ по горстке пепла уносил… Нет, сударь, такое не забудется…
Аносов сидел молча, подавленный рассказом, не спуская глаз со старика. А Захар, растревоженный воспоминаниями, не мог успокоиться и продолжал:
— Я, милок, вот к чему речь веду. Народ не обманешь. К примеру сказать, на другой день после казни Емельяна Ивановича в Кремле на Красном крыльце при самом генерал-прокуроре Вяземском прочитали указ о прощении девяти преступников, которые царице с головой выдали батюшку. Объявили им прощение и оковы сняли. И сколь велика была толпа, собравшаяся проститься с батюшкой Емельяном Ивановичем, — столь ничтожно пришло людей на объявление милости христопродавцам этим. Мало того, сударь, только ушел князь Вяземский да дворяне, откуда ни возьмись, подошли простые люди и заплевали место, с коего огласили прощение. Кабы не гвардейцы, неизвестно, что бы стало с прощеными извергами… Видишь, как обернулось дело! И на том еще не окончилось… Отправили прощеных в Новороссийскую губернию к Потемкину, а и тот от них отмахнулся: «Не надо, — сказывает, — их мне; народ всё равно убьет иродов, а я в ответе!». Тогда погнали окаянных на поселение под Ригу, но и там их не приняли: латыши грозились каменьями забросать… И куда только не гоняли злодеев, никто не хотел принять. Что же, сударь, по правде судил народ: раз каиново дело свершили, ну и скитаться вам, окаянным, без сроку, без времени…
Старик закашлялся и смолк. За оконцем, над Невой, летала чайка. Она то падала к серой волне, то снова взмывала вверх с трепещущей серебристой рыбкой в клюве. Тишина водворилась в подвальной комнатке. Захар сидел, тяжело опустив голову на грудь.
— А куда ты упрятал тот уголек? — вдруг тихо спросил Аносов.
Глаза старика вспыхнули, он оживился.
— Уголек? Он всю жизнь при мне, всю жизнь согревает сердце надеждой. За тем тебя и звал! — ласково сказал служитель, поднялся и проворно полез к божнице, перед которой теплилась голубая лампадка. Пламя огонька от движения служителя заколебалось.
Захар добыл из-за образа ладанку и протянул ее кадету.
— Вот, возьми! — предложил он. — Сегодня ты здесь последний день; завтра отправишься к горщикам. Это тебе мое благословение. Береги уголек; станет трудно, — приложи к сердцу. Согреет он! Думка народная, жалость, доброта, — всё тут скопилось в угольке. Храни его, милок, пусть согреет твою душу, чтобы она доброй и ласковой была к простому народу…
Аносов порывисто вскочил и, обняв старика, расцеловал его:
— Спасибо, Захар, спасибо, родной!
— На том будь здрав! — тихо отозвался старик. — Ну, иди, сударь, там тебя ждут, да никому об этом ни словечка…
Радостно возбужденный, Аносов вышел из каморки и побежал по лестнице, прижимая к сердцу ладанку. И казалось ему, что невидимый огонек пылает у его груди, и согревает ее, так приятно и хорошо было на душе…
Глава вторая НОЧЬ ВОСПОМИНАНИЙ
Тихая, теплая ночь простерлась над Петербургом. Серебристый свет луны косыми потоками врывался в спальню, и на полу четко выступали черные тени оконных переплетов. Аносов не мог уснуть, ворочался, вздыхал. Он глубоко чувствовал свое одиночество, — многие кадеты разошлись по домам. На душе было тоскливо. Он лежал в глубоком безмолвии, и воспоминания детства нахлынули на него, как вешнее половодье, от которого невозможно было укрыться.
Смутно, словно сквозь туман, перед ним мелькают образы отца и матери. Отец — секретарь берг-коллегии, худощавый, измученный человек с легкой проседью в густых волосах — вечно занят. Мать — большеглазая, ласковая женщина — всегда в домашних хлопотах. За работой она любила напевать грустные песни, от которых щемило сердце. Павлуша рос крепышом, понятливым. Он хорошо запомнил, когда отца перевели на службу в Пермь советником горного округа. Стояла весна. Всей семьей они плыли по широкой светлой Каме-реке. Мимо шли холмистые берега, густо поросшие пихтой и елью. Один берег поднимался стеной, другой был отлогий, с большими полянами, на которых раскинулись бревенчатые русские деревушки. Навстречу плыли плоты. Вот один из них, словно гигантская змея, изогнулся на повороте реки, подставив яркому солнцу свою желтую смолистую спину. А рядом по береговой тропке шли вереницей согбенные бурлаки. Они тянули против течения канатами тяжело нагруженную расшиву, борта которой были пестро раскрашены.
Расшива шла по Каме ходко и весело, разрезая грудью воду, и по сторонам ее, как седые усы, расходились гребни. А бурлаки, наваливаясь на лямки, шли мрачные и злые. В такт движениям они пели тягучую и длинную песню. Печальные голоса оглашали реку:
Ох, матушка-Волга, Широка и долга! Укачала, уваляла, У нас силушки не стало, О-ох!— Видишь, как работнички надрываются! — сказал Павлуше стоявший рядом старик лоцман и тяжело вздохнул. — Ох, и каторжна работенка! Начнут лямку тянуть в онучах, а кончат босоногими! Эвон, гляди! — указал он на берег. На извилистой тропке, на всем бурлацком пути валялись вконец изодранные и брошенные лапти.
Впереди к воде близко подходил дремучий бор, и шумящие кроны его отражались в тихой воде, а высоко над яром горизонт заволакивало синью.
Коренастый загорелый лоцман, прикрыв глаза ладонью, долго вглядывался в хмару. Вздохнув, он взял Павлушу за руку и сказал ласково:
— Айда, мальчонка, к мамаше, гроза будет. Здоровая туча идет!
Как завидовали ему малыши: он разговаривал с бородатым лоцманом! Шутка ли!
Мать поспешила укрыться с детьми в каюте. Сильно завыл упругий ветер. Яркая ослепительная молния пронизала небосвод сверху донизу, и со страшным грохотом раскололся и раскатился гром. Стало весело и страшно. Крупные капли дождя гулко барабанили по деревянной обшивке судна, по стеклу. И этот частый дробный стук казался бодрящей музыкой…
Гроза быстро промчалась, лихой ветер разорвал синюю тучу в клочья и унес их вдаль. Снова брызнуло солнце, и над Камой-рекой из края в край раскинулась цветистая радуга. Под солнцем еще ярче зазеленели омытые дождем травы и леса.
— Смотрите, дети, какая прелесть! — восторженно сказала мать, и ребята долго любовались чудесным видением радуги. Только отец сутулясь стоял у борта и, схватившись за чахлую грудь, надрывно кашлял. Он был равнодушен ко всем камским прелестям. Мать тревожно поглядывала в его сторону…
Кто бы мог подумать, что всё так печально кончится? В то лето, когда пышно распустились сады, отец скоропостижно умер в Перми. Два дня он лежал в открытом гробу, — с грустной мечтательностью на лице, — так казалось Павлуше, и ему не верилось, что вот скоро отца унесут и он больше никогда его не увидит.
Бледная, осунувшаяся мать сквозь слёзы жаловалась соседям:
— Сразу как громом в бурю сразило!
Павлуша вспомнил грозу на реке, и страх охватил его. Он жался к матери и по-детски ее успокаивал:
— Не бойся, мы от грома уйдем в каюту…
Не знал он, что от лихой беды никуда не упрячешься.
Осенью умерла и мать Павлуши. В опустелой квартире осталось четверо сирот мал-мала меньше.
В эти дни с Камско-Воткинских заводов в Пермь приехал дедушка Лев Федорович Сабакин, кряжистый старик с добрым смуглым лицом и седыми усами. Сбросив порыжелый мундир, оставшись в рубахе, он понуро уселся в искалеченное кресло и дружелюбным взглядом долго разглядывал сирот:
— Эх, бедные вы мои горюны, ну что мне с вами делать?
Большой сердечной теплотой прозвучали его слова. Павлуша заметил, как волосатая рука дедушки нервно затеребила ворот рубахи, словно старику стало душно.
— Ну, что уныло глядишь, внучек? — ободряюще сказал он. — Не печалься, не пропадем! Это верно, тяжко живется на земле нашей, а ни на какую иную не променяю, — своя и в горести мила! Собирайтесь, малые!
А собирать особенно нечего было, — всё имущество уместилось в небольшом узелке. Старик бережно уложил его и, усаживая детей в большой плетеный короб, бодро проговорил:
— Ну, малые, садись! Гляди, как! Живем в неге, а ездим в телеге.
Всю дорогу дедушка поглядывал на сирот и ободряюще сыпал прибаутками. По рассказам матери Павлуша знал, что Лев Федорович вышел из простых людей, самоучкой изучил механику и превосходно умел строить самые разнообразные машины.
Березовые рощи роняли свой золотой лист, когда старик привез сирот на завод. На крылечко небольшого домика, у которого остановились кони, выбежала худенькая опрятная старушка с милым добродушным лицом и стала целовать ребят. От нее хорошо пахло горячим хлебом, тмином, и Павлуше она сразу пришлась по душе.
Маленький домик дедушки стоял на краю леса, на широкой и веселой луговине, сбегавшей к лесной речушке Вотке. Старики радовались внукам и тому, что их тихое жилье наполнилось ребячьим смехом. Дедушка поднимался с восходом солнца и уходил на завод, где работал механиком. Уходя, он весело будил ребят:
— Вставайте, голуби! Погляди, что вокруг творится, — прощай ясен месяц, взошло красно солнышко!
Павлуша навсегда запомнил заводских работных, — они приходили к деду с просьбами. Уральцы были высокими, плечистыми, с густыми широкими бородами, — казались богатырями. Одевались они в ряднину, мягкие портки, на голове носили серые войлочные шапки, слегка сдвинутые на затылок; говорили медленно, сумрачно, но дед охотно выслушивал их и всегда помогал.
К Сабакину по субботам являлся загорелый, жилистый, с желтоватой бородой охотник Архипка со своей юркой дворняжкой Орешкой. Морда у пса походила на лисью, уши были настороже. Несмотря на неказистый вид, Орешка отличался проворством, легкостью и превосходным чутьем.
Архипка славился на всю округу умением гнать лося. С пудовой ношей за плечами, он неутомимо бежал на лыжах за быстрым зверем. Но в праздники он никогда не охотился.
— В праздник и зверю отпущен покой! — говорил он и садился на крылечке. Его мигом окружали ребята. Старик спокойным, размеренным голосом рассказывал им о старине. Про него говорили, что он ходил вместе с Пугачевым под Уфу, и Архипка не отказывался, охотно вспоминал о Пугачеве:
— Как его, батюшку, забудешь, коли с ним на Казань ходил. Пришел он, родимый, на Воткинский завод, мучителя Венцеля расказнил, а рабочий люд обласкал. Ох, и милостив он был к простому народу!
Любил старик пропеть про пугачевские клады. И Павел до сих пор помнит начало одной песни. Архипка, раскачиваясь, пел:
На Инышке-то, в светлом озере, Во стальной воде, да под стеклышком, Спрятан-скрыт лежит пугачевский клад. Он давным-давно был там спрятанный, Он давным-давно там схороненный. Он схоронен был в темну-черну ночь, Поздней осенью, в непогодушку…Он пел чистым грудным голосом о встрече Пугачева с Салаватом Юлаевым, — о том, как хоронили они золото, и заканчивал с грустью:
И с тех пор лежит бочка с золотом, Бьет волна по ней сизокрылая, Только с берега ворон каркает Бережет добро пугачевское…О Пугачеве, добром его вспоминая, рассказывала детям древняя морщинистая нянюшка Сергеевна; да и всё на Урале было полно воспоминаниями о нем. Павлуша бегал на завод, пробирался в мастерские. Чумазые, перемазанные копотью литейщики и кузнецы были словоохотливы с ним, и в душу мальчика глубоко запали прекрасные поэтические представления о простом русском человеке, который и в беде находит для друга доброе слово…
И еще Павлуша до самозабвения любил кузнечное дело; он искренне, с детской горячностью завидовал русским умельцам, чьи золотые руки делали чудеса. Вопреки запретам, он бегал в кузницу и целыми часами приглядывался к горячей работе. Ах, как хотелось ему быть кузнецом! Из-под молота дождем сыпались искры, под ударами звенел металл, а черномазый кузнец, с белыми ослепительными зубами, высился могучим великаном среди огневой метели, освещенный заревом горна.
У Павлуши заблестели глаза от радости при виде ловкого чудодейства ковача. Однажды бородатый мастер, разгоряченный лихой работой, лукаво подмигнул мальчонке и сказал:
— Слушай, песню спою. Только, чур, никому ни слова! — Он откинул молот и запел раздольным голосом:
Вдоль по улице широкой Молодой кузнец идет. Ох, идет кузнец, идет, Песни с посвистом поет. Тук-тук! В десять рук Приударим, братцы, вдруг! Соловьем слова раскатит, Дробью речь он поведет. Ох, речь дробью поведет, Словно меду поднесет. Тук-тук! В десять рук Приударим, братцы, вдруг! Если ж барин попадется Под руку, на разговор, Тут кузнец уже возьмется Не за молот — за топор. И ударит в десять рук, Чтобы бар не стало вдруг…Кузнец утер пот, блеснул белками глаз и снова схватился за молот.
— Ну что, козявка, хороша песня? — смеясь, спросил он Аносова.
— Хороша! — согласился Павлуша и робко спросил: — А молотом дашь поработать?
Бородач оглядел тяжелый молот, вскинул его вверх и сказал мальчугану:
— Хрупок пока, не справишься с этой игрушкой. Эх, милок, душа моя нежная, видно на мужицких дрожжах ты замешён; поглядишь, и всё-то ты тянешься к простому люду. Молодец, право слово, молодец!..
Да, работа кузнеца была удивительно увлекательна. И Павлуша не утерпел: сидя за обедом, он рассказал о ней и, подбадриваемый дедушкой, тонким, ломким голосом спел песню ковача. Старик помолодевшими глазами весело смотрел на внука и одобрительно покачивал головой. Когда мальчуган с особенным ударением пропел:
И ударит в десять рук, Чтобы бар не стало вдруг…бабушка всплеснула руками, глаза ее потемнели.
— Кш… кш… Замолчи! — испуганно зашептала она. — Да эта песня от пугачевцев идет. Она — тайная, запретная! Разве можно такое перенимать?
— Это верно, — согласился дедушка, — песня запрещенная. За такую песню пристав Акакий Пафнутьевич посадит в клоповник на терзание. И это еще милостиво, а то и сослать может в Нерчинск на каторгу… Ты гляди-поглядывай, Павел. Перенимать от народа перенимай, но заветное у себя на сердце, как в ладанке, храни. К простым людям прислушиваться надо в два уха: народ наш — великий труженик на земле, всё сделал своими руками. Умный, мудрый народ…
Дедушка Сабакин мечтал дать сиротам образование. Он энергично хлопотал об устройстве внука на казеннокоштное место в Горный кадетский корпус. Вряд ли это удалось бы старику, если бы определению юнца не помог строитель Ижевского завода Андрей Федорович Дерябин, который высоко ценил механика Воткинского завода. Старик, в свою очередь, обожал этого талантливого организатора горного дела. На Камских заводах все хорошо помнили его и вспоминали с любовью. Дерябин в совершенстве знал металлургию и инструментальное производство. Много сил положил Андрей Федорович на то, чтобы организовать и наладить отечественное снабжение инструментами, но, увы, все творческие дерзания Дерябина были разрушены злой волей Аракчеева, запретившего производство инструментов на Камских заводах.
Сейчас Андрей Федорович служил директором Горного кадетского корпуса, он и позаботился о Павлуше…
По последнему санному пути Павлушу отвезли в далекий Санкт-Петербург. В большом городе уже наступала весна. Хотя Нева еще была скована льдом, на улицах уже сошел снег и было сухо. Бледные, худенькие девушки продавали первые подснежники. Дни выдались солнечные, с голубизной, но в домах всё еще ощущалась зимняя сырость и прохлада. Мальчуган с волнением вошел в огромное здание с колоннадой…
С тех пор прошло семь долгих беспокойных лет, однако Аносов на всю жизнь запомнил первый день своего пребывания в Горном корпусе. Когда он растерянно остановился среди обширного мрачноватого вестибюля, отставной солдат с медалями на груди — служитель Захар, улыбаясь, добродушно ободрил его:
— Ну, о чем, милый, задумался? Шагай смелее, и всё будет хорошо! Главное, умей за себя постоять!
Маленький коренастый мальчуган оживился, осмелел и с легкой развалкой пошел вверх по лестнице…
В большом и шумном Петербурге у Павлуши не было ни родных, ни знакомых. В корпусе большей частью учились дети чиновников горного и соляного департамента — городские мальчуганы, которые ничего не слышали о рудниках, о плавках металла, о заводах. Для них это была книга за семью печатями. Аносов с вдохновением рассказывал им о добыче руды, о том, как в лесных куренях углежоги жгли поленницы на уголь, о заводских механизмах. В маленьком, крепко сбитом уральском малыше чувствовалась большая внутренняя сила и любовь к родному делу. И это не удивительно: отец и дед с уважением говорили об искусстве горщиков, горное дело считали самым важным, и вполне естественно, что любовь к нему у Аносова привилась с детского возраста. Подражая голосу старого горщика, Павлуша пояснял однокашникам:
— В руднике глубоко под землей добывают руду, в домне ее варят — и выходит железо. Железо! Одно только слово, а железо в деле разной своей стороной оборачивается. Глядишь, это — брусковое, там шинное, там полосовое, а то кружковое. Кузнец из железа откует всё что угодно на потребу человеку. В хозяйстве и в большом деле железо — первая вещь. А кузнец — чародей! Он любой кусок железа превращает во всякую всячину. За это перед ним на заводе и в селе каждый шапку ломает…
Он вспомнил песню русского ковача и, не утерпев, спел ее. Кадеты молча переглянулись и сидели не шелохнувшись. Только белобрысый пруссак Гразгор недовольно нахмурился и сказал Аносову:
— Это нехороший мужицкий песня. В благородном обществе ее надо изгонять…
В тот же день о песне стало известно помощнику командира по воспитательной части Остермайеру. Кто донес ему? Все в один голос говорили, что это сделал Гразгор. Воспитатель вызвал Аносова к себе в кабинет. Уселся, по обыкновению, в кресло и холодными рыбьими глазами долго молча разглядывал кадета. Мальчику стало не по себе. Безотчетный, невольный страх охватывал его по мере того как длилось это гнетущее безмолвие. Наконец Остермайер заговорил вкрадчивым лисьим голосом:
— Это вы пели неположенный песенка, мой милый?
— Я пел песню русского ковача! — глядя прямо в льдистые серые глаза немца, признался Аносов.
— Ох, как это нехорошо, — мужичья песня! — кисло морщась, перебил воспитатель.
— Песня эта народная! — с достоинством поправил Павел.
— Вы глюпый мальчик, ничего не понимайте. Это недопустимая песня. Потому что вы глюпый и плёхо разумеете, я не буду сечь розгой, буду только разъяснять, что значит эта песня… В другой раз за такие слова я уволю вас из корпуса…
Медленным, скрипучим голосом он стал «пилить» Аносова. Тягостно было его слушать. Павлуша стоял «соляным столбом», затаив дыхание, и молчал. Остермайер по-иезуитски отчитывал кадета. Видимо, воспитателю это доставляло большое наслаждение. Юноша, подняв голову, смело посмотрел в серые враждебные глаза своего мучителя и хотел сказать дерзость, однако сдержался. Между тем Остермайер тягуче поучал:
— Вы не должны брать плёхой пример с темный русский мужик. Что знает он? Он имеет только обыкновенный топор и простой пила. А что можно сделать этим инструментом? — педагог вопросительно посмотрел на кадета.
Аносов с достоинством ответил:
— Наши плотники этими простыми инструментами делают самые точные приборы, даже корабли…
— Уйди прочь! — сорвался Остермайер и выгнал Аносова из кабинета.
С тех пор Павел, как и все товарищи по корпусу, тщательно избегал Остермайера.
Время шло. Аносов легко втянулся в новую жизнь. Ранние побудки, быстрые сборы к учению и работа весь день по точному расписанию нравились ему: еще в доме дедушки его приучили к трудолюбию и аккуратности. Хлопотливый день у Сабакиных начинался с первыми проблесками зари. Хорошо было утром вскочить с нагретой постели и до завтрака выбежать на улицу. Летом Павлуша купался в заводском пруду. Над водой еще колебался редкий сизый туман, а камыши и травы сияли крупной холодной росой, когда он бросался в глубь. Студеная вода обжигала тело, и вскоре по всем жилочкам разбегалось тепло. Ах, какая неукротимая и возбуждающая бодрость охватывала его! Целый день он чувствовал себя превосходно. А зимой не плохо было перед завтраком пробежать по морозу. Это бодрило и поднимало настроение. Точный, размеренный режим жизни в корпусе совпадал с порядками в дедушкином доме.
Кроме того, здесь нашлись и свои радости — книги. В корпусе была хорошая библиотека, и много свободных часов Аносов проводил в ней. Книги открыли ему чудесный, широкий мир. Он много читал о строении Земли, о тайнах недр и путешествиях русских людей в далекие края. Больше всего он полюбил книгу М. В. Ломоносова по металлургии. Эту науку в Горном корпусе преподавали профессора Архипов и Чебаевский. Эти труженики любили и хорошо знали свой предмет. Свои лекции ученые сопровождали демонстрацией изделий из металла и булатов. Высокий Архипов раскладывал на столе сабли и старинные булатные клинки. Тут были и черкесские кривые сабли, и турецкие ятаганы, и римские прямые мечи, и дамасские кинжалы. Профессор поднимал старинный булат над головой, и с ручьистой синевы, казалось, струились серебристые искорки.
— Прекрасен сей благородный металл! — потрясая клинком, восторженно восклицал профессор. — Вглядитесь в него; какая простота и благородство линий, но превыше всего — крепость булата! Увы, мастерство изготовления сих булатов давно утеряно. И кто вновь найдет его?
Однажды Архипов принес клинок из литой стали.
— Это не булат, но сталь превосходная! — сказал он.
Аносов остался после лекции и попросил разрешения рассмотреть принесенный клинок. Профессор одобрил любознательность воспитанника:
— На это мастерство следует поглядеть и подумать над ним. Тем более оно дорого, что способ закалки сей стали открыт русским человеком, крепостным Бадаевым!
— Бадаев, Семен Иванович, да это наш уралец, с Воткинского завода! радостно воскликнул Аносов.
— Так ты его знаешь? — просиял Архипов. — Талантливый человек, очень талантливый. Из его стали можно делать любой особо важный инструмент. Он выручил нашу страну. После того как император Александр Павлович заключил с Наполеоном Тильзитский мир в 1807 году, у нас прервались связи со всеми странами, где мы могли приобретать инструменты или инструментальную сталь. Это не шутка!
— А здесь, в Санкт-Петербурге, повторили бадаевский опыт? любопытствуя, спросил Павел.
— Увы, никто не знает этого здесь! — пожал плечами Архипов. Известно только, что сталь Бадаева вначале уступала английской, а ноне превзошла ее! Горный департамент столь заинтересовался сим талантом, что решил выкупить Бадаева у владельца Рагозина, но тот запросил за него три тысячи рублей ассигнациями.
«Человека покупают и продают, как собаку!» — хмуро подумал Аносов, и на душе стало вдруг горько. С горячностью молодости он воскликнул:
— Какая несправедливость! Такого человека непременно надо выкупить! Ему простор нужен!
— Вполне согласен с вами! Но… но давайте сейчас о другом. — Архипов придвинулся к ученику и заговорил со страстью: — Железо — многотрудный металл. Его очень много нужно человеку, и люди издревле совершенствовали добычу его. Гомер воспел его. Послушайте! — Профессор поднялся и нараспев продекламировал строки из «Одиссеи»:
Расторопный ковач, изготовив топор иль секиру, В воду металл, — на огне раскаливши его, чтоб двойную Крепость имел, — погружает, и звонко шипит он в холодной Влаге…Помолчав, профессор положил руку на плечо ученика и доброжелательно сказал:
— Это превосходно, что вас интересует металлургия. Помните, молодой человек: русский богатырь с мечом в руке преградил дорогу врагу и сберег нам отчизну! Вы почаще заглядывайте в музей, вникайте в то, какие великие искусники жили на Руси. Перенимайте хорошее, мой друг.
Аносов зачастил в музей и кабинеты, в которых были выставлены модели разных машин, железные и стальные изделия. Здесь в витринах размещалось каспийское фигурное литье, кровельное и шинное железо с демидовского Нижне-Тагильского завода, бритвы и пилы — со Златоустовского. И особенно радовали глаз Павлуши металлические предметы, изготовленные на родных Камско-Воткинских заводах. Перед мысленным взором Аносова вставал слегка сутулый дедушка Сабакин. С добродушным видом он как бы шептал внуку: «Видишь! Учись, как надо трудиться. Ради народа надо быть щедрым в труде!».
При виде отлитых изделий Аносову вспоминались камские литейщики. Простые бородатые мужики были настоящими волшебниками: они умело ладили разные модели, придумывали секретные составы формовочных материалов и различных металлических сплавов. Отливали они такие превосходные вещи, что в изумление приводили иностранцев!
В кабинетах Павел изучал модели доменных печей и машин. Перед ним красовались макеты рудников, заводов и кричных фабрик. Трудно было устоять перед соблазном пустить их в действие! Горный офицер с простоватым русским лицом, обрамленным русой бородкой, давно наблюдал за любознательным учеником и охотно разрешал ему возиться с моделями. Не прошло и полугода, как он сделал Аносова своим помощником, и тот ревностно следил за порядком в кабинетах.
По-прежнему его манили книги. Добросердечный библиотекарь давал ему занимательные книги по геологии и металлургии, и Павлуша в глухую ночь, когда в корпусе все засыпали, зажигал тонкую восковую свечечку и при слабом трепетном свете с упоением читал о рудах и металле. В этих книгах много было чудесного и интересного. Аносова влекла история металлов. Когда человек нашел впервые руду и как он научился ее плавить?
Вот книга о родном Урале и первых древних горнах, в которых в далекие-предалекие времена племя чудь выплавляло железо. С древних времен железо играло в жизни человека огромную роль. Без него немыслимо было изготовление оружия и утвари. За обладание рудниками велись ожесточенные войны.
В кабинете корпуса хранилась превосходная коллекция булатов. Вот персидские клинки хорасан и кара-хорасан — черный металл с красивым узором, напоминающим струящуюся воду. Он влечет к себе таинственностью. Какой мастер сумел отлить такой булат? А рядом с ним меч из Индии кум-кунды, что в переводе на русский язык означает «индийская волна». Его слегка серебристый узор действительно похож на завихрение волны. По синеватому полю клинка кирк-нардубана поблескивают разливы ручья… Каждый булат по-своему хорош, и на каждом сквозь темный фон проступает свойственный ему узор: то мелкая зыбь, то шелковая прядь, то сеть, то виноградные гроздья. Все богатства оружейного искусства собраны здесь.
Аносов подолгу сидел над булатами, всматриваясь в их таинственное мерцание. «Почему рождаются в сплаве чудесные узоры? Откуда появляется особо высокое качество булатного клинка», — раздумывал он.
Ни одна книжка не давала на это ответа. Старинные мастера Востока ревниво хранили тайну рождения булата. Ни один профессор в Горном корпусе не знал этой тайны. Все уверяли, что секрет изготовления булата утерян навсегда. Только профессор Архипов уверенно отвечал на любознательные вопросы Аносова:
— Не может быть! Не утерян секрет! Этот чудо-клинок создан человеческими руками, значит, можно воскресить тайну булата!.. Вот ты, юноша, и подумай над этим. Вопрос важный и достойный пытливого ума!
Все мысли Павлуши сосредоточились на булате. Целыми часами он просиживал над витринами, в которых хранились клинки. Часто среди ночи Павлуша поднимался с постели и ощупью пробирался в кабинет. При трепетном пламени свечи мальчик любовался сокровищами человеческого труда.
Однажды, утомленный за день, Аносов долго не мог уснуть. Было далеко за полночь, когда он тенью скользнул в темный кабинет. Павлуша зажег огарок и уселся в кресло у витрины. Было что-то сказочное в мерцании булатов. При трепетном пламени свечи загадочные узоры оживали, колебались, в их синевато-темной глуби рождались и сыпались искорки. Чудесное зрелище!
Глаза Аносова дремотно смыкались, и тогда булаты струились золотой пылью. Казалось, рои золотых микроскопических звезд неслись в синем небе…
Незаметно усталость взяла свое, и мальчуган крепко и безмятежно уснул подле драгоценных витрин.
Обходивший на заре кабинеты служитель нашел кадета сладко уснувшим в кресле. На полу — застывшие капли воска, потухший огарок. Служитель укоризненно покрутил головой, но быстро схватил остатки свечи и спрятал в карман. Ему стало жалко этого доброго и тихого кадета. Старик собирался осторожно разбудить его…
Но в это мгновенье на пороге вырос Остермайер. Он бесшумно, по-кошачьи подобрался к Аносову и цепко ухватил его за плечо.
— Что это значит? — зашипел он. — Тут пахнет гарью! Вставайте же! воспитатель заметил капли воска на полу и закричал: — Здесь мог быть пожар! Бог мой, какая распущенность! — потрясая руками, он заторопился к директору корпуса.
Через час Аносова вызвали в кабинет директора — Андрея Федоровича Дерябина. Там уже находился и Остермайер.
— Видите, вот он! — засуетился воспитатель. — За такое дело нужно наказывать, Андрей Федорович, сечь розгами!
Темные брови директора изогнулись. Он строго спросил кадета:
— Ты действительно заснул над витриной?
— Виноват, я очень устал и незаметно уснул, — честно признался Павел.
— Видите, он спит не там, где положено! Это распущенность, которую нельзя терпеть. Мы могли все сгореть! — рассерженно заговорил Остермайер.
— Погодите! — решительно перебил его Дерябин и спросил Аносова: — Ты что там делал?
Павел поднял ясные глаза на директора.
— Меня интересуют булаты. Почему не делают теперь таких сплавов? Не может быть, чтобы у нас не изготовили булаты. Ведь сумел же Бадаев сварить свою замечательную сталь! А мы не можем обойтись без булатов! — искренне, с жаром вымолвил Аносов.
— Кто это — мы? — переспросил Дерябин.
— Россия, русские! — горячо продолжал Павел и, разгораясь всё больше и больше, вдохновенно стал рассказывать директору о своей мечте.
— Я хочу научиться делать булаты! Но где узнать об этом? Все только и говорят, что тайна утеряна. А что если мы ее найдем? — горячо говорил юноша, а убеленный сединой директор корпуса сидел, задумчиво склонив голову; на губах его блуждала светлая улыбка. Дерябину по-настоящему понравился этот мальчуган, пылко влюбленный в свою идею. Ему было жалко наказывать нарушителя порядка, но в то же время следовало что-то сделать во избежание неприятностей. Он сделал строгое лицо и сказал кадету:
— И всё-таки господин Остермайер прав. Ты должен соблюдать порядок. Смотри, чтобы в другой раз подобного не случилось! Я недоволен твоим поведением, Аносов. Запомни, ты причинил мне большое огорчение. Ступай! закончил он совсем обмякшим голосом.
Аносов круто, по-военному повернулся и вышел из кабинета. Как только за кадетом закрылась дверь, Остермайер схватился за голову.
— Бог мой, что вы сделали, Андрей Федорович! — возопил он. — Его надо отменно наказать, наказать!..
— Это недопустимо! — поднимаясь, холодно ответил инспектору Дерябин. — За что же наказывать юношу? Всё несчастье его состоит в том, что он увлечен вопросом, разрешение которого сделало бы великую честь нашей стране!
— Не понимаю, в чем дело? — недовольно пожал плечами Остермайер. Аносов просто распущен.
— На этом окончим наш разговор, — холодно перебил его директор и протянул руку.
Хмурый Остермайер вышел из кабинета. Он был совсем обескуражен, так как не мог понять ни поведения своего воспитанника, ни Дерябина. Живя в России, на русских хлебах, он не понимал этого народа. Терпеливо копил деньги и ожидал дня своего отъезда с набитым кошельком…
Огорченный замечанием директора, Аносов вернулся в классы. Друг Илюша сочувственно пожал ему руку:
— Будь терпелив! Не страшись наказания! Проси только скорее отпустить лозаны, а то до субботы истомишься!
— Меня не будут наказывать, — уныло ответил Павел.
— Так почему же ты повесил голову? — недоуменно спросил Илюша.
— Грустно, милый, очень грустно! — с душевной болью вымолвил Аносов. — Куда ни повернись, в твою жизнь лезет иноземец. На своей родной русской земле я будто чужой.
Глава третья ПРОИЗВОДСТВО В ГОРНЫЕ ОФИЦЕРЫ
Наступил долгожданный день производства в горные офицеры. Утреннее августовское солнце озарило город, Неву, золотыми потоками ворвалось в большие окна конференц-зала, посреди которого стоял длинный стол, покрытый малиновым бархатом с золотым позументом. Светлые солнечные блики отражались от петровского зерцала,[2] водруженного посреди стола. От дверей к месту заседания тянулась ярко-красная ковровая дорожка, от которой полукругами расходились ряды кресел.
Всё было готово к приему высокого горного начальства и гостей. Тщательно выбритый Захар с расчесанными бакенбардами, в разглаженном мундире, сверкая медалями, величественный и строгий стоял у массивной двери. Все понимали, что близится важный момент в жизни корпуса, и сознание этого заставляло кадет и воспитателей говорить полушёпотом, чтобы не нарушить высокой торжественности.
Аносов обошел все помещения корпуса, как бы прощаясь с ними. В обширном пустом конференц-зале ослепительно блестел навощенный паркет. Здесь стыла та глубокая торжественная тишина, какая бывает в пустынном храме перед службой. Пробежав ряд зал и коридоров, взволнованный унтер-офицер заглянул в примерный рудник. При входе в него в ожидании гостей стояли кадеты младших классов в форме саксонских рудокопов с фонарями у поясов и аккуратными кирками в руках. Завидя товарища, они весело переглянулись и, одновременно подняв фонари, возбужденно-радостно дружно приветствовали его по старинному обычаю саксонских рудокопов:
— Глюкауф![3]
Аносов улыбнулся и заглянул в распахнутую дверь галлереи. Вдоль нее светились яркие огни, и на стенах поблескивали вделанные в них изломы руды. Тут было тепло, сухо и чисто, хотя слегка мрачновато. Сложное щемящее чувство охватило юношу. Сколько интересных часов проведено в этих галлереях! Хотя здесь многое говорило о трудностях горного дела, но всё походило на игру. В примерной шахте не грозили ни обвал, ни затопление, да и не было настоящих рудокопов.
— Господа, к нам сегодня пожалует сам министр! — улыбаясь, объявил унтер-офицер.
— А как его приветствовать у рудника? — спросило несколько голосов.
— Глюкауф! — насмешливо выкрикнул Аносов, и на сердце у него вдруг стало тоскливо: «Неужели нельзя приветствовать по-русски? А ведь наши горщики подревнее и получше саксонцев!».
Аносов повернулся и быстро ушел в зал, в котором уже строились кадеты…
Над Невой прокатилось эхо пушечного выстрела с верков Петропавловской крепости: Петербург оповещал о полдне. В этот «адмиральский» час в вестибюле огромные старинные часы, заключенные в темный дубовый футляр, стали хрипло отбивать удары. Захар на мгновенье выглянул за дверь и сразу подтянулся. Вместе с последним ударом часов он широко распахнул дверь перед первым гостем, только что сошедшим с коляски. Важный лакей в ливрее, расшитой позументами, поддерживая под локоток, бережно ввел в вестибюль старичка в блестящем мундире и в треуголке с белым плюмажем.
— Его высокопревосходительство господин сенатор! — с важностью выкрикнул Захар, вытягиваясь во фрунт.
Вельможа вскинул глазами, и служитель проворно принял от него треуголку.
Один за другим стали съезжаться высокие гости. За окнами то и дело раздавалось цоканье подков и к подъезду подкатывала блестящая карета. Обширный вестибюль вдруг наполнился шумом, сверканьем мундиров. По мраморной лестнице поднимались бравые генералы, дипломаты в строгих черных фраках, духовенство и разодетые светские дамы. Среди этой пестрой, торжественно настроенной толпы величаво проплыла грузная фигура санкт-петербургского митрополита, одетого в темную шелковую рясу и в белый клобук, на котором сверкал бриллиантовый крест. Митрополит шел пыхтя, выбрасывая вперед длинный посох и блистая драгоценными камнями своей панагии.[4] Черные глазки его хитро поблескивали. Бойкие жеманницы стайкой бросились навстречу митрополиту и окружили его.
— Ах, преосвященный, благословите нас, — вскричала одна из них и сладко заулыбалась.
Захар держался бесстрастно; со строгим застывшим лицом он взирал на важных господ, ожидая их приказаний. Не обращая внимания на седого служителя, гости шумной праздничной толпой удалились в конференц-зал.
Однако директор корпуса Андрей Федорович Дерябин, высокий, болезненный, с аккуратными баками, и командир-инспектор Петр Федорович Ильин — стройный и гибкий, всё еще оставались у лестницы, встречая почетных гостей.
На улице снова стало тихо. Казалось, ничто больше не нарушит этого безмолвия. Но Захар своим чутким слухом уловил, что мчится карета. Он посмотрел на директора и многозначительно прошептал:
— Сам господин министр изволят ехать!
Захар не ошибся: действительно, последним прибыл министр финансов высокий худощавый старик, увешанный регалиями. Сопровождаемый директором, он, шаркая ногами, прошел в конференц-зал и уселся в центре первого ряда. При виде его все затихли. В эту торжественную минуту глубокого безмолвия широко распахнулись двери в соседний зал. Там, на блестящем паркете выстроились питомцы корпуса. Сухопарый маркшейдер корпуса[5] громко скомандовал:
— Тихим шагом марш!
Кадеты в полной парадной форме, с киверами на головах, под звуки грянувшего оркестра стройно двинулись в конференц-зал. Сердце у Аносова учащенно забилось. Он почувствовал в своем теле необыкновенную легкость и проворство и, словно в танце, шел грациозно и плавно. Пройдя к середине кресел, в которых сидели почетные особы, кадеты расходились, как в полонезе, направо и налево, не сводя при этом глаз с начальства. Затем они снова соединились в пары и, пройдя стройными рядами меж колонн конференц-зала, по команде маркшейдера корпуса становились во фрунт. Из-за стола поднялся инспектор и громко стал докладывать о состоянии учебной части. Ах, как это было невыносимо скучно! Это читалось и на лицах гостей. Аносов заметил, как тускло и уныло, словно восковыми, выглядели они в свете серенького дня. Министр, прикрывая рот ладонью, слегка зевнул и при этом нечаянно щелкнул вставными зубами.
Неожиданно в окно упал яркий луч солнца, ударился о серебряный поднос, на котором были разложены награды, и они сразу вспыхнули золотым сиянием. Инспектор кончил читать отчет, прищурился на груды подарков и повеселел. Все облегченно вздохнули. Директор Дерябин, сидевший рядом с министром, что-то шепнул ему. Вельможа благосклонно кивнул в знак согласия, и тогда Андрей Федорович поднялся и военным шагом подошел к столу; взяв поднос, он бережно вручил его министру.
— Илья Чайковский! — громко вызвал директор, и на хорах в этот миг раздались торопливые и возбуждающие звуки труб и литавр.
— Иди, Илюша! — весело напутствовал друга Аносов.
С нежным румянцем на щеках Чайковский вышел из рядов и приблизился к министру. Тот прищурил на кадета близорукие глаза и взялся за золотую медаль.
— Молодец Чайковский, ты теперь шихтмейстер! Верно служи государю и отечеству! — внушительно сказал он и вручил вновь произведенному горному офицеру золотую медаль. Илюша поклонился, пуще покраснел и поблагодарил.
— Павел Аносов! — опять провозгласил Дерябин.
Под звуки курц-марша крепко сбитый Аносов неторопливым шагом прошел вперед и вытянулся в струнку перед министром. Свежий румянец и ясный взгляд серых умных глаз Павлуши привлекли внимание вальможи. Директор выдвинулся вперед и учтиво сказал гостю:
— Ваше высокопревосходительство, обратите внимание на сего питомца: он лучший ученик по металлургии и при этом оказал весьма изрядные успехи в изучении родного языка.
— Превосходно! — улыбнулся старик. — Что ж, Аносов, ты можешь прочесть стих, достойный сего великого часа в твоей жизни?
— Могу! — смело ответил Павел, и волна вдохновения подхватила его. Дозвольте из ломоносовской оды прочитать вам?
— Мы все слушаем! — министр склонил седую голову и стал ждать.
Аносов поднял лицо и звонким голосом прочел:
О вы, которых ожидает Отечество от недр своих И видеть таковых желает, Каких зовет от стран чужих, О ваши дни благословенны! Дерзайте ныне ободренны Раченьем вашим показать, Что может собственных Платонов И быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать…— Отрадно слышать! — сказал министр, обращаясь к директору корпуса, и легонько захлопал в ладоши. За ним стали рукоплескать и гости. Вновь произведенный шихтмейстер поклонился.
— А о Рифеях помнишь? — вдруг спросил вельможа.
— Помню! — улыбаясь ясными глазами, ответил Аносов.
— Скажи! — приказал гость, и глаза его по-молодому блеснули.
В зале прозвучали вещие слова, которые юноша неторопливо чеканил строка за строкой:
Пройдите землю, и пучину, И степи, и глубокий лес, И нутр Рифейский, и вершину, И саму высоту небес. Везде исследуйте всечасно, Что есть велико и прекрасно, Чего еще не видел свет.— Ты вполне заслужил свою награду, — сказал министр и взял с подноса золотую медаль. — Носи с честью!
Опять раздался рев труб и звуки литавр. Аносов ног не чуял под собой. Навстречу ему дружески блестели восторженные глаза Илюши Чайковского.
Вызвали для вручения наград еще нескольких кадет. Снова оркестр играл туш, и на душе Аносова было празднично и светло. Он радовался за каждого товарища. Вот отличившимся в фехтовании вручили золоченые эспадроны и серебряные рапиры, и молодой унтер-офицер испытывал чувство гордости за друзей. Приятные минуты летят очень быстро, и вскоре торжество вручения наград окончилось. Музыка заиграла марш, кадеты построились и двинулись из зала.
Однако этим не кончился праздник. Вслед за официальной частью началось фехтование. Резко звенел металл, а с тонких, как осиное жало, клинков сыпались искры, и солнце жарко сверкало на золоте эспадронов. Сколько ловкости и пластичности проявляло в движениях молодое сильное тело! Все восхищенно смотрели на этот своеобразный турнир.
Потные и усталые, но с сияющими лицами фехтовальщики под аплодисменты покинули поле состязания, и место их заняли танцоры.
Наконец гости поднялись с кресел, по паркету зашаркали сотни ног. Группы почетных особ разбрелись по залам корпуса. Толпа разряженных дам во главе с министром подошла к входу примерного рудника. Женщины щебетали без умолку:
— Ах, это должно быть страшно интересно. Подумать только, опуститься под землю! Ведь в таких шахтах и добывается золото?
— И золото, и алмазы! — с важностью ответил министр.
Смуглые, стройные кадеты, охранявшие вход в рудник, завидя вельможу, ловко подняли фонарики рудокопов и звонко приветствовали:
— Глюкауф!
Министр на секунду задержался. В раздумье он взял одного из мальчиков за подбородок и сказал с одобрением:
— Очень хорошо! Так говорят саксонцы, самые лучшие рудокопы на свете.
Аносов всё слышал; опустив голову, в непонятной тоске он долго бродил в полутемном длинном коридоре. Из конференц-зала снова полились звуки музыки, — начинался концерт…
Наступил вечер, зажглись и засверкали сотни бенгальских огней, вспыхнули огни люстр, отражаясь и дробясь в хрустальных подвесках.
Аносов сбежал вниз, в вестибюль. Захар заговорщицки шепнул ему:
— Ты веселись, милок, на полный ход. Знай, это твой праздник! На Урале увидишь иное!
Разъезд гостей начался очень поздно. До утра горели огни и в классах шумели кадеты, а смотрители и не думали их унимать. В пятом часу Захар выпустил Аносова и Чайковского на набережную.
— К дому? — ласково спросил он. — В добрый час!
Нога в ногу друзья пошли вдоль набережной. Нева дышала влажным предутренним туманом. Кое-где на реке мигали огоньки рыбачьих лодок. Перед разлукой хотелось поговорить о многом, и о том, как быстро пролетели школьные годы.
И вот молодые друзья сегодня стоят лицом к лицу перед неизвестным будущим.
Глухо отдавались их шаги в безмолвии спящего города, а юноши всё еще не могли всласть наговориться о будущем. С восторгом юности они смотрели на мир, и самые радужные мечты обуревали их. Между тем на востоке робко занималась заря. Глядя на заалевшее небо, Аносов вдруг схватил Чайковского за руку и со страстью предложил:
— Илюша, давай поклянемся честно служить своему родному народу!
— И я только что подумал об этом! — восхищенно посмотрел на него друг. — Как хорошо кругом. Смотри, скоро восход! Вперед, к новой жизни!
Друзья улыбнулись и крепко, по-мужски, обнялись.
Глава четвертая ПЛАВАНИЕ на «ЕЛИЗАВЕТЕ»
Восемнадцатилетний шихтмейстер Павел Аносов получил назначение в Златоуст, в котором за два года до этого, 16 декабря 1815 года, состоялось официальное открытие «Фабрики белого оружия, разных стальных и железных изделий». Все ждали, что она будет иметь важное значение в деле вооружения русской армии. Аносов радовался своему назначению и с нетерпением ждал дня выезда из Санкт-Петербурга. Он давно выполнил все формальности в горном департаменте — получил приказ, представлялся самому министру, — и сейчас ему не терпелось скорее попасть на службу. Недели две тому назад на Урал уехал Илюша Чайковский, назначенный на Воткинский завод. Аносов остался в одиночестве и каждый день ходил в департамент справляться о дне отправки, но тощий золотушный чиновник в потертом мундирчике всякий раз пожимал плечами:
— Неизвестно. Обождите, сударь, над вами не каплет!
— Но от кого это зависит? — осторожно и деликатно спросил однажды шихтмейстер.
— От начальства, милый человек, от начальства, — неторопливо ответил чиновник. — В этом есть смысл: наехали в Кронштадт немецкие мастера, выписанные для работы на оружейной фабрике. Когда они изволят из Кронштадта выбыть в Златоуст, тогда и вы с ними отправитесь… Вы, сударь, молоды, а путь предстоит дальний, и побыть вам с людьми опытными и знающими не вредно, — пояснил он и, пристально вглядевшись подслеповатыми глазами в юношу, вдруг пытливо спросил: — Уж не сынок ли нашего покойного асессора Аносова вы будете?
— Да, я его сын! — с гордостью ответил Павел Петрович.
Чиновник ласково улыбнулся и стал еще разговорчивее:
— Лестно моему сердцу слышать это. Вы, сударь, умно решили ехать в Златоуст, однако из уважения к вашему батюшке должен вас предупредить о том, господин шихтмейстер, что трудно вам там доведется. Судите сами, понизив речь до шёпота, поделился своими суждениями чиновник: — директор фабрики Гергард Эверсман, помощник его обер-бергмейстер Фурман о своих заботятся, а нашему брату там никакого внимания. Придется самому надежно становиться на ноги. А всё же тужить не следует, сударь.
— Спасибо! — с теплотой поблагодарил старика Павел Петрович и откланялся.
Всё сообщенное департаментским чиновником относительно директора фабрики оказалось справедливым. Гергард Эверсман действительно энергично тянул из Германии на Урал своих друзей и родственников. За короткий срок их немало перекочевало в Златоуст, и там им жилось сытно и привольно. Недаром вице-консул в Любеке Шлецер в конце 1816 года сообщил русскому министру финансов, что «дошедшие в германские города слухи о спокойной жизни в Златоусте иностранных оружейников возбудили желание и в других их соотечественниках, числом до 333 человек, разделить с ними счастливую их участь».
Сообщение вице-консула угодило в Санкт-Петербург ко времени. Директор горного департамента поручил Эверсману снестись со Шлецером и приступить к вербовке иностранных мастеров. Пользуясь широким доверием, директор фабрики не замедлил приступить к найму своих соотечественников на весьма выгодных для них условиях. В апреле 1817 года Шлецер отправил из Любека в Россию семнадцать немецких мастеров, нанятых им в Золингене и Клингентале. Иноземцы вместе с семьями прибыли в Кронштадт и разместились в двух трактирах. Как ни уговаривал их представитель департамента, прибывшие не торопились покинуть гостеприимный город, где неплохо можно было пожить за счет Российского государства.
Между тем наступила осень. По утрам с моря на город наплывал густой туман, который рассеивался только к полдню. В парках и на бульварах шуршал палый ржавый лист. В один из хмурых дней Аносову довелось встретить в департаменте Дитенгофа. В канцелярии стояла гнетущая тишина, которую нарушал только скрип перьев. Писцы, склонив головы, усердно писали, изредка тревожно поглядывая в сторону директорского кабинета. За массивной полированной дверью рокотал громовой бас. Старичок чиновник, с тусклыми склеротическими глазками, придвинулся к шихтмейстеру и пугливо прошептал:
— Слышите, сударь, грозно-то как! Ох, господи! — протяжно вздохнул он. — Не в духе его превосходительство. По всем статьям отчитывает господина Дитенгофа. В неурочный час попался голубчик под сердитую руку!
Когда из кабинета вырывались сильные окрики, старичок втягивал голову в плечи и испуганно крестился:
— Пронеси господи! Сохрани раба божьего… Ну и разнос, ну и разнос! Спаси нас и помилуй! — обеспокоенно покачивал он плешивой головой.
Вдруг дверь с треском распахнулась, и из нее, словно клубок, выкатился плотный красный толстячок в темно-синем вицмундире. Он прикладывал к желтому темени носовой платок и на ходу выкрикивал:
— Я их выгоню из трактиров! Пусть едут на завод!
Чиновник подмигнул Аносову:
— Это и есть господин Дитенгоф. Действуйте, сударь!
Павел Петрович быстро поднялся со стула и твердым шагом направился к толстячку.
— Вы кто такой? — рассерженно спросил тот, моргая белесыми глазами.
— Шихтмейстер Аносов, назначен в Златоуст. Позвольте вместе с вами выбыть в Кронштадт и поторопить моих спутников! — спокойно и деловито предложил Павел Петрович.
— О-о! — удивленно протянул чиновник, на секунду задумался и вдруг хлопнул себя по круглому лбу: — Хорошая идея! Будем действовать вместе! Нельзя медлить ни одной секунды. Идем! — он взял юношу под руку и заторопился к выходу.
В тот же день Аносов с чиновником отправились в гавань. У пристани на причале стояло много иностранных кораблей. Везде сновали матросы. Огромные битюги тащили к складам на широких телегах тяжелую кладь. Покрикивали возницы. Рядом по сходням торговых кораблей тянулись вереницы грузчиков. Оборванные, в одних нательных рубахах, несмотря на пронзительный холод, они обливались потом. Глянув в их сторону, Дитенгоф с завистью бросил:
— Это очень крепкий народ!
Аносов не отозвался, помрачнел, — он заметил, как тяжело дышали грузчики. Вот идет один из них, бородатый, потемневший, согбенный огромной тяжестью, и дыхание со свистом вырывается у него из груди.
— А вот и наш пироскаф![6] Мы сейчас на нем поплывем в Кронштадт! отвлекаясь от грузчиков, сказал чиновник и показал на стройный корабль.
«Елизавета!» — обрадовался Аносов. Он давно мечтал о путешествии на этом судне: два года тому назад, в сентябре 1815 года, в Санкт-Петербурге в бассейне у Таврического дворца состоялось испытание первого русского парохода «Елизавета». Столичные газеты оповестили об этом событии население:
«Судно сие полтора часа ходило по разным направлениям в круглом, напротив дворца, бассейне, которого диаметр не превосходит сорока сажен. Удобное движение столь большого судна в таком малом пространстве воды представляло приятное зрелище и показывало, сколь оно удобно в управлении. Новость сего явления, местоположение и прекрасная того дня погода привлекли сюда необыкновенное множество зрителей».
Среди этого «множества зрителей» находился и кадет Горного корпуса Павел Аносов. Он стоял рядом с Ильей Чайковским и наблюдал за ходом корабля. С высокой тонкой трубой, с большими колесами по сторонам, пароход казался чудом, когда он без парусов шел по глади вод.
— Вот что делает сила пара! Недалеко то время, когда мы — русские люди — будем бороздить моря на таких пароходах! — с нескрываемой гордостью вымолвил Чайковский.
И вот сейчас знакомая «Елизавета» стояла у причала. Аносов поспешно взошел на палубу парохода. Всё здесь сверкало чистотой, блестела начищенная медь. А главное, было очень удобно сидеть в крохотной кают-компании и любоваться беспокойным морем.
Вскоре пароход прогудел и отвалил от пристани. Приземистые широкие пакгаузы и красные кирпичные строения в гавани стали отходить назад. Под палубой глухо заработала паровая машина. Несмотря на крутую волну, судно уверенно продвигалось вперед со скоростью девяти километров в час. Это казалось непостижимым: обычно пассажирский бот, идя на веслах, шел в Кронштадт несколько часов. «Елизавета» же покрывала это расстояние значительно быстрее. Нет, положительно нельзя было усидеть на месте! Аносов торопливо вышел из кают-компании. Под колесом шумело, тяжелые деревянные плицы гулко шлепали по воде. Покачиваясь, пароход рассекал волну. Совсем низко с криком носилась чайка; она то вздымалась ввысь к серой тяжелой туче, то падала вниз, задевая крылом пенистый гребень волны. Аносов всматривался в туманные дали, но слух его жадно ловил дыхание машины. Неподалеку от него у кормы — будка рулевого управления, а впереди, на другом конце палубы, — механизмы для подъема и спуска якоря. У капитанского мостика он заметил молодого штурмана с темным пушком на губе. Недолго думая, Аносов обратился к моряку:
— Разрешите осмотреть вашу машину!
Загорелый статный штурман внимательно оглядел пассажира и понимающе улыбнулся ему.
— Но кто вы, сударь, и почему интересуетесь машиной?
По добродушному лицу моряка Аносов догадался, что тот расположен к нему.
— Я только что окончил Горный корпус, и меня интересуют механизмы! признался юноша.
— В таком случае вам можно показать машину, — согласился штурман и повел его вниз.
В тесном помещении была установлена паровая машина двойного действия. Неуклюжая и громоздкая, Аносову она показалась совершенством, и он с огромной любознательностью стал тщательно ее осматривать.
— Осторожней! Здесь много масла! — предупредил моряк.
Машина, как живое существо, дышала полной грудью. Пар входил в цилиндр попеременно — сперва с левой стороны, а затем с правой, оба раза мощно толкая поршень, который передавал движение кривошипу, скрепленному с валом.
«Как всё просто и умно!» — подумал Аносов и прислушался к дыханию машины.
— Ну как, нравится? — улыбнулся моряк.
— Очень! — восторженно отозвался Аносов.
— Не хотите ли поменяться должностью? — шутя спросил штурман.
— И море хорошо, но и горы прекрасны. У каждого свое! — ответил юноша.
В сопровождении моряка он поднялся на палубу. Прохладный порывистый ветер гулял над сизыми волнами. Впереди смутно темнели очертания города.
— Вот и Кронштадт виден! — показывая на силуэты, объяснил штурман и, откозыряв, пошел на капитанский мостик.
— Я вас очень долго искал! — услышал Павел недовольный голос Дитенгофа.
— Мне довелось побывать в машинном отделении, — признался Аносов.
— Что вы вздумали! — с ужасом воскликнул чиновник. — Вы могли испачкать свой новый мундир!
Аносов ничего не ответил ему. Он жадно вдыхал морской воздух и думал о другом…
«Кто же сделал эту машину? Первым паровую машину соорудил простой русский человек, наш уралец, солдатский сын Иван Ползунов, и никто не вспомнит его имени!» — с грустью думал юноша, глядя на седые пенные буруны, кипевшие под колесами парохода. Плотный ветер клочьями рвал дым, клубами поднимавшийся из трубы, и прижимал его к морю.
…Пароход подошел к пристани. На кронштадтском рейде стояло много военных кораблей. Покачивала легкая волна, с моря дул бодрящий бриз, на судовых мачтах трепетали вымпелы, над морем носились чайки, — всё это делало гавань торжественной и праздничной. На бульваре разгуливало много хорошо одетых дам в сопровождении морских офицеров. После Санкт-Петербурга Аносову казалось, что он попал в другой мир, где свои законы, привычки и быт, несколько суровый, замкнутый, но в то же время привлекательный.
Дитенгоф с Павлом Петровичем проехали к приморской гостинице «Приют моряка».
— Вот я им сейчас покажу! — прохрипел департаментский чиновник. — Я должен их выгнать из этого проклятого города! Их здесь бесплатно по обязательству министерства кормят, и они не торопятся!
Возбужденный, он выбрался из коляски и увлек за собой Аносова. Молодой шихтмейстер робко переступил порог. В обширном зале было пустынно, тихо и всё блестело чистотой. К прибывшим с учтивым поклоном подошел хозяин «Приюта», солидный краснощекий немец, и спросил:
— Чем могу служить господам?
— Я желал бы видеть наших золингенцев. Куда пройти?
— О, они здесь, в кегельбане. Извольте!
В широкие окна гостиницы виднелся морской простор со вспененными гребешками волн, а вдали на рейде застыли корабли, над которыми кружили легкокрылые чайки. Аносов загляделся на превосходную панораму. Заметив его восхищенный взгляд, трактирщик похвастался:
— Здесь как в театре, сударь, всё видно. Каждый корабль, когда он идет в гавань, я замечаю и знаю даже его имя и флаг!
Осведомленность трактирщика покоробила шихтмейстера.
«Это плохо, очень плохо, — морщась подумал он. — Этак всякий может выведать о нашем флоте!» — Аносов резко отвернулся от хозяина гостиницы, но тот не унимался:
— Мой дом самый лучший в Кронштадте. Я принимаю только самых почтенных господ!
Неутомимо болтая, он провел гостей в длинный сараеобразный зал, по которому разносился легкий шум, — по узкому жёлобу катились деревянные шары.
У дорожки кегельбана стояло несколько упитанных немцев в одних жилетах, с засученными рукавами, готовых бросать шары. Рядом за столиками сидели «болельщики». Перед каждым стояла пивная кружка и лежали горячие сосиски.
— Господа, к вам прибыли из Санкт-Петербурга! — с важностью объявил трактирщик.
Дитенгоф высокомерно поднял голову и оглядел золингенских мастеров.
— Кто здесь Иоганес Лорх? — строго спросил он по-русски.
Из-за стола поднялся низенький, пухлый, с румяным, как яблоко, лицом немец с темными ласковыми глазами.
— Я есть Иоганес Лорх! — поклонился он департаментскому чиновнику, почуяв грозу. — Что нужно от меня господину?
Дитенгоф с важностью положил руку на эфес шпаги и торжественно объявил:
— Я прибыл сюда по приказу самого господина министра! Его высокопревосходительство хочет знать, почему вы так долго задержались здесь? Не пора ли ехать в Златоуст?
Играющие с досадой бросили шары и подошли к Дитенгофу. Из-за столов поднялись и остальные немцы. Аносов с любопытством разглядывал их сытые, спокойные лица. Все они незаметно подмигивали Лорху, ободряли его:
— Скажи, скажи, Иоганес, в чем есть причина нашей задержки!
Маленький Лорх поднялся на цыпочки и тихим голосом по-немецки вымолвил:
— Ах, господин, мы долго ехали сюда, устали, и нам необходим отдых! глаза его смотрели на Дитенгофа со святой невинностью.
— Но вы здесь уже давно живете! — перейдя на родной язык золингенцев, вскричал чиновник. — Пора ехать! Так требует господин министр.
— Скажи, скажи, Иоганес, что тут есть больные! — придвинулись к своему старшему золингенцы.
Лорх снова заговорил умильным голосом:
— У нас заболели женщины. Вот у него, — указал он на одного долгоносого, со свинцовыми глазами мастера, — сильно больна мать.
— Но вы можете ехать пока одни! — не сдавался Дитенгоф.
— Как это можно! — вскричал Лорх. — О том есть письменный контракт, и господин министр должен щадить нас!
Иноземный мастер взглянул на Аносова и вдруг на ломаном русском языке сказал ему:
— О, мы ждем хороший снег, зима! Это очень хорошо — добрый путь! заулыбался Лорх. — Русский тройка, звонец, ямщик! О, как хорошо! — сладко прищурив глаза, вымолвил он. — Нет, мы обождем еще снег!.. Позвольте, господин, как ваше имя? — подобострастно спросил он.
— Аносов! — коротко ответил шихтмейстер.
— Господин Аносов, и вы, господин начальник, прошу за стол. Вы наш гость!
Немецкие мастера плотнее окружили горных чиновников.
— Ах, боже мой, что вы все стоите и толкаетесь! — засуетился Лорх. Скорее сюда пиво и сосиски!..
Они бережно усадили Дитенгофа и Аносова за тяжелый дубовый стол, и трактирный слуга мигом поставил перед ними огромные кружки и пышущие горячим паром сосиски.
Дитенгоф успокоился, всю надменную важность с его лица как ветром сдуло. Он наклонился и прошептал шихтмейстеру:
— Давайте уступим им. Славные ребята! Так мы скорее выполним нашу миссию! Мы только немножко выпьем, господин Аносов…
Однако Дитенгоф вскоре забыл о своей миссии. Он поглощал пиво кружку за кружкой, и шихтмейстер только поражался столь огромному вместилищу, которое скрывалось под мундиром департаментского чиновника. Глаза Дитенгофа делались всё ласковее, умильнее. Он пил и с жадностью ел сосиски. Немцы по-приятельски хлопали его по плечу и убеждали:
— Хороший пиво! Превосходный!
Лорх, нахмурившись, недовольно посмотрел на Аносова:
— Отчего сей господин не пьет?
— Я не могу, — отказался Павел Петрович.
— Кто вы есть?
— Я только что окончил Горный корпус и произведен в шихтмейстеры! сдержанно ответил Аносов.
В глазах золингенцев вспыхнули озорные огоньки. Они недоверчиво переглянулись, но Лорх вежливо сказал:
— Горный корпус… Шихтмейстер!.. Это очень хорошо! Мы будем понимать друг друга.
Толстый с рыжей бородой пруссак вдруг схватился за бока и захохотал в лицо Аносову:
— Он всё врет! Горный специалист не может быть в Россия! Он есть только в Германия к в Европа!
— Позвольте! — побагровел Аносов. — Русские издавна прекрасные горщики, литейщики, металлурги! Горный корпус существует давно! Надо знать!
Злой хохот пруссака оглушил горного офицера. Глаза Аносова гневно вспыхнули.
— Не смейте издеваться! — решительно выкрикнул он. — Вы позволяете себе лишнее! Я могу…
Маленький Лорх выскочил вперед и поднял кулаки на пруссака.
— Замолчать! — закричал он. — Господин Аносов — честный человек и любит свою страну. Так нельзя, мы простые люди и должны уважать труд каждого человека!
Дитенгоф сразу отрезвел от слов Лорха, понял, что пруссак зашел слишком далеко. Кто знает, что может сделать этот молодой горный офицер? Чего доброго, он может дойти до министра, и тогда… «Нет, это невыгодно для карьеры!» — решил департаментский чиновник и, подняв руки, с улыбкой сказал по-немецки:
— Хватит шутить! Россия — великая страна, и всё в ней есть: и свои ученые, и свои большие люди! Не так ли, господин шихтмейстер?
Аносов не ответил. Всё еще волнуясь, он еле сдерживался и старался не смотреть на самодовольное лицо пруссака. Лорх уже хлопотливо наливал пивные кружки и, придвигая их, предлагал столичным гостям:
— О, это хороший пиво, ячменный пиво! Пейте, господин шихтмейстер!
Дитенгоф продолжал пить. Глаза его стали мутнеть. Окружавшие его мастера предложили спеть на родном языке. Подмигнув Аносову, Лорх добродушно прошептал по-немецки:
— Не осудите нас, господин шихтмейстер. Мы покинули родную страну. Так тяжело покидать свою землю и море. Нам хочется спеть немецкую песню. Это очень хорошо — своя, родная песня!..
Уже за полночь немцы провожали до пристани своих гостей, освещая факелом дорогу. Аносов шел бледный и молчаливый. На душе лежала тяжесть. Его тревожили противоречивые мысли. «Их, несомненно, гонит на Урал нужда! — думал он о золингенских мастерах. — Однако их ставят в ложное положение. У нас, в России, свои превосходные мастера; но их забыли… Что же это?..»
Между тем Дитенгофа ввели в тесную каюту и уложили на диванчик. Тот самый смуглый штурман, который показывал утром Аносову паровую машину, угрюмо сказал горному офицеру:
— Изрядно-таки сей чиновник нализался…
Он иронически улыбнулся и плотно закрыл за собой дверь.
Лежа на диванчике, Дитенгоф долго не мог успокоиться. Он всё время что-то бормотал, оправдывался, порываясь куда-то бежать.
За бортом парохода шумели волны, доносился ритмичный стук паровой машины. Аносов сидел за столиком; подперев ладонями подбородок, он пристально смотрел на огонек свечи, который вздрагивал при каждом толчке судна.
Глава пятая В ДАЛЕКИЙ ПУТЬ!
Аносов так и не дождался золингенских мастеров, пришлось ехать одному. Он уложил в чемоданчик свой скудный скарб, бережно завернул в чистое белье книгу Ломоносова «Первые основания металлургии, или рудных дел», тетрадь со стихами Пушкина и на самое дно упрятал свои небольшие сбережения. Сборы были закончены.
В санкт-петербургском мальпосте Павел Петрович купил билет для проезда в дилижансе до Москвы и утром на ранней заре выбыл из столицы. В большой закрытой карете, которая катилась на высоченных колесах, ехали шесть пассажиров с багажом. Соседями горного офицера были толстый бородатый купчина и хмурый, с лошадиной челюстью пожилой чиновник.
Дилижанс с грохотом прогремел по булыжной мостовой к Московской заставе, у которой стояла полосатая будка. Усатый инвалид поднял шлагбаум, и экипаж покатился по широкому тракту. Аносов несколько раз оглядывался назад. Петербург постепенно уходил в туман. Кругом расстилались вересковые болота, скованные декабрьским морозцем. По равнине перебегали белые гривы сухого снега, гонимые холодным ветром. Купец сидел в тяжелой меховой шубе и насмешливо поглядывал на легкую шинель Аносова. Дилижанс подпрыгивал на замерзших рытвинах. Бородатый гостинодворец зевнул, широко перекрестил рот и полез за дорожным мешком. Он вытащил жареную курицу, отломил ломоть свежего хлеба и с чавканьем стал жевать. В густой бороде у него запутались крошки. Чиновник брезгливо отвернулся и что-то проворчал. За окном дилижанса раздавался звон колокольчика, и под его монотонные звуки Аносов задумался. Сердце тревожно сжималось от мыслей о будущем: что ждет его впереди, на Урале? Петербург остался позади, и казалось, с ним сразу отошла юность. Впереди ждала иная жизнь, другие люди. Как они его встретят? Скорей бы уж быть у дела!
За окном посыпал мелкий снежок. По тропинке, у края тракта, в белесой пелене двигались серые фигуры с мешками за плечами. Купец скосил глаза, прожевал кусок и сказал Аносову:
— Гляди, господин, голодная Русь бредет в Санкт-Петербург. Оброчные, стало быть. Босота, голота, — что с нее возьмешь? — в голосе его прозвучало пренебрежение.
— Не согласен с вами, господин купец! — резко перебил Аносов.
Гостинодворец огладил бороду и самодовольно сказал:
— Не просто купец, а первой гильдии, господин хороший. И не спорьте, сам эту пешую рать досконально знаю, потому подрядчик! Кто они? Тьма египетская, крепостные…
— Вы не правы, сударь! — зло сказал Аносов. — По инструменту вижу, что идут тут плотники и каменотесы, резчики и маляры. Без них хором не возведешь!
— Га-га-га! — загоготал купец и нагло уставился на горного офицера. Тут, дозвольте вам сказать, вы, господин, ошиблись. Всему начало и конец купец! Он Русь кормит, он и хоромы возводит!
Чиновник заносчиво вскинул голову:
— Послушайте, это уж слишком! Что может сделать ваша мошна со златом, если разум не будет ею править! Разум, государственные учреждения превыше всего.
Купец засопел, снова полез в дорожный мешок, добыл баклажку и отпил из нее. Глаза у него озорно блеснули. Он укоризненно покачал головой и сказал:
— Эх, барин, барин, все-то мы грешны! Все-то мы поклоняемся золотому тельцу. И разум, и труд — всё я за сей презренный металл возьму! И потом, разве я не тружусь? — куражась, продолжал купец. — Я, может, ночь не сплю, а утром первым подымаюсь.
— Без вашего труда прожить можно, а вот без этих рук, — Аносов кивнул на пешеходов, — и хлеба не взрастишь!
— Эх-ма! — недовольно отмахнулся подрядчик. — Видать, господин, вы весьма молоды, что не знаете настоящей цены рабочим рукам! Да я их в эту жменю, — он сжал огромную пятерню и, потрясая ею, выпалил: — я их сюда загребу, сколь хочу, за квас да за ржаную ковригу! Алтын им цена, да и то в базарный день!
Купец развалился, распушил бороду и снисходительно посматривал на Аносова. Павла Петровича раздражала эта самоуверенность в гостинодворце; он замолчал и отвернулся от него. С горечью подумал: «Какой мрак распростерся над страной. Рабство и голод — неизбежные спутники народа! В деревне у исконного русского пахаря нет хлеба. Толпы тружеников торопятся в город к подобным живоглотам и попадают в горькую кабалу… Где же правда?» — Он вспомнил одно рукописное стихотворение неизвестного поэта. Сейчас эти строки приобрели глубокий смысл. Сколько в них страшной иронии!
Жил неровно мой сосед (Знать, за то его пороли): Много соли — хлеба нет, Много хлеба — нету соли. Я живу ровней куда, Не гневлю задарма неба: У меня, брат, завсегда Нет ни соли, нет ни хлеба…Купец, покачиваясь, дремал. За окном дилижанса по-прежнему тянулась скучная однообразная дорога: исхоженная, изрытая колесами, избитая копытами замордованных коней, размытая осенними дождями и сейчас скованная морозом. Мимо проползали убогие деревушки с избенками, крытыми дерном или старой соломой.
«Что изменилось с тех пор, как по этому же тракту проезжал затравленный Радищев? — спрашивал себя Аносов. — Ничего! Когда же честный человеческий труд получит настоящую оценку? Боже мой, как тяжко всё это видеть…»
Карету в эту пору энергично тряхнуло, и она стала валиться на бок.
— Безобразие! — вскричал чиновник. — На каторгу такого ямщика!
Купец испуганно открыл глаза.
— Батюшки, никак гибнем? — заорал он и полез из кузова.
Пассажиры всполошились, засуетились. Однако ничего страшного не случилось. Дилижанс остановился, покривившись на сторону. Ямщик распахнул дверь и объявил:
— Прошу господ выйти. Сломалось колесо. Напасти большой нет, благо рядом кузница и постоялый двор. Пожалуйте!
Ругаясь, ворча, кряхтя и разминая бока, все вылезли из экипажа. За ними последовал и Аносов. Рядом — грязная деревенская улица, на окраине закопченная кузница, из которой раздавался веселый перезвон наковален.
Пассажиры вереницей потянулись на почтовую станцию обогреться и переждать, когда сменят лошадей и исправят сломанное колесо. В помещении станции и подле нее было шумно и тесно. Тут толпились и спорили о ценах купцы, скупщики, приказчики, подрядчики. Они держались независимо и на чем свет стоит громогласно ругали станционного смотрителя. Вот неподалеку, в углу у самовара, разместилась легко, не по-зимнему одетая группа странствующих актеров. Особняком, недоступно держались военные и фельдъегери. Высокий усатый офицер, бряцая палашом, закричал станционному смотрителю:
— Эй, ты, коней! Живо!
Маленький тощий старичок — коллежский регистратор — в изрядно поношенном мундирчике жалобно заморгал ресницами:
— Потерпите, сударь, малость. Лошадей повели на перековку. Видите, какой путь трудный!
— Сказано, лошадей! — стоял на своем фельдъегерь. — Я тебя самого подкую, шельмец!
Старик, втянув голову в плечи, покорно стоял перед буяном. Он казался жалким и беспомощным.
«Вот он — «коллежский регистратор, почтовой станции диктатор!» — с горькой иронией подумал Аносов, вспоминая слова поэта Вяземского.
Станционный смотритель выглядел самым несчастным человеком на свете. Аносов весь вспыхнул, когда фельдъегерь размашистым шагом подошел к старику и ударил его по лицу.
— Коней! — еще громче заорал курьер.
— Как вы смеете! — становясь между офицером и коллежским регистратором, повысил голос Павел Петрович.
— Прочь с дороги! — попытался было прикрикнуть на Аносова фельдъегерь, но вдруг осекся и замолчал под решительным взглядом юноши.
— Батюшка! — взмолился старик. — Сейчас придут кони… Вон уже с перековки ведут! — показал он в оконце.
Там среди поля темнела полуразвалившаяся кузница. Подле нее копошились люди, стояли кони, тарантасы. Аносов круто отвернулся от фельдъегеря, подошел к двери и решительно распахнул ее. Клубы холодного воздуха перекатились через порог. На душе Аносова кипело. Чтобы скорее уйти от греха, он вышел на улицу. В кузнице, маня и зазывая к себе, пело железо. Ах, как он соскучился по металлу! И, решительно перейдя дорогу, молодой шихтмейстер направился к мастерской. Через поле, припорошенное снегом, он добрался до нее. Кузница была старая, с прогнившей крышей, внутри ее глухо стонал и вздыхал одинокий мех, — казалось, это старик задыхается от удушья. В полутьме валялись сошники, топоры, куски старого железа и другой хлам. Подле кузницы стоял дилижанс со снятым сломанным колесом.
Ямщик уламывал бородатого кузнеца:
— Ты, батюшка, бросай все дела, берись за наше!
Черномазый старик ковач, с засученными до локтей рукавами, сердито усмехнулся:
— Все только о своем! Вон барин торопит дормез прежде всего счинить, — ось хряпнула на колдобине. А это дровосек господский поджидает, — навари топор! Еще подковы коням. Эх, милый, никак не угодишь всем! Вот только эти бедолаги-гулёны не спешат! Куда им, спрашивается, спешить? В Сибирь-каторгу! Эй, родимые, заходи в кузницу, к огню, — обогрейся! крикнул он толпе арестантов, одетых в серые кафтаны.
Подле стояли четыре усатых солдата; скупое зимнее солнце сверкало на остриях штыков.
У Аносова болезненно сжалось сердце. Он повернулся, чтобы не видеть заросших измученных лиц, и встал на пороге кузницы. Молодой сильный ковач бил молотом, второй — проворный, веселоглазый — постукивал молотком. Словно звонкая музыка, под ударами молота гремело железо… Но что это? Горный офицер не верил глазам: ковачи ладили кандалы!
Ловкий кузнец перехватил встревоженный взгляд Аносова и весело крикнул:
— А что, барин, это монисто первее всего сковать потребно! Без этого нельзя, — на том барская Русь держится!
Молотобоец опустил молот, обеспокоенно толкнул товарища:
— О чем молвишь, дурень? Неровен час, за такие слова и тебя заодно по сибирской гулевой пустят!
— Не я первый, не я и последний! — не унимался смелый ковач. — Эй, глянь-ка сюда, сколь тут припасено для нашего брата, мужика, веселых затей! — он озорными глазами показал в угол.
Там грудой лежали тяжелые ржавые рогатки, дубовые обтертые колодки, ошейники с гвоздями, на которых засохла кровь.
При виде этих орудий, предназначенных для истязания непокорных крестьян, Аносов поморщился.
— Что, барин, не по нутру наши изделия? — насмешливо спросил кузнец.
— Не по нутру! — признался Павел Петрович. — Такой мастер, как кузнец, и, помилуй бог, куда твое умельство уходит! — сказал он с горечью, и молодой ковач уловил его тоску, понял Аносова и откликнулся сердечно:
— Это верно, на всем белом свете нет лучше нашего ремесла! Не зря кузница в селе на первом месте! Эх, барин, и мастера у нас тут — на всю Россию поискать! — вдохновенно вымолвил он. — Не зря о ковачах толкуют, что блоху подковать могут… Мне такое самому не доводилось, а вот скорлупу с куриного яйца, изволь, очищу молотом и белка не коснусь! Глянь-ко! — он схватил кувалду и крикнул товарищу: — А ну, давай!
Молот описал мощный полукруг и крепко ударил по раскаленной поковке. Удар отличался меткостью и точностью. Ковач ковал, и слух его обостренно ловил звон металла; он зорко следил за движениями своего напарника. Синеватые искры метелью летели из-под молота, слепили ярким сиянием, веселили сердце игрой.
«Эх, чародеи мои, чародеи! — со вздохом подумал Аносов. — А что они делают? И кто в этом виновен?»
— Эй, вы, там! — зычно крикнул в кузницу унтер, и сердитое усатое лицо его появилось в дверном просвете. — Кончайте, что ли!
— Изволь, готово! — брякнул цепью ковач и опустил ее в бадью со студеной водой. Миг, — и взвился пар, зашипело раскаленное железо, и снова наступила тишина.
Кузнец вынул мокрые кандалы и подал их конвойному.
— Получай монисто! Эх, служивый! — он не договорил, безнадежно махнул рукой и отошел прочь…
Через несколько минут за стеной кузницы раздалась грубая команда, а вслед за этим загремели кандалы.
— Тронулись, родимые! — хмуро вымолвил ковач. — Погнали в Сибирь, на каторгу. Ух!.. — тяжко выдохнул он. — Мне бы силу, сковал бы другое…
Он не договорил, выглянул в дверь кузницы, облегченно вздохнул:
— Ушли ярыжки!
Молодой кузнец поднял голубые глаза на Аносова, встряхнул кудрями и неожиданно запел:
Как идет кузнец Да из кузницы…— Слава! — дружно подхватили мастеровые.
Что несет кузнец? Да три ножика. Вот уж первый-то нож На злодеев вельмож; А другой-то нож На судей на плутов; А молитву сотворя, Третий нож на царя! Кому вынется Тому сбудется; Кому сбудется Не минуется.— Слава! — гаркнули разом кузнецы…
Аносов не ждал конца песни. Услышав, что третий нож готовится на царя, он опустил голову, вышел из кузницы и побрел прочь.
— Эй, барин, куда же ты? — раздался позади встревоженный голос запевалы.
Аносов скупо ответил:
— Пора на станцию, дела ждут!
— Не обессудь, господин, что так вышло. Сами понимаем! — простодушно извинился парень. — Что же поделаешь, коли на душе наболело и не стерпеть…
Павел Петрович промолчал. Когда он вернулся на станцию, буяна-фельдъегеря уже не было, — ускакал дальше. За столом у ведерного самовара, пышущего паром, в распахнутой поддевке сидел купец и со свистом тянул кипяток из блюдечка. По его лицу струился обильный пот…
— Ты, батюшка, пока шатался, я сделку обладил одну! — похвастался купец. — Садись к столу да угощайся!
Аносов, вежливо поклонившись, отказался от чаепития.
— Гнушаешься, барин? Эх, ты, а ведь я гильдейский, не какой-нибудь! Садись, милай, я ведь мильонщик, за всё плачу! — грубо сказал купец, нагло разглядывая бедную шинель Аносова.
Лицо и уши горного офицера вспыхнули. Он хотел осадить нахального гостинодворца, но сдержался и снова вышел на улицу. Позади, в избе, всё еще раздавался громкий гомон. Битком набитая проезжим народом, станция гудела, словно растревоженный улей. То и дело открывались и хлопали двери, пропуская в тепло подрядчиков, скупщиков, приказчиков, чиновников, торопившихся по делам в Москву.
Аносов стоял у дороги, за которой простиралось широкое бескрайное поле. Сизая дымка скрыла горизонт, а под самым небесным куполом вдруг пробилось скупое солнце и засинела полоска.
«Эх, поле, родимое поле! — глубоко вздохнул Аносов. — Сколько столетий лежишь ты здесь безмолвное, родное сердцу пахаря. Сколько крестьянского поту и слёз пролито над подъяремной землей! Когда же труженик русский будет избавлен от рабства и труд его из проклятия станет радостью?»
Заголубевшая полоска снова погасла. Через белую равнину потянуло поземкой. У крыльца станции появился ямщик и хриплым голосом громко объявил:
— Хвала господу, дилижанец готов. Извольте, господин, в путь!
И снова под непрестанное укачивание проплывали мимо унылые перелески, бедные поля и деревни, занесенные сугробами.
Глава шестая В МОСКВЕ
В древнюю столицу приехали ранним утром, встреченные колокольным звоном.
— Слава всевышнему, из пепла поднимается первопрестольная! перекрестился купец. — Кажись, и войны не было!
И в самом деле, Москва, как в сказке, вставала из руин еще краше и величественнее. На пустырях и пепелищах шла неутомимая работа: звенели пилы, стучали топоры, каменщики готовили гранит, землекопы рыли котлованы.
Аносов с тощим чемоданчиком в руке отправился в ямскую станцию и записался на отправление. До Казани и дальше на Каменный Пояс предстояло ехать в обычной почтовой кибитке. Станционный смотритель, критически оглядев форменную шинель горного офицера, укоризненно покачал головой:
— Да нешто можно в таком одеянии пускаться в дальнюю зимнюю дорогу? Замерзнете, барин!
— Что же делать, если у меня ничего нет другого, — спокойно ответил Аносов.
— За Москвой морозы не чета нашим. Дух захватит. Купите, господин, тулуп да валеные сапоги. Без них и не думайте ехать! — настоятельно посоветовал смотритель.
Денег, отпущенных на дорогу, было в обрез. Всё же Павел Петрович послушался совета и купил тулуп и валенки.
В Москве он задержался на два дня. От зари и до темна расхаживал по улицам и площадям, любуясь строительством. Крепостные мастера возводили новые прекрасные хоромы для своих бар. Подолгу простаивал Аносов, очарованно разглядывая их работу. Простые инструменты — пила, топор, часто наспех изготовленные здесь же, в соседней кузне, — в руках русских умельцев превращались в чудесные орудия, при помощи которых они вырезывали самые ажурные карнизы и украшения.
Вот седобородый, крепкозубый и кряжистый плотник рубит бревно для конька крыши. Но как рубит! Из-под топора вырисовываются петушки, крестовины, завитки — чудесный русский орнамент на дереве.
— Откуда, дедушка, такое умельство обрел? — любуясь мастерством старика, спросил Аносов.
— От батюшки, а тот от деда! — спокойно ответил плотник. — Мы устюжинские, топор да дерево покорны нашим думкам.
— На век и красиво ладишь, дед! — восхищенно вырвалось у Аносова.
— Чую, сынок, понимаешь толк в нашем мастерстве и глаз твой зорок, ласково заговорил старик. — Да ты, друг мой, оглянись, пройди всю нашу землю и тогда сам увидишь, что значит русский человек. Наш брат мастеровой испокон века от юности и до погоста робит. Без труда, дорогой, и жизнь не мила! Потрудишься — и отдых сладок, и поешь в охотку, и сон в радость. А радостнее всего то, что сробил своей рукой да умельством. Глядишь, а сердце ликует: недаром прожил жизнь! Светлое счастье и радость, милый человек, в честном труде! Ох, заговорился я с тобой! — спохватился вдруг дед. — Иди, иди, милок, своей дорогой! — И старик стал тщательно выстукивать топором.
Аносов добрел до Красной площади. Кремлевские башни были восстановлены и высоко поднимали свои шатровые крыши. Среди балаганов и ларей, раскиданных на площади, толпился народ. Расталкивая его локтями, пробирались калашники, ремесленники, сбитенщики. То и дело слышалось:
— Сбитеньку горячего!
— Пряников медовых, коврижек!
— Пей-ешь на все медные, без сдачи!
— Закусывай, бабы, ребятишки!..
Балаганы были на замке, скоморохи не потешали народ: шел Филиппов-рождественский пост, и москвичи крепко блюли его. Но какой-то подгулявший парень вырвался на свободное местечко с балалайкой в руках и под ее треньканье пустился отплясывать камаринского.
Круглолицая молодайка в белом пуховом платке осуждающе заметила:
— Уймись, суматошный! Уймись, нехристь: в пост этакий в пляс пошел!
Парень только озорно усмехнулся и запел плясовую:
Сею, сею я ленок На дорожку, на порог, Чики-брики, так и быти, На дорожку, на порог… Эх!..— Вот окаянный! — сердито сплюнула молодка, а у самой темные глаза весело блеснули.
Над кремлевскими стенами кружилось вороньё. С мутного неба посыпал редкий снежок. Сквозь белесую пелену падающего снега изумительным видением проступала церковь Василия Блаженного. На Спасской башне пробили часы. Аносов с бьющимся сердцем вошел в Кремль и, сняв шапку, медленно пошел по булыжной мостовой. Прошло пять лет, но следы пожаров 1812 года еще сохранились на стенах древних соборов и дворцов. Здесь каждая пядь земли кремлевского холма напоминала славные страницы русской истории. Отсюда в лучах зимнего солнца виднелась значительная часть Москвы. За зубчатой стеной, изгибаясь у самых башен, голубеет Москва-река, уходящая на запад к синеющим высотам. За рекой — широкая панорама зданий, разноцветных крыш, переулков тихого Замоскворечья. Направо, далеко на горизонте, в синеве тумана выступают Воробьевы горы. Всё привлекает и манит взор, но милее всего сердцу зодчество безыменных русских мастеров, создавших дивные творения. Вот стремительно вознеслась к небесам колокольня Ивана Великого, а подле нее погруженный в яму Царь-колокол, отлитый русским мастером Моториным в 1434 году. Павел Петрович долго любовался медным гигантом, весившим двенадцать тысяч пудов. Рассказывали, что колокол издавал чистые, приятные звуки. И умен же был простой мастер, отливший это диво!
Неподалеку стояла и Царь-пушка, отлитая при Федоре Иоанновиче в 1586 году мастером Чоховым. Эх, и золотые руки имел этот пушечный литейщик! А подле Арсенала вытянулись ряды пушек, отбитых у французов. Дорого поплатились враги за осквернение русской земли!
Вот и Оружейная палата. Аносов с волнением прошел под высокие каменные своды тронного зала. Еще шло его восстановление, но кое-что из оружия работы старинных русских мастеров уже хранилось здесь. Тут были мечи, латы, шлемы. Некоторые из них «скипелись» от многовекового лежания в земле. Аносов равнодушно прошел мимо них: он искал другого… А вот и булаты! Драгоценные клинки были покрыты затейливым змеистым узором. Великое искусство выделки булатов угасло на Руси в семнадцатом веке; мастера Оружейной палаты были последними из тех, кто умел их готовить.
Аносов долго стоял перед клинками, пока хранитель старинных богатств не напомнил ему:
— Пора, сударь, уходить! Вижу, что оружие сие вам милее всего!
— Вы угадали! — склонив голову, ответил горный офицер. — Я дорого бы дал за тайны изготовления булата!
— Увы, сударь, это невозвратимо! Никто не знает, как отливался металл. Разве что в странах Востока, да и то — вряд ли! — с безнадежностью сказал хранитель.
Аносов снова вышел на Красную площадь. Торг кипел на всем ее протяжении. Сквозь толпу продирался широкоплечий бородатый мужик игрушечник с плетеным коробом за плечами. В руках он держал забавную игрушку и зычно манил покупателей:
— Гляди народ на потеху, на дергунчиков!
На круглой дощечке друг против друга красовались двое: русский и француз. Бородатый русский хват, ухмыляясь, склонился перед иноземцем. А тот, в кургузом кафтанчике, в парике, со шпажонкой на боку, чванно задрал нос перед мужиком.
Игрушечник стрельнул лукавыми черными глазами по толпе и воззвал:
— А ну, гляди, народ, что будет! — Он дернул за ниточки, мужик поднял кулаки и стал дубасить противника. Он сыпал удары по голове, по щекам, по носу. Француз отмахивался, вихлялся, паричок его слетел, нос опустился. Игрушечник и сам в восторге, орет на всю площадь:
Полюбуйся народ Русский француза бьет! Лупит его по мордасам: Вот тебе московский пирог с квасом!Народ доволен, раздается громкий смех. Плотник с топором за кушаком, сдвинув набекрень шапку, кричит восторженно:
— Эх, братцы, вот потеха, так потеха! Бей, лупи по Напольёну, чтоб знал, куда можно ходить!..
Поздно вечером вернулся Аносов на почтовую станцию. Смотритель дружелюбно взглянул на него и спросил:
— Ну, как матушка-Москва понравилась?
Павел Петрович рассказал про игрушечника. Морщинистое лицо станционного смотрителя построжало.
— Ох, горе наше! Так повелось на Руси, — то татары, то немцы, то французы к нашему куску тянутся, изо рта рвут! Эх-хе-хе! — С минуту станционный смотритель помолчал, а потом предложил:
— Ложитесь-ка отдыхать, сударь, а завтра на зорьке в путь-дорогу по казанскому тракту!
Глава седьмая ПО СИБИРСКОЙ ГУЛЕВОЙ ДОРОГЕ
Широки просторы, беспредельна русская земля! По избитому казанскому тракту, засыпанному снегом, перевеянному сугробами, мчатся кони на восток. Скрипят под рогожным возком полозья, заливается колокольчик под дугой, а бородатый ямщик без конца тянет унылую песню:
Туманушки мои, туманушки, Разосенние туманушки мои!.. Не сподняться ли нам, туманушки, Со синя-моря долой?..Внезапно ямщик смолк, повернулся к седоку и спросил:
— А что, барин, скоро мужику воля выйдет? Напольёна повоевали, пора бы крестьянскую душу отпустить из ярма.
— Ты очень смел, братец! — сказал Аносов. — Человек я тебе неизвестный, кто такой, не ведаешь. А что как вдруг да за такие речи — сто плетей!
Бородач горько улыбнулся:
— Всё плети да плети сулят. Много проезжих перевидал я, сударь, по глазам угадываю, кто сердечен, а кто зверь! Очи твои добрые. И сказал это ты для острастки, чтобы вдругорядь я поберегся!
— Это верно, — отозвался Аносов и поглубже зарылся в сено.
Ямщик продолжал:
— Молчит народ, бесшумен, как вот это зимнее поле, но сердце, как полная чаша, гневом переполнилось!
Мимо возка мелькнула укрытая сугробами убогая деревушка. Печально в тишине стояли изубранные инеем поникшие березки.
— Ишь, как весело живут! — в голосе ямщика прозвучала ирония. — Даже псы, и те от бесхлебицы разбеглись! Ух, ты! Пошли, залётные! — свистнул бич, и кони быстрее побежали среди необозримого снежного простора. Однообразный скрип полозьев и укачивание вызывали дремоту, глаза смежались, но ямщик не давал вздремнуть седоку: снова под звон колокольчика он завел свою унылую песню…
От станции к станции мчался Аносов по большому казанскому тракту. Всё ближе и ближе Волга-река… Наконец в одно солнечное утро блеснули золоченые маковки церквей и замаячила башня Сумбеки.
«Казань!» — догадался Аносов и велел ямщику везти на постоялый двор.
Вскоре они подъехали к грязному каменному дому, глядевшему окнами на Казанку-реку. На скамье перед трактиром в доброй шубе сидел жилистый немец и курил трубочку. Завидя приезжего горного чиновника, иноземец живо поднялся и подошел к Аносову.
— Из горный и соляный департамент изволите ехать? — любопытствуя, спросил он.
— Да, еду из Санкт-Петербурга к месту службы на Урал, в Златоуст! охотно ответил Павел Петрович, внимательно разглядывая немца и раздумывая: «Откуда же он сам взялся?».
— В Златоуст! — подхватил немец. — Далекий земля! Мы тоже имеем попытка быть там, но тут беда: многие сейчас больна и не могут дальше ехать!
— Так вы из Германии приглашены! — в свою очередь, воскликнул Аносов. — Среди вас, возможно, есть и литейщики?
— Я, Петер Каймер, есть лучший литейщик. Я могу делать клингентальский булат! — с важностью сказал иноземец и пыхнул клубами сизого табачного дыма. Лицо его выражало самодовольство, держался он заносчиво. — Русский царь сказал мне, — явно чванясь, продолжал он: — ты, Петер Каймер, счастливь наша земля, лей лучший сталь, я буду давать много денег. Он мне положил большой жалованье!
Аносову не терпелось познакомиться поближе с литейщиком, и он завел речь о булатах. Немец с безразличием слушал его. Подняв длинный сухой перст, он нравоучительно сказал горному офицеру:
— Булат — большой тайна! Ты увидишь в Златоуст, какую я отолью сталь! Мы завтра едем! Четыре семья здоров, садись кибитка и двигайся Урал!
Он взял Аносова под руку.
— Идем сюда! — указал он на трактир. — Ты сейчас будешь иметь знакомство с хороший люди. Это лютший мастер Германии!
В задымленном трактире среди обычной скудной обстановки за столами сидели десятка полтора немцев и тянули из больших кружек ячменное пиво. Не особенно приветливо встретили они русского горного офицера. Толстый бюргер с рыжими густыми усами неприязненно посмотрел на Аносова.
— Кто ты есть, молодой человек? — спросил он.
— Шихтмейстер! — коротко ответил Павел Петрович.
Бюргер напыжился, хотел что-то сказать, но Петер Каймер предупредил его. Он схватил горного офицера под руку.
— Вы есть весьма воспитанный молодой человек! — благодушно сказал мастер. — Вот стул, садитесь, будем дружески пить пиво!
Аносов присел к столу и попросил трактирного слугу подготовить комнату для отдыха.
— Вы очень мне нравитесь, — сказал Каймер. — Я буду открывать вам в Златоуст свой большой секрет, как делать булат…
Павел Петрович чувствовал себя неловко среди незнакомых людей. Пересиливая смущение, он сдержанно слушал излияния литейщика.
Неожиданно открылась дверь, и на пороге появилась высокая белокурая немка. Она приветливо улыбнулась Аносову, и у него посветлело на душе.
— Это мой дочь Эльза! Идем к нам и будем знакомы! — предложил Петер Каймер.
Павел Петрович встал и учтиво поклонился девушке, отчего у нее зарделись щеки.
— Весьма благодарен, господин Каймер, но не смею стеснять вас своим присутствием.
— Да, с дороги нужен отдых, — добродушно согласился литейщик и нехотя поднялся.
В трактире стоял непрерывный немецкий говор, густые клубы табачного дыма висели в помещении. Аносов молча позавтракал и ушел за перегородку, где с удовольствием растянулся на стареньком потертом диване. Говорок, как вода, сочился и сочился сквозь щели.
«Ох, как тяжело мне с ними будет жить! Держатся замкнуто. Свои интересы, обычаи… Впрочем, свет не без добрых людей», — успокаивая себя, подумал Павел Петрович, закрыл глаза и незаметно уснул.
За окном стояла тьма, когда Петер Каймер разбудил горного офицера.
— Завтра, господин шихтмейстер, едут четыре семьи в Златоуст, я и Эльза тоже. Просим на чашку кофе. Вы одинокий? — пытливо спросил литейщик.
Утвердительно кивнув головой, Павел Петрович молча оделся и пошел за немцем. В маленькой комнатке был уже накрыт стол, блестел кофейник и три чашки. Молодая немка присела перед Аносовым.
«Книксен! Несколько чопорна, а, впрочем, хороша!» — благосклонно подумал он и опустился на стул.
Девушка проворно налила чашку горячего кофе и поставила ее перед гостем, сама же принялась вязать чулок. Изредка, поднимая на Аносова глаза, она краснела. Петер Каймер набил глиняную трубку кнайстером и закурил. Мастер болтал без умолку, изредка поглядывая на дочь. Он рассказывал о мастерстве клингентальцев, хваля его неимоверно, но простодушно.
Аносов терпеливо слушал и изредка словно ненароком взглядывал на девушку. Старик, перехватив взгляды юноши, смолк, побарабанил пальцами по крышке стола и неожиданно сказал, кивая в сторону дочки:
— Эльза — хороший хозяйка, она умеет готовить кофе и штопать чулки. Покойный жена учила ее понимать, что три вещи превыше всего для немки: кирка, кухня и киндер![7]
Аносов смутился, покраснела и девушка. Шихтмейстер как бы спохватился:
— А ведь уже поздно. Засиделся я у вас. Пора и на покой…
Освещая дорогу в сенях, Эльза проводила гостя до горенки…
Утром из Казани выехали гуськом пять возков. Потянулись леса, увалы, редкие татарские и башкирские деревушки. На остановках немцы подолгу насыщались и отдыхали, после чего продолжали путь. Каждый раз Эльза подходила к Аносову и, приседая, приглашала его к общему столу откушать кофе.
Горный офицер охотно подсаживался к попутчикам. Немка подкладывала ему лучшие куски.
— О, я вижу господин шихтмейстер имеет большой успех! — добродушно засмеялся однажды Петер Каймер, одобрительно поглядывая на дочь.
Аносов смущенно опустил глаза.
— Вы совсем благородный молодой человек, — похвалил клингенталец Павла Петровича и тут же вздохнул: — Я и Эльза нашли здесь свой второй родина!
— А как насчет булата? — чтобы переменить тему, краснея спросил Аносов.
— Это господин шихтмейстер увидит там! — указал литейщик на восток.
Несколько дней они ехали лесами и взгорьями, и однажды в полдень перед ними засинели горы. По занесенным снегом пастбищам бродили отощавшие стада и табуны коней. Холодный блеск наледи резал глаза. У дороги часто валялись туши павших животных. Изредка попадались одинокие юрты, из которых тянулся синий дымок. Петер Каймер пожелал зайти в башкирский кош.
В юрте было дымно, убого и грязно. Литейщик заткнул нос.
— Дикий человек живет здесь! — брезгливо сказал он.
— У них просто несчастье: из-за гололедицы падают кони! — сказал Аносов и показал на склоненную фигуру истощенного старика: — Смотрите на несчастного: он голоден.
— Бачка, бачка! — забормотал башкир. — Погиб всё. Это злой зима. Что будем делать? — по смуглым скуластым щекам его текли слёзы. Он не утирал их и, схватившись за голову, горестно раскачивался. — Ай-ай, весь народ плохо. Умирать будем…
Тяжело было смотреть на хилого старика. Аносов вынул серебряный рубль и протянул кочевнику.
Башкир прижал к сердцу руку.
— Спасибо, большой спасибо. Не надо, — отказался он. — Дай кусок хлеба!
Павел Петрович вернулся к своему возку, вынул весь запас и отнес в юрту.
— Что вы делаете, господин шихтмейстер! — старался удержать его Петер Каймер, но горный офицер отдал подарок башкиру. Тот поднялся и схватил руку Аносова, стремясь поцеловать ее.
— Нет, этого не надо! — отступая, сказал юноша…
Они вышли из кибитки, сопровождаемые башкиром.
Снова потянулись блестевшие наледью степи.
— Вы поступил плёхо! — недовольно сказал Каймер. — У вас теперь нет продукт!
— Теперь недалеко, доеду? — отмахнулся Аносов и глубоко зарылся в возок.
Прошло два дня, горы совсем приблизились, и начался подъем. Впереди громоздились под самые облака вершины Таганая, Иеремеля и других величавых гор. Снежные их шапки сливались с белесым небом.
Всё выше и выше подъем, всё величественнее грозные горные хребты. Казалось, огромные океанские волны вдруг окаменели, преграждая путешественникам дорогу. На безлесных шиханах курилась поземка. Жгучим морозным дыханием встречал Каменный Пояс гостей. Аносов взглянул на скалистые крутизны, головокружительные пропасти, и сердце его сжалось. Неприветливо встречали дремучие горы, но всё же он поднял голову, улыбнулся и, сняв шапку, сказал уверенно:
— Здравствуй, Урал-батюшка! Здравствуй, русская земля!
Вдали, сквозь сизую дымку, в долине показались каменные строения и на скупом зимнем солнце блеснули купола церкви. Ямщик показал кнутовищем вперед и облегченно сказал:
— А вон, батюшка, и Златоуст виден!..
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая НЕСКОЛЬКО СТРАНИЧЕК ИЗ ИСТОРИИ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ЗАВОДА
Завод у подножья горы Косотур поставлен был в 1754 году тульским купцом Иваном Перфильевичем Мосоловым — большим пройдохой и выжигой. Человек он был хитрый и беззастенчивый, — набил руку на плутнях. В свое время, когда Мосолов подвизался в Туле, он обмеривал да обвешивал в своих лабазах и амбарах честной народ. Город на Тулице издавна славился оружейным мастерством. Здесь, в Кузнецкой слободе, жили и работали «казюки» — мастера государственного оружейного завода. Но, кроме них, по слободам и пригородам селились свободные мелкие ремесленники — умельцы оружейного дела. Мастерили они отменные заварные стволы для фузей, замки, ложа; каждый делал свое и доходил в том до совершенства. Вся громада ремесленников была голь перекатная и работала на богатых скупщиков: на Демидова, Баташева, Лугинина, Ливенцова, — всех не перечесть. Не гнушался также Иван Перфильевич выжать из кустаря-оружейника последнюю силу. Жил, добрел и шел в гору пронырливый купец, но внезапно стряслась беда: подвели под разорение торговые соперники. Мосолов запутался в темных сделках, оказался несостоятельным и попал в долговую яму.
С большим усилием, подкупив подьячих, — выбрался из ямы Иван Мосолов и упросил земляка-туляка Никиту Демидова взять его в услужение на уральские заводы. Задумал купец вновь разжиться и завести свое дело. Так оно и вышло.
Уральские горные заводы строились руками приписных крестьян да кабальных людей. Бежали от господ крепостные, оставя свои дома и «крестьянские жеребья» впусте, уходили от нестерпимых побоев, истязаний и надругательства дворян, брели куда глаза глядят от хлебного недорода, скрывались от рекрутчины и от податной повинности. Много беглецов было из солдат и матросов, немало было утеклецов с каторги и из сибирских дальних поселений. Бежали из тюрем, спасались от суда, унося свои «животы» от страшного застенка, укрывались от религиозного притеснения.
Вся эта бродячая Русь рассыпалась по заводам и фабрикам, ставленным государством и купцами в Московской, Тульской, Орловской и в прочих губерниях. А многие бежали в Сибирь, на Каменный Пояс, на Каму-реку, — на демидовские, строгановские и осокинские заводы. Забирались беглецы и на Усолье — на строгановские соляные варницы. Управители заводов знали о прошлом беглых и потому мало спрашивали. Для очищения совести пытали: «Ты откуда сбег, горюн?» — «Из-за синих гор, со щавелевых огородов!» — «Так! А ну-ка, покажи руки! — строго говорил управитель и, разглядывая застарелые мозоли, определял: — На шахту гож! А ты — в жигали, — уголь готовить, а вон тот смекалистый пойдет к домнице!»
Всем находилось место и работа. И никому выдачи с заводов не было. Пришел сюда по своей воле, а уносили только на погост, да и то не всегда в тесовой домовине.
Царь Петр Алексеевич, ввиду великой войны со Швецией из-за русских земель на Балтике, был весьма заинтересован в развитии горного дела. По его указам и приписали к заводам крестьян для отработки податей. Повелось по указу дело так: заводчики платили в казну за приписных к заводу крестьян налоги, внося их натурой — железом. Крестьяне за это обязывались работать на заводах, копать и возить руду, жечь в лесных куренях уголь и ладить дороги.
За каторжную работу заводчики платили приписным крестьянам конному гривенник, пешему — четыре копейки в день. За нерадивую работу и ослушание применяли к работным людям батоги и плети.
Иван Перфильевич Мосолов попал приказчиком на Шайтанский завод к Никите Никитичу Демидову. Хозяин был хвор и немощен: его, парализованного, долгие годы возили в кресле по горницам. Сын хозяина Василий догорал в злой чахотке. В чаянии смерти он много бражничал и заводскими делами не занимался. Мосолов попал на прибыльное место и развернулся, — по своей купецкой натуре стал сильно приворовывать.
Демидовы догадывались о проделках приказчика, но уличить в воровстве не могли. В короткий срок Иван Мосолов зажирел, подкопил денег и задумал свое дело.
Кругом лежали горы и земля, богатые рудой. Всё это искони принадлежало башкирскому народу. Заводчики теснили башкирцев, обманным путем захватывали их земли и леса. Они подкупали башкирских князьков-тарханов и за бесценок скупали огромные пространства. Башкиры не раз поднимали восстания. Тогда пылали заводы и русские деревни.
В сбереженье от башкирских набегов горнозаводчики строили крепостцы, обносили заводы тыном с рублеными башнями, окапывали рвами.
В феврале 1754 года по санному пути наехал Иван Перфильевич Мосолов в Сыгранскую волость Башкирии. Здесь было приволье: край простирался гористый, богатый, в недрах — залежи добрых руд, реки текли многоводные, в кондовых лесах, как океан, гудели смолистые сосны и ели, озёра изобиловали рыбой. Привольно кочевали кибитки башкир-вотчинников.
Иван Мосолов обладил дело приступом: одарил тархана бусами, гребнями, топорами, подпоил башкир и заключил купчую на плодородные земли. По ней отходили купцу огромные пространства с лесными угодьями, с покосами, с реками, с рудными местами. Отхватил Иван Перфильевич в один присест великий кус — двести тысяч десятин, а уплатил за него башкирам-вотчинникам всего-навсего двадцать рублей.
Летом Мосолов пригнал на купленные земли приписных крестьян и кабальных, и они великими трудами своими поставили среди гор в глубокой долине реки Ай бревенчатый острог. Реку перегородили высокой плотиной, возле нее соорудили завод для литья мортир и ядер. Назывался в ту пору завод по горе — Косотурским.
Горько жилось работным людям на этом заводе. Хозяин подобрал себе под стать и управителя. Степан Моисеев — заводский управитель — был лютый зверь и скряга. За каторжную работу платил гроши, кормил работных гнилым толокном и тухлым мясом, зато был щедр на батоги и плети. Приказчик Ванька Попов, с корявым лицом, всегда носил при себе кожаную трость, набитую песком. Чуть что, и пошла свистать трость по спинам тружеников!
Тяжелый гнет стал невыносимым, и работные люди тайком послали к царице Екатерине в далекий Санкт-Петербург верных людей с жалобой на заводчика.
Челобитчики писали государыне:
«Его приказчики и нарядчики, незнамо за что, немилостиво били батожьем и кнутьями, многих смертельно изувечили, от которых побоев долговременно недель по шести и полгоду не заростали с червием раны. От тех же побой заводских работ исправлять не могут, а иные померли…»
Рабочие-гонцы на завод больше не возвратились. Бродили темные слухи, что мосоловские люди настигли их в глухих лесах и пометали в страшные зыбуны-трясины.
Подошел 1773 год. Под заводскими стенами нежданно-негаданно появились пугачевские отряды. Работные связали управителя и приказчика и с колокольным звоном открыли ворота.
Пугачев на белом коне въехал в завод-крепость. Народ обнажил головы. Поп трясущимися руками благословил крестом «крестьянского царя».
На крыльцо заводской конторы вынесли кресло, крытое зеленым бархатом. Пугачев слез с коня и уселся в него. Сурово сдвинул брови. Рабочие толкнули к его ногам приказчика Ваньку Попова в изодранном кафтане.
— Кровопивец? — нахмурив брови, строго спросил Пугачев.
Из толпы вышел седобородый литейщик и степенно поклонился:
— Государь-батюшка, этот зверюга батожьем немало народа перекалечил. Он как тать обирал нас и довел до великой скудости!
— Так! Видать разбойника по роже. На глаголь! — махнул рукой Пугачев.
Башкиры подвели двух верблюдов, через горбы их положили перекладину. Десятки рук цепко подхватили Ваньку Попова и повесили.
— Добро, поделом вору и мука! — сказал Пугачев и неожиданно ткнул перстом в толпу заводских служащих — А это кто?
Те покорно опустились на колени. Пугачев наклонился вперед, ветерок шевелил его темную курчавую бороду. Глаза Емельяна Ивановича пытливо шарили по толпе. Повытчик из заводской конторы бухнулся в ноги.
— Помилосердствуй, батюшка, по правде жили. Сами под страхом робили! — взмолился он.
— А что на это народ скажет? — поднял голову Пугачев и вопросительно посмотрел на работных.
— Не чинили обид, грех напраслину возводить! — отозвались среди заводчины отдельные голоса.
— Ну, коли так, будь по-вашему! — согласился Пугачев. — Бог с вами, детушки, прощаю вас в угоду труженикам. Служите мне, государю вашему, честно и радиво.
На площадь выкатили пушку и выстрелили. По горам прокатилось эхо.
Пробыли пугачевцы на заводе только два дня. Взяв шесть отлитых пушек и два пуда пороха, армия повстанцев ушла в горы.
В течение года Косотурский завод несколько раз переходил из рук в руки. В июне 1774 года его осадил Михельсон.
Положение было тяжелое, и восставшие рабочие отступили с пугачевцами на Красноуфимск. Позади отступивших остались только груды развалин да в вечернем небе долго полыхало багровое зарево — догорал завод.
Поднимая крестьянские восстания, Пугачев поспешно отступал правобережьем Волги. Его по пятам преследовали генералы, посланные с войсками перепуганной царицей. По дорогам, пристаням и селам каратели сооружали виселицы-глаголи, колья с колесами и лютой смертью казнили восставших мужиков.
На Косотурском заводе вешать было некого, — все рабочие ушли. Лишь в Шадринской провинции, в Уксянской слободе, отряд генерала Деколонга захватил двенадцать косотурских работных. Их пытали и казнили.
Пугачевское восстание было подавлено, а сам Пугачев пойман и в клетке доставлен в Москву, где и казнили его на Болоте. Иван Перфильевич Мосолов не дожил до этих дней. Он внезапно умер от паралича сердца, а наследники его продали Косотур тульскому купцу Лугинину. Новый хозяин восстановил разоренный завод, и снова для рабочих потянулась прежняя каторга. Лугинин скупал у помещиков крепостных, выбирал народ покрепче, посильнее и посмекалистее и гнал на далекий Урал. Много слёз и горя было в тульских и ветлужских вотчинах, — крестьянские семьи оставались без кормильцев: хочешь — в петлю полезай, хочешь — в омут головой. Не радостно было и тем, кто уходил с родных милых мест в чужой неизвестный край. После долгого пути мужики попадали в еще горшую каторгу. Многие пробовали удариться в бега, искали спасенья в дремучих лесах и горах, но приказчики Лугинина расставили на горных тропах тайные заставы и перехватывали беглецов. Чтобы не бегали работные и для защиты завода от башкир, его обнесли новым тесовым тыном.
Спустя лет двадцать после смерти Лугинина, в 1797 году, Косотур приобрел московский гостинодворец Кнауф. Новый владелец родом был из Германии и решил всё поставить по-своему. Он не доверял русским управителям и мастерам и выписал со своей родины земляка Гергарда Эверсмана, которого и назначил главноуправляющим завода. Прибывший немец стал выписывать из Германии мастеров из Золингена и других мест. Однако и Кнауф похозяйничал недолго: велением императора Александра I Косотурские, переименованные в Златоустовские, горные промыслы в 1811 году отошли в казну. Златоуст возвеличили до значения центра горного округа и в нем разместили правление горнозаводского ведомства. Время подошло тревожное: на Западе, за рубежами, гремела слава французского императора Наполеона, а за Черным морем России грозились турки. Царь стал готовиться к войне. Однако оружейное производство развернуть в полной мере не успели: Наполеон с многочисленной армией перешел Неман и внезапно вторгся в пределы России. Лишь в 1815 году приступили к устройству оружейной фабрики в Златоусте. Во главе ее поставили немцев: директором фабрики назначили Эверсмана, его помощником и горным начальником заводов — обер-бергмейстера Фурмана. 16 декабря 1815 года состоялось официальное открытие «Фабрики дела белого оружия, разных стальных и железных изделий».
Русской коннице нужны были тысячи добрых клинков, сабель и казачьих шашек. Известно, что на клинки требуются особо твердые и упругие стали. Но сколько ни бились старики литейщики, сталь выходила ломкая, неподатливая. Сабельные клинки из такой стали получались ненадежные…
В ту пору добротными клинками славились старинные немецкие города Клингенталь, Страсбург и Золинген. Слава клингентальских мастеров гремела по всей Европе, и русское правительство решило пригласить их в Златоуст. Обоз за обозом тащился на Урал: везли сотни немецких семейств для устройства их на новом месте. В короткий срок в Златоуст понаехало много чужих людей, которые сторонились всего русского, с нескрываемым высокомерием и презрением относясь к уральским мастерам.
По каменному логу Громатухи, зажатому горами Бутыловкой и Богданкой, быстро отстроили для немцев большие светлые дома, — так возникла Большая Немецкая улица. Перед заводом, откуда открывался вид на лесистую гору Косотур, на обширный пруд и на синеющие горные дали, отстроили Малую Немецкую.
Горько было уральским рабочим смотреть на дела царской власти, покровительствовавшей иноземцам. Кровная обида обжигала их сердца. И как не обижаться! Когда возводили Косотурский завод, русские тут в землянках голодали, их заедал гнус, валили изнуряющие болезни. На работе торопили плетями и батогами. А для иноземцев не жалели ни денег, ни добра. Сам Гергард Эверсман по договору получал от казны 2100 рублей серебром жалованья, обширную квартиру с отоплением и освещением, даровую прислугу с одеждой, переводчика и четырех служителей. Но и этого показалось мало жадному немцу! Выговорил он себе еще 8 кулей муки в год, 2 куля крупы, 12 пудов солонины, 14 бочек пива, 36 ведер водки и вина, 6 пудов мыла, 75 кулей овса, 700 пудов сена, 300 пудов соломы, 4 откормленных свиньи и 2 коровы. Не хуже устроились и земляки Эверсмана.
И стал Златоуст для пришельцев сытным, беспечальным местечком. На казенный счет выстроили для немцев кирку, особую школу, клуб и учредили немецкий суд. Даже отдельное кладбище устроили для них.
За прудом, в смолистом сосновом бору, каждый праздник отгуливались немцы. Весело и чинно веселились они тут, и с той поры место их прогулок так в звалось — Фрейденталь, по-русски — «Долина радости»…
Жили немцы в Златоусте привольно, а мастера были средней руки и занимались пустяками: делали столовые ножи с роговыми черенками, перочинные ножички. Обходилась их работа баснословно дорого. По договору иностранцы обязывались обучать своему искусству русских рабочих, но они упорно скрывали секреты мастерства.
Глава вторая ЧИНОВНИК ДЛЯ РАЗНЫХ ПОРУЧЕНИЙ
Немецких мастеров из Золингена и Клингенталя в Златоусте шумно встретили их соотечественники. Они с радушием гостеприимных хозяев старались залучить к себе земляков, чтобы всласть поговорить о фатерланде. Никто из них не обратил внимания на невысокого молодого шихтмейстера, одетого в порыжелую шинель. Аносова предоставили самому себе. Только один Петер Каймер сочувственно подмигнул ему и сказал на прощанье:
— Ты скоро здесь увидишь мое настоящее дело. О, Петер Каймер есть великий литейщик! Эльза, пожелай молодому человеку радостной жизни!
Девушка вспыхнула и, сверкнув голубыми глазами, сказала Аносову:
— Когда мы будем на квартир, прошу вас в гости!
— Это хорошо! — одобрил Каймер и, весело пересмеиваясь с толпой соотечественников, ушел на Большую Немецкую улицу.
Аносов неторопливо выбрался из возка, извлек из него небольшой потертый баульчик и зорко огляделся. Перед заводом простиралась обширная пустынная площадь. У входа в дирекцию — полосатая будка, рядом шагает седоусый ветеран-солдат с ружьем на плече.
«Куда же пойти?» — соображал шихтмейстер и решил отправиться прямо к директору оружейной фабрики. У ворот он встретил высокого седобородого кержака в дубленом полушубке и спросил его:
— Скажи, отец, как пройти к директору, господину Эверсману?
Старик поднял на прибывшего серые строгие глаза, внимательно оглядел его и ответил:
— Припоздали, сударь. Был да весь вышел господин Эверсман. Уволили его, батюшка; директором тут ноне господин Фурман. А пройти извольте, сударь, вон туда, — указал он на массивную дубовую дверь с медными начищенными скобами. Оглянувшись, он тихо спросил: — С немчинами, стало быть, приехали? Издалека?
— Из самого Санкт-Петербурга прибыл работать. Будем знакомы: Аносов Павел Петрович! — он протянул старику руку и спросил: — Кто такой, где, отец, работаешь?
Кержак опешил от простоты обращения: по виду приезжий как бы и чиновник, а не зазнайка. Он неуверенно взял протянутую шихтмейстером руку и неловко пожал ее.
— Николай Швецов — здешний литейщик. А сам кто будете? — он пристально посмотрел на приезжего.
— Шихтмейстер Аносов. Буду работать здесь. Литьем интересуюсь, сдержанно отозвался Павел Петрович.
— Это хорошо, — обрадовался старик. — Только, по совести скажу, трудненько тебе будет робить здесь! Ой, трудненько! Тут всё больше иноземцы и не любят нашего брата, русского…
Румяный от холодка, Аносов уверенно посмотрел на литейщика.
— Ну, это ты, отец, напрасно. Не один я здесь. Ты, отец, да я — вот уже нас и двое. Не пропадем! — весело сказал он. — Металл хорошо плавить умеешь, старина?
— Умею, да не искусник, до большого умельства не дошел. Дойду ли я, один бог знает! Железо, приметь, батюшка, металл самый первый, мудрый металл. Плавишь одно, а начнешь в ход пускать, смотришь, разное поделье из него. Вот шинное, а вот брусковое, а то полосовое иль прутковое получишь, смотря по надобности. Тут и ствол для фузеи, и клинок для сабельки, и полозья для саней, и ось тележная, и подкова коню, и ножик. Выходит, батюшка, железо в хозяйстве дороже всего!
Шихтмейстер внимательно слушал литейщика, и тот всё больше начинал ему нравиться. И ласка, с какой он говорил о металлах, и скромность его всё сразу пришлось по душе Аносову. Так мог говорить человек, только по-настоящему любящий свое мастерство.
— Так неужто и знатоков тут нет? — посерьезнев, спросил Аносов.
— Есть, милый человек, да развернуться не дают русскому человеку! огорченно сказал старик. — У нас иноземец — всему голова. Урал — золотое донышко, да не для нас! Поживешь, сам увидишь! — уклончиво закончил кержак, снял войлочную шапку и поклонился: — Прощай, батюшка, поди ждут…
Аносов вошел в большую приемную с белыми каменными сводами. Унылый, желчный писец поднялся из-за стола навстречу ему:
— Кто такой, сударь?
— Шихтмейстер Аносов, присланный департаментом для прохождения службы.
Канцелярист не торопился; он с пренебрежением оглядел измятую шинель Павла Петровича и сухо предложил:
— Извольте раздеться, сударь, а баул здесь оставьте!
Аносов снял шинель, обдернул мундирчик и стал ждать вызова. За массивными дверями стояла гнетущая тишина. В приемной размеренно тикали часы. Время тянулось медленно.
За окном сгущались сумерки, когда шихтмейстера впустили в громадный мрачный кабинет директора. За черным дубовым столом в кожаном кресле восседал затянутый в мундир обер-бергмейстера надменный чиновник с тяжелым взглядом. Он не поднялся и не протянул руки Аносову. Чуть склонив голову, сказал заученным тоном:
— Вам очень трудно будет здесь работать. Надобны опыт и знание, а вы только что со школьной скамьи; я, право, не знаю, что вам поручить.
Шихтмейстер выложил перед директором свой диплом и грамоту о награждении золотой медалью. Фурман бесстрастно пробежал глазами по бумагам и отодвинул их в сторону.
— Я хотел бы попасть в литейный цех, — сказал Павел Петрович.
— В литейный цех? — удивленно пожал плечами директор. — Но там надо хорошо знать металлургию!
— Я увлекаюсь ею и, полагаю, смогу быть там полезным, — сдержанно пояснил горный офицер.
Фурман сухо перебил его:
— Вы можете полагать, что вам угодно, но за работу отвечаю я. Нет, это дело вам не по плечу. Я назначаю вас практикантом для разных поручений. Как я сказал, так и будет! — он вскинул голову и глазами показал на дверь.
На душе было горько, но приходилось уходить. Аносов побледнел и сдержанно-спокойно откланялся…
Шихтмейстера устроили в небольшой квартирке с видом на гору Косотур. Меблировка комнат была скромна до предела: два стола, стулья и скрипучая деревянная кровать. Аносов смёл пыль со стола, раскрыл чемоданчик, добыл из него стопку книг и разложил у лампы. Одиноко, грустно. Угнетала заброшенность. Он уселся к огоньку и задумался. В домике царило безмолвие, лишь потрескивал фитилек в лампе да за печкой монотонно трещал сверчок.
«Выходит, я буду всем и ничем! — с тоской подумал Аносов. — Столько ехать, мечтать, и вот — угрюмый городок в горах, неприветливые и суровые люди».
Он взял томик Ломоносова «Первые основания металлургии, или рудных дел», бережно перелистал его. Михайло Васильевич мечтал о том, чтобы простые русские люди могли служить горному делу. Он верил в сметливость и пытливость их, но что здесь на Урале творится!
Павел Петрович встал и заходил из угла в угол. Гулко отдавались его шаги в полупустой комнате. Тревога постепенно улеглась.
«Нет, ни за что не отступлю перед своей мечтой! — вскинул голову Аносов и, подойдя к оконцу, посмотрел на дальние горы. — Суровый край, подумал он, — но здесь я не один. Живет тут литейщик Швецов, который, по всему видать, любит свое мастерство. И таких ведь немало! Быть вместе со своим народом — и в труде, и в невзгодах, и в радостях — вот что главное. Простые люди душевным теплом обогреют, ласковым словом…»
Он вспомнил про ладанку — дар Захара, извлек ее из чемоданчика и долго рассматривал уголек. Стал темен, хрупок он, а может накалиться, дать жар и приветливый огонек! Кругом гнёт; от бед и горя, как этот уголек, потемнело сердце у народа, но тепла и света в нем много, ой, как много!
Томимый думами, Аносов в эту ночь долго не мог уснуть, прислушиваясь к тишине. Перед его мысленным взором вставал старый литейщик Швецов и, казалось, шептал юноше: «Гляди, милый, не трусь! Хороший сплав никогда не сломится, всегда будет пружинить. Так и мужественный человек должен прямо смотреть в глаза бедам! На всякую трудность надобно терпение. В терпении характер выковывается…»
Утром по заводскому гудку Павел Петрович отправился в цехи. В приземистых закопченных помещениях, в которые скудно проникал свет, работали сотни людей. Очень трудно было уяснить себе, почему на оружейной фабрике делают пилы, гвозди, топоры, подковы, токарные и слесарные инструменты и очень мало клинков. Практикант для разных поручений имел право входа в любой цех, но вскоре он понял, что не везде желателен. Мастера-немцы неохотно открывали перед Аносовым двери и встречали его молчаливо. Свою работу, даже пустячную, они обволакивали тайной. Только в литейной Павел Петрович отвел душу. Здесь работало много коренных уральцев, хмурых и неподатливых людей. Они молча возились у домны. Аносов внимательно присмотрелся к их работе. Из полумрака вышел знакомый литейщик. Седые волосы на голове мастера прижаты ремешком, на груди кожаный прожженный фартук-запон.
— А, Швецов! — обрадовался Аносов. — Ну, хвастай делами!
— Хвастать-то нечем, батюшка! — приветливо заговорил старик. — Гляди, какие наши горны: в каждый отпускается по двенадцати пудов чугуна да угля по коробу. Вот и роби! А сплав? Поглядите!
Аносов молча разглядывал металлический брусок.
— Плохой металл! — вздохнул литейщик. — Я роблю тут много годов, а есть которые и поболее, а как варить сталь, толком никто не знает. Всем ворочают чужаки. — Швецов обеспокоенно оглянулся и продолжал тихим голосом: — Разве иноземец покажет, что и как? Никогда!
Павел Петрович вплотную подошел к Швецову:
— А что если самим варить сталь?
— Попробуй! — энергичное лицо литейщика осветилось скупой улыбкой. Нет, батюшка, ничего не выйдет. Мы не хозяева тут. А то бы…
Он не досказал свое затаенное желание, но по глазам старика Аносов догадался, что он упорен и не легко сдается в беде.
Литейщик взял Аносова под руку и увлек в кричную.
— Погляди, батюшка, что робится. Любо-дорого! — Он засиял, тешась работой кузнецов. Железные полосы быстро нагревались в горне, из бурого металл становился вишневым, потом светлел и делался золотистым. Еще мгновение, и на нем заискрились звездочки.
Плечистый богатырь-кузнец схватил щипцами раскаленное железо и кинул под молот.
— Колдун, укротитель огня! — сказал Аносов и не мог оторвать глаз от работы кузнеца.
Приятный ритмичный звон шел от металла. Швецов в такт взмахнул рукой и лукаво-весело проговорил:
Тук-тук! В десять рук Приударим, братцы, вдруг!Лицо его засняло, морщинки разгладились. Заглядывая Аносову в глаза, он попросил:
— Не обходи нас, батюшка, заглядывай почаще…
— Приду, обязательно приду и буду учиться у вас! — душевно отозвался Павел Петрович и тут же, вспомнив своего спутника Петера Каймера, вдруг спохватился: — Погоди, да в Златоуст приехал один знатный литейщик Каймер. Похвалялся он, что чудо-сталь плавить умеет!
Литейщики насмешливо переглянулись.
— Э, батюшка, — рассмеялся Швецов. — Есть и такой! Но то пойми, что от похвальбы до дела целая верста! Вот поглядим, как наша синица море зажгет!
Добродушно посмеиваясь, он проводил Аносова до ворот.
Глава третья ДРУЖБА СО СТАРЫМ ЛИТЕЙЩИКОМ
В тихие вечера Аносов зажигал старинную чугунную лампу, придвигал объемистую рукопись и садился за стол. Он особенно любил в эти безмолвные часы, когда Златоуст уходил на покой, раздумывать над своей работой. Его первый труд «Систематическое описание горного и заводского производства Златоустовского завода» подходил к завершению. В сознании ярко всплывали виденные им картины рудников, тяжелая работа углежогов на куренях. Всё было им выношено, продумано. За полтора года пребывания в Златоусте он глубоко изучил положение на фабрике белого оружия. Месяцы упорного труда не прошли напрасно, — он хорошо постиг организацию производства, сущность технологических процессов и сейчас уверенно писал обо всем этом своим крупным и четким почерком.
«Чтобы яснее представить горное и заводское производство Златоустовского завода, — предупреждал будущего читателя Аносов, последуем следующему порядку: сперва будем говорить о рудниках, потом о лесах, далее о плотине и водяных колесах, доменной фабрике, кричной фабрике и, наконец, о передельной фабрике или переделе железа».
Сейчас, перечитывая свою рукопись, он убедился, что, несмотря на многие недостатки, горнозаводское дело в России стоит очень высоко и Европе есть чему поучиться у русских. Не случайно немцы внимательно присматривались к работе златоустовских мастеров. Простой русский мастер Дорофей Липин побил своим искусством немцев: его оружие оказалось наилучшим.
Аносов обладал большим терпением и усидчивостью. Но решающим оказалась его жгучая любознательность и умение быстро ориентироваться в обстановке. Добросовестное изучение горного дела на практике и сбор материалов потребовали больших усилий. Но Аносов не испугался их. Занимаемая должность позволяла ему бывать везде — на железных рудниках, в лесах, на заводской плотине, у гидротехнических установок, у домен, в кричной и передельной фабрике — и всюду знакомиться с умельцами.
У старой домницы он близко сошелся с высоким, плечистым стариком литейщиком Швецовым. Любо было смотреть на размеренные, спокойные движения седобородого мастера. Острыми серыми глазами смотрел он в фурму, наблюдая за оттенками пламени в горне. По тому, какую окраску принимало пламя, старик узнавал о спелости плавок. Вековой опыт был за плечами Швецова: его накопили целые поколения уральских литейщиков, — но старик про себя таил секреты плавки. Сталь у него получалась по тому времени отменная. Конечно, ей далеко было до бадаевской, образцы которой хранились в Горном корпусе, но всё же Аносова влекло к мастерству старика Швецова. Он обходительно и осторожно допытывался у литейщика обо всем, но тот только вздыхал и жаловался на свои хворости, а о деле — ни слова.
В тихий вечерний час Павел Петрович подошел к нему и заговорил задушевно, тепло:
— Ты всё еще чем-то недоволен, отец? А ведь литье у тебя идет хорошо!
— Хорошо, да не совсем! — сурово взглянул на Аносова старик. — Труда и смекалки вложили много, а самого главного-то и нет. Погляди!
Он подвел горного офицера к рабочей полочке, на которой хранились куски разной руды и бруски металла. Литейщик отобрал и положил на шершавую ладонь брусок синеватого сплава.
— Ты, мил-друг, присмотрись; это лучшее, что есть у нас! — хмуро сказал он Павлу Петровичу. — Из него клинки робят. Но что за клинки, батюшка? Где им тягаться со старинным булатом!
Аносов грустно вздохнул и подумал: «Да, это не хорасан, не кара-табан, не сирийский шам! Металл мертв, не проступает в нем узор древних булатов, не отливает он синью!».
Литейщик понял грустное настроение Аносова и с горечью сказал:
— Сколько дум и беспокойств, от души стараешься, благостен наш труд. Истинно! Но где добыть совершенство?
Он долго и тепло говорил о своем тяжелом мастерстве. И чувствовал Аносов, что литейщик доверяет ему, любит и отмечает его, но до своей тайны еще не допускает.
— Ты, батюшка, приходи ко мне, в мой домик. На досуге потолкуем о деле, — предложил однажды старик Аносову.
В свободный воскресный день практикант отправился к литейщику. Он долго блуждал по улочке, круто убегавшей под гору к речке Громатухе. Наконец нашел серый от непогод и времени домишко, обнесенный высоким плотным забором. Глухо и безлюдно было в этом кержацком конце городка. «Замкнуто живут люди!» — подумал Аносов и осторожно постучал в калитку. Послышались легкие шаги, загремел запор, и дверь со скрипом распахнулась.
Аносов от неожиданности зарделся: перед ним стояла высокая и стройная девушка с русыми косами.
— Что же стали, проходите, батюшка давно поджидает вас! — приятным певучим голосом позвала она, повернулась и легкой походкой пошла впереди юноши.
— Сюда, вот сюда! Тут в сенцах приступочки, не расшибитесь! — с улыбкой приглашала она гостя.
Сколько чистой прелести было в ее ласковой улыбке, в блеске крепких и ровных зубов!
Аносову хотелось перемолвиться с ней приятным словцом, но от смущения он растерялся.
Девушка провела гостя в переднюю горенку и, показывая на дверь, предложила:
— Заходите, батюшка здесь!
Так же внезапно, как и появилась, кержачка быстро исчезла в соседней клетушке за чистой холщовой занавеской. Аносов открыл дверь и остановился на пороге. В глубине комнаты за тесовым столом сидел Швецов. Перед ним лежала раскрытая библия. Острые серые глаза литейщика выжидательно посмотрели на Аносова.
— Что же остановился? Входи, Павел Петрович, да садись! — ласково пригласил он, показывая на скамью рядом с собой.
Аносов уселся и невольно оглядел горенку. Маленькая, уютная, она сверкала чистотой. Всё выглядело по-кержацки домовито. Кругом, вдоль стен, грузные сундуки. В углу мигал огонек лампады. На широких выскобленных скамьях стояли ящики с кусками руды, сплавов, железных брусков.
— Вот в древних писаниях отыскиваю потерянное, — с грустью сказал старик. — Библия — самая старинная книга, и много в ней написано о крови человеческой. Пастух Давид отрубил голову Голиафу. Из чего изготовлен был этот меч? По складам разбираюсь, всё доискиваюсь до потребного. Холодное оружие на Востоке — непревзойденное! Но как рождали металл для клинков, вот любо знать! Доискиваюсь! Много умного в сей книжице, да немало и непроглядного тумана. Ох, Павел Петрович, милый ты мой, по глазам вижу, и ты тоскуешь по настоящему делу!
Аносов залюбовался благообразным стариком. Глаза его засветились теплом, когда он сказал:
— Нам бы с тобой, отец, отыскать такой сплав, чтобы сковать меч-кладенец и вручить его русскому богатырю: «На, круши супостатов отчизны!». Но где же подлинное мастерство? За семью дверями, за десятью замками упрятано. А добыть его надо! Вот расскажи, отец, о своих плавках.
— Да что рассказывать! — отмахнулся литейщик. — Сам хожу словно в потемках!
— Надо нам из потемок выходить, отец! — решительно сказал Аносов. Нужно во что бы то ни стало добыть чудесный сплав. Тогда перед своей совестью можно будет сказать, что не напрасно мы ходили по земле!
— Вот, вот, это правильное слово! — охотно согласился старик. Главное, милок, в том, чтобы радость в мастерстве обрести! — Швецов захлопнул библию, закрыл ее на медные резные застежки, встал и потянулся к ящикам со сплавами. Перебирая их жилистыми натруженными руками, он подолгу разглядывал образчики и говорил с лаской: — Тут, слышь-ко, не только моего труда сплавы, но и батюшки моего, почитай, есть. Большой умелец он был, у Демидовых на домницах работал. Про демидовский «Старый соболь» слыхал? Марка такая выбивается заводчиком на железе. До сей поры «Старый соболь» в большой славе. А кто такие сплавы робил? Деды и отцы наши — демидовские труженики. Себя, сердяги, на огневой каторге сжигали, а Демидовым богатство да славу создавали! От батюшки своего я многое постиг. Гляди, протянул он сплав, — нет в нем узоров, а металл добрый. Чуешь: тёпел и тяжел он. Много труда и пота рабочего впитал в себя.
Аносов взял в руку небольшой брусок.
— Добрый сплав! — похвалил он. — Твоей работы?
— Моей, — с гордостью отозвался старик. — А вот полюбуйся на немецкую. Это обломок золингенского клинка. Булатный узор видишь? спросил литейщик.
— Вижу, — отозвался Аносов и внимательно вгляделся в темно-синее поле клинка. На нем проступали мелкие нежные узоры. Походило на булат.
— Ты не думай, это не булат! — словно угадывая мысль гостя, с легким презрением сказал Швецов. — Обман один. Узоры в нем кислотой травлены. Наведены. Булат, батюшка, как и человек, свой характер имеет. А характер, известно тебе, не снаружи лежит, а в душе человека. И проступает он, когда человек гневен или радостен. Так и в правдивом булате, — узор идет из глубины металла. Полюбуйся! — он подал Аносову обломок хорасана. — Видишь, что робится? Тут металл воистину свой характер кажет…
Да, это был настоящий булат! Старый обломок, подобранный в давние годы на ратном поле, всё еще излучал синеватые разливы по серебристому фону.
— Вот оно, рабочее мастерство! — торжественно сказал старик и продолжал перебирать сплавы. Для каждого он находил свое меткое слово…
За дощатой стеной зашумели ребята, и знакомый певучий голос стал успокаивать их:
— Не кричать! Там-ко дедко с гостем речи ведет, а вы шумите. Слушайте сказку…
Аносов насторожился. Его влекло к металлам, но ласковый голос кержачки просился в душу.
— Тише, притаитесь, про родные места будет сказ, — певуче продолжала девушка, — как в наших таежных урманах, да в дремучих лесах, да в горах таится Полоз великий. Слышь-ко, как на борах шумит? Там-ко в чаще баба-яга ходит, золото хоронит, а леший серебро стережет…
— Ты нам про лисичку да про кота, что настроил гусельцы, спой! перебили ребята.
Литейщик поднял голову и проворчал:
— Чего разбушевались, петухи?
Никто не слышал его. За перегородкой вполголоса запела девушка:
Трень, трень, гусельцы, Золотые струночки!..— Ты смотри, что робится! — кивнул литейщик. — Не хочешь, а заслушаешься. Ай да Луша! — довольный дочерью, похвалил ее старик и снова перевел разговор на металлы.
Аносов плохо слушал его, напряженно внимая голосам в соседней горенке. Но там скоро замолчали. Изредка только слышалось шушуканье да вырывался веселый смешок, словно кто-то на мгновенье тряхнул серебряными бубенчиками.
Павел стал прощаться с мастером. Литейщик сгреб в свои огрубелые ладони его тонкую белую руку и крепко сжал ее.
— Запомни, Павел Петрович: дело у нас общее. Одной веревочкой связала нас работенка. Вместе нам и жар-птицу добывать!
От глаз старика побежали лучистые морщинки. Лицо его потеплело.
— Знай, батюшка, во всех добрых делах буду тебе верный помощник… Луша, провожай гостя…
Девушка снова появилась на пороге, большие глаза ее сияли. Она проводила Аносова до калитки. При расставании шихтмейстер взял ее за руку. Девичьи щеки зарделись. Кержачка не двигалась, не убегала, а только пылала заревом.
— Ах, Луша! — вздохнул Аносов и улыбнулся ей.
Девушка не сразу захлопнула калитку за ним. С минуту постояла, задумчиво посмотрела ему вслед и подумала: «Чем же он околдовал батюшку? Не нахвалится им…»
Она встрепенулась, закрыла дверцу и запела:
Пошли горы, пошли ельнички, Пошли темные пихтарнички…Глава четвертая ТОЛЕДСКИЙ КЛИНОК И О ЧЕМ РАССКАЗАЛИ СТАРИННЫЕ МАНУСКРИПТЫ
На Златоустовский завод приехали офицеры кавказской линии. Шумная офицерская компания разместилась на квартире Аносова, быстро сойдясь с молодым хозяином. Завод спешно готовил к отправке партию клинков, а приемщики оружия всё торопили. Заброшенные в Уральские горы, они скучали, по вечерам бражничали и волочились за пухлыми немками.
Павел Петрович был с гостями отменно вежлив, хотя их проказ не разделял и больше всего интересовался оружием.
Недовольный их равнодушием к златоустовскому литью, он однажды спросил:
— Не пойму, отчего вам не по душе златоустовские клинки? Вы только посмотрите на металл, который отливают здешние мастера! — Аносов вынул из кармана стальную пластинку синеватого отлива, дохнул на нее, и сталь запотела. — Посмотрите, сколь чудесен сплав!
— Нет, вы лучше посмотрите мой клинок! — офицер-кавказец вынул из ножен клинок и протянул Аносову. Павел Петрович замер от восхищения: на клинке темнела пасть волка — клеймо литых толедских булатов.
Руки шихтмейстера задрожали. Он не мог оторвать глаз от клинка, по которому струился синеватый узор, словно растекался таинственный металл. Аносов уставился в узор: кто и каким образом создал этот литой булат?
Офицер взял из рук Аносова клинок и взмахнул им. В ушах Павла Петровича просвистел ветер. Сталь блеснула синеватым огнем.
— Желаете, я покажу вам, что делает этот булат?
Кавказец достал газовый платок, подбросил его и протянул булатный клинок. Тончайшая ткань, коснувшись клинка, распалась на двое.
На лбу Аносова выступил пот. Очарованный, он смотрел на клинок. Офицер улыбнулся, подошел к стене, где в темной дубовой раме с давних времен висел портрет царя Петра, и бережно снял его; на гладкой поверхности в простенке торчал кованый гвоздь. Не успел Аносов опомниться, как клинок просвистел, и отрубленный кусок гвоздя, звеня, покатился под стулья.
— Видели? — офицер бережно сунул клинок в ножны.
Аносов понял, каким сокровищем обладал гость с далекого Кавказа.
В эту ночь Павел Петрович не мог уснуть. Он знал о существовании замечательных сталей, много читал о чудесных клинках, много их видел, и сегодняшний клинок с новой силой разбудил в нем беспокойство искателя. Лежа в постели и глядя в темно-синее ночное небо, он вспомнил, как струится и играет синеватыми узорами таинственный клинок.
Светящиеся из бездонной глубины звёзды казались ему блестками этого чудесного сплава.
Вскоре офицеры приняли златоустовские клинки, снарядили обоз и уехали на Кавказ. Прощаясь с владельцем булата, Аносов попросил разрешения еще раз посмотреть клинок и долго разглядывал притягательный узор. Тот мерцал неугасимым блеском.
Целую неделю молчаливый Аносов бродил по окрестным горам. Старик Швецов, глядя на его прямую фигуру, говорил:
— Пусть выходится. Ишь ты, больно задел его булат! Ровно милую утерял!
Подошла сухая и теплая осень. Дали стали прозрачными, на озерах шумели последние гусиные стайки. Аносов закрылся у себя в доме и углубился в чтение.
Он прочел тысячи пожелтевших страниц, но в них почти не было практических сведений. Очень подробно передавались легенды о булатной и дамасской стали, но тайна оставалась нераскрытой. Народы Индии, Сирии, Ирана и многих восточных стран передавали предания о легендарных клинках из поколения в поколение. В древних песнях восхвалялась мечта воинов мечи из булатной стали, на которой выступал изумительный рисунок металла струйчатый, волнистый, сетчатый, коленчатый. В старинном памятнике русской письменности — «Слово о полку Игореве» — воспевался русский булат «харалуг» — крепче и острее всех в мире.
Но как изготовлялся этот металл, древний манускрипт не давал ответа.
Немцы очень искусно приготовляли европейские булаты. Увы, они лишь по внешнему виду походили на дамасские, но свойства их металла резко отличались от совершенного мастерства древних оружейников! Дамасские клинки имели лезвие необычайной остроты и стойкости, но зато были совершенно лишены упругости. Европейские же сохраняли упругость, но ломались от ударов, а в остроте и твердости уступали восточным.
«Где же разгадка этой тайны?» — с волнением думал Аносов, всё с большим упорством изучая старинные фолианты.
И вот, наконец, словно в густом тумане мелькнул проблеск. В одной из книг, написанной путешественником Гассен Фрацем, посетившем Дамаск, Аносов обнаружил сжатое, но точное описание фабрики белого оружия. Иностранец слегка приподнял завесу над тайной закалки булата.
Павел Петрович записал в свой дневник:
«При сей фабрике, лежащей между двумя горами, выведены две стены около пятнадцати футов вышиною и около тридцати трех длиною, таким образом, что составляют между собою угол, в коем находится отверстие до четырех почти футов шириною и от четырех до пяти футов толщиною. Стены сии имеют направление к северу, вероятно по той причине, что по сему направлению обыкновенно дуют там сильные ветры. Узкое отверстие снабжено дверью. Работу производят токмо во время сильных ветров. Тогда нагревают клинки докрасна, относят в отверстие и отворяют двери. Ветер со стремительностью дует в отверстие и охлаждает клинки.
Они уверяют, что скорость ветра в отверстие бывает столь велика, что всадник на коне близ оного мог бы быть опрокинут».
Аносов пересмотрел груды книг, но нигде не нашел подтверждения этого опыта. И тут он вспомнил одно старинное русское сказание о том, как безвестный оружейник закалял изготовленный клинок.
На грани Дикого Поля в засеке стояла русская порубежная крепость, и жил в ней древний коваль Назар-дед. Никто лучше его не мог сковать меча для воина. Всё богатство мастера составляли булатные клинки — чудо мастерства. Среди них имелись прямые и тонкие, как жало осы, — они легко сгибались, как тростинка под ветром, в их упругости и пластичности скрывалось свойство чудесного металла; здесь были и змеевидные клинки: словно пламень, они извивались голубоватым блеском. В дубовых скрынях хранились широкие кривые мечи, которыми рубились в злых конных сечах отважные порубежники.
Не раз заезжали к древнему кузнецу в мастерскую торговые гости из далеких стран. Многое они видели на больших дорогах и людных торгах, всякие товары были им знакомы. Но таких булатов, какие ковал русский умелец, не довелось им видеть никогда! Разодетые в дорогие одежды, в сопровождении слуг, заморские гости долго стояли в кузнице и любовались работой подручных коваля. Высокий седой старец с густыми волосами, прижатыми к голове тонким ремешком, спокойно и уверенно, как чародей, укрощал огонь и железо. В сильных жилистых руках деда раскаленное докрасна железо превращалось в крепкие сошники, косы, серпы и, что диво-дивное, в бесценные мечи.
Заезжий гость, высокомерный и богатый, удивился мастерству русского умельца и сказал ему: «Для чего ты тратишь свой редкий дар на поковку простых сошников и серпов? Разве дать воину в руки булатный меч не является самым высоким подвигом?». Из-за нависших мохнатых бровей кузнец сурово посмотрел строгими глазами на торгового гостя. «Первое и самое важное на земле — хлеб! — рассудительно сказал он. — Благословен труд земледельца, и ему, первому труженику на земле, мастерство наше служит. Воин оберегает священный труд пахаря и ремесленника, и ему даем в руки булатный меч!» Богатый торговый гость внимательно слушал деда. «Ты мудр, старик! — льстиво сказал он. — Но первое на земле — булатный меч, а не хлеб! Меч возьмет и от пахаря и от ремесленника всё, что ему нужно! Скажу прямо, отец, дивен твой дар. Где и от кого ты научился ковать такие мечи?» Кузнец улыбнулся и ответил: «Эх, милый ты мой, да учился я у дедов и у батюшки — простых русских мастеров, а к ним пришло умельство от прадедов. Ковали и мастерили они оружие боя меткого и дальнего, роб или палаши и пики из стали огневой остроты и крепости бобрового зуба. Вот оно каково, гость желанный, мастерство наше русское, старинное!»
Купец приказал слуге: «Принеси мой ларец!». Раб принес ему тяжелый кованый ларец, и гость открыл его. Доверху он был наполнен червонцами. «Видишь! — показал глазами на золото купец. — Я отдам тебе всё это богатство, если научишь моих рабов отливать булаты». Кузнец равнодушно посмотрел на золото и спокойно сказал: «Я вижу, милый человек, ты прибыл из богатых стран и понимаешь толк в нашем мастерстве. Но не обессудь, дорогой гость, умельство наше не продажное. Оно дается в руки тому, кто сердцем к нему преклонён». И сколько ни уговаривал купец русского кузнеца, тот так и не согласился на его просьбу. Уехал торговый гость ни с чем.
Наступила весна, леса оделись листвой, заблагоухали поля и сады. Весенний шум и плеск реки доносились до кузницы. Небеса сияли голубизной, и от яркого солнца мелькали блики на реке.
Всё живое радостно встречало весну с ее буйным ликованием. Только древний кузнец не оживился, не расправил плеч под вешним теплом, а сказал своим подручным с грустью: «Ну вот и отходился старый коваль на земле, попил вволюшку водицы из чистых родников, поел досыта хлебушка, потрудился до соленого пота, я теперь и на погост пора! Только погоди, чур меня, прежде чем уложить в домовину старые кости, должен я передать умельство самому достойному из вас! — Дед пытливо оглядел своих подручных и сказал самому сметливому и любимому: — «Ты и переймешь мое умельство».
С этого дня кузнец уводил подмастерья в полутемную каморку и долго там вел с ним беседы. После испытаний юноши старик принялся изготовлять драгоценный сплав в простой маленькой домнице. Одного только избранника своего допустил Назар к великому таинству рождения булата: «Смотри и познавай великое мастерство! Дорог ты моему сердцу, словно родной сын. Узнай поэтому то, что известно только немногим».
В домнице бурлила лава, плавились руды. Заворожённым взором смотрел юноша на синеватые огоньки побежалости чудесного сплава…
Старик сковал клинок.
Он торопливо передал подмастерью раскаленный, сыплющий синими искрами клинок, и тот, вскочив на тонконогого гривастого коня, понесся с клинком в Дикое Поле. Раздувая жаркие ноздри, бешеный скакун мчался от кургана к кургану; он несся, как стрела, выпущенная доброй рукой из лука, мчался всё вперед и вперед, словно преследуемый стаей хищников. Ветер свистел в ушах всадника, одежда его развевалась, а он, подставив воздушной струе пламенеющий клинок, всё так же бешено гнал коня.
Когда улеглась пыль на дороге, спал дневной жар и повеяло вечерней прохладой, — только тогда молодой подмастерье вернулся в мастерскую. В загорелых руках его сверкал клинок с безукоризненно гладкой поверхностью.
«Ты пробыл у меня под началом пять годов, но сегодня ты впервые видел рождение булата! — с отцовской теплотой сказал дед избраннику. Он наклонился и поцеловал меч-кладенец. — Отныне, сын мой, тебе заступать мое место в мастерской, а мне пора на погост! Береги тайну умельства нашего и отдай его в достойные руки. Не для разбоя и грабежа ковать тебе мечи, а в сбережение великого честного труда!..»
— Так вот что: холодный воздух закаливает металл! — вскрикнул в изумлении Аносов, перебирая в памяти это старинное предание.
Придя в литейную, он не утерпел и сказал старику Швецову:
— Как человек становится жизнерадостным и деятельным на свежем воздухе, так и сплав закаляется на открытом воздухе лучше, чем в разных жидкостях — в воде, сале, кислотах и ртути! Выходит, острота азиатских сабель зависит более от способа закалки, нежели от металла, из коего приготовляют клинки!
— От века так замечено, Павел Петрович! — согласился литейщик. — Чем сильнее ветер, тем крепче сталь!
Аносов крепко сжал руку Швецова повыше локтя. Несмотря на возраст, мускулы старика были крепки и тверды.
— Труд закалил тело! — поняв удивленный взгляд Аносова, сказал старик.
— Труд и упорство, — подхватил горный офицер. — А что если и мы попробуем проделать древний опыт?
— Что же, займемся, Петрович. Вижу в том только хорошее. Я согласен! — спокойно ответил старик, и глаза его заблестели по-молодому.
Глава пятая ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ
Аносов и Швецов решили втайне от заводских проделать свой первый опыт над стальными клинками. Для этой цели они использовали цилиндрические мехи. Сгущенный воздух, который с упругой силой вырывался из них, по действию своему походил на сильный ветер. Раскалив докрасна обыкновенный столовый нож, Павел Петрович с поспешностью перенес его к отверстию воздухопроводной трубы, где он в очень короткое время охладился. Аносов слегка постучал по металлу, и от него отделилась окалина. Это обрадовало испытателя, — выходит, нож на самом деле получил известную степень закалки. Однако радость оказалась преждевременной: стоило только погнуть нож, и Аносов убедился, что закаленная вещь не имела упругости и осталась в том же согнутом виде. Павел Петрович ожидал иного: он полагал, что от закалки в сгущенном воздухе нож должен скорее переломиться, нежели согнуться.
Ожидания не оправдались. Однако Аносов не сдавался. Он решил обточить прокаленный нож на точиле. Посыпались искры, чуткие пальцы инженера и зоркий взгляд его уловили в момент точки особую остроту лезвия. «Что же произошло?» — подумал он и сравнил свой нож с другими, обыкновенной закалки. К своему удивлению, он убедился, что лезвие закаленного, несмотря на мягкость ножа, более стойко и острее других. Чтобы убедиться в этом, Павел Петрович взял тугой сверток войлока и десять раз перерезал его. Новый нож не затупился, он легко и быстро входил лезвием в сверток. Обычные ножи, пущенные в ход, оказались не пригодными для этой цели: они не проникали вглубь и только катались по войлоку. Редкий из них мог сделать два-три разреза.
«Может быть, это случайность?» — всё еще не доверяя своему открытию, подумал Аносов.
Он несколько раз проделал опыт и получил те же результаты.
Долго ходил он в раздумье по заводу и не мог успокоиться, тщательно перебирая в памяти все детали своих опытов. Многое теперь становилось ему ясным. В свою записную книжку Аносов занес пять первых положений:
«Первое. Закалка в сгущенном воздухе имеет преимущество перед обыкновенными способами для тех вещей, коих главное достоинство должно заключаться в остроте лезвия.
Второе. Чем холоднее воздух и чем сильнее дутье мехов, тем тверже бывает закалка. Впрочем, я не имел случая испытать, до какой степени твердости можно закаливать стальную вещь при сильной стуже, ибо во время опытов не было холоднее 5°. Может быть, жестокая стужа — усиленное действие мехов, к сей цели приноровленное, — оправдает совершенно известие дамасских путешественников.
Третье. Чем тонее вещь, тем тверже закалка при одинаковых других обстоятельствах, и если вещь не требует крепкой закалки, то уменьшение силы дутья, может всегда удовлетворить сему требованию.
Четвертое. Чем тверже сталь, тем тверже закалка, а потому степень закалки может быть уравниваема и нагреванием, более умеренным, и уменьшением дутья мехов.
Пятое. Железные вещи, хорошо процементированные, могут получать, равным образом, при закалке в сгущенном воздухе острое лезвие».
Ранним утром Аносов вышел за околицу завода и пошел вдоль Ая. Хотелось побыть одному и подумать о своей жизни на оружейной фабрике.
С гор шла прохлада, на травах, ковром покрывших долину реки, блестела крупная роса. Ай слегка дымился под солнцем. На лугу, мерно шагая, косил рабочий. По лицу его катился обильный пот, он тяжело дышал. Аносов на минуту остановился, присмотрелся к работе и, не утерпев, спросил:
— Что, тяжело, братец, косить?
— Тяжело! — прохрипел косарь. — Только по росе и можно косить нашей косой!
— Дай попробую! — внезапно попросил Аносов.
Рабочий удивленно взглянул на инженера.
— Да не сдюжить вам! И косу сломаете! — неуверенно ответил он.
— Сломаю, — новую куплю! — не отступая от своего, решительно сказал Павел Петрович, размашисто шагнул к косарю и взял у него из рук косу. По-хозяйски прикинув ее на руке, он оглядел острие, поморщился и подумал про себя: «Плохо закален металл, плохо!».
Однако он встал лицом к начатому прокосу и взмахнул косой. Сочная трава под сильным ударом легла косматой грядой у ног. Сердце инженера учащенно билось, трудно было идти и подрезать траву. С непривычки горели ладони, коса старалась острием уйти в землю, больших усилий стоило, чтобы держать ее ровно, параллельно дерну, и умело резать травы.
Аносов начал уставать. Косить стало труднее: солнце сильно припекало, роса быстро испарялась, и сухая трава резалась плохо. Косарь внимательно следил за косой и подбадривал Аносова:
— Ишь ты! Небось впервые за такое дело взялись, да ничего — выходит. Сила да сметка — вот и все!
— Научусь! — улыбаясь ответил Аносов и утер струившийся по лицу пот.
— Жарко становится, трава обсыхает, скоро и шабаш! — с сожалением сказал косарь. — У нас косьба — как в народе сказывается. Слыхали крестьянскую поговорку?
Коси, коса, Пока роса, Роса долой И мы домой…Вот оно как! Да, с такой косой долго не покосишь! — пожаловался он и протянул руку: — Дозвольте, теперь я сам!
Он взял косу и с минуту шел вперед, потом остановился, вынул брусок и стал точить лезвие.
— Одно слово — коса, а косить нечем: быстро тупится. Такую бы косу только смерти!
Аносов не уходил.
— А почему так тупится коса? — спросил он.
Косарь поднял голову, безнадежно махнул рукой:
— Как же ей не тупиться, когда лезвие плохое. У нас тут свой заводишко, Арсинский, там и косы такие робят… Ну, ты, пошли! прикрикнул он себе и снова принялся косить.
Павел Петрович тихо пошел вдоль реки. Он прислушивался к голосу птиц, к зеленому шуму соседнего бора. На душе было неспокойно. Он вспомнил недавние свои опыты по закалке острия ножей, и это вдруг как-то само собой увязалось с мыслью о косах.
«Вот в каком направлении надо продолжить мои опыты!» — подумал он и незаметно вышел к зеркальному пруду. Там он долго бродил по плотине, заглядывая вглубь. Среди водорослей в полутьме водной толщи серебристыми искрами проносились стаи резвых рыбок.
Рядом раздались стуки валька. Павел Петрович взглянул на мостки и зарделся. Подоткнув синее платьишко, склонившись к воде, стояла Луша и старательно била вальком по мокрому белью. Ее упругие, загорелые ноги выделялись на зеленом фоне откоса. Туго заплетенные русые косы золотой короной возвышались на голове.
— Здравствуй, Луша! — весело крикнул девушке Аносов.
Она подняла глаза и, увидев инженера, быстро выпрямилась.
— Здравствуйте, Павел Петрович! — отозвалась она.
Аносов подошел к мосткам.
— Ой, не надо сюда! — смущенно вскрикнула Луша и быстро оправила платье. Стройная и строгая, она стояла перед ним в блеске утреннего солнца.
— Ах, Луша, какая ты недотрога! — вздохнул он. Его сильно тянуло к этой простой и ласковой девушке.
— Такая уж! — застенчиво отозвалась она, а у самой в глазах сверкнули озорные огоньки. — Проходите, Павел Петрович. Нельзя долго стоять вам тут, негожее могут подумать люди…
— Пусть думают, а мне очень хорошо подле тебя, — осилив робость, сказал он.
Девушка обожгла его взглядом. Ей тоже хотелось, чтобы он побыл здесь, у мостков, — приятно было слышать его голос, смотреть в простое, открытое лицо, но, поборов это чувство, Луша сказала:
— Меня поберегите, Павлушенька.
В этом ласковом слове прозвучало столько нежности, что Аносов весь просиял.
— Я уйду, Лушенька, — проговорил он. — Но мне надо сказать тебе много, очень много!..
— Потом, — тихо прошептала она. — Потом…
Он пошел к заводу, а позади снова зачастили удары валька. Над прудом раздалась милая песенка, и на сердце у Аносова зажглась радость. Казалось, кто-то сильный и добрый распахнул перед ним широкие, осиянные солнцем, просторы.
На другой день Аносов отправился к начальнику оружейной фабрики и попросил у него разрешения побывать на Арсинском заводе. Обрюзгший чиновник поднял удивленные глаза.
— Что это вам вдруг вздумалось? — хрипловатым голосом спросил он.
— Меня интересует производство кос. Может быть, я буду вам полезен кое-чем, — сказал Аносов, пристально глядя в лицо начальника.
— Ладно, поезжайте, только не надолго, — согласился тот.
— День-два, и вернусь, — пообещал Аносов.
— В добрый час, — прохрипел хмурый толстяк и углубился в чтение доклада.
Инженер, веселый и легкий, вышел из мрачного кабинета начальника и направился в литейную: ему хотелось захватить на Арсинский завод и литейщика Швецова.
Старик внимательно выслушал его и огорченно сказал:
— Рад бы в рай, да грехи не пускают. И не разрешат мне оставить литье, да и сам не смогу оторваться. Вишь, какой синь-огонек бегает в глазке, — показал он на фурму. — Разве уйдешь от него! Без присмотра угаснет! — в его голосе послышались ласка и беспокойство. — Нет, ты езжай один, милок. Луша тебя подвезет, благо давно собиралась навестить крестную. Вот и путь-дорога!
— А может быть, Луша давно раздумала? — с волнением спросил Аносов.
— Какое тут раздумье? — добродушно сказал кержак. — Одной боязно было ехать, а с попутчиком смелей.
— Если так, то спасибо! — сказал Аносов. — Завтра же хочу ехать.
— Умно! — одобрил старик. — На зорьке и трогаться в путь! Ну, а я сейчас к своей голубушке! — и он торопливо удалился к домне, где бурлил и кипел металл.
Глава шестая НА АРСИНСКОМ ЗАВОДЕ
Дорога вилась среди глухого бора, на песчаные колеи падали косые лучи утреннего солнца, и ближайшие стволы сосен сияли мягким золотистым светом. В сырой, росистой траве придорожного подлеска лежали нежные сиреневые тени. Спокойную тишину глухомани изредка нарушало пофыркиванье бойко бежавшего серого конька да легкий стук колес шарабана о крепкие смолистые корневища, которые, изгибаясь серыми толстыми змеями, переползали старую гулевую сибирскую дорогу.
Луша сидела рядом с Аносовым безмятежная, радостная. Аносов глядел на нее сбоку, и сердце его сжималось в беспокойстве и тоске. Когда она смущенно взглядывала на него, он чувствовал, что вся кровь приливает к лицу. Павлу Петровичу хотелось рассказать девушке многое, но слова не шли. Он краснел, вздыхал и молчал.
Луша радовалась всему, что подмечал ее острый глаз.
— Глядите, вот следы заюшки на песке, совсем недавно перебежал косой дорогу, вот-вот! — тихим задушевным голосом заговорила она.
— А ты откуда знаешь, что он недавно пробежал? Выдумала! — улыбнулся Аносов.
— Зачем выдумала! Вон под ольшаником на росистой траве темный след. Медуница только-только выпрямилась… Ой, там что! — испуганно вскрикнула она. — Видать, медведище протоптал еще в ночи!
Аносов беспокойно задвигался на сиденье.
— А вы не бойтесь, Павлуша, в эту пору всякий лесной зверь сыт и не тронет человека… А ну, что развесил уши, пошел, Серко! — прикрикнула она на конька.
Инженер засмеялся и осторожно потянулся к Луше. Девушка отодвинулась и жадно вдохнула в себя воздух:
— Духмяно-то как!
И в самом деле: всё кругом было напоено приятным смолистым запахом, который перебивался благоуханием трав, цветов и нагретой земли. Животворное дыхание жизни наполняло необозримое пространство между синим безоблачным небом и величавым бором. Оно проникало во все поры и волновало кровь, заставляло птиц щебетать и кружиться над дорогой и зелеными еланями, а путников замирать от счастья. Они тянулись друг к другу с нежностью и трогательной наивностью, но обоим становилось страшно от этого неясного первого пробуждения большого чувства.
Аносов не смог долго вытерпеть этого непонятного томления и попросил девушку:
— Спой что-нибудь, Луша!
— А откуда вы знаете, что я петь умею? — засмеялась она, и искорки в ее глазах блеснули ярче.
— Слышал, как ты пела о лисичке.
— Что же вам спеть? Ведь песни наши простые, немудрые…
— Что знаешь, то и спой. Сердечное спой! — взволнованно попросил Аносов.
Она повела глазами, и приятный звонкий ее голос поплыл над лесной дорогой.
Павел Петрович осторожно взял пальцы Луши в свои горячие ладони. Девушка не отняла руки, а большие ее глаза как бы спрашивали Аносова: «Ну как, хороша песня?».
Впереди дорогу пересекал бурливый ручей. Он кружил воронками среди мшистых камней. Конь остановился и большим фиолетовым глазом повел на хозяйку. Песня внезапно оборвалась.
— Серко напоить надо! — сказала Луша и быстро соскочила с шарабана, за ней выбрался и Аносов. Девушка отпустила подпругу и похлопала коня по крупу:
— Ну иди, пей, игривый!
Конь, осторожно ступая, подошел к ручью и стал пить. Мягкими губами он звучно втягивал прозрачную воду, изредка поднимая голову, и тогда в ручей срывались и падали крупные серебряные капли…
Луша стояла рядом с Серко и задумчиво смотрела на воду. Аносов не утерпел и обнял девушку. Она испуганно отстранилась от него. В голосе ее прозвучала гневная нотка:
— Не трожь! — Отойдя от ручья, она проворно подтянула подпругу, оглядев коня, быстро забралась в шарабан и крикнула Аносову:
— А ну, поехали!
В каком-то романе Аносов читал о любви, и, стесняясь своих робких изъяснений, он вдруг выпалил:
— Я пылаю, когда смотрю на тебя!
Луша укоризненно покачала головой:
— Эх, Павлушенька, не те это слова!
Она ласково улыбнулась и погнала Серко вскачь. На глазах у нее заблестели слёзы, — то ли от радости, то ли от волнения.
Вдали показались дымки Арсинского завода…
Луша устроилась у родственницы, а Аносов отправился на завод. Угрюмый, обросший черной бородой управитель повел молодого инженера в цехи, где изготовлялись косы. В глаза Аносову сразу бросилась запущенность и неприглядность помещений. В закопченных мрачных мастерских, по углам которых раскачивалась серая пыльная паутина, разместились горны и ряды наковален. Цехи походили на древние кузницы, всё здесь выглядело по старинке. Бородатые мастера ковали косы.
— Вот, глядите наше действо! — уныло показал на бородачей управитель. — Тут есть что перенять. Мастера наши по косной части отменные! похвалился он и вдруг словно спохватился: — Извини, господин хороший, я вас покину пока, дело взывает к хозяину; тороплюсь на приемку!
Аносов учтиво поклонился:
— Пожалуйста, я сам разберусь здесь.
Управитель закинул руки за спину и неторопливой походкой удалился из цеха. Инженер пригляделся к работе мастеров. Вот рядом с наковальней, вросшей в землю, стоит дед; он на глаз определил, готов ли раскаленный брусок. Ярко-желтый, он струится жаром, и при движении с него обильно сыплются белые звездочки.
— Хорош! — одобрил накал кузнец и быстро положил брусок на наковальню. Четырьмя сильными и меткими ударами мастер выровнял клинок. Белый накал перешел в ярко-вишневый, металл постепенно тускнел, и кузнец стал проворно обрезать лишнее, а затем горячий клинок быстро опустил в воду.
— Вот оно как по-нашему! — довольный собой, похвастался он перед Аносовым. — Видали?
— Видел! — спокойно ответил Павел Петрович и пошел к другому мастеру.
И у этого кузнеца оказались те же размеренные, заученные движения, та же ухватка. И этот не утерпел и похвастал:
— Безотказно идет, вот что значит старинное мастерство!
— Да, навыки у вас дедовские! — согласился Аносов и, смело глядя в потное лицо кузнеца, сказал: — В этом, дорогой, больше плохого, чем хорошего!
— Да что ты! Ай не видишь, что за коса-краса! Кремень! Всё возьмет! недовольно ответил мастер.
— Нет, не всё возьмет! Закал плох, лезвие быстро притупится, и косарю тяжело будет с такой косой! — резко перебил Аносов.
— Да ты, барин, хошь раз бывал на покосе? — нахмурился кузнец.
— Бывал и косил! — спокойно ответил Аносов.
Мастер разворошил черную бороду и пробурчал:
— Пойди попробуй, сделай лучше нашего!
— Вот я и хочу попробовать! — уверенно сказал Павел Петрович. — Да ты не обижайся. Кузнец ты хороший, силен, сметлив. Всё до тонкости перенял у деда, а думается мне, что надо и свое добавить.
— Добавишь — испортишь клинок, а за это не погладят по голове. Нет, сударь, так вернее!
Аносов взял у него изготовленную косу, долго вертел в руках, разглядывал, пробовал острие.
— Вот здесь надо лучше закалить. Острие должно быть тверже!
— Оно бы и надо так, да никто не знает, как это сробить! — согласился кузнец.
— А сробить надо! — взглянув в глаза кузнеца, сказал Аносов. — Вот поучусь у вас, может что и выйдет!
Мастер с недоверием взглянул на Павла Петровича.
— Что ж, попробуй, попробуй! — недовольно сказал он и взялся за молот. — А ну-ка, тряхнем по старинке!
Удар за ударом. Всё четко, размеренно, — и коса готова. Инженер долго еще приглядывался к работе кузнеца и что-то записывал в книжечку.
Солнце закатилось за горы, когда Павел Петрович вышел на речку Арсю и увидел Лушу. Она сидела на мостике, опустив босые ноги в холодную воду. Заметив Аносова, девушка вскочила и заторопилась навстречу:
— Когда обратно поедем, Павел Петрович?
— Хоть сейчас. Делать тут больше нечего! — устало ответил он.
— Можно и сейчас, — согласилась Луша. — Конек передохнул, и я искупалась.
— Едем! — твердо решил он и взял ее за руку. — Ах, Лушенька, сколько у нас еще старого, отжившего! Пора бы по-новому работать.
— Погоди, Павел Петрович, придет и молодое!
Из-за леса поднялся месяц, когда они покинули Арсинский завод. Аносов сидел молчаливый, подавленный. Луша крепко прижалась к нему плечом:
— Не грусти, Павлуша. Хочешь, сказку скажу, а то песню спою?
— Нет, Лушенька, — ласково отозвался он и обнял ее. — Сказка и песня тут не помогут. Придется много подумать и поработать!
Она не шевельнулась, не оттолкнула Аносова.
— Постарайся, Павлушенька! Большое не всегда с ходу дается. Верю я, добудешь ты заветное мастерство!
Конь неторопливо трусил по лесной дороге. Месяц поднялся ввысь и медным диском катился среди курчавых облаков. В лесу стояла тишина, но еще спокойнее и ласковее было на сердце Аносова. Он теснее придвинулся к Луше, и оба, молчаливые, счастливые, ехали среди ночного бора…
После поездки на Арсинский завод Павел Петрович доложил начальнику фабрики о своем намерении поставить опыты с косами. Тот с равнодушным видом выслушал Аносова и холодно отрезал:
— Не за свое дело взялись, сударь!
Раздражение его было понятно: он боялся новых затрат, излишних беспокойств и возможных неудач. Начальник хмуро закончил:
— И не говорите мне больше об этом. Слышите? Идите и выполняйте свои обязанности!
Он сидел перед Аносовым грузным каменным идолом — толстый, огромный, серый, с холодными глазами, безразличный ко всему. Павла Петровича распирал гнев. По его лицу пошли багровые пятна, губы задрожали. Хотелось наговорить дерзостей, но Аносов сдержался: учтиво поклонился и вышел из кабинета.
Не заходя домой, он отправился к Швецову; усталый, разбитый, осунувшийся, вошел в калитку, которую распахнула перед ним встревоженная Луша. Она взглянула на его побледневшее лицо и догадалась.
— Плохо, Павлушенька? — озабоченно спросила девушка.
— Ничего, ничего… Пустяки! — сбивчиво пробормотал он и прошел в горницу старика. Луша не могла уйти, стояла за перегородкой и с бьющимся сердцем слушала рассказ о разговоре Аносова с начальником фабрики.
Старик мрачно барабанил твердыми пальцами по столу.
— Вот видишь, милок, — наконец сказал он. — Вот оно, как дело обернулось. На добрую потребу жаль копеек, а иностранцам ни за что лобанчики жменями отсыпает! Видать, в своем отечестве пророком не будешь, Павел Петрович. Придется тебе, сударь, сократиться, выждать, — посоветовал старик.
Аносов вспыхнул, распрямился.
— Нет, не отступлюсь! — решительно сказал он. — Будет и на моей улице праздник!
Добрая отцовская улыбка озарила изрезанное глубокими морщинами лицо литейщика. Он подошел к Павлу Петровичу и положил ему на плечи тяжелые жилистые руки:
— Вот это мне нравится! Ну, сынок, коли на то пошло, считай меня первым твоим помощником. Без копейки робить буду, а помогу твоей затее!
Литейщик провожал Аносова до порога. Прощаясь, весело напутствовал:
— Хорошо будет, ей-богу, хорошо. И меня, старого, расшевелил. Не всё на старинке держаться, надо и в новое заглянуть!
Глубокой ночью, когда в цехе было пусто, Аносов и литейщик принялись за дело. Инженер принес привезенные с Арсинского завода косы. Мастер новым нагреванием лишил их прежней закалки, затем выправил их колотушкой и подготовил к новой, аносовской закалке.
Аносов взял небольшой ящик, сделанный из листового железа. Из отверстия духовой трубы в ящик упругой струей поступал сгущенный воздух. Литейщик докрасна раскалил косу и быстро уложил ее в ящик под прохладную струю. Прошло две минуты. Оба с тревогой прислушивались к гудению ветра в духовой трубе.
— Пора! — пересохшими губами сказал Аносов.
— Пора! — согласился старик.
Они извлекли косу из ящика; местами от поверхности ее отделилась окалина. Павел Петрович поднял синеватую косу и тихо ударил лезвием о брусок. Металл издал чистый, тонкий звон.
— Хорошо запела, милая! — похвалил литейщик.
— Погоди, еще не всё! — предупредил Аносов. — Надо испытать добытое.
— Что же, и это сробим! — радуясь успеху, согласился старик.
Ручным молотком они «отбили» косу. Лезвие не крошилось, отбивалось ровно, стало острее.
— Красавица моя, голубушка-милушка! — ласково, оглядывая косу, ронял сердечные слова мастер. — Доспела она, Павел Петрович, ой, доспела!
Глаза старика молодо горели, лицо светилось. Оба пыльные, потные, они не чувствовали усталости.
— Только утра дождаться, и косить пойдем! — весело сказал Аносов.
На другой день, в самую жару, когда уже испарилась роса, они вышли к Аю на широкий луг. Чуть слышно шелестела под ветром сухая трава.
— Разреши мне первому. Стар я, окажи мне уважение, Петрович! попросил литейщик.
Аносов улыбнулся:
— Ну что ж, пробуй!
Старик скинул кафтан, шапку, засучил рукава белой рубахи, истово трижды перекрестился на восток и затем, поплевав на ладони, размахнулся косовьем.
— Начнем, благословясь!
Он сильно жихнул косой. Подрезанная трава покорно легла у ног. Старик мерно, большими шагами шел и широко размахивал косой. Лицо его сияло.
— Ну и коса! Эх, и хороша, любушка! — он проворно повернулся к зарослям кустарника и сильными взмахами стал резать их косой. Березовая и ольховая поросль падала, подрезанная под корень.
Два часа посменно инженер и литейщик трудились на покосе, и лезвие косы нисколько не затупилось.
Наконец Аносов бережно вытер травой лезвие и воткнул косовье в землю.
— На славу поработали! — облегченно сказал он.
— Ну, сударь, дозволь тебя облобызать по такому случаю! — сказал Швецов и бережно обнял Павла Петровича.
Вернувшись на завод, они устроили дополнительное испытание: отрезали несколько свертков войлока, изрубили лезвием несколько снопов соломы, а коса была всё так же звонка, тверда и остра!
— Теперь иди и покажи господину начальнику, на что способна твоя голова! — благословил Аносова старик.
Уверенный в себе, возбужденный успехом, Аносов отправился к начальнику оружейной фабрики.
— Посмотрите, — обратился он к нему. — Вот перед вами новый образец косы. Она лучше и экономичнее арсинской! Как вам известно, поступает много жалоб на плохую закалку кос…
Чиновник нахмурился, глаза его потемнели, он решительно отодвинул косу.
— Послушайте, сударь, — сердито заговорил он. — Во-первых, я для вас не просто сослуживец, а — ваше превосходительство. А во-вторых, сколько ни делай и как ни делай, всегда жалобы будут. На всех не угодишь. Запомните это, молодой человек. Мы делаем здесь оружие, а вы лезете с косами. Дела Арсинского завода вас не касаются! Возьмите свое творение. До свиданья, сударь! — начальник протянул Аносову два коротких толстых пальца, в серых глазах его было самодовольство…
Аносов отнес свою косу домой, снял ее с косовья и бережно уложил в сундук. Распахнул окно. На город спустилась звездная ночь. На улицах стояла тишина, нарушаемая только лаем дворняжек да стуком сторожевых колотушек. Не зажигая огня, он присел к столу и в грустной задумчивости просидел до рассвета.
Глава седьмая УКРАШАТЕЛИ ОРУЖИЯ
21 октября 1819 года Аносова назначили смотрителем украшенного цеха. С той поры, когда в Златоусте стали делать холодное оружие, там развилось замечательно тонкое искусство гравюры, издавна знакомое на Руси. Павел Петрович живо интересовался работой русских мастеров и, чтобы не оказаться поверхностным человеком, засел за обстоятельное изучение гравюры на металле. В кабинете начальника оружейной фабрики хранились образцы булатных клинков. Аносов долго и внимательно разглядывал их. Вот отливает на солнце синевой дамасский кинжал, а рядом серебрится ручьистой сталью турецкий ятаган с эфесом, горящим драгоценными камнями. Тут же благородный толедский клинок, на нем клеймо — пасть волка, еще дальше — испанские навахи, индусские шамы, — всё, что прислал сюда загадочный и таинственный Восток и что когда-то изобрела предприимчивая Европа, — всё это лежало перед Аносовым, переливалось нежными оттенками металла и манило взгляд тончайшими узорами, словно золотой паутинкой заткавшими булаты. Павел Петрович брал каждый клинок в подносил его к солнечному лучу. Прекрасная сказка! Сердце учащенно билось при игре нежных тонов и полутонов металла. Холодная синь растекалась по волнистому булату и незаметно переходила в серебристую изморозь. Чудилось, что там, в глубине сплава, горит и струится, проступая на поверхность булата, синее мерцающее пламя. Глаза Аносова не могли оторваться и от чудесного клинка, и от тончайшего орнамента, нежного, как кружево. Откуда пришло это волнующее мастерство? Вот стиль египетский: три цвета — желтый, красный и белый, простые строгие линии, из которых создается изображение хрупкого лотоса — любимого цветка древних египтян. А вот бог солнца — золотистое сияние исходит от тонкого рисунка. Загадочные цветы, листья, жуки… Чья умелая и твердая рука сотворила это чудо?
Рядом на восточных клинках пышный и сложный мавританский орнамент; очарование создается геометрическими линиями в сочетании с неведомыми растениями.
Павел Петрович каждый клинок подносил к свету и медленно вращал его в солнечном луче. Словно короткие синеватые молнии рождались в полутьме безмолвного кабинета, среди грузной и мрачной мебели. И как этот полумрак и могильная тишина усиливали воздействие на зрителя! Аносов неторопливо перебирал японские и китайские клинки. Страшные драконы и диковинные птицы проступали на темно-синеватом фоне стали, а чаще всего еле-еле намечались контуры японского священного вулкана Фузиямы. Эти орнаменты отличались излюбленными японцами желтыми и красными цветами. Перебирая клинки, Павел Петрович невольно углублялся в историю народов. В зависимости от исторической обстановки и социальной среды, менялись и стили гравюр на клинке.
Аносов поднял древний римский меч, привезенный в Златоуст из музея. У кого он побывал в руках? Клинок прям и строг, он привлекателен именно своей простотой и сильной благородной композицией. Это стиль Греции и Рима — древней античности; прямые и кривые симметричные линии переплетены орнаментом акантового листа…
Солнце укрылось за тучу, в кабинете сгустился мрак, и тяжелый меч римлянина потемнел, выглядел грозно.
Павел Петрович отложил его и взял клинок Франции. Сколько пышности и золота! Это стиль рококо. Он насыщен богатством, но как убога изобретательность гравюры! Рисунок просто неуклюж, вычурен, в нем отсутствует всякая симметрия и система. Это — стиль королей, и он умирает вместе с королями Франции — Людовиками. Чужд и непонятен трудовому человеку этот стиль!
В руки Аносова попадает меч, извлеченный из-под обломков раскопанной Помпеи. На нем нежная гравюра. Она проста, но благородна и поражает выразительностью строгого мастерства. Какая удивительная легкость линий! Здесь всё как бы дополняет и продолжает друг друга. Контуры цветов, растений и животных — всё выступает в гармоничном сочетании. Это — ампир!
Солнце совсем заволокло тучами. Грузность и тишина кабинета угнетали. Аносов склонился над разложенными клинками и задумался. Какое богатство, какие сокровища искусства таятся в мастерстве древних граверов! В давние-предавние времена по торговым путям на Русь шли караваны из Персии, Турции, Греции, Дамаска, Бухары. Восток слал на Север свои драгоценные булатные клинки с чудесным орнаментом. И, казалось, всё это восточное богатство, мастерство граверов подавят искусство древней Руси. Нет! Северная Русь устояла перед этим иноземным влиянием. Сохранялся и ценился среди русских воинов свой узор на булате — травчатый.
«Хорошо бы хоть одним глазком увидеть харалужный меч, который воспет в «Слове о полку Игореве». Увы, о нем сохранилось лишь предание!» — с сожалением подумал Аносов, и его снова потянуло к клинкам.
Вот шпажные клинки, но какие они бедные и жалкие по сравнению с древними булатами! Откуда они? Павел Петрович вгляделся и узнал работу золингенских мастеров. По всей вероятности, клинки были вывезены из Золингена и украшены позолотой здесь, в Златоусте. Рядом два охотничьих ножа с позолотой немецких мастеров братьев Шааф. Сколько разговоров о сих мастерах! Однако искусство их бледно и скудно.
Аносов разочарованно сидел над золингенскими клинками и с обидой думал: «Но где же клинки наших русских мастеров?». Их в кабинете начальника не хранили.
С горькими думами Павел Петрович вновь обратился к древним восточным булатам и стал внимательно исследовать сплавы.
Давно над горами легла темная ночь. На заводской каланче часы пробили полночь. Склонясь над булатами, Аносов при мерцании высоких свечей разглядывал их в увеличительное стекло, травил кислотами.
По заснеженному двору прошел сторож с колотушкой. Поглядывая на освещенное окно, он вздохнул и сказал ласково:
— Всё сидит, неугомонный! Ах, Павел Петрович, родной ты наш, разве справишься против злой хмары!
Всё на фабрике находилось в руках немцев. Они захватили в свои руки литье стали, ковку и полировку клинков, выработку ножен, литье эфесов и особенно прочно засели в украшенном цехе, считая себя лучшими позолотчиками-граверами. Все они были приглашены для обучения русских мастеровых, но тщательно оберегали свои «тайны». Однако справиться с работой они не могли. В минувшем, 1817 году надлежало отковать, закалить, отточить и отшлифовать 30 000 разных изделий: кирасирских палашей — 4000, драгунских — 4000, сабель гусарских и уланских — 4090, тесаков — 18 000. Начальник Златоустовских заводов Эверсман много суетился, устраивая своих земляков, но оказался совершенно беспомощным в организации труда. Государственное задание не было выполнено: всего отковали и закалили немногим более 10000 клинков. Отшлифовать и отточить их не успели, между тем на производство клинков истратили огромные суммы. В департаменте горных дел всполошились и срочно снарядили в Златоуст комиссию для выяснения причин столь позорного провала. Комиссия прибыла на Урал, и первое, что бросилось ей в глаза, — царивший на фабрике беспорядок. В докладе так и записали, что причиной всему «совершенное отсутствие фабричного порядка, коего на 1 октября 1817 года не было ни малейшей искры».
Эверсман, однако, не сдался. Хотя его и отстранили от работы в Златоусте, но он добился в Санкт-Петербурге сохранения за ним полного оклада пенсии, а не половины, как обычно получали все простые смертные. За свои «заслуги» иноземец получил пять тысяч рублей жалованья и три тысячи на столование. В департаменте не пожалели казенных денег для проходимца.
Павел Петрович до назначения много раз бывал в украшенном цехе и присматривался к работе мастеров. Они по преимуществу украшали холодное оружие: шпаги, сабли, кавказские кинжалы, охотничьи ножи, мечи, навахи, турецкие ятаганы, медвежьи топорики. Отделка производилась золотом и серебром, татуировкой, синью и воронением, чеканкой и резьбой. Так создавались красивые рисунки. Рука русских мастеров стремилась оживить металл, но холодные и равнодушные иноземцы заставляли их работать по трафарету и категорически запрещали ставить свои литеры на гравюре…
Аносову хотелось помочь златоустовским граверам, но каждый раз старший из Шаафов надменно выпроваживал его: «Вам нечего смотреть, молодой человек. Это может понять только художник!». На сердце горела жгучая обида, но Аносов знал, что только выдержка поможет ему одержать победу. Он должен разоблачить немцев и вывести на светлый путь мастерство русских граверов!
За окном снова раздался стук сторожевой колотушки, свеча догорала; пора было идти домой. Аносов нехотя отложил булаты, загасил огарок и в потемках вышел из кабинета…
Зимнее солнце щедро слало золотые лучи, и от этого еще беднее и безотраднее казалось низенькое помещение цеха, где в страшной тесноте работали граверы, насекальщики, резчики по дерезу и кости — украшатели оружия. Посредине цеха на тесовом полу стоял медный котел с ядовитым раствором. В клубах испарений белело худенькое лицо мальчугана; он медным ковшом черпал раствор и поливал клинок, на стальном поле которого был награвирован рисунок. Вредные для здоровья пары вызывали кашель у мастеровых.
Аносов перешагнул порог, и у него запершило в горле, а через минуту на глазах навернулись слёзы.
— Ты, батюшка, смелее. Привыкай! — обратился к Аносову старик в больших очках. — Бывает хуже.
Голос старика был глуховат, а глаза — добрые. Он улыбнулся Павлу Петровичу:
— Рады, батюшка, твоему приходу. Теперь и мы осмелели. Полюбуйся нашим мастерством! — он провел Аносова к столу. Косые лучи солнца потоком падали на рабочее место, где на доске лежали несложные инструменты мастера: три шпильки — костяная, черного дерева и тонкая стальная.
Перехватив любознательный взгляд Аносова, старик пояснил:
— Ими и наносим растушовку и штриховку, батюшка.
Мастер показал нож, на светлом фоне его был выгравирован охотник, стреляющий в крохотную белку.
— Эта работенка не так вредна, как травление, только глаза береги, пояснил гравер. — Был я и на травлении, батюшка. Тяжелее и нет дела! За долгий день наглотаешься пакостных паров, идешь домой и как хмельной шатаешься. В голове шумит, во рту горько… Трудно и золочение через огонь. Глянь-ка!
В углу мастерской — небольшой горн на чугунных колонках. Ослепительно ярким жаром пылают раскаленные угли. Аносов подошел ближе и залюбовался статным пареньком, который держал клинок над синим пламенем и изредка проводил по стали заячьей лапкой.
— Ваня, поясни-ка Павлу Петровичу, в чем суть золочения, — попросил старый мастер.
Паренек блеснул задорными синими глазами, улыбнулся.
— Тут-ка хитрости нет, — спокойно ответил позолотчик. — Густо смазал рисунок раствором золота в ртути — и в жар! От нагрева ртуть испаряется, а золото накрепко пристает к стали клинка. Вот и вся мудрость! Главное, рисунок сделать на металле.
Юнец неторопливо и толково объяснял Аносову мастерство золочения. В конце же его рассказа прозвучала нотка горечи:
— Удалишь краску, до блеска отполируешь узор, богатства много, гляди, сколь золота истрачено на клинок, — а душевной радости мало! Вот насечка — тут иное дело, тут сердце забьется!
Павел Петрович с изумлением разглядывал и рисунок и юношу.
— Да сколько же тебе лет?
Старик пришел парнишке на выручку:
— Не считай его годы, батюшка, а цени мастерство, Иванка Бояршинов зеленый юнец, это правда, но полюбуйся на рисунок.
На металлической поверхности клинка пробегала смелая мягкая линия. Только вполне зрелый художник-гравер мог создать столь нежный и легкий орнамент.
— Вот, дивись руке! Такой талант ниспослан человеку. Бояршиновы все издавна к мастерству склонны, и размах у них хороший. Бояршиновых в Златоусте целое племя, и среди них не только граверы, но и сталевары, и мастера по ковке клинков, и по выделке эфесов и ножен. Одним словом, золотые руки!
Паренек смущенно покраснел и благодарно посмотрел на старика.
— Ты, дедушка, про другого Иванку, про Бушуева расскажи. Вот кто мастер! — с горячностью сказал позолотчик.
— Молодец, Иванка, — похвалил юнца седобородый гравер. — Не завистлив, не жаден. В том, милок, и сказывается великая душа. Бушуев хоть и молодой человек, а имеет большую страсть к художеству, и душа у него пылкая! К тому ж, по тайне будь сказано, он любит словесность и пописывает стишки. Если не затруднит, батюшка, он тут рядом, в горенке, взгляните! пригласил он смотрителя украшенного цеха.
Аносов положил руку на плечо паренька:
— Ну, Иван Бояршинов, вижу, большой мастер из тебя выйдет. В добрый час!
Иванка густо зарделся, глаза его заблестели. На душе молодого гравера стало радостно и легко. Когда за начальником закрылась дверь, паренек душевно сказал:
— Вот это человек! Всё, поди, понимает…
Между тем Аносов прошел дальше, и первое, что бросилось ему в глаза, это горн и высокий плечистый бородач, занятый синением клинка. Крепкой жилистой рукой мастер держал клинок над раскаленными углями. Сталь нагревалась, струила жар, и цвет ее постепенно изменялся: вначале она была желтой, как ночной огонек, потом — оранжевой, затем красной, как вечерняя заря, и вдруг красный цвет стал переходить в фиолетовый. У Павла Петровича дух захватило от чудесной игры оттенков. Они, как северное сияние, неуловимо, но ощутимо переливались один в другой множеством переходных промежуточных сияний. Старик гравер тоже залюбовался переливами горячей радуги. Но вот фиолетовый цвет стал нежно-синим. Уловив этот оттенок стали, мастер быстро отбежал от горна и проворно опустил клинок в воду. Взвился парок, зашипело…
— Стоящий мастер. Теперь клинок будет синеть, словно небушко в холодный зимний день! — похвалил старик. — Ну, а теперь идем, полюбуемся на Иванку Бушуева…
Под окном сидел круглолицый молодец с кудрявой головой и старательно, мелко выстукивал зубилом по синему полю клинка.
— Вот тебе и насечка! — показал глазами старик.
Заслышав шорох за своей спиной, молодой гравер поднял серые глаза. При виде смотрителя украшенного цеха он встал.
— Продолжай свое дело, а я погляжу! — мягко сказал Павел Петрович.
Гравер уселся на табурет и вновь склонился над клинком. Большая крепкая рука опять замелькала, неуловимо перескакивало зубило, а насечка была так мелка, что почти невозможно было разглядеть микроскопические зубчики. Поверхность стали походила на серый бархат.
— Что же это будет? — спросил Аносов.
— А вот как приклепаю золотую проволочку к насечке на клинке, так всё разом и покажет себя! — степенно пояснил Бушуев, отложил клинок и зубило в сторону и потянулся к сабле, которая лежала на столе. — Вот образец, работа самого господина Шаафа, а мне надлежит сделать копир…
Горный офицер внимательно вгляделся в гравюру на клинке. По синему полю золотыми линиями изображены античные воинские доспехи, оружие, пальметты, венки. Над композицией из доспехов и оружия под императорской короной вензель «А I». В нижней части клинка гирлянды из дубовых и лавровых листьев. Насечка сделана аккуратно, всё на месте, но печать бездушия, как потухший пепел, лежала на клинке.
Старик гравер прочел на лице Аносова разочарование. Не хотелось Павлу Петровичу обидеть Иванку, но всё же он сказал горькую правду:
— Не играет гравюра…
Бушуев тяжело вздохнул.
— Справедливо заметили, не играет. Нет жизни! — согласился он. Перейдя на шёпот, признался: — Шааф — большой мастер, но, не в обиду будь сказано, сух и скучен. От такой работенки у меня душа, как осенний лист под заморозками, ссыхается. Хочется радость вдохнуть в рисунок, но не смей! А коли любо увидеть настоящее, не побрезгуйте, заходите к нам. Дедушка — старинный гравер, вот и покажет светлое мастерство. От него и я сбрел свое стремление…
Бушуев говорил степенно, не заискивая перед начальником. Павлу Петровичу это понравилось.
— Приду, обязательно приду, — пообещал он. — А теперь — я к самому Шаафу.
Отец, Вильгельм Шааф, и старший сын его Людвиг разместились в большой светлице. Они из всего делали тайну и никому не показывали своего мастерства. Это были высокие, упитанные люди, молчаливые и суровые. Отец и трое сыновей приехали в Златоуст из немецкого городка Эльберфельда, где они пользовались славой лучших граверов — украшателей оружия. Пятидесятишестилетний старик и его старший сын Людвиг в самом деле были хорошими мастерами по вытравке и позолоте клинков, а младшие сыновья Иоганн и Фридрих работали по лакировке кожаных ножен. Все они недолюбливали Аносова за его желание знать всё в цехах. Никто не смел проникнуть в их мастерскую, но на этот раз старший Шааф с распростертыми объятиями встретил Павла Петровича:
— Я и мой сыновья рады, что вы теперь смотритель украшенный цех. У нас теперь есть начальник, который хорошо разумеет наш высокий искусство и будет ценить… О, это так важно!
Тем временем, пока старый немец рассыпался в любезностях, сын как бы невзначай прикрыл работу и инструменты на столе. От Аносова не ускользнуло это, но он сделал вид, что ничего не замечает, и приветливо отозвался:
— Вы правы, вы действительно отличный мастер, господин Шааф! У вас всё точно, ничего лишнего, всё на месте!
— О, милый мой, излишеств всегда вредно! — подхватил гравер. — Я всегда говорил Людвиг: следуй отцу, и ты будешь великий художник! — с важностью сказал старик.
Аносову стало смешно, он улыбнулся.
— Вами все довольны, господин Шааф! — спокойно продолжал он. — Очень жаль, однако, что ваше высокое мастерство никто до сих пор не перенимает. А ведь по договору вы обещались научить и наших людей?
— О, это в свое время будет! — закивал Шааф. — Сейчас невозможно: тут весьма некультурный народ. Он не понимает секрет высокой гравюры. Нет, нет, не будем спорить, мой дорогой, сейчас не время…
— Мне кажется, вы ошибаетесь, — учтиво заметил Павел Петрович.
Старик надел большие очки и сердито посмотрел на Аносова:
— Я никогда не ошибаюсь, господин начальник!
— Ну-ну, смотрите! А то может и так случиться, что наши Иванки обойдут вас! — лукаво улыбнулся смотритель украшенного цеха.
Шааф отбросил очки, завалился в кресло и засмеялся хрипло.
— Вы шутите, господин Аносов! Гравюр есть очень тонкий искусств. Местный Иванки знают только копир. Это и есть предел их совершенства!
Павел Петрович пытливо посмотрел на гравера:
— Это не так. Приглядитесь к их работе, господин Шааф, и вы увидите, что скоро они свое искусство покажут в полной силе.
— Этого не может быть! — побагровев, вскричал мастер. — Я не позволю портить клинок!
— Зачем портить; если всё будет умно, живо и на своем месте, почему же и не дозволить? Я перечить им не буду! — ответил Аносов.
Шааф смолк, стал угрюм: он понял, что вновь назначенный смотритель украшенного цеха только по виду простоватый молодой человек, но характером тверд, решителен и безусловно настоит на своем. Только одна надежда оставалась: Шааф считал русских работных слишком грубыми и не подходящими для тонкого граверного художества.
Расстались немецкие мастера с Павлом Петровичем вежливо, но холодно.
Глава восьмая РУССКИЙ МАСТЕР ИВАН КРЫЛАТКО
Златоустовскому граверу Ивану Бушуеву только-только минул двадцать второй год, а владел он уже двумя мастерствами: отменно ковал клинки и еще лучше украшал оружие. Жена его Иринушка была на два года моложе мужа. Она преклонялась перед мастерством Иванки. Однажды Иванка пришел из украшенного цеха хмурый и усталый и пожаловался подруге:
— Иноземцы всю душу засушили! Только и знают — копир да копир. Да и мастера ли Шаафы, еще подумать надо…
Иринушка крепко прижалась к плечу мужа, погладила его непокорные кудри.
— Ты, Иванушка, не падай духом! — ласково сказала она. — Никогда ключевой родник не высушить суховею: всё равно найдет он дорогу. Шааф мастер немалый, но корни у него чужие, не понять ему наших людей.
— Пустое ты говоришь, — отмахнулся огорченный Иванка.
— Нет, милый, не пустое! — мягко заговорила жена. — Глянь кругом, что творится? Кто лучше всего споет русскую песню? Сам русский человек. А почему, Иванушка, так? Да потому, что его выпестовала своя земля-родина, напоила его силушкой, а родная матушка сердце взрастила в нем особое ласковое, бесстрашное, отдала ему всё свое, русское. И когда запоет он свою песню, то она и льется у него от души, от сердца и трогает нашего человека горячим непродажным теплом…
— Ах ты милая! — просиял мастер. — Что верно, то верно. Хоть мы оба я и Шааф — люди, но думки у нас разные, замашки у каждого на свой лад.
— А еще, Иванушка, — подхватила молодка, — когда ты трудишься над гравюрой, ты всю душу в нее вкладываешь. Рисуешь, как песню поёшь. Поёшь, и поднимаешь в своем мастерстве русский народ. А пришлому — кто мы? Что ему наша земля-родина? Он и старается, а души в его мастерстве нет. Робит, а видит перед собой только золотые лобанчики…
Из-за перегородки выглянул старик Бушуев. Лицо сияло, в глазах искорки.
— Видишь, Иванушка, как верно подружка рассудила! Ай да Иринушка! похвалил старик. — Всегда держись своего, родного…
Сивобородый, но еще крепкий, дед сидел за рабочим столом и старался над гравюрой. В оконце струился светлый голубой день. Рука гравера уверенно насекала клинок. Из-под шершавой ладони старика выглядывали завитушки, кружковинки, веточки, а всё вместе тянуло к себе взор молодого мастера. Иванко загляделся на работу дедушки, вздохнул:
— Когда же я смогу так узорить металлы?
— Не сегодня — так завтра сможешь! Вот скажет Аносов свое слово, а ты не трусь! Вот только когда он забредет к нам… Не терпится поглядеть: много про него говорят, а как себя покажет, кто знает?..
Аносов оказался легок на помине. Он пришел в хибарку, смотревшую окнами на Громатуху. Домик был ветхий, серый от времени и непогод. Рядом билась о камни и шумела горная речонка, и шум ее доносился в крохотную мастерскую. Иринушка приветливо распахнула калитку и проводила гостя в горницу. Дед и внук встали перед начальником украшенного цеха. Павел Петрович протянул старику руку. Старый Бушуев стоял перед ним высокий, плечистый, с длинной курчавой бородой, седина которой отливала желтизной; большая голова — лысая, из-под жестких бровей на Аносова смотрели умные, строгие глаза.
— Спасибо, барин, что простыми мастерами не побрезговал, — ласково сказал он и показал на скамью. — Садитесь, гость дорогой.
Аносов слегка нахмурился и, смущаясь, попросил:
— Не зовите меня барином, дедушка.
— Не любо? Что ж, это хорошо! — одобрил старик и потянулся к клинкам. — Полюбуйся-ка, Петрович, нашей простецкой работой. Может, что и не так выйдет по-вашему, по-ученому, но скажу — зато от всей широкой русской души наводили красу на металл! — Он бережно развернул холстинку и выложил перед Аносовым охотничий нож.
Павел Петрович жадно взял клинок в руки и поднес к свету. Все затихли; молчала Иринка, пытливо глядя в лицо гостя, слегка побледнел Иванка, безмолвствовал старик, — лицо его стало напряженным.
Солнечные блики упали и заиграли на вороненом, вытравленном крапом фоне широкого клинка. Вещь была бесценна, — это сразу понял Аносов.
«Вот где подлинное искусство!» — с восхищением подумал он, пристально рассматривая детали гравюры.
Золотой нежный орнамент оттенял искусно выполненные сцены охоты на кабана. Но как это чудо сотворено? В центре — бежит до ярости обозленный кабан, преследуемый легкими, хваткими псами. Один из них вот-вот вцепится в кабанью морду, другой наседает сзади. Проворный пеший охотник успел пронзить кабана рогатиной, другой, с обнаженным ножом, скачет позади на стремительном скакуне. По обеим сторонам динамичной композиции легкой штриховкой сделан орнамент — деревца с ажурной листвой, — так и ждешь, что они сейчас закачаются под дуновением ветерка. В проникновенно сделанном рисунке всё живет, всё полно движения.
— Чудесно! — вздохнул Аносов и перевернул клинок второй стороной. На таком же вороненом поле — медвежья охота. Каждый штрих мастера волновал, будоражил, зажигал сердце.
В овале, обрамленном золотой каемкой, — медведь, поднятый рогатиной на дыбы. Собаки остервенело рвут зверя: одна вцепилась ему в грудь, другая в спину, третья хватает за ногу. Бесстрашный охотник пронзает медведя рогатиной, другой, тоже с рогатиной наготове, трубит в рог, за ним бежит разгоряченный пес… Совсем неподалеку елочка с нежными, хрупкими ветками, склоненными долу…
— Превосходно! — тихо обронил Павел Петрович и задумался: «В чем же кроется это колдовство? В терпеливости, в проникновенном взгляде художника, который видит и запоминает каждую деталь, любое движение и подбором цвета оттеняет их. Смотрите, как мягкая густая позолота выразительно моделирует формы! Любуйтесь, как хорошо выявлена мускулатура, как стремительны и вместе с тем ритмичны движения! Всё сделано с большим вкусом. Вот ниже центральных клейм изображены охотничьи атрибуты: рог, нож, трубы, перекрещивающиеся на дубовой ветке. Выразительно, умно! Даже черенок охотничьего ножа превосходен. Рукоять его из черного дерева с серебряными точками в разных квадратах, концы крестовины в виде витых конусов, а на перекрытье с правой стороны выпуклый плащ, напоминающий сверкающую раковину. Совершенство!»
Аносов отложил клинок, на минуту закрыл глаза, закрепил в памяти увиденное, а затем сказал:
— Ну, дедушка, дай я тебя расцелую. Ты совершил чудо!
— Погоди, не торопись, Петрович, — оживляясь, вымолвил старик. — Это чудо не моими руками сроблено. Иванка всё от клинка до последнего виточка на гравюре сотворил, а я глазом только сверял. Лестно мне наше бушуевское мастерство внуку передать. Пусть живет оно из века в век! Будет жить, Петрович?
Аносов взволнованно обежал всех взглядом. Иван стоял, привалившись к косяку двери, смущенно потупив глаза. Иринка сияла, как цветной камушек на ярком солнце. Она не сдержалась и со страстью выкрикнула:
— Давно Иванушке на пробу, в мастера пора! Полюбуйся, всё у него из-под руки выходит-выбегает живое!..
Павел Петрович подошел к Иванке и положил руки ему на плечи.
— Ну, друг мой, — сердечно сказал он, — жена твоя права. Живое, радостное творят твои золотые руки. Скоро ставлю на пробу и допускаю в рисунке свое, русское показать. А деда своего береги, чти, — великий учитель он!
— На добром слове спасибо, Петрович, — поклонился старый Бушуев, а внук его обнял Аносова и крепко расцеловал.
Аносова наполнило ласковое доброе чувство к этой крепкой семье. Дед выложил все клинки и показывал их гостю. Всё крепче в крепче прирастало сердце Павла Петровича к дивным русским мастерам.
«Вот где бьют истоки подлинно великого народного искусства!» радостно подумал он, и, словно в ответ на его думку, Иван весело сказал:
— Павел Петрович, вот нонесь Иринка молвила, что никогда ключевой родник не высушить суховею! Верно ли это?
— Ой, как верно. Истинно так! — возбужденный увиденным, отозвался Аносов. — Какие бы плевелы и чертополохи ни пытались его заглушить, ничего не выйдет! Всё сокрушит всепобеждающий русский талант!
— За такое и выпить не грех, — лукаво предложил дед.
— Не могу. А вот квасу непрочь! — сказал Аносов.
Иринка проворно спустилась в подполицу и налила жбан крепкого, игристого квасу. В теплоте горницы глазированный жбан разом отпотел. Павел Петрович с жадностью выпил кружку холодного напитка. Квас ударил в нос, защекотал ноздри, — крепок, задирист, — быстро освежил…
В оконце избушки заползали сумерки. Над Громатухой блеснули звёзды, а река всё так же продолжала рокотать и шуметь. Провожая Аносова до калитки, Иринушка сердечно сказала:
— Вот какие у нас старики на Камне! Заходите, Павел Петрович, порадуйтесь нашему простому мастерству.
Аносов вздохнул полной грудью и вымолвил:
— Да, я у вас сил набрался! Будьте счастливы! — Он быстро сбежал по скату Громатухи и вскоре исчез в густых сумерках…
Смотритель украшенного цеха сдержал свое слово, — через неделю Иванке Бушуеву дали пробу. Шаафы подняли крик. Толстый, обрюзглый Вильгельм, потрясая руками над головой, вопил:
— Как это можно! Такой мальчишка — и вдруг мастер! Он слишком груб для тонкой работа! Мужик!
Аносов твердо и вежливо напомнил:
— Но по договору вы взялись обучать русских? Что же вы боитесь, разве не подготовили его? В таком случае, я вынужден буду об этом сообщить в Петербург.
— Хорошо, — сдаваясь, сказал Шааф, — пусть сдает проба. Я дам срок, клинок и велю рисовать лошадь, корона. Будем глядеть, что из этого выйдет!
— Ладно, — согласился Павел Петрович. — Поглядим, что из этого выйдет.
В душе он твердо был уверен в мастерстве Бушуева; вызвав к себе Иванку, посоветовал:
— Не торопись, работай вдумчиво, сделай всё живое!
— Как же иначе, ноне у меня душа поет! — признался гравер. — На трудное дело становлюсь, Павел Петрович. Не только за себя буду отвечать, а за всё русское мастерство. Понимаю!
Бушуеву выдали саблю и назначили такой рисунок, какой пообещал Шааф.
— Сабля очень превосходный, и надо показать лютший работа! предупредил Вильгельм.
Иванка спокойно принялся за работу, а душа вся занялась пожаром. Казалось ему, что вознесли его на высокое-превысокое место, откуда виден он всему русскому народу, и сказали: «Ну, Иванушка, держись, не посрами нашего мастерства!».
Граверное дело Бушуеву родное, знакомое. Можно по-разному украсить клинок, но надо так сделать, чтобы перешагнуть иноземное искусство. Час-другой посидел молодой гравер над клинком, пристально всматриваясь в размеры синеватой холодной стали. Хорош волнистый булат! Надо и гравюру начеканить подстать драгоценному клинку!
«Кони бывают разные, — рассуждал Бушуев, — и саврасые, и буланые, и вороные, и тяжеловозы, и бегунки. Эх, Иванушка, вспомни-ка разудалую душевную русскую сказку! Где Сивка-бурка, вещая каурка? Взвейся передо мной, конь-огонь, загреми копытами, да так, чтобы под тобой облако завилось, чтоб искры посыпались…»
Стал Бушуев рисовать резвого коня на полном бегу. Вырвался из-под руки игрень-конь и устремился вперед по вороненому полю. Тонкие ноги бьют копытами, длинный хвост вьется волной. Глаза пылают, и весь скакун стремление, — но всё еще не оторвался от земли.
«Эх, мать честная, давай жару, скачи вверх под звёзды ясные, взвейся, мой конек!» — загорелся Иванка и твердым росчерком по металлу одарил коня лебедиными крыльями и сразу наметил наверху золотую звездочку. Замигала-замерцала она. У гравера дух захватило, — мчит-скачет легкий лебедь-конь по синему небу, под самыми звездами. А дальше орнамент наметился, крупный, сочный…
Закончил Иванушка тонкую гравюру, закрепил, по-своему вызолотил.
Еще много посидел он над клинком, — отполировал его, убрал щербинки, загладил и тайком Аносову показал.
Павел Петрович долго держал саблю.
— Поздравляю, Бушуев, — наконец вымолвил он. — Всё по приказу, а свое, русское показал. Завтра назначаю сдачу.
Всю ночь молодой гравер не спал, ворочался. И женка вся в огне пылала, — тревожилась за судьбу мастера.
— Ты, Иванушка, будь смелее! Коли неудача, не падай духом. Всяко бывает. Не сразу Москва забелела…
— Молчи, молчи, Иринушка! — шептал он. Хотелось ему покоя, тишины, чтобы прислушаться к своему сердцу. А оно подсказывало: «Твоя правда, Иванка!».
Наутро в украшенный цех сошлись все граверы; дедушку Бушуева, хоть и не заводский, а допустили. Немцы толпой сгрудились. От них выбрался Петер Каймер и, взяв Аносова под руку, прошептал:
— О, вы теперь далеко пошли, начальник! Мой Луиза очень скучайт. Прошу в наш дом… Но зачем ви такой хороший парень под насмешку поставили?
— Он не парень, господин Каймер, а мастер-гравер, и мастерству его многим надо поучиться! — сухо отрезал Павел Петрович и приказал: Покажите, Бушуев, что вы там сделали!
Вильгельм Шааф важно выступил вперед и взял из рук Иванки клинок. Серьезный, медлительный, он внимательно оглядел гравюру, и злая усмешка появилась на его губах.
— Господа золингенцы могут видеть, сколь большой выдумщик сей ученик и сколь плёхо знает мастерство!
Старик Бушуев побелел весь.
«Неужто Иванка что несуразное допустил?» — встревожился он и протискался вперед.
— Стой, господа, покажи мне! — строго сказал он, готовясь изругать внука за большой конфуз.
Шааф с брезгливостью подал ему саблю. Старый мастер сдвинул брови, надел очки и взглянул на вороненое поле клинка. И разом разгладились у деда морщинки, засияли глаза и, не скрывая своей радости, он выкрикнул:
— Вот это здорово! Силен ты, Иванушка. Всякого ждал, а такого совершенства не видел!
— Что ты кричишь, глюпый мужик! — загалдели немцы. — Что ты разумеешь в высоком искусстве? Где ты видел конь с крыльом?
— И-и, батенька, — спокойно отозвался дед. — Плохо ты знаешь нашу русскую сказку! Огонь-конь! Милый ты мой, батюшка, — незлобиво обратился он к Вильгельму Шаафу, — не знаешь ты, как поднимает и веселит душу русская сказка! Вот и небушко синее — фон булатный, вот и звездочка золотая, эх и несет, эх и мчит скакун! Разойдись! — закричал он. — Дай спытать сабельку!
И что творил седобородый плечистый дед! Рубал по-казачьи с плеча, жихал со свистом по-башкирски — крепость и упругость пробовал. Всё выдержал клинок!
— Ну, милые, хотите не хотите, а сабелька и рисунок подстать богатырю!
Тут и русские граверы больше не утерпели:
— По душе работа Бушуева! Всё живое, сердце трогает!
Немцы выжидательно смотрели на Аносова. Спокойно и внушительно Павел Петрович сказал:
— Бесспорно, Иван Бушуев испытание выдержал. Господа, несомненный талант у молодого мастера, с чем и поздравляю! — При всех он обнял простого гравера и крепко поцеловал его. — Ну, в добрый час, Бушуев. Помни: всегда тот истинный художник, у кого крылатая мысль… Человек должен быть с полетом…
Иринушку не пустили в цех, но через мальчуганов-подсобников она быстро узнала о победе мужа. Теплые радостные слёзы покатились по смуглым щекам молодой женщины. Жарко, с великой любовью она прошептала: «Ах ты мой Иванушка-крылатко…»
С той поры за гравером Бушуевым и закрепилось благородное прозвище Иван Крылатко…
Глава девятая О БЕЗДУШИИ, ЛЮБВИ И ДРУЖБЕ
В сентябре 1820 года горным начальником округа и директором Златоустовской фабрики вместо Фурмана назначили Клейнера, однако всё осталось по-старому. Немцы по-прежнему являлись хозяевами оружейной фабрики и всюду теснили русских. Шаафы возненавидели Аносова за поддержку уральских мастеров и подчеркнуто его игнорировали. Клейнер тоже высокомерно относился к молодому горному офицеру. Только один Петер Каймер, который всё еще хвастался отлить особую сталь, обхаживал Павла Петровича и по-отцовски жаловался:
— Моя Эльза скучает без вас, молодой человек. Вы совершенно забыли моя дочь, столько времени ушло, а вы даже не были у нас, это весьма неблагородно… Мы ждем вас, ждем непременно!
Изо дня в день Петер старался попасть на глаза Аносову и всегда настойчиво зазывал в гости.
«В самом деле, отчего не побывать у Каймеров? Эльза — хорошая девушка; да и скучно всё время жить таким дикарем!» — подумал Павел Петрович и в первое воскресенье, надев парадный мундир, отправился на Большую Немецкую улицу. Стоял солнечный голубой день золотой осени, длинные ряды отстроенных для немцев домиков с красными черепичными крышами выглядели нарядно. Балкончики, полосатые ограды и ряды одетых в багрянец деревьев — всё радовало глаз. Аносов отыскал жилье Каймера и поднялся на крылечко. Эльза уже заметила его в окно и выбежала навстречу сияющая, радостная.
Они встретились, как старые знакомые.
Каймеры занимали уютную квартирку из трех комнат с видом на горы. В большой столовой стоял накрытый белоснежной скатертью стол, на стене тикали старинные немецкие часы с кукушкой. Было тихо, тепло. Павел Петрович и Каймер уселись в мягкие кресла. Петер держал большую трубку и поминутно пускал сикие клубы дыма. Он то и дело самодовольно щурился и подмигивал Аносову, глазами показывая на пухлую и румяную дочь: смотри, дескать, какая умная и пригожая моя дочь. Хозяйка!
Эльза приготовила крепкое кофе и подала на стол. Краснея, Аносов стал расхваливать девушку, которая, опустив глаза, молча выслушивала эти похвалы. Петер одобрительно покачивал головой:
— Моя Эльза делает дом полная чаша. Но… — Каймер вздохнул и развел руками: — Но она есть женщина, и, так богом положено, она оставит отца и уйдет к мужу. Она ждет хорошего человека. Так всегда поступает умный и терпеливый немецкий девушка. Правда я говорю, Эльза?
Дочь недовольно повела плечами, а лицо гостя залилось румянцем. Чтобы несколько смягчить намек отца, девушка положила перед Аносовым альбом и кокетливо спросила:
— Вы пишете стихи? Напишите для меня что-нибудь приятное.
Павел Петрович окончательно сконфузился:
— Вот, ей-богу, в жизни никогда не писал стихов.
— Ну, а для меня это вы сделаете? — умоляюще взглянула она на горного офицера.
— Вы должен писать! Так принят в хороший общество! — настаивал и Каймер.
— Что ж, раз так, — повинуюсь! — И, как ни мало любил Аносов девичьи альбомчики, разные сентиментальности, всё же он взялся за перо, с минуту подумал и вспомнил Пушкина. Стал быстро писать:
Я пережил свои желанья, Я разлюбил свои мечты; Остались мне одни страданья, Плоды сердечной пустоты. Под бурями судьбы жестокой Увял цветущий мой венец Живу печальный, одинокий И жду: придет ли мой конец? Так, поздним хладом пораженный, Как бури слышен зимний свист, Один — на ветке обнаженной Трепещет запоздалый лист.Эльза склонилась к плечу горного офицера и обдала его жаром своего дыхания.
— О бедненький мой! — сказала она. — Папа, он один-один, как лист на ветке обнаженной…
Каймер закашлялся, вскочил вдруг, схватил свой картуз и торопливо бросил:
— Ах, я сейчас вспомнил. У меня есть большой дело. Вы, мои дети, пока один.
Старик ушел, и, странно, Аносов вдруг почувствовал себя еще более скованным и неловким. Так они с Эльзой долго сидели молча. Девушка убрала посуду со стола, взяла старый отцовский чулок и стала тщательно штопать, изредка бросая на гостя многозначительные взгляды.
Каймер вернулся к вечеру веселым и немного возбужденным. Завидя его в окно, дочь предупредила Аносова:
— Он, конечно, был в немецкий клуб и пил много ячменного пива!
Переступая порог, Петер озорно закричал на всю горницу:
— Ну, как тут веселились, мои голубки? — он подмигнул Павлу Петровичу и погрозил пальцем: — Вы, шельмец, милый мой, по всему вижу, одержали победа!
Эльза смело подошла к отцу, взяла его за плечи и подтолкнула в спальню:
— Вам пора спать, папа!
Грузный Каймер покорно подчинился дочери. Кряхтя, он разделся за перегородкой и через минуту густо засопел.
С того дня так и установилось, — каждое воскресенье Аносов после обеда являлся в знакомый домик на Большой Немецкой улице и просиживал там до сумерек. Отпив кофе и выкурив свою любимую трубку, Каймер уходил в немецкий клуб, и по возвращении каждый раз повторялось одно и то же.
Однажды в субботу к Павлу Петровичу зашел опечаленный старик Швецов. Взглянув на его хмурое лицо, опущенные плечи, Аносов всполошился:
— Что с тобой, ты всегда такой бодрый, а сегодня обвял?
Литейщик оперся о край стола, руки его дрожали, а на ресницах блеснула слеза:
— Луша плоха… Огневица приключилась… Боюсь, не выходим.
Павел Петрович взволновался:
— Да когда же это случилось?
— С неделю, поди, — глухо отозвался кержак, безнадежно опустив голову.
— Что же ты до сих пор молчал! — вскричал Аносов. — Сейчас же надо лекаря! Идем! — он схватил старика за рукав и потащил из цеха.
Литейщик сурово остановил его:
— Ни к чему, батюшка, дохтур. Что богом положено на ее девичью долю, тому и быть! По нашему обычаю, грех этим делом заниматься! — он отвернулся и тяжелой походкой пошел прочь.
Аносов надел пальто и нагнал Швецова.
— Веди меня к ней! — решительно сказал он.
В домике у старика застыла тишина. Ребята забрались на печь и, словно тараканы, шелестели сухой лучиной.
Белоголовый мальчуган вынырнул из-под разостланного на полатях полушубка и таинственно зашептал:
— Дедушко, ты тишь-ко! Бабка-ведунья пришла и болезнь заклинает…
Старик сурово посмотрел на ребенка, и тот снова мигом исчез под овчиной. Затем Швецов молча провел гостя в знакомую горницу. Всюду заметен был беспорядок: посерели занавески на оконцах, на скамьях пыль, не политая герань повяла.
— Нет моей хозяюшки! Некому теперь меня обихаживать! — горько пожаловался литейщик.
Швецов устало опустился на скамью и задумался. Молчал и Аносов: на душе у него было тягостно. Ему вспомнились первые встречи с Лушей, поездка на Арсинский завод. «Забыл, очень скоро забыл хорошего и милого друга!» укорял он себя и еще ниже склонил голову.
Гнетущее безмолвие усиливало тоску; его нарушал лишь навязчивый, нудный шёпот, и Павел Петрович насторожил ухо. За перегородкой сочился старушечий голос:
— «Встанет раба божия, благословясь и перекрестясь, умоется свежей водой, утрется чистым полотенцем, выйдет из избы к дверям, из ворот к воротам, выступит под восточную сторону, где стоит храм Введения пресвятые богородицы, подойдет поближе, поклонится пониже, попросит смотреть место, и повсеместно, и повсечастно…»
— Какая чушь! — возмущенно прошептал Аносов. — Что там творится? указал он на перегородку.
— Ты, батюшка, не мешай! — жалобно проговорил кержак. — У Луши лихоманка — одна из двенадцати дочерей царя Ирода. Старуха разберется, какая из них — ломовая или трепуха, и отчитает ее, выгонит из избы…
— Ерунда! — рассердился Аносов. — Здесь нужен лекарь, а не знахарка!
На его слова выбежала скрюченная, морщинистая, со злыми глазами старуха. Она, как шильцами, обежала глазами всё помещение, три раза плюнула, бросила уголек в один угол, посыпала его золой, кинулась в другой — обронила горсть жита. Часто семеня сухими ножками, она, словно мышь, обежала все четыре угла, раскидав наговорные припасы — соль и хлебушко, затем заглянула в загнеток, снова три раза плюнула, зачерпнула ковшом воду из бадейки, набрала ее в рот и разбрызгала по комнате:
— Аминь, аминь, дорога тебе в голое поле. Аминь, аминь, лиходейка!..
После всего этого, оборотясь к Аносову, бабка прошамкала:
— Теперь, если думаешь повредить ей, беги за лекарем. А меня, старую, не испугаешь: у меня коренья, травы, и вреда никакого я народу не делаю.
— Ты, Акимовна, не трожь, оставь нас одних! — сурово сказал кержак знахарке, и она, ворча, послушалась и ушла из избы…
Павел Петрович, побледневший и взволнованный, вошел в горенку. Там, на высоко взбитых подушках, лежала Луша с полузакрытыми глазами. Лицо ее вытянулось, стало восковым, в нем появилось страдальческое выражение. Около губ легли складки, которые придавали ему суровый вид. Заслышав шаги, больная открыла глаза. Казалось, из глубоких ласковых глаз, как из родничков, брызнуло сияние.
— Петрович! — обрадовалась она и вся потянулась вперед. — Вспомнил меня!
— Здравствуй, Луша! — душевно проговорил Аносов. — Что это с тобой?
— Плохо, но ничего, пройдет. Сборю болезнь! — запекшимися губами еле слышно прошептала она. — Вот ослабела сильно. — Она протянула тонкую, бледную руку и горячими пальцами коснулась его руки. — Спасибо, Пав… Павлуша, — стесняясь, с нескрываемой глубокой любовью сказала она. Сейчас будто и полегчало.
Яркий румянец залил щеки больной. Кончики ее пальцев снова еле коснулись огрубелой от металлов руки Аносова, но это незаметное трепетное прикосновение наполнило юношу большим и светлым счастьем.
— Лушенька, не допускай к себе знахарку! — слегка укоряя, прошептал он.
— Это всё он, батюшка. Тревожится, да и верит старухе, — слабо ответила она.
— Я сейчас за лекарем сбегаю! — предложил он.
— Ой, что ты! Да разве ж мне, девушке, можно лекарю показываться! — с ужасом вскрикнула она. — Стыд какой!
Аносов решил действовать исподволь, промолчал и взял ее маленькую руку в свою. По губам девушки пробежала улыбка:
— Вот спасибо, что пришел… Боялась, что больше не увижу тебя. Чуток, и умирать собралась, сейчас не дамся…
В горячем шёпоте прозвучало столько неподдельной, теплой ласки! Он почувствовал, как бесконечно мила и дорога стала ему эта простая русская девушка.
Они тихо переговаривались, а старик, чтобы не мешать их беседе, затаился в своей горенке. Наконец Аносов спохватился:
— Ну, мне пора! — Он пожал хрупкие пальцы девушки и повернулся к двери.
По лицу Луши пробежала печаль; широко раскрытыми ясными глазами провожала она его, грустно улыбаясь вслед.
— Не забывай, Павлуша, — еле слышно промолвила она, и когда он скрылся, устало закрыла глаза…
Дни шли за днями. В конце октября легла зима в горах. Заводский пруд покрылся ровной снежной пеленой. Небо повисло над Косотуром хмурое, вечно клубились темно-серые облака, и короткий день быстро угасал, сменяясь сумерками. Скованная Громатуха умолкла до вешних вод, а на склонах окрестных гор уже бушевали метели. Луша продолжала болеть, но в состоянии ее наступило улучшение. Аносов вечерами часто забегал к Швецову и подолгу просиживал у постели больной.
Кержак хмуро поглядывал на молодых и укоризненно покачивал головой:
— Надо бы отказать тебе, Павел Петрович, да не могу. Сам вижу, что от доброй беседы с тобой оживает моя ласточка.
Ночи над Златоустом стояли темные, гудел ветер. Аносов поздно покидал домик литейщика и уносил в сердце хорошее, теплое чувство, от которого думалось и работалось веселее. В эти дни он сделал свою модель цилиндрических мехов. Уже давно после опыта с косами его ни на минуту не покидала мысль о роли сгущенного воздуха при закалке стали. Аносов много думал над этим и пришел к идее создания такой конструкции мехов, которая усилила бы воздушный поток, сделала бы его плотнее. Вместе с литейщиком они соорудили модель и испытали ее. Ожидания их оправдались: конструкция оказалась удачной.
В приподнятом настроении Павел Петрович торопился в домик Швецова, чтобы рассказать о своей радости.
Луша уже знала обо всем. Она поднялась и неуверенно пошла навстречу Аносову.
— Батюшка всё рассказал! — радостно встретила девушка Аносова. — Он у нас добрый и тебя, Павлуша, крепко любит. Прямо в душу ты к нему вошел…
Луша была еще слаба, но каждая кровинка в ней трепетала от возвращения к жизни. Несколько раз она прошлась при Аносове по комнате, шутя и смеясь над своей беспомощностью.
— Что-то батюшка нынче долго не идет. Всё плавки да плавки. И угомону ему нет! — вздохнула она. — Павлушенька, — переходя на шёпот, вдруг таинственно сказала она: — старик наш многое умеет, да помалкивает. Ведает он самую что ни на есть коренную тайность.
— Это что за такая коренная тайность?
— Батюшка еще от дедов перенял умельство варить добрые стали, да при немцах таит это. И другим не сказывает свою коренную тайность. На что ты полюбился ему, да и то не сказывает.
— Ну от меня-то ему скрывать нечего, — обиженно отозвался Аносов.
— То ж и я говорю, — спокойно продолжала Луша. — Ты любишь наше дело, ты свой, русский. А он одно твердит, что когда дедушка открыл ему тайное, великую клятву взял, что никому и никогда он не откроет поведанного. Потому тайность и зовется коренной. От старинных родовых корней идет. Луша вздохнула и покачала головой. — Вот и толкуй ему, а он в ответ баит: «Присмотреться к нему надо; да и запомни, дочка, старое присловье: с барином одной дорожкой иди, а того не забывай, что в концах разойдешься: он в палаты, а ты на полати». Слышишь, как?
Павел Петрович недовольно сдвинул брови.
— Лушенька, — взяв за руку больную, сердечно сказал он. — О человеке можно думать многое, но в одном поверь мне: не о себе думаю я, пекусь о славе российской. Мечтаю видеть отчизну еще могучее, еще богаче. Булатный меч дерзаю вручить богатырю русскому.
— У доброго человека и думки добрые! — сказала Луша. — Да разве ж я сомневаюсь в том! — она проникновенно посмотрела ему в глаза.
Много ласковых, хороших слов сказала ему Луша, и Павел Петрович ушел просветленный и взволнованный.
И без Луши Аносов догадывался, что старый литейщик хитрит и что-то скрывает от него. Павел Петрович с большим почтением относился к опыту Швецова: знал, что из поколения в поколение старые горщики практически дошли до великого умельства и передают его по наследству. Однако зоркий глаз и чутье Аносова подсказывали ему, что если и накопился значительный опыт, то это далеко не коренная тайность, как наивно назвала ее Луша. Настоящую коренную тайность надо искать в самой структуре металла, а для того, чтобы познать ее, нужны научные изыскания. Только наука откроет дверь к тайне булата. Павел Петрович чувствовал себя стоящим перед безбрежным морем, которое предстояло ему переплыть. Нужно было терпеливо проделать тысячи опытов, чтобы открыть закон, по которому складывается та или иная структура металла. К терпению Аносов готов, но кто позволит ему проделать тысячи опытов? Директор Златоустовской фабрики Клейнер назовет это безумием.
Павел Петрович, не теряя времени, работал над книгами. За делами он забыл об Эльзе. Однако Каймер в один из воскресных дней напомнил ему о себе. Он пришел на квартиру к Аносову и выложил перед ним исписанный лист. Держался гость отчужденно, важно.
— Что это за бумага? — удивился Павел Петрович.
— Тут изложен мои претензий. Пунктуален есть запись!
Аносов прочел написанное: «Фриштык первый в Башкир один рубль, фриштык еще в Башкир один рубль…»
Горный офицер был возмущен. На листе самым тщательным образом были записаны завтраки, обеды, кофе, которых он удостоился в гостях у Каймеров.
— С вас выходит пятьдесят рублей и полрубля! — нагло сказал немец и протянул руку. — Я жду расплата.
Аносов густо покраснел: он никогда и нигде не видел такой бесцеремонности.
— Помилуйте, но ведь за гостеприимство не платят деньгами? — смущенно забормотал Павел Петрович.
— Совершенно верно. Гостеприимство, любезность — бесплатно. Но вы же пили, ели и занимали время у порядочной девушки! — возмущенно выкрикнул Каймер. — Хороший господин сам должен понимать всё!
— Как же так! — недоумевающе пожал плечами Аносов.
— Я буду делать великий скандал на весь Златоуст и даже весь санкт-петербургский департамент, и вы не только будет платить денег, но и еще кое-что… Мы рассчитывали на вас, как жених, а вы избрали простой русский девка…
Каймер нагло наступал на растерявшегося Аносова. Павел Петрович был возмущен, и вместе с тем жгучий стыд охватил его. Овладев собой, Аносов подошел к сундучку, в котором хранились его небольшие сбережения. Он вытащил из него шкатулку и, отсчитав пятьдесят рублей с полтиной, выложил перед гостем:
— Получайте и уходите!
Немец засопел от удовольствия, не торопясь проверил деньги и чопорно откланялся. На пороге он остановился и, потряхивая над головой рукой, патетически взвыл:
— Бог мой, вы разбили сердце Эльзы. Она есть лучшая хозяйка и девушка во всем Златоуст!
Он хлопнул дверью и скрылся.
Аносов присел к столу и задумался. Его принимали за жениха! «Может быть, Эльза даже и не знает об этом?» — успокаивал он себя. Ему хотелось верить, что эта скучная, но добрая девушка думает о нем иначе, чем ее отец — корыстный и наглый человек.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава первая ЛЮБЕКСКИЙ КУПЕЦ МЕНГЕ ГРАБИТ УРАЛЬСКИЕ БОГАТСТВА
С гор и полей только что сошел снег, и по обсохшей дороге в Златоуст внезапно приехал иноземный гость из далекого немецкого городка Любека, торговец цветными камнями Менге. Худощавый, с большим обвислым носом и толстыми губами, Менге производил неприятное впечатление. Еще больше отталкивала его назойливость. Однако купец славился как неутомимый охотник за камнями. Ювелиры, ученые, торговцы драгоценностями и многие музеи Европы знали его как весьма предприимчивого человека, который в поисках самоцветов обрыскал полсвета. Его не случайно назвали «горным Колумбом». Менге появлялся там, где обнаруживались интересные минералы. В каменных кладовых Любека были собраны редкие богатства мира. На большом столе, покрытом черным бархатом, сияли и переливались непотухающими огоньками драгоценные камни, привезенные с Цейлона, из Америки, Индии, Бразилии и других мест. Тут сияли зеленым цветом изумруды, краснели кровавые гранаты, голубели амазониты, сверкали топазы, переливались нежной зеленью аквамарины. Во всем блеске и во всей яркости очарованного зрителя манили игрой «цветы земли» — самоцветы. Они приплыли из-за морей, пересекли материки, горы и пустыни, чтобы лечь сюда на черный бархат и увеселять взор человека.
С тех пор как на Каменном Поясе появились немцы, до Менге и его соотечественников проникли интересные вести о Южном Урале, в горах которого старатели отыскивали руды, золото и редкие самоцветы. Кое-что дошло и до Любека и попало в руки купца Менге. Однако жадный охотник за камнями не удовлетворился этим и решил сам отправиться в трудный и далекий путь. И вот он приехал в Златоуст, где остановился у своих земляков. По приезде он явился к новому начальнику Златоустовского горного округа Ахте, который разрешил ему посетить Ильменские горы. Аносов познакомился с купцом у Ахте и сразу догадался, что торговец камнями не случайно оказался в Златоусте. Павел Петрович весьма сухо и неприветливо держался в беседе с Менге, который поражал его своей пронырливостью и необычайной алчностью. Разговаривая с Аносовым, он беспрестанно перебирал длинными толстыми пальцами, унизанными перстнями. Студенистые и подвижные персты торговца очень походили на щупальцы жадного спрута. Менге умел занимательно рассказывать разные истории о цветных камнях, и эти истории зачастую походили на сказку. Слов нет, иноземный гость понимал толк в горном деле, но черты торгашества и жадности, которые сквозили во всем его облике, не пришлись Аносову по душе. По уходе гостя Павел Петрович нахмурился и сказал Ахте:
— Напрасно изволили допустить его в Ильменские горы! Пользы от сего нашему отечеству не предвидится.
Начальник горного округа недовольно пожал плечами и ответил Аносову:
— Пусть разнесет славу о богатстве нашей земли, — в том и будет польза!
Спорить с Ахте было бесполезно, и Аносов вскоре откланялся. Придя домой, он долго не мог успокоиться. Богатства Ильменских гор были издавна известны многим русским людям. Когда-то сюда добирались из далеких краев предприимчивые новгородцы, и от них пошли здешние названия многих гор и рек. За новгородцами в Ильменские горы пришли московские люди и нашли тут железо, слюду, цветной камень, а неподалеку в Миассе в минувшем столетии стали плавить медь. Побывал тут и известный ученый Петр Симон Паллас, член Российской Академии наук. Сопровождаемый проводниками, он пересек Ильменские горы и внимательно рассматривал каменоломни, недавно заложенные уральскими горщиками. На глаза ему попались древние копани, в которых он обнаружил признаки медных руд. Паллас тщательно записал всё увиденное в Ильменях. Здесь он обследовал слюдяные копани, мраморные ломки и восторгался цветной яшмой. Постепенно раскрывались богатства Ильменских гор. Можно ли быть равнодушным, когда знаешь, что к этим богатствам тянутся жадные руки иноземцев? Однако Аносов был бессилен предпринять что-либо против использования русских богатств Менге.
С болью в сердце Павел Петрович наблюдал за сборами любекского купца в Ильменские горы. Предприимчивый охотник за камнями разыскал в Златоусте старых Горщиков и вместе с ними отправился на поиски. Он не пропустил ни одной заброшенной копани, тщательно исследуя их. Опытные умельцы-рудознатцы отыскивали для него новые месторождения цветных камней. Менге не доверял горщикам и сам залезал в копани, где подолгу разглядывал камень. Ничто не ускользало от его внимания. Добытое в недрах гор проводники укладывали в ящики и отвозили на хранение в Златоуст. Никогда и нигде купец не видел таких богатств, как те, что скрыты были в русской земле. Перед ним, как в сказке, открывались целые россыпи голубовато-зеленого амазонского шпата. Все отвалы щетинились остроугольными осколками цветного камня, они блестели на ярком уральском солнце, отливали всеми тонами. Менге не мог скрыть своего восторга перед невиданной волшебной красотой самоцветов. И сама природа вокруг поражала его воображение: внизу, на востоке от Ильменского хребта, расстилалась мягкая холмистая равнина, изукрашенная озерами, которые, как и цветные камни, сияли разными оттенками красок.
В дрожащих от волнения руках Менге держал образцы удивительных самоцветов. Его находки превзошли самые дерзкие предположения. Он нашел в Ильменях редкие минералы, которых еще не знала Европа. Казалось, что перед ним широко и гостеприимно распахнулись двери в каменные подвалы, наполненные сокровищами.
«Кажется, минералы всего света собраны в одном удивительном хребте сем, — заносил в свою записную книжку Менге. — И много еще придлежит в оном открытий, кои тем более важны для науки, что представляют все почти вещества других стран в гигантском размере».
Почти каждый день с гор подвозили в городок добытые камни. Здесь всё записывалось, тщательно упаковывалось и готовилось к дальнему пути.
Через месяц Менге снова появился в Златоусте и собрался в Любек. Было раннее утро, когда к Аносову прибежал взволнованный, побледневший старик Швецов:
— Что же это будет, Петрович? Среди белого дня грабят наши богатства!
В глазах старика стояли слёзы, можно было подумать, что он потерял самое дорогое и заветное. Вместе с Аносовым они вышли на крыльцо. На площади шумно покрикивали караванщики, ревели верблюды. Позванивая колокольчиками, вереница их, нагруженная тюками и ящиками, мерно покачивая горбами, потянулась по пыльной дороге. Впереди всех на самом высоком двугорбом верблюде ехал карамбаш,[8] что-то гортанно выкрикивая. Караван покинул площадь и мало-помалу стал удаляться, а вскоре и совсем растаял в синеватом тумане.
Павел Петрович тяжело вздохнул; на душе кипела буря. Он взял старика литейщика за руку, крепко сжал ее:
— Что поделаешь, отец, мы с тобой тут бессильны!
Пришел вечер. Аносов уселся в своем кабинете работать, но мысли его были о другом. Он сидел у стола, а за распахнутым окном простиралась теплая звездная ночь, шелестела сочной листвой молодая кудрявая березка. В комнату на огонек влетели две пестрые бабочки и закружились вокруг пламени свечей. Павел Петрович глубоко втянул в себя приятный освежающий запах листвы, поднялся и выглянул в окно. Всё было погружено в мягкий бархатистый мрак, который наполняли сотни разнообразных звуков. Аносов прислушался. Вот неподалеку ворчливо бурлит Громатуха, — утром в горах прошел ливень, и теперь потоки стремительно торопились к Аю. На пруду наперебой кричали лягушки, а с завода доносилось пыхтенье паровой машины. Все звуки сливались в бодрящую мелодию. Светлой и радостной казалась эта ночь! И синие звёзды, которые переливались и сияли над Косотуром, и запахи листвы, и шум горной речонки — всё это манило в горы, в лес.
«И впрямь, хорошо бы побродить по горам! — мечтательно подумал Аносов. — Стоит подняться на Таганай, побывать на Юрме, перевалить за Шишимские горы! Заводу нужны металлы, в них нехватка, а Ахте дает разрешение открывать русские сундуки для чужого человека! Неужели так и останутся лежать втуне для русских людей эти бесценные сокровища?»
Он отошел от окна, уселся за стол и склонился над тетрадкой.
Стал писать: «Уральские горы, питающие сотни тысяч народа и составляющие один из немаловажных источников богатства России, давно уже заслужили подробнейшего исследования…»
Он отложил перо и задумался.
«Но разве под силу одному провести подобное исследование? — вдруг усомнился он. — Возможно ли одному человеку сделать новые наблюдения к открытию рудоносных мест, не имея на это средств?»
Аносов снова склонился над столом. Гусиное перо затрещало под сильным нажимом пальцев.
«Можно и нужно…» — решительно написал он, вскочил и заходил по комнате.
Пламя в свече дрогнуло, зашипело, — опаленная бабочка упала в растопленный воск. Павел Петрович достал из книжного шкафа карту и, разложив ее, долго рассматривал…
На другой день он вызвал к себе Швецова. Литейщик явился прямо с работы, потный, в прожженном кожаном запоне, и в нерешительности остановился у порога. Аносов подвел его к распахнутому окну и, показывая на синеватую вершину Таганая, спросил:
— Скажи, мастер, ты бывал там?
Лицо Швецова вдруг потускнело, опечалилось.
— Бывал в молодости, да отходился ноне! Не бродить мне больше по шиханам да лесным трущобам, — ноги отказали. Что ты задумал, Петрович? пытливо уставился он в лицо Аносова.
— А что ты скажешь, дорогой, если я в горы пройду и погляжу, что там для нас припасено? Не всё же чужакам растаскивать наше богатство!
Глаза старика радостно зажглись.
— Милый ты мой! — ласково прошептал он. — Неужто и впрямь сделаешь это! Для русской земли, для народа постарайся! — Глаза Швецова заблестели. Казалось, к нему вновь вернулась молодость. — Только без бывалого человека одного тебя не пущу, Петрович! Ни бродить, ни ездить по таким углам нельзя без знающего человека. Забредешь куда и не выберешься!
— Вот ты и присоветуй мне умного и толкового человека. Да такого, чтобы не только горы и тропы знал, но и камни и руды любил. Не зря по горам пойду!
— Эка жалость, сам не могу тебя сводить! Отходился! — сокрушенно вымолвил литейщик. — Душа и глаза высоко манят, а ноги стали чужими. Что ж, есть на примете такой человек, старого леса коряга. Крепок он, истинно могуч! И каждый шихан, и любую тропку знает, как свой двор, и глаза у него на цветные камни и металлы ласковые. Чертознай! Семь десятков стукнуло, а дубом на юру стоит. Сегодня приведу тебе бедового ходуна — Евлашку Кикина!
Швецов помолчал, потом вспомнил что-то и тепло улыбнулся.
— Верь этому человеку, не продажный! — веско сказал он. — Господин Менге сманивал его в горы, положил перед ним золотой талер и сказал: «Покажи мне самое интересное в этих краях!». Евлашка отодвинул золотой и наотрез отказался: «Не для вас тут добро положено. Сами не возьмем, внуки, правнуки добудут сокровища и заживут!».
Глава вторая ПРЕКРАСНЫ ГОРЫ УРАЛЬСКИЕ — КАМЕННЫЕ КЛАДОВЫЕ НЕСМЕТНЫХ БОГАТСТВ
В солнечный полдень Аносов и дед Евлашка ушли в горы. Старик и впрямь оказался сильным и толковым. Высокий, с непокрытой косматой головой, он бодро и весело шагал впереди. Одет он был в старенький потрепанный кафтан и посконные порты, на ногах мягкие поршни, переплетенные ремнями. Лицо у Евлашки было загорелое, приятное. Такие лица бывают только у коренных русских пахарей, и это пришлось Павлу Петровичу по душе.
С мешками за плечами, с палками в руках, они пошли по торной дороге. На жарком солнце за спиной Аносова тускло поблескивал ружейный ствол.
— Хорошо ружьишко! — оглядев оружие, одобрил дед. — Всё, милый, сгодится в пути!
Подле Златоуста сразу начинались горные дебри и дремучие леса, в которых царствовали безмолвие, прохлада и особая привлекательная таинственность. Горного инженера поразило величие скалистых сопок и бесконечных лесных пространств. Здесь в чащобах всё жило своей, интересной и своеобразной жизнью, которую так превосходно знал дед Евлашка.
— Тут каждая местина мною исхожена! — добродушно говорил он Аносову. — Любое дерево и шихан говорят мне о горе и радости. Глянь-ко, у тропки в черемушнике ветхий крест склонился, — тут бродяги за копейку человека убили! Эх, сторонка сибирская, варнацкая сторонушка! — вздохнул старик.
Павел Петрович разглядел покрытый лишайником и мхом пошатнувшийся крест над заросшей могилой.
— Ты, Петрович, не бойся! — продолжал проводник. — Смелому человеку везде дорога, а смерть и на полатях настигнет! Русский человек оттого силен, что ничего не боится. Тем и берет. Мороза он не боится, потому что мороз только бодрит, жар ему тоже нипочем: пар костей не ломит. Воды, сырости и дождя нам ли бояться, — сызмальства в мокром месте живем. Златоуст так и зовется — «божий урыльник»! Эх, милый ты мой человек! вздохнул старик. — Урал — наш край родимый! Горы и лес кормят, одевают и душу радуют, стало быть, земля тут наша, родная, милая…
Евлашка шел широкой, размашистой походкой, прислушиваясь к лесному шуму, разглядывая каждое чем-либо приметное дерево, муравьиный холмик, и словоохотливо беседовал с ними, как со старыми друзьями.
— До чего же ты ноне хороша, милая! — обращался он к кудрявой березке. — Ну, расти, расти, себе на радость и людям в утешение!
Вот он подошел к старой сухой сосне, которая могучей колонной высилась среди чащи. Постучал в нее. Глухой, невеселый звук издала лесина.
— Мертва, отжила свое, не зацветет, не зазеленеет больше. Ждет своего ветровала! — с грустью сказал он. — Этакой лесиной моего батьку охотника в один миг на смерть уложило! Охотился он зимой за белкой, налетела буря, и страшенный ветровал повалил сосну. Она и погребла под собою охотника. Только через год горщики нашли его кости под буреломом… Тсс! — вдруг остановил он Аносова и указал на свежие следы. — Видишь, тут только что прошла лисанька, а впереди проскакал заюшка. Ну, пропал, горюн! — грустно вымолвил старик и прислушался к лесной тишине; Аносов тоже затаил дыхание. Слышно было, как билось сердце. Прошла минута, другая, и в лесу раздался жалобный крик.
— Схватила, подлая! Задушила заюшку в один момент. Хитра лисанька… Гляди, а вон тут вчера волк пробежал! — показал он на следы зверя…
Аносов молчаливо шел позади проводника. Не хотелось говорить, любо было прислушиваться к ропоту лесной пустыни, разгадывать ее тайны. Дед Евлашка радовал и удивлял Павла Петровича. Старик спокойно и мудро читал книгу природы. Каждая страница ее казалась интересной, и Аносов боялся пропустить что-либо из замеченного Евлашкой…
На скате горы шумели густолиственные березки. Где-то гомонил ручей. На старой сосне выстукивал дятел. Совсем близко из темного дупла выскользнул маленький полосатый бурундук. Заслышав людей, осторожно оглянулся и проворно скрылся среди густых ветвей огромной ели. В чаще, в невидимом затоне, крякнула утка и смолкла.
— Вода, стало быть, рядом! — пояснил Евлашка и свернул с тропки в густые кусты.
Занимался жаркий солнечный денек, под ясным голубым небом неподвижно лежало светлое Ильмень-озеро. Кругом на берегах песок да камень, смолистая жаровая сосна стеной стоит; под утренним светом искрится хвоя. В воде отражается каждое легкое летучее облачко, каждое дерево и кустик, склоненные над берегом.
— Ох, и любо! — вздохнул во всю грудь Евлашка и приостановился на отмели. — Глянь-ко, Петрович, какая лепость: вода как ясный горный хрусталь, — на дне все камушки считай!
Аносов стоял очарованный нетронутой красотой. Перед ним синели Ильменские горы, легкий туман прозрачной пеленой уплывал к лесу. Кругом неподвижная, глубокая тишина. Ничто не нарушало ее, ни один звук не тревожил невозмутимого покоя: не прошелестит под ветром лист, не рявкнет зверь, не прокричит чайка над озером. Только щуки, как быстрые тени, скользят в глубине вод да вверху в прозрачном небе неслышно кружит ястреб. В укромной заводи, недалеко от берега, спокойно плавают белые лебеди.
— Ты гляди, что за диво! — прошептал Евлашка и неосторожно треснул сучком. Лебедь-вожак насторожился, горделиво поднял голову и, заметив людей, взмахнул крыльями. За ним встревожились другие. Они приподнялись и, с силой ударяя крыльями, побежали по воде. Точно осколки горного хрусталя, во все стороны полетели сверкающие брызги. Легко и плавно, как белоснежное сказочное видение, расправив розовеющие на солнце крылья, лебеди стаей потянули к дальнему острову.
— Разумная тварь! Ушла подальше от греха! — одобрительно отозвался дед и неторопливо пошел к челну. Столкнув суденышко в воду, он забрался в него.
— Ты, Петрович, садись, а ружьишко положи. Грех бить такую тварь и рушить благолепие!
— Рука не поднимется. Ружье прихвачено на хищного зверя да на злого человека для острастки! — сказал Аносов.
— То-то же! — одобрил Евлашка и взялся за весло. Павел Петрович уселся на корме. Слегка покачиваясь, челн скользил среди зеркального простора. Из-за мохнатых хвойных вершин прибрежного леса золотыми стрелами вонзались в озеро солнечные лучи. На густых травах и камыше сверкала тяжелая роса. Челнок плыл мимо лесных зарослей черемухи, рябины, ольхи. Их сменил пахучий бор. Как могучие богатыри, закованные в золотые латы, на берег вышли вековые мачтовые сосны. Аносов жадно рассматривал всё на пути.
«Земля обетованная! — подумал он. — Человек мечется по серому и скучному Санкт-Петербургу, не ведая, сколько красот и прелестей таится в пространствах российских».
Впереди в легкой синеве всё выше вставали гребни Ильменских гор. Здесь на небольшом пространстве земли собраны все богатства земных недр.
— Богат и сказочен наш уральский край! — восторженно сказал старику Аносов.
— Эх, милый человек, да Урал-батюшка — это каменные кладовые бесценного добра! — оживленно заговорил Евлашка, и глаза его засветились молодостью. Широкоплечий, медный от загара, он медленными, величавыми движениями шевелил веслом. — Хочешь, Петрович, я тебе нашу уральскую старинушку спою? От дедов и прадедов к нам дошла и по сию пору силу свою сохранила!
— Что же, спой, послушаю! — заинтересовался Аносов.
Евлашка откашлялся в руку, огладил коротким движением бороду, и лицо его сразу стало торжественным.
— Ты уж не обессудь, как умею, так и спою, от души! — предупредил он.
Слегка прижмурив глаза, подставив лицо солнцу, дед Евлашка запел:
Стоит Урал-богатырь стальной. Кудри его да белокурые, Глаза у него словно звёзды ясные, Кафтан-то на нем весь в золоте, Опоясочка да во серебре, Сапожки на нем жемчужные, Каблучки-то у них алмазные…Мечтательность лежала на добродушном лице Евлашки. Где-то из овражины, ворчливо булькая, впадал в озеро ручеек. Дед взглянул в сторону болтливой струйки, перевел дыхание. Глаза его выражали тихую грусть. Аносов невольно залюбовался стариком, а тот, собравшись с силой, снова запел:
Как солнце, наш Урал блистает Да добрых молодцов подзывает: — Люди добрые, вы возьмите-ка ключи, Вы откройте в кладовых-то сундуки, Там найдете вы сокровища мои, Те сокровища все вам я отдаю, Вы украсьте ими родину свою, Чтоб она невестой красною была, Чтоб она вас к жизни радостной вела!Последний звук песни медленно угас в шелесте листвы. Потянуло ветерком. Челн подходил к песчаному плёсу. Широким, сильным движением весла дед Евлашка оттолкнулся от неглубокого дна, и лодочка с разбега ткнулась в берег.
— Ну, понравилась тебе, Петрович, наша уральская старинушка? спросил он, и серые глаза следопыта лукаво прищурились. — Думается мне, доживет народ, когда в один день ключи у простых людей забрякают и пооткроют они сундуки каменные для всех. Что молчишь, Петрович?
— Охотно верю, дорогой, что придет этот день. Только заветное слово надо знать! — сказал Аносов многозначительно. — Да не про всякого оно говорится…
Дед понял намек и тяжко вздохнул.
— Одного раза нашлись ключи к этим сундукам, — таинственно сообщил он. — Владел ими Емельян Иванович, да, слышь-ко, не по нутру то богачам и начальству пришлось… Не осуди меня за такие речи, Петрович. Другому ни за что не сказал бы, а тебе можно…
— Спасибо за доверие! — искренне ответил Аносов. — Ну, вот и горы! Веди, дед, раскрывай свои каменные сундуки!
— Поспешаю! — весело крикнул Евлашка, ухватился за борт челнока и вытащил его на песок. — Так надежнее, не унесет его волна. Всяко бывает, а вдруг да набежит ветер. Береженого и бог бережет. Ну, айдате! — и он повел Аносова по лесной тропке. Над головами их раскачивались крепкие литые сосны, темно-зеленые ели. Миновали елани.[9] Пестрые и яркие от цветов, они нежились под солнцем, обрызганные росой, которая испарялась на глазах. Роса таяла под теплыми лучами, и цветы, и былинки распрямлялись. Вот подняли головки «лесные курочки», вот распустили перышки «петушки», жарко вспыхнул иван-чай, полегоньку расправились ландыши, и широкий пестрый ковер цветов и трав засверкал еще ярче и заструил ароматы. Тепло и солнце обласкали их. В воздухе, в лесу, в травах, в чаще разливалась бодрящая свежесть. Источали смолистый аромат сосны, благоухала земля.
Светел и радостен становился день. Дед Евлашка вел Аносова по еле приметным лесным тропам и вскоре уверенно добрался до какой-то старой копани.
— Ну, вот, кажись, и пришли! Вот она Прутовская закопушка! — весело возвестил он, утирая с медного лица пот. — Тут и есть теплый и радостный камень топаз! Казак из Чебаркульской крепости Прутов нашел… Ну-ка, поглядим, что здесь! — Он скинул мешок с плеч, достал молоток, лопату и прыгнул в яму. Из-под его ног среди палых прошлогодних листьев прошуршала зеленая ящерка. — Ишь ты, хозяйка копани отыскалась! Петрович, полюбуйся-ка! — старик прислонился к скату «закопушки» и стал постукивать молотком.
Аносов тоже сгорал от нетерпения. Он освободился от заплечного мешка и осторожно спустился в копань. Вместе с Евлашкой они стали ковыряться в осыпи. Под лопатой Аносова вдруг блеснула золотая искорка.
— Он! — вскрикнул Евлашка. — Гляди, Петрович, что ты добыл. Какой красавец! — Он взял камешек в руку, облизал его, положил на ладонь и невольно залюбовался. Крупный кристалл был напоён густым золотым светом. Эх, мать моя родная, ровно солнышко в полдень лучится! Тепел, радостен, для души увеселение! — задушевным голосом сказал он. — Счастливый ты, Петрович, на руку легкий!
Он без зависти возвратил Аносову камень и снова стал ковыряться.
— Ну и ну, и мне, кажись, пофартило! Э-ха-ха, полюбуйся! — старик протянул Павлу Петровичу прозрачный голубоватый кристалл.
— А что это? — спросил Аносов.
— Топаз же! Тут в Ильменях всё больше голубоватые попадают!
Камень был невелик, но необычайно красив и ласкал взор. Оба они долго любовались добытыми самоцветами. Какое-то тихое успокоение легло на душу. Над копанью веяло прохладой, шумел лес. Совсем близко затрещал валежник. Аносов выглянул из ямы. Среди вековых сосен и берез вилась тропинка, проложенная зверем.
— Большой зверь прошел! — поняв тревогу Аносова, сказал Евлашка. Гляди, кажись, лось. По запаху чую…
— Стрельнуть? — предложил Павел Петрович и стал вылезать из ямы.
— Оборони бог, ни к чему! — сказал дед. — Что убивать без толку! Таскать за собой не будем. Пусть гуляет на воле да радуется жизни!
Аносов присел на мшистый камень, притих. И в эту минуту в дальнем просвете он увидел, как через елань пронесся сохатый… В лесу быстро погасал каждый звук, а между тем кругом кипела жизнь. Большой синий жук прогудел и скрылся из глаз. Ярко-малиновыми лепестками мелькнула взлетевшая откуда-то бабочка. На вековой лесине затрещала сорока.
— У-у, сплетница, всему лесу вещает, что мы тут! — пригрозил в ее сторону дед Евлашка.
Они вылезли из копани. Кругом нее поднимались малинник, тонкие рябинки и заросли черемухи.
— Зарастает закопушка! — с огорчением сказал Евлашка. — И когда только трудовой человек доберется до этих богатств! Полюбуйся-ка, само из земли прет оно!
И в самом деле, прямо из-под корней старой сосны лезли ярко-зеленые камни.
— Амазонит! — с удивлением разглядывал кристаллы Аносов. — Как много их здесь!
— И не говори? — с жаром подхватил Евлашка. — В Катеринбурхе гранильщики такую грань наводят на этаких камушках, что просто душа ликует. Пошли, что ли?
Они уложили в дорожный мешок найденные камни и снова побрели по лесу. Но каждую минуту отвлекались в сторону, — нельзя было устоять перед соблазном заглянуть в забытую копань. Руки сами тянулись к молотку, а глаза не могли оторваться от густой тени в глубине «закопушки». Что там блеснет? Вот на пути попалась длинная и широкая копань. Ну как пройти мимо!
— Ты примечай, Петрович, — сказал Евлашка, — это страсть богатимое место! Неисчерпаемое дно! Какие тут камушки-огоньки! Одна радость. Разве обойдешь ее вниманием?
Они залезли в копань и с увлечением стали рыться. Прошло совсем немного времени, и из-под лопатки брызнули голубоватые и красные светлячки. Евлашка присел на дне копани и ласково взял за руку Аносова:
— Не трожь пока, Петрович, дай сердцу порадоваться! Красивы камушки! Ну вот, глянь, темно-багряные зернышки, будто раскаленные огоньки, начинают понемногу потухать! А мы сейчас огонек этот оживим! Гляди! — он взял зернышко и смочил во рту. Камешек вновь вспыхнул искоркой. Дед залюбовался им и неторопливо продолжал: — Большое умение, Петрович, камень живить! У каждого камня своя нежность; умоешь его, дашь перевести дух, и вся краска со всего самоцветика сбежится в один куст яркого-преяркого цвета! И станет камень словно живой, горит, переливается! — Он держал на ладони, похожей на сплошную мозоль, крохотный аметист. Стоило его слегка смочить, как вспыхивал фиолетовый огонек. — В этом, Петрович, и секрет, — сгустить цвет камня, чтобы играл он. И нет лучше и мудрее катеринбурхских гранильщиков. Ох, как живят они камень своей точной и тонкой гранью! Большое мастерство обрели они, разве иноземцу за ними угнаться!
Они долго сидели в копани, любуясь находкой. Насладившись вволю, вылезли и снова побрели по лесной тропе. Евлашка не унимался, шарил глазами по сторонам:
— Сколько тут гранильщиками исхожено, немало вырыто богатств старателями! Погляди, как изрыты горы! А всё равно богатства непочатый край!
И впрямь, куда ни пойди по тропкам, везде между вековыми лесинами были разброшены «закопушки», ямы, небольшие копи и шахты. Сколько самоцветов дивной красоты извлечено из них! И каждое место манило к себе и ласкало глаз.
Аносов еле поспевал за проворным стариком. Евлашка мягко ступал по мху, по старой листве и, как молитву, произносил название минералов:
— Тут найдешь и гранат, и амазонит, и корунд, и топаз… До чего же всего много в Ильменях!
Он легко забирался в старую заросшую копань и постукивал молотком. И вот, глядишь, у него в руках буро-красные кристаллы граната!
В полдень они напали на старую копань. В ней, в слоях голубого амазонита, искрились гнёзда крупных тяжелых топазов. А рядышком, как светло-голубоватый глазок, выглянул прозрачный аквамарин — «морская вода».
Между тем солнце клонилось к западу, померкли яркие краски цветов, и только озеро светилось розоватым отблеском. Усталые, но радостно возбужденные, Аносов и дед Евлашка выбрались к охотничьей зимнухе и расположились на отдых.
Старик умело разложил костер и подвесил над огнем чайник, наполненный родниковой водой. Аносов не удержался от искушения: вытащил из мешка добытые минералы и разложил их на земле среди мха и трав. Как хороши были самоцветы здесь, среди природы, в глухом зеленом лесу! Трепетно играет пламя костра, слегка колеблется, и что за дивные отблески сверкают у зеленоватых аквамаринов, голубых бериллов и густо-красных гранатов! И каждый открывает свою прелесть. А когда солнце спустилось за скалистые хребты и медленно погасла вечерняя заря, а из лесной чащи стала наползать ровная бархатная тьма, в эти минуты Аносову почудилось, что среди мха и трав во мраке поблескивают крохотные светлячки всех цветов радуги. И чем ярче поднималось пламя костра, тем чудеснее и привлекательнее отсвечивали камешки-самоцветы!
Чай давно выпит, голод утолен, ноги перестали ныть, но всё равно не хочется забираться на ночлег в закопченную сырую зимнушку. Евлашка улегся на спину и заложил руки за лохматую голову. Он блаженно смотрел в бездонное пространство неба, где пылали мириады звезд и из края в край над лесом золотой россыпью светился Млечный Путь.
— Дивен мир! — восхищенно сказал дед. — Сколько звезд в небе. А на земле каждый камушек, как будто капелька драгоценности, наполнен светом и переливается, как звезда!
Костер погасал. Аносов подбросил сушняку, и снова взыграло пламя, раздвигая бархатную тьму. Изредка слышались затаенные шорохи и легкий треск: где-то совсем близко проходил зверь. Клонило ко сну. Засыпая, Аносов думал: «Простолюдинов терзают из-за богатств, а богатства валяются под ногами! Продувные иноземцы подбирают самое ценное и дорогое! Подумать только, из далекого Любека господин Менге куда забрался, а нашим департаментам нет до всего этого дела!».
Тепло от костра согревало уставшее тело, Аносов еще раз взглянул на разложенные самоцветы, полюбовался ими и, повернувшись на бок, крепко уснул под богатырский храп деда Евлашки.
Глава третья ИСТОРИЯ С КОРУНДОМ
Аносов стремился к горному городку Кыштыму. Неподалеку от него находились Борзовские золотые прииски. Однако не золото влекло сюда Павла Петровича, а притягивал его к себе редкий минерал — корунд. Аносов не раз держал в руках кристаллы этого синевато-черного минерала, думая о будущем. Корунд — слово индийское, а по-русски его называли яхонт. Ни один из драгоценных камней не бывает так разнообразно окрашен, как корунд, — от совершенно бесцветного и белого до красного, синего, зеленого, желтого, фиолетового и всевозможных других цветов и оттенков. Еще находясь в Горном корпусе, Аносов подолгу любовался корундами, имевшими до сорока пленительных и нежных расцветок. Эти корунды были привезены с острова Цейлона. Родиной этого минерала считали Ост-Индию, Китай, Бразилию и Австралию. Самыми драгоценными камнями считались корунды кроваво-красного и карминно-розового цветов, называемые рубинами и красными яхонтами. Корунд употребляли для шлифования клинков в украшенном цехе Златоустовской оружейной фабрики. Цейлонский и китайский корунд покупали на золото, да и то с большими хлопотами. Аносов решил найти свой, отечественный корунд.
«Не может того быть, — думал он, — чтобы на обширных пространствах России не было своего корунда. Россия, богатая разными рудами, несомненно, имеет и этот минерал!»
Догадка Аносова вскоре подтвердилась. Как-то проездом из Кыштыма в Борзовский золотой прииск заглянул сенатор Соймонов — знаток и любитель минералов. Он не поленился, сам забрался в отвал и занялся изучением горных пород. Среди них минералог встретил много таких, которые уже хранились в его коллекциях. Но вот неожиданно его взор привлекли небольшие кристаллы синевато-черного цвета, вкрапленные в угловатые куски белого полевого шпата. «Не корунд ли это?» — подумал Соймонов.
Он бережно собрал кристаллы и увез с собой. Всю дорогу его волновало неожиданное открытие. По прибытии в Санкт-Петербург Соймонов тщательно изучил кристаллы, проделал анализы и убедился в том, что уральская находка — корунд. Исследователь точно определил и место, которое корунд должен занять в системе минералогии. Острой гранью одного из кристаллов Соймонов написал на стекле: «сапфир, корунд, алмазный шпат…»
Об этом узнали на Урале. Аносов не мог остаться равнодушным к находке Соймонова. Как только над горами занялось утро, он заторопил Евлашку в путь. Обливаясь потом, они много часов подряд шли по глухим горным тропам, держа путь на север. Было далеко за полдень. День раскинул над дремучей тайгой свой голубой шатер, дали пламенели под солнцем, а по небу плыли легкие пушистые облака. В перелесках у еланей на качающиеся ветки то и дело вспархивали щеглы, зеленушки, синицы и весело щебетали. В глухих местах старые звери обучали прибылых выслеживать добычу и нападать на нее. Над тихим плесом реки молодые гуси, пробуя крылья, тянули к песчаному острову. В такую жару приятно погрузиться в прозрачный родник. Недолго думая, Аносов разделся и нырнул в льдисто-прозрачную глубь. Тело обожгло огнем. Дед Евлашка с крутого берега закричал Павлу Петровичу:
— Так ее, крепи плоть! От криничной воды бегут все болезни! Погоди, скоро и Борзовский распад. Вот полюбуйся на золотой песок… Только, чур, не жадничай! Золото, оно, брат, хоть и заманчивое, а обман и суета. Николи я на своем веку не видел богатого старателя! — кряхтя, старик присел на корточки и продолжал: — Желтый камушек — бесовский камушек! Найдет его человек, — и пойдут все несчастья: или сопьется, или вовсе сгибнет… Ну, плыви, плыви к бережку, хватит с тебя!
Освеженный купаньем, Аносов зашагал рядом с Евлашкой через смолистый бор. Стояла тишина, только густые кроны сосен глухо шумели. В молчании шли час, два. И вдруг перед ними открылась поляна. Кругом нее стояли светлые березки. Над зеленым ковром трав поднимались свежие пахучие ландыши. Всё кругом дышало теплом, медовыми запахами и было залито золотым светом.
Впереди, краснея вывороченной глиной и песками, лежали длинные отвалы.
— Вот и Борзовский прииск! — показал на длинные серые бараки Евлашка. — Ишь, народ копошится.
Раздался звон колокола.
— Вишь ты, к самой съемке золота подоспели! — оживился дед и заторопил Аносова.
В разрезе, где добывались пески, копошились сотни рабочих. Кого только здесь не было! Тут и крепкий широкоплечий чалдон, и скуластый, с блестящими белыми зубами башкир, и бритоголовый татарин, и длинный постнолицый кержак с угрюмыми глазами, и просто бродяга. Над прииском и окрестными лесами стоял глухой гул от шума воды, грохота быстровертящегося барабана, стука копыт и колес о помост, от криков рабочих и приказчиков.
С последним ударом колокола всё, как рухнувший обвал лавины, стало быстро затихать. Вода перестала шуметь, барабан повернулся два-три раза, глухо прошумел песками, каменьями и стих. Уставшие рабочие разогнули спины, побросали кайлы и толпой двинулись к баракам.
Аносов и Евлашка направились к приисковому начальству, начавшему съемку золота. Смотритель приисков, увидав горного офицера, приветливо кивнул головой:
— Полюбуйтесь, ваше благородие, на золотинки наши…
Усатый, с багровым лицом становой, сероглазый плутоватый приемщик золота, смотритель машины, старший разреза и два бородатых казака возились у вашгерда. Смотритель и двое рабочих деревянными лопатами ловко снимали темноватую массу золотоносного песка вместе с приставшей к нему грязью и бросали на вашгерды. Тут и производилась последняя доводка — тщательная промывка чистой водой золотоносного песка с помощью особых щеток.
Аносов с любопытством смотрел на белые доски вашгерда. Прошло несколько минут, и на них в струе начал поблескивать чистый золотой песок — матовые бледно-желтые крупицы.
Их бережно собрали и в присутствии станового высыпали в железную банку, заперли ее на замок и наложили восковую печать. Золотоприемщик и казаки торжественно понесли банку в контору.
Смотритель прииска улыбнулся Аносову.
— Что, золотцем интересуетесь, ваше благородие?
— Загнало меня сюда другое, — просто и чистосердечно признался Павел Петрович. — Меня интересует корунд. Есть ли он у нас?
— Кто его знает, — уклончиво ответил смотритель и лукаво прищурился: — Впрочем, ваше благородие, попытайте счастье в старых отвалах. Может, что и отыщется…
У костров, вокруг больших черных котлов, сидели и обедали рабочие. После яркого теплого солнышка им не хотелось забираться в сырой и мрачный барак.
— Сейчас самая пора в отвал, — сказал Евлашка, принюхиваясь к запахам незатейливого варева. — Давай, Петрович, заглянем.
Они спустились в старый заросший отвал. Опытным зорким глазом дед оглядел породу и весело сказал:
— В самый раз угодили, она сейчас нам всё расскажет. Ты думаешь, Петрович, земля мертвая? Нет, сынок, она живая и свою речь ведет. Вот на тихой поре подкарауль минуточку, пойди к горе да сядь смирненько и послушай. Тут всё, Петрович, и откроется. Земля-то шепчется, зовет она горщика. Каждый камушек в копани, если ты умеешь его сердцем понимать, многое расскажет о себе. Вот, гляди! — Он порылся в куче белого полевого шпата и поднес один из кусков к глазам. Небольшие кристаллы синевато-черного цвета поблескивали в породе. — Он себя показывает! весело объявил Евлашка.
— Корунд! — весь засиял Аносов. — Молодец, ох, милый мой, ты и не знаешь, какой ты молодец! — потянулся он к деду.
— Куда мне до молодца! — улыбаясь, ответил Евлашка. — Ты бы у мурзинских горщиков побывал, — вот те с камнем умеют разговаривать. Бери и любуйся! — передал он горному офицеру осколок.
Аносов осторожно извлек из него кристаллы. Они маняще мерцали синеватым огоньком.
— Краса! Душу минерал показывает! — залюбовался кристаллами Евлашка. В его простых словах прозвучала большая и искренняя любовь. — Скажу тебе, Петрович, про младость свою. Мальчонкой был, нашел я в придорожной пыли маленький теплый камушек, так и светится он, как синяя лампочка. Не знал я в ту пору, что за камень нашел. Отнес его к старому гранильщику и спрашиваю: «Что за камушек, что за искорка?». Гранильщик надел очки, глянул сквозь них на мою находку и сказывает: «Удача тебе, аметист это, дорогой самоцвет!». И поверишь, Петрович, так он мне в душу пал, что с той поры и потянуло в горы, и, как волшебство какое, то здесь, то там и находишь красоту земную…
Переговариваясь, они рылись в отвале и находили всё новые кристаллы корунда. Аносов подолгу держал их в руках, любовался. Понемногу набралась ладанка кристаллов. Солнце скрывалось уже за вершинами бора, по земле побежали прохладные тени.
— Скоро и ночь, — сказал дед и добавил: — На сегодня хватит, Петрович…
Они выбрались из отвала. Шум на прииске стихал. Ярко пылали костры у бараков. Стряпухи торопились с ужином. У огней уже толкались забойщики, возчики, свальщики, разборщики, промывальщики, — усталый, оборванный народ. В бараках — густая тьма. Солнце скрылось, погасла заря, и звёзды засверкали в темно-синем небе.
— Ну что за жизнь тут! Вольная каторга! — с презрением бросил Евлашка. — С утра до ночи маются и живут, как варнаки…
Смотритель устроил их в свою горенку. Румяная стряпуха накормила их горячим варевом. Аносов и дед дружно поели и забрались на нары. В окно пробился лунный свет, и всё приняло таинственный вид. Евлашка заворочался, заговорил:
— Сказать, Петрович, по совести, горщику только и счастья, что полюбоваться на самоцвет-камень, а корысти никакой. То случай выпадет продать самое драгоценное за грош, то купец надует, если не понимаешь толку в камне. Скажу бывалое: у нас на селе один мужик пахал огород и выпахал изумруд. И какой самоцвет! Редкой красоты камень и необычайной величины. Пахарь в земле понимает многое, а в камне несообразителен. Отнес он самоцвет купцу и говорит: «Купи!». Тот сразу сообразил, с кем имеет дело, и отвечает скучно: «Что ж, купить можно, только камень не чистый. Но так и быть, на твою бедность жертвую полсотни рублей!». Мужик рад, отдал изумруд и ног под собой от счастья не чует. А купец отнес самоцвет знающему гранильщику и похвалился: «Ну-ка, полюбуйся на жар-самоцвет, огонек зеленый». Гранильщик глянул, и тепло побежало по жилам. Видит дивный, чистой воды камень. Торговались-торговались, купил у продавца изумруд за тысячу. Отгранил его катеринбурхской гранью, весь зеленый огонек собрал в золотистые лучи и вывел наружу. Заиграл-заманил, камушек-самоцвет. Отнес на фабрику, и там ему давали пять тысяч рублей. «Нет, шалишь, не обманешь! — рассудил гранильщик. — Такому камню высокая цена!» Поехал он в Санкт-Петербург и продал тот камушек женке банкира Берхен за двенадцать тысяч рублей. Вот как обернулось дельце! А только на том не кончилось. Берхен, хоть и дорожила камнем, а поехала во Францию и там продала изумруд за пятьдесят тысяч! Смекай, Петрович, кто выиграл!
Аносов молча слушал печальную историю.
— Ты не спишь, Петрович? — спросил его дед и тяжко вздохнул. — Я уже поседел, побурел весь, а счастливых старателей да горщиков не видел…
В темноте в лесу раздалась сиплая песня:
Мы не пашем, мы не вяжем, В руки кайлы мы берем… Золотую жилу ищем, Под землею ход ведем…— Поет! — усмехнулся Евлашка. — Золото моем, а сами воем! Хмель запел!
В оконце по-прежнему лился ровный зеленый свет месяца. Аносов долго не мог уснуть, прислушиваясь то к шуму бора, то к цырканью сверчка, то к потрескиванию старых бревен.
Когда Павел Петрович проснулся, утро уже сияло солнечным теплом. Резкие призывные удары колокола разбудили прииск. Снова шумела машина у речки, катились вереницей двуколки, блестели на солнце отшлифованные землей железные кайлы, работные копошились в отвалах.
Позавтракав и получив тележку, запряженную парой коней, Аносов и Евлашка выехали в Златоуст…
Дорога шла густыми лесами, среди гор, мимо озер и пересекала быстрые ручьи. В полдень неожиданно выбрались на ржаное поле. Зеленые волны бежали к дальнему лесу, который, казалось, смыкался с курчавыми облаками.
На середине пути у самой дороги стояли пять одиноких кедров. Они склонились под ветром, словно калики-перехожие. Евлашка взглянул на них пристально и сказал:
— Много лет гляжу я на эти кедры и сам про себя отмечаю, что не растут они.
— Отчего? — с любопытством разглядывая приземистые деревья, спросил Аносов.
Евлашка подумал и ответил:
— Всякому событию своя причина есть. Так полагаю я, что должно быть не сладко одинокому дереву без лесного духа расти. Вот так и человек в одиночестве хиреет…
Поднимая пыль, колёса прогремели на крепких узловатых корневищах. Среди ржи замелькали васильки. Показывая на них, дед пожаловался:
— Красивы, а злой сорняк! Хлеб губят! Эх, милый мой, не всякому голубому глазу верь…
Старик помолчал, опустил голову и задумался о чем-то своем.
Вдали в золотом небе чертили ласточки. Где-то рядом громко запели петухи.
— Вот и село близко! — очнувшись от мыслей, сказал Евлашка. — Что-то нынче кукушки не слыхал. Знать, мало старому осталось жить…
Навстречу из-за бугра показалось селение, кудрявые вётлы над прудом, и всё это было пронизано радостным золотисто-розовым блеском погожего дня…
После возвращения в Златоуст Аносов приступил к опытам над корундом. Среди шлифовальщиков славился мастерством чернобородый, кряжистый Андрей Белоухов. Его и привлек к этой работе Павел Петрович.
Мастер бережно разложил куски полевого шпата с вкрапленными зернами корунда и внимательно стал разглядывать их. Он пробовал кристаллы на крепость и остался доволен ими.
— Ну, Павел Петрович, кажись, напали на след! — облегченно сказал он. — Полюбуйся, корунд царапает все камни. Разве только алмазу уступит. Хорош!
Аносову было приятно смотреть, с какой охотой шлифовальщик брался за дело. Мастер сложил куски полевого шпата в ступку и стал толочь. Золингенский мастер Конрад Флик — грузный, носатый человек — презрительно смотрел на работу Белоухова.
— Ты хочешь поймать жар-птицу! — насмешливо сказал он. — Это бывает только в русской сказке!
Шлифовальщик не терпел издевок.
— Уйди! — сердито ответил он немцу. — Всё отдам — и силушку, и умение, — а добьюсь своего!
— Поживем — увидим! — насмешливо отозвался Флик и поспешно вышел из мастерской.
Белоухов тщательно истолок минерал и полученный порошок просеял через густое сито, потом высушил его. На другой день он с увлечением приступил к шлифовке клинка. Сильными и плавными движениями Белоухов старательно полировал синеватую сталь. На широком белом лбу работного выступил крупный пот, лицо его было строго, глаза сосредоточенны. Прошло много времени, прежде чем он прекратил работу, вытер клинок и стал внимательно его рассматривать.
— Эх, мать честная, — вздохнул мастер. — Корунд действует не столь сильно, как наждак. В чем дело?
Завернув горсть порошка в тряпочку, он поспешил к Аносову. Волнуясь, рассказал ему о шлифовке и пожаловался:
— Туго идет работа. Этак всего измотает.
Павел Петрович взял щепотку порошка и долго растирал его жесткими пальцами. Он хорошо знал свойства минералов, и опыт подсказал ему причину неудачи Белоухова.
— Видишь, что делается, — сказал он шлифовальщику. — Корунд вкраплен зернами в полевой шпат. Последний составляет большую часть в истертом порошке, а шпат мягче корунда и поэтому сильно уменьшает его твердость!
— Выходит, надо отделить одно от другого! — решил мастер.
— Совершенно верно, — согласился Павел Петрович.
Легко было найти причину, но труднее оказалось ее устранить. Горный офицер и шлифовальщик пробовали тщательно просеивать массу, но все усилия их были напрасны.
Белоухов волновался больше Аносова. С восходом солнца он приходил в цех и возился с порошком до темна, а желаемое всё не давалось. Однажды он поднялся до рассвета и поспешил на фабрику. Сильно не терпелось приступить к опытам.
На востоке чуть-чуть брезжил рассвет, а на земле еще лежала тьма и прохлада, когда работный пришел в цех. Ночную тишину нарушал шум воды, за стеной ворочалось огромное колесо. Белоухов ощупью стал пробираться к своему рабочему месту. Мутный, неверный свет просачивался в окно мастерской, и в этом сумеречном потоке шлифовальщик вдруг увидел черный силуэт грузного, плечистого человека.
Работного охватила тревога. Он неслышно бросился вперед и вцепился в плечи незнакомца.
— Ой, что ты делаешь? — в испуге закричал тот. — Я свой тут. Я Конрад Флик!
— Убью, если сойдешь с места! — пригрозил Белоухов и еще крепче вцепился в него. — Говори, что здесь робил?
— Ничего, ничего не делал! — залебезил Флик. — Шел мимо и посмотрел на твой корунд.
— Врешь! — резко выкрикнул мастер. — Ты нехорошее робил!
— Как тебе не стыдно говорить это на честного человека! — попробовал спорить золингенец.
— Идем, сейчас же идем к Петровичу! — мастер цепко схватил его за руку и потащил за собой…
Но идти никуда не пришлось. В дверях стоял сторож с поднятым фонарем. Слабый желтый свет его озарял лицо Аносова.
Горный офицер прошел вперед. Он догадался, что здесь происходит. Павел Петрович взял в горсть порошок, пробежал по нему пальцами и вдруг вспылил:
— Как вы смели, Флик, допустить подобное! Я сейчас же доложу об этом господину Клейнеру! Белоухов, отпустите Конрада.
В полдень, когда на оружейную фабрику пожаловал директор, Павел Петрович возбужденно рассказал ему происшествие с Фликом.
Клейнер злобно посмотрел на горного офицера и насмешливо сказал ему:
— Вы, господин мой, говорите глюпости! Конрад Флик — честнейший человек, а вы выдумщик. Если у вас не выходит с корунд, то при чем тут немец? Я не хочу с вами больше разговаривать подобный речь!
Аносов круто повернулся и возбужденный вышел из кабинета…
«Что же мне делать?» — спрашивал он себя и не находил выхода. Совесть подсказывала ему: «Нужно работать, работать и работать! Эти изворотливые пришельцы сидят на русской шее и хотят отравить русскую душу ядом неверия в ее творческие силы! Какая подлость! Но еще стократ подлее те, кто вступается за них!».
Всю неделю он не находил себе места. Белоухов видел его терзания и, когда никого не было в цехе, тихо и душевно сказал ему:
— Ты, Петрович, напрасно убиваешься. Всё равно не сломить им нашего народа. Они могут обмануть начальство, департаменты разные, а народ не обманешь! Всё он видит и копит в своем сердце, ох, какую злобу копит!..
Аносов опешил. Он не знал, что ответить шлифовальщику. Желая переменить тему разговора, спросил мастера:
— Что корунд?
Работный поднял серые глаза на горного офицера и, пристально вглядываясь в него, ответил:
— Больше не буду о том, Петрович. А что касается корунда, то следует его отделить от полевого шпата водой…
Аносов повеселел.
«Как я раньше не подумал об этом! Известно, что корунд обладает большим удельным весом, чем полевой шпат. Вода отделит более легкие частицы шпата от более тяжелых частиц корунда, тогда и китайский наждак не нужен будет, — чего доброго, еще сами начнем продавать русский корунд!»
— О чем размечтался, Петрович? — спросил его шлифовальщик.
— Да, да, водой! — пробормотал Аносов и пристально посмотрел на Белоухова: — Ты, братец, умно подсказал мне!
Горный офицер и мастер принялись ладить прибор для отделения корунда от шпата.
Они использовали обычный кричный стан, сделав только несколько шире молот и наковальню. На крепкой подставке укрепили добрый тесовый ящик, окованный железными обручами, и через отверстие на дне его вывели наковальню.
В своей записной книжке Павел Петрович через неделю записал:
«На сем стане работник с двумя мальчиками может протолочь и просеять за день 100 пуд корундовой породы. Промывка производится на обыкновенном ручном вашгерде. Один человек промывает в день до 20 пуд. Из сего видно, что расходы на приготовление корунда к полировке весьма маловажны. Из 100 пуд корунда получается до 70 пуд порошка, годного для полировки».
Аносову очень хотелось знать мнение о своем приборе директора фабрики, но Клейнер — видимо, встревоженный чем-то, — обходя цехи, с начальником украшенного держался сухо и недоступно.
«Что-то неладное творится!» — подумал Павел Петрович.
В этот день его неожиданно вызвали в правление. В приемной сидело много горных чиновников. По выражению их лиц Аносов догадался, что случилось что-то важное.
Вдруг двери директорского кабинета распахнулись, и из них торопливо вышел Клейнер, а за ним медленно выступал громоздкий, с тяжелым багровым затылком, важный горный чиновник, который, тяжело дыша, остановился посреди приемной. Его заплывшие жиром маленькие свинцовые глаза безразлично обежали собравшихся.
— Господа, — дрогнувшим голосом сказал Клейнер. — Позвольте вам представить нового начальника Златоустовского горного округа и директора заводов Степана Петровича Татаринова, а я… я ухожу на покой…
Все встали. Среди чиновников прошло плохо скрываемое волнение. Только один Павел Петрович стоял молча. Склонясь к его уху, один из офицеров, злорадствуя, прошептал:
— Так ему, подлецу, и надо! Его увольняют за злоупотребления…
* * *
Татаринов оказался рыхлым, неподвижным человеком. Говорил скучно, с хрипотцой и очень редко появлялся в цехах. Аносов решил доложить ему об опытах с корундом. Начальник горного округа внимательно выслушал Павла Петровича и сказал:
— А есть ли разность в действии корунда и иностранного наждака?
— Шлифовальщики сию разницу замечают. Она, ваше превосходительство, состоит в том, что первая полировка, производимая с маслом, помощью корунда идет успешнее, нежели с наждаком.
— А дальше? — заинтересовался Татаринов, и глаза его оживились.
— Вторая полировка, ваше превосходительство, несколько медленнее. Причина состоит в том, что в корунде нет железной окиси, которой иностранный наждак изобилует. Но сия медленность с избытком вознаграждается скоростью первой работы…
— Превосходно. Благодарю! — Татаринов тяжело поднялся и пожал горному офицеру руку. — Кроме сего, должен вас обрадовать: усердие ваше замечено, и ныне вы производитесь в помощники управителя оружейной фабрики.
— Благодарю, ваше превосходительство, но поистине я огорчен этим известием, — озабоченное лицо Аносова выражало печаль.
— Это почему же, господин Аносов? — удивился Татаринов.
— Мне бы хотелось быть ближе к делу — к литью, к ковке стали…
— А-а, — протяжно отозвался начальник. — Ну, это не уйдет от вас.
— Кроме того, прошу, ваше превосходительство, — продолжал Аносов, разрешения съездить мне в Кыштым и удостовериться в возможности добычи корунда в потребном нам количестве, дабы совсем освободиться от ввоза китайского и цейлонского наждака.
Татаринов благосклонно качнул большой головой.
— Это можно! — Он устало закрыл глаза, утомясь от беседы.
Аносов вышел из кабинета в приподнятом настроении. Он добьется цели: Россия будет иметь свой корунд!
Первым его встретил Белоухов. Шлифовальщик протянул ему клинок:
— Полюбуйся, Петрович, чистая работёнка!
Аносов бережно взял из его рук клинок и сказал:
— Труд наш не пропал даром! И это радостнее всего!
И оба, затаив дыхание, долго любовались превосходной шлифовкой клинка.
Глава четвертая СУДЬБА ЛУШИ
Короткая летняя ночь протекала тихо и быстро. За окном затаенно шептались березы и однообразно бормотал ручей. Аносов до хруста в костях потянулся и открыл глаза. Золотой луч упал в окно и наполнил комнату сиянием. На столике лежала раскрытая книга, Павел Петрович приподнялся, чтобы взять ее. Давно он не листал волнующие страницы, — за неотложными делами забыл обо всем. И как приятно было теперь взять в руки книгу. Но что это? На пожелтевшей странице лежал засохший цветок одуванчика. Золотистая звезда милого, простого цветка словно заглянула ему в самое сердце трогательно и наивно.
«Приходила Луша», — догадался он, и в памяти встал яркий и чистый образ девушки. Его неудержимо потянуло увидеть синеглазую кержачку.
Весь день на работе он думал о ней. С нетерпением ждал вечера, а летний день, как назло, тянулся долго-долго. На фабрике кипела напряженная работа. Бодрый и радостный смотрел Аносов на работу шлифовальщика Андрея Белоухова, карие глаза которого под густыми бровями тоже смеялись.
— Чему радуешься? — весело спросил его Павел Петрович.
— А как не радоваться: ноне две удачи привалило! — живо отозвался мастер. — Первое, доказали мы с вами, Петрович, немцам, что у русского народа рука шустрая да чуткая, сразу показала живинку в деле. Вон как шлифует — блеском блестит! Ровно солнышко, глаз не оторвешь! А второе, Петрович, у нас на Громатухе пир ныне. Девку просватали!
— Чью девку просватали? — равнодушно спросил Аносов.
— Лушу Швецову. Ох и девка! На всей земле такой не найдешь!
— Как Лушу? — изумленно вскрикнул Павел Петрович, и сердце его сжалось от тоски.
— А так, пришла, знать, пора! — оживленно продолжал шлифовальщик. Хороша и умна девка! Да и жених кузнец — богатырь в мастерстве своем!
Аносов никогда не задумывался о будущем. С Лушей ему всегда было хорошо и легко на душе, но ни разу они не обмолвились словечком о своих чувствах! Была ли это любовь, кто знает? Но сейчас, при вести, что девушку выдают замуж, у него закипело на сердце. Он разволновался, и день сразу показался ему сереньким. Чтобы не выдать своих чувств, он сдержанно сказал Белоухову:
— Хороший выбор сделала Луша! Кузнец — самый потребный мастер на земле!
— Нет, Петрович, не согласен! — озорно ответил шлифовальщик. — А по-моему, что может быть лучше мастерства шлифовального! Наше умельство тонкое, чутье надо иметь. Одно слово, — доводчики мы всякой работы. Красоту и блеск ей придаем!
— Это верно, что и в твоем деле надо иметь живинку. Если правду говорить, то все мастерства на свете по-своему хороши! — с жаром сказал Аносов. — А всё-таки мастерство кузнеца особое, самое старинное и в большом почете у всех народов.
— Ой, так ли, Петрович? — не сдавался Белоухов.
— Истинно так, — подхватил Павел Петрович. — Землепашец первый оказывает кузнецу высокое уважение. На его глазах в сельской кузнице в сильных и умелых руках ковача кусок раскаленного железа чудесно превращается в лемех, в подкову и в другое очень нужное в хозяйстве изделие.
— Это правда! — согласился шлифовальщик.
— Веселая и шумная работа! — продолжал Аносов, а у самого сердце сжималось от боли. — Заслышишь звон железа под молотом, и как-то веселее, бодрее становится на душе. А когда увидишь, каким дождем сверкают и разлетаются искры у наковальни — совсем хорошо станет! Нет, не спорь, Андрей, хорошо быть кузнецом!
— Всякий труд на земле благостен! — ответил шлифовальщик.
— Согласен с тобой. Но заметь, что кузнецы — самые древние мастера на земле! — сказал Павел Петрович. — В старинные годы они были первые оружейники на Руси. Мастерили оружие боя меткого и дальнего, ковали мечи и пики остроты и крепости бобрового зуба. Недаром о кузнецах поют самые веселые песни. В старину кузнец, — продолжал Аносов, — даже на иноземщине был в чести. В Англии на пирах в королевском дворце кузнец сидел за одним столом с королем и королевой. Ему подносили лучшее питье и угощенье. По чину кузнец в те времена был выше медовара, а лекарь был ниже их обоих.
— Дивно! — улыбнулся чернобородый шлифовальщик. — Высоко доброе мастерство вознеслось!
— А вот что однажды случилось. Как-то набедокурил шотландский кузнец. Послали англичане своих людей к шотландскому воеводе, и те говорят ему: «Выдай нам кузнеца, беда, что натворил он! За это дело надо его повесить». А тот им в ответ. «Не хотите ли заместо кузнеца двух ткачей?». Вот, дорогой, какой почет был кузнецу. И недаром: без кузнеца не сделаешь ни сошника, ни серпа, ни топора, а без них нельзя ни хлеба добыть, ни избы срубить. И что важнее всего, — без кузнеца не было бы оружия, нечем было бы обороняться от врага…
— Молодец Луша, коли так! — похвалил мастер девушку, не зная того, что своими словами, как острым ножом, полоснул по сердцу Аносова.
Потерянным и грустным ушел Павел Петрович из украшенного цеха и поспешил в литейную. Старик Швецов встретил его дружески:
— Ты что ж, Петрович, совсем забыл нас?
— Занят был, — тихо ответил Аносов и не сдержался, спросил: — Отец, это правда, что ты дочку замуж отдаешь?
— Правда, — просто подтвердил литейщик. — Неделю тому назад сговор состоялся.
— А Луша что? — замирая, спросил Павел Петрович.
— Пусть радуется. Парень в силе, умен и ковач отменный! По совести сказать, в таком деле девку не спрашивают. Старикам виднее.
— Но ведь она его не любит! — вскричал Аносов.
— У нас так говорится: стерпится-слюбится! — спокойно ответил Швецов. — Да к тому, Петрович, мы простые работнички и некогда нам любовью заниматься. Был бы человек для жизни хороший.
— А всё же хотелось бы знать, как Луша? Можно поговорить с ней? дрогнувшим голосом спросил Аносов.
Старик нахмурился, помолчал, а затем смущенно пробормотал:
— Не в обиду тебе, Петрович, но прошу — не тревожь девку. По правде молвить, хоть дело у нас одно, а разных мы путей-дорог. Сердце же девичье не камень; не смотрит ни на что, а к солнышку тянется. Не приходи, пока с делами не управимся…
Аносов молча опустил голову. Дрожащими руками застегнул на мундире пуговицу и, сутулясь, тяжелым шагом побрел домой.
Солнце щедро золотило горы и лес. По синему небу плыли легкие пушистые облака. Широко и привольно было кругом, а в комнатке у Аносова всё вдруг потускнело, померкло.
Медленно шло время. Тихий вечер опускался на землю, и сквозь фиолетовую тучку солнце послало в комнатку свой последний теплый золотой луч. Аносов чего-то ждал. Внутренний голос шептал ему: «Погоди минутку, вот она придет сюда и всё расскажет…»
Предчувствие не обмануло. Еще не погас закат, когда неожиданно скрипнула дверь и на пороге появилась Луша. Сердце остановилось у него в груди от радости. Аносов протянул дрожащие от счастья руки и прошептал:
— Луша!
Она прислонилась к косяку двери и низко опустила голову.
Аносов подошел к ней, взял за руку. Длинные холодные пальцы ее дрожали.
— Лушенька, почему ты решилась? Полюбила парня? — задыхаясь от волнения, спросил он.
— Худого про него сказать не могу. Высок, статен, умен и мастер не последний, а любви не было и нет. Так батюшка решил, выходит, тому и быть! — слегка побледнев, тихо сказала она.
— А если я на тебе женюсь? — вдруг решительно сказал он.
Луша укоризненно взглянула на него:
— Не говори такого, Павлуша! Не быть этому! Одно дело сердце потешить, другое — жизнь прожить.
— Разве я тебе не нравлюсь? — тревожно спросил он.
— Еще как, милый ты мой! — жарко сказала она, зарделась вся и смущенно потупила глаза. Помолчав с минуту, продолжала с грустью: — А всё же понимать надо, что не пара я тебе. Не спорь! Не пойдешь против всех! И кержаки нас загубят, да и ты потом соскучишься со мной. Свяжу тебя по рукам и ногам, а дела уж не поправишь. И себя загублю, и тебе много напорчу. Ты еще встретишь свою суженую и не вспомнишь обо мне, сам над собой смеяться будешь. Не судьба нам, Павел Петрович. Не поминай лихом. И, распахнув двери, она решительно вышла во двор.
Бледный и растерянный, он стоял в дверях и смотрел вслед девушке. Луша двинулась к воротам, а Аносов продолжал взволнованно глядеть на нее, полный неясных, терзающих сомнений. Она шла, качаясь, как тростинка, в своем голубом кубовом сарафанчике. Павел Петрович одумался, нагнал ее у калитки, схватил хрупкую ладонь девушки и крепко сжал в своей. Ласковое тепло пошло по всему телу и согрело его сердце.
— Неужели уйдешь навсегда?
— А как же иначе, Павлушенька? Если вправду меня любишь, то пожалей сиротину, не рви мое сердце… — прошептала она и ниже опустила голову. Он видел бледное лицо Луши, на густых темных ее ресницах заблестели слезинки.
— Прощай, Павлушенька…
Девушка жарко взглянула на горного офицера.
— Ну, да ладно! — решительно сказала она. — Целуй, родной!
Глава пятая ЦАРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗЛАТОУСТ
От петербургских приятелей начальник Златоустовского горного округа Татаринов дознался, что император Александр Павлович собирается совершить путешествие на уральские заводы.
Дошли слухи о том, что Турция, подстрекаемая английским правительством, усиленно готовится к нападению на Россию. Царь забеспокоился и сейчас много времени уделял осмотру оружейных заводов. Только недавно он посетил Тульские оружейные заводы и остался весьма доволен ими. Любивший парады и фрунт, царь увлекался также и хорошим оружием. В Златоусте по его инициативе отстроили фабрику холодного оружия; вполне естественно, что при своих объездах государь не преминет посетить и городок в горах. Это сильно взволновало Татаринова. Несмотря на то что Златоустовский завод прославился выделкой белого оружия, состояние его внушало серьезную тревогу. В своем докладе директору горного департамента расстроенный начальник Златоустовского округа сообщал:
«Все заводы ветхи, оружейные строения разбросаны и почти все валятся. Но, призвав господа бога на помощь, не буду унывать, но всеми средствами стараться украсить по возможности все селения, сквозь которые благоугодно будет государю императору проезжать…»
Боязнь, что царь может всё увидеть, заставила Татаринова написать правду о заводе. И в самом деле, строения пришли в ветхость, а местами грозили развалиться. Доменный цех возведен был в давние годы, как только отгремела пугачевщина, и с той поры не перестраивался. За полвека пришла в упадок и молотовая фабрика. Работа на заводах велась по старинке. Везде преобладал ручной труд крепостных. Качество выплавки чугуна, отливки пушек и ядер оставляло желать много лучшего. Пушки на опытном поле нередко разрывались при первом же выстреле. Всё это волновало Татаринова, но еще больше его беспокоило настроение уральских закрепощенных рабочих. Только четыре года назад было подавлено восстание на Березовских казенных золотых приисках, после этого усмиряли демидовских рабочих, а совсем недавно с большим трудом погасили восстание рабочих на Кыштымских заводах наследников купца Расторгуева. Отзвуки этого восстания еще и сейчас давали о себе знать. Кыштымские рабочие во главе со своим вожаком Климом Косолаповым всю зиму 1822 года сами управляли заводскими делами. Они прогнали хозяев, приказчиков и представителей горного ведомства, но, несмотря на это, завод исправно продолжал работать. К движению кыштымских рабочих стали приставать рабочие и крестьяне из Уфалейских заводов. Снова пламя пожара грозило охватить Урал, и только в феврале 1823 года его удалось потушить. Боязнь, что златоустовские рабочие могут пожаловаться царю на свою невыносимо тяжелую жизнь, пугала Татаринова. Ко всему этому озадачивал его и церемониал встречи царя на заводе. Как вести себя в таком случае? Он настойчиво добивался указаний по этому поводу от начальника горного департамента.
«Остаюсь в недоумении, — писал он, — где я должен сего дорогого гостя встретить, в главном ли заводе у его квартиры, или на границе земли, принадлежащей златоустовским заводам, т. е. у перевоза на Саткинской пристани? Должно ли его с хлебом-солью встречать в каждом селении и заводе, или сие противно его высочайшей воле? Донося о сем вашему превосходительству, всепокорнейше прошу наградить меня вашим начальническим наставлением…»
Департамент горных дел не замедлил отозваться и прислал начальнику округа самую подробную инструкцию, как встречать царя.
Вслед за этим в августе 1824 года в Златоуст прискакал казак с эстафетой. Оренбургский военный губернатор конфиденциально сообщал, что в сентябре на завод пожалует уже пребывающий в путешествии император Александр I. На заводе начался переполох и суета.
Со всего края сгонялись крепостные и приписные крестьяне. По ночам горели костры: ладили дороги, чинили мосты, засыпали болотины, калюжины, стлали гати. В придорожных деревнях убирали лачуги и землянки, ставили плетни. На заводе поспешно красили корпуса. Вокруг посыпали чистым песком. Старые заводские стены подперли бревнами, а чтобы прикрыть подпорки, их заложили затейливыми штабелями. Начальник округа Татаринов охрип от брани. Он бегал по заводу, наезжал на переправы, всюду старался поспеть и всё проверить сам. Под его наблюдением строили павильоны, готовили иллюминацию. Девок обучали хороводам. По отремонтированным дорогам разъезжали горные пристава, исправники, стражники, которые наводили порядок и обучали крестьян, как вести себя при царском проезде. На заводе и в окрестных селениях шатались сотни шпионов.
Государя сопровождал придворный повар Миллер. Однако Татаринов с дальних и близких заводов привез десятка полтора знатных стряпух. С неделю они препирались в выборе яств для царской свиты.
Между тем на заводе деятельно шли свои приготовления. Рабочим из заводских кладовых выдали новые сапоги и кафтаны. На сходе отдали строгий приказ: в царский приезд надеть праздничную одежду и иметь веселые, беззаботные лица. Тем, кто не имеет праздничной справы, запретили выходить на государеву дорогу и попадаться на глаза царю.
Командир инвалидной команды, охранявшей заводский острог, сбился с ног, кулаки его распухли от усердия. Задержанные на правеж мужики под его неусыпным наблюдением скоблили пол и стены «терновки», чтобы уничтожить следы крови. Острожный двор усыпали желтым песком и, как в Троицын день, обсадили срубленными березками. Со двора убрали замызганные, и не раз политые кровью козлы, на которых стегали непокорных.
Лишь в украшенном цехе шла обычная деловая суета. Павел Петрович приготовил только свой парадный мундир, и этим ограничилось его беспокойство. За мастеров он был уверен. Немцы и русские граверы состязались друг с другом в искусстве. Иван Бушуев, склонясь у верстака, тщательно выводил на клинке прекрасный строгий узор. Клингентальцы изготовляли шпагу для царя…
Несмотря на сентябрь, стояли теплые погожие дни. По утрам из-за гор бодро поднималось солнце, и всё рдело под его лучами. Придорожный дубняк пламенел своими багровыми листьями, березовые рощи лениво опустили золотые пряди. Тишина обнимала горы. На заре 21 сентября царский кортеж выехал из Уфы. Весь этот день на завод к Татаринову скакали гонцы с донесениями. Дорога пролегала через скалистый хребет; чем ближе поезд царя двигался к Златоусту, тем величественнее становились горные вершины. Всё круче и круче делались подъемы и затруднительнее спуски. Царь выходил из экипажа и шел, прихрамывая, пешком. В последние дни у него сильно отекли ноги. За ним медленно двигались экипажи. Император любовался развертывающейся перед ним панорамой гор. Сопровождавший его начальник генерального штаба Дибич с тревогой поглядывал на государя: не наскучило ли? Но Александр Павлович, показывая на грозные шиханы, восторгался:
— Чудесный край! Богатый край!
На повороте поезд царя ожидала толпа башкир, почтительно обнаживших головы.
— Кто это? Что они бормочут? — удивленно спросил Александр.
Дибич махнул башкирам рукой, давая понять, чтобы они удалились.
— Это кочевники, ваше величество. Они счастливы видеть в горах русского царя! — льстиво сказал он императору.
Государь молодцевато выпрямился и поднялся в экипаж. Кортеж двинулся дальше.
Солнце склонилось к западу, когда вереница экипажей приблизилась к горе Березовой. Уже с утра здесь толпились сотни рабочих и служащих завода.
Впереди выстроенных горных чиновников важно расхаживал Татаринов. В сторонке выжидательно поглядывал в горы пристав Апсалон, — не пылит ли дорога?
После томительного ожидания вдали показались экипажи. Впереди всех на почтительном расстоянии скакал казак.
Сильные и матерые, как звери, кони легко и быстро вынесли царскую коляску на гору. Позади торопилась свита. Александр Павлович сидел в карете, отвалившись на спину, и слегка щурил близорукие глаза. Широкое лицо его розовело на солнце и оттенялось чуть-чуть рыжеватыми баками, лоб был высокий и крутой.
По команде пристава Апсалона все упали на колени. Государь благосклонно улыбнулся. Трепеща от страха, к коляске подошли Татаринов и пристав. Начальник горного округа вытянулся во фрунт и стал докладывать. Царь перебил его:
— Скажите, как идет у вас оружейное дело?
— На заводе и оружейной фабрике, ваше величество, ежедневно работает две тысячи сто пятьдесят человек! — ответил Татаринов.
— Хороши успехи? — уставился в начальника округа царь.
— Весьма, ваше величество!
Вдруг, словно спохватившись, Александр озабоченно спросил:
— Как живут мои золингенцы? Приносят ли пользу здесь?
Татаринов расплылся в улыбке и, желая угодить царю, доложил:
— Государь, ваши действия всегда приносили только пользу горному делу!
— Я весьма рад этому, — томно ответил царь. — Устройство немцев стоило нам больших хлопот. Я уверен, что они уже отблагодарили нас за нашу заботу.
Царь устало сомкнул глаза, давая понять о конце доклада. Тогда Татаринов обратился к Александру:
— Ваше величество, позвольте спустить коляску под гору на руках!
Царь милостиво кивнул и, поддерживаемый Дибичем, вышел из экипажа. Крепкие руки работных разом выпрягли коней. Коренником взялся великан Лучкин, а рядом с ним еще десятка два рабочих. Экипаж плавно и медленно стал спускаться под гору. Государь и свита осторожно сходили по головокружительному склону.
Когда все благополучно спустились с горы, Александр уселся в коляску. Взгляд его упал на Лучкина. Он внимательно оглядел грудь богатыря, его плечи, руки и приказал:
— Этого человека причислите к моим слугам!
Вынув серебряный рубль, царь бросил его на дорогу:
— Бери на счастье!
Но ошеломленный Лучкин не двигался с места. По его загорелым щекам струился пот. Он что-то хотел сказать, но его толкали в спину, торопливо шептали:
— Поднимай живей! Экое счастье привалило человеку!
Царский экипаж проследовал дальше, а Лучкин всё еще стоял с затуманенными глазами. Видя его волнение, пристав Апсалон спросил его:
— Что ж, небось, счастлив? Что же ты хотел вымолвить государю?
— Ваше высокородие, умолите оставить меня на Камне ради престарелой матери!
— Дурак! — грубо отрезал пристав, круто повернулся и поспешил к своей лошади.
Между тем вереница экипажей неторопливо подъезжала к Златоусту.
— Это почему так расстроился богатырь? — неожиданно спросил у Дибича царь.
— Ваше величество, от великого счастья даже сей Голиаф не утерпел и прослезился. Столь чувствительны сердца ваших подданных!
На златоустовских улицах расставленный шпалерами народ встретил царя громогласным «ура». Заводские жёнки по наказу Татаринова выбегали на дорогу и подстилали под царскую коляску белоснежные холсты и полотенца.
Миновав Большую Немецкую улицу, государь подъехал к собору, который светился тысячами огней. Народ в церковь не пустили. Под прохладные своды храма вошли государь, его свита и избранные горные начальники. Священник долго не задержал царя, служба была короткой. По выходе царя из церкви люди опять кричали «ура».
Царь устал и велел везти себя на отдых. Он поместился в доме Татаринова. На город опустилась ранняя осенняя ночь. На заводском пруду и на павильонах вспыхнули разноцветные огни — жгли фейерверк, в бесчисленных плошках дымилось сало.
Царь стоял у окна и любовался иллюминацией, пылавшей на фоне темных гор. Склонив голову, Александр прислушивался к шуму в турбинах. Он поднял удивленные глаза на Татаринова:
— Почему так долго работают на заводе?
Начальник горнозаводского округа почтительно склонил голову:
— Государь, рабочие получают сдельно. Жадный народ здесь. Мы гоним их домой, а они не желают.
Царь повернулся спиной к окну и равнодушно обронил:
— А-а-а… Понимаю…
Глава шестая АЛЕКСАНДР I НА ОРУЖЕЙНОМ ЗАВОДЕ
В полдень царю представили чиновников горнозаводского округа. В большом светлом зале их выстроили во фрунт. Аносов стоял в середине шеренги и вспоминал свои школьные годы. В корпусе, как и все кадеты, он мечтал попасть на глаза царю и отличиться каким-нибудь необыкновенным подвигом. Прошло семь лет, как он покинул стены корпуса. За эти годы в его жизни многое изменилось, и сам он, живя среди литейщиков и мастеров оружия, многому научился и по-другому смотрел на жизнь.
Аносов и не замечал, что рыхлый и мрачный Татаринов несколько раз недовольно взглянул в его сторону. Начальник горного округа много раз обошел фрунт, присматриваясь к мундирам и выправке своих подчиненных. Ему определенно не нравился молодой инженер Аносов: в своем мешковатом мундире Павел Петрович выглядел неказисто. Татаринов уже готов был сделать замечание Аносову, но в эту минуту в соседнем зале раздался звон шпор, невидимые руки широко распахнули двери, и сопровождаемый свитой император появился в квадратном просвете. На мгновение он задержался на пороге и, прищурив близорукие глаза, критическим взглядом окинул фрунт. Навстречу ему торопливым шагом поспешил Татаринов, но государь легким движением руки остановил его рапорт и двинулся к выстроенным чиновникам.
Все замерли. Аносов впервые видел Александра I вблизи. Император мерным шагом шел вдоль фрунта. Его лоб с большими залысинами и пожелтевшее угасшее лицо говорили о жизненной усталости. Царь ни разу не улыбнулся. Большие глаза были пусты и мертвы. Когда начальник горного округа называл фамилию и должность горного чиновника, государь на минуту задерживался, рассеянно выслушивая ответы.
Наконец Татаринов назвал фамилию Аносова. Павел Петрович вздрогнул и поднял глаза. Александр стоял против него и разглядывал скромный мундир инженера. Аносов поклонился.
— Ты где учился? — глуховатым голосом спросил его император.
— В корпусе горных инженеров, ваше величество.
— А-а-а! — протяжно отозвался царь. Вероятно, не разобрав ответа инженера, он приложил к уху ладонь и слегка наклонился.
Татаринов незаметно повел глазами, давая понять Павлу Петровичу, что царь глуховат и с ним следует говорить громче. Аносов стоял прямо, не шелохнувшись, и царь, закончив беглый осмотр строя, резко сказал:
— Плохой ты фрунтовик! Чем занимаешься?
— Работаю в украшенном цехе, ваше величество! — ровным тихим голосом ответил Аносов на вопрос царя.
Александр не расслышал слов горного офицера. Скучающий, он двинулся дальше. На душе у Аносова стало тяжело и грустно. Печально посмотрев вслед удаляющемуся царю, он подумал: «Государь безразличен ко всему, ничто его, кроме мундиров, не интересует! Для чего же устроена эта комедия представлений?».
Царь обошел фрунт и, пройдя несколько шагов вперед, еще раз обежал задумчивым взглядом лица чиновников и вымолвил:
— Благодарю вас, господа! Надеюсь на верную службу!
За всех ответил Татаринов. Угодливо изгибаясь, он взволнованно закричал, чтобы слышал царь:
— Ваше императорское величество… Государь… Мы бесконечно счастливы… Мы…
Но император не дослушал его заученной речи, повернулся и размеренным шагом удалился из зала. За ним, перешёптываясь, устремилась свита. Только генерал Дибич задержался в дверях и объявил Татаринову:
— Его императорскому величеству угодно осмотреть завод. Прошу вас! он учтиво поклонился и вприпрыжку стал догонять царскую свиту…
Царь посетил завод. У горнов хлопотали рабочие в праздничной одежде, которая стесняла их движения так же, как стесняло и мешало работе присутствие царя. Александр подошел к одной наковальне и попросил инструмент. Ему подали что-то недокованное. Царь величественно взял молоток, ударил им несколько раз, неловко поворачивая раскаленный кусок металла. Татаринов умилился:
— Ваше величество, вы как заправский кузнец изволили сковать гвоздь!
Император снял запачканные перчатки, отбросил их и сказал строго:
— Царь должен всё уметь!
Он прошел в цех, где выделывались стальные клинки, и долго приглядывался к их синеватому блеску.
— Хорошие клинки! — сказал он с видом знатока. — Спасибо нашим клингентальцам, выручили!
Бородатый мастер вдруг выпрямился и с укором посмотрел прямо в лицо царя:
— Никак нет, ваше величество. Эти клинки сроблены русскими мастерами!
Татаринов старался оттереть старика. Он лебезил, по-песьи заглядывая в глаза государя:
— Это не совсем так, ваше величество! Он ничего не знает!
— Как не знаю! — вспылил мастер. — Да немцы нам ничего своего не передали. Что робили мы до них, то и робим! И не худо, ваше царское величество.
Лицо царя стало замкнутым. Он отвернулся от словоохотливого оружейника. И в эту минуту, словно из-под земли, вырос мастер Крейншток с клинком в руке. Царь просиял.
— Ваше императорское величество! Мы весьма рады вашему вниманию. Дозвольте припасть к вашим стопам, осчастливьте нас принятием сего подарка! — витиевато проговорил гравер и, упав на колени, передал царю золоченый клинок. Александр с улыбкой принял подарок и, осторожно держа его, поднес к глазам. На зеркальном фоне четко выделялась буква «А», а под ней вырезанная римская единица. Вокруг буквы были выгравированы венки, короны и волнистые ленты. Императору понравилась немецкая работа. Он передал подарок генералу Дибичу:
— Вели сберечь!.. Благодарю! — любезно улыбнулся он клингентальцу: Сегодня же приду к тебе в гости…
— Ваше величество… Ваше величество! — залепетал обласканный Крейншток. — Все немцы будут очень, очень счастливы. Разрешите пригласить в дом пастора!
Царь в знак согласия наклонил голову.
— А пока веди и показывай! — сказал он Татаринову.
В сопровождении блестящей свиты император неторопливо пошел из цеха. Бородатый русский мастер с изумленным лицом смотрел вслед царю.
— Эка, что за царь! Перед немцем гнет шею, а на русского и взглянуть не хочет! — с тоской вырвалось у него.
На его плечо легла тяжелая рука приказчика:
— Ну, варнак, быть тебе поротому за дерзость!
— Уйди! — сверкнув глазами, сказал мастеровой. Было тяжело на сердце. Руки его дрожали от обиды…
Между тем Александр проходил по мрачному проходу. Внимание его привлекла широкая низенькая дверь.
— Что там? — спросил царь.
— Украшенный цех, государь! — пояснил Татаринов и распахнул дверь.
У порога царя встретил Аносов. Александр проследовал в обширное помещение с низким потолком. В широкие окна скупо вливался серенький, осенний свет. Всюду рядами стояли грубо сколоченные столы, за которыми сидели склоненные над работой мастеровые. При появлении государя граверы молча поднялись и вытянулись, ожидая царского слова.
Император огляделся и сказал Аносову:
— Покажи-ка, любезный, что здесь делают!
Павел Петрович в цехе чувствовал себя свободнее, чем на приеме в управительском зале. Он загорелся и восторженно, с порозовевшим лицом почти прокричал в ухо государю:
— Ваше величество, здесь совершается подлинное искусство! Лучшие клинки тут предаются золочению и украшаются разнообразными насечками!
— Что значит насечка? — заинтересовался царь.
— Разрешите показать, государь? — спросил Аносов.
Император прищурился на смелого горного офицера, но всё же с улыбкой отозвался:
— Любопытно! Покажи-ка искусство наших мастеровых!
Он вышел на середину обширного помещения. Более сотни мастеровых художников, граверов, насекальщиков, резчиков по дереву и кости — стояли у своих верстаков, ожидая царского приказа.
— Распорядитесь, чтобы приступили к работе! — глуховато вымолвил государь.
Аносов предложил мастеровым продолжать работу, и в цехе наступила глубокая, ничем не нарушаемая тишина. Царь внимательно огляделся. Кругом сидели плечистые бородатые мужики, с приглаженными и взятыми под ремешок волосами, стриженными по-кержацки. Одеты они были в опрятные черные штаны, заправленные в крепкие козловые сапоги, и в чистые рубахи, поверх которых были наброшены чистые холщовые передники. Александру это понравилось, и он одобрительно сказал Татаринову:
— Вижу, мастеровые в довольстве живут!
— В приличном довольстве и в счастии! — умильно заговорил начальник горного округа. — Взгляните, ваше величество, на сии образцы мастерства!
Но внимание царя почему-то привлек молчаливый старичок мастеровой, погруженный в работу. Перед ним на столе были разложены несложные орудия производства: три шпильки — костяная, черного дерева и тонкая стальная. Склонившись над пластинкой, гравер-искусник стальной шпилькой насекал на ней контуры красивого орнамента.
— Как всё это просто! — с наивностью вымолвил царь. — Я не вижу в этом искусства!
Словно кто резанул по сердцу Аносова. Ему стало обидно за мастера. Не сдержавшись, Павел Петрович смело ответил царю:
— Государь, эта работа только началась, и не видно всей трудности мастерства. Прошу, ваше величество, взглянуть сюда, — указал он императору на Ивана Бушуева.
Царь нехотя подошел к верстаку. Гравер быстро поднялся и, обтерев клинок чистым передником, подал его государю.
Александр приблизил саблю к глазам. На струйчатом металле по глубокому синему небу лебяжьей стайкой плыли легкие курчавые облака, а в глубине мерцающего сплава наметились контуры подернутого дымкой Уральского хребта. Поближе, на переднем плане, серебрился простор безмятежного озера, над берегом которого смотрелась в зеркало вод кудрявая березка. Всё это было еле намечено легкими линиями.
Аносов стоял рядом с царем и, забыв обо всем на свете, влюбленно разглядывал волшебный рисунок на стали. Здесь одна, чрезвычайно тонкая, но четкая линия дополняла другую, а вместе они создавали этюд. Красивое и умелое сочетание света и теней на миниатюрном кусочке стали передавало радостную иллюзию погожего уральского летнего утра.
— Что же ты хотел этим изобразить? — обратился к Иванке царь.
— Ваше царское величество, здесь видна Родина, русская земля, за которую воин, владеющий этим клинком, идет в злую сечу!
Александр иронически улыбнулся. Он поднял на Аносова утомленные глаза и сказал:
— Для возбуждения боевого пыла воину нужны не мирные идиллии. Возьмите! — вернул он клинок Аносову, а тот передал его Бушуеву.
Мастер огорченно опустил голову. Но тут Павел Петрович вспомнил о другом, парадном клинке и обратился к царю:
— Ваше величество, не обессудьте, русские умельцы от усердия своего решили поднести вам доселе невиданное.
Царь поднял на Аносова недоуменный взгляд.
И тогда Иванка вынул другой клинок и показал его государю. Александр нехотя взял этот клинок и начал рассматривать. Взор царя стал яснее, блеснул жизнью.
На темном фоне стали по узкой кромке земли мчались золотые крылатые кони, впряженные в колесницу. Гривастыми бегунами правил воин в латах, а позади него, с копьем в руке, стоял готовый к битве крылатый человек. Над ним распростерся могучий орел, а еще выше блистала царская корона. Всё сверкало золотом на вороненом поле, обведенном золотой же рамкой. Царь повернул клинок, и в этот миг луч солнца упал на гравюру. Всё сразу заискрилось, оживилось, пришло в движение…
Александр остался доволен клинком. Он поманил взглядом генерала Дибича и сказал ему:
— Посмотрите на чародейство, сделанное простым человеком! Как могло это случиться? — обратился он к Аносову.
— Ваше величество, позвольте на это ответить краткой, но мудрой народной сказкой.
Царь находился в благожелательном настроении и снисходительно отозвался:
— Слушаю…
— Есть сказка о живой воде, государь, — спокойно начал Аносов. — На поле брани лежит распростертый бездыханный богатырь. Не бьется у него смелое сердце, и закрылись черные очи. Но вот упала на него капля живой воды — и мигом затянулись страшные раны, еще капля упала — и зашевелился богатырь, открыл глаза; в третий раз брызнули на него живой водой — и встал богатырь, как ни в чем не бывало, и расправил могучие плечи…
Царь просветлел и спросил:
— К чему же эта притча? И что за живая вода, где она, в каких родниках берется?
— Живая вода, ваше величество, — народные таланты. Под рукой и очами одаренного русского человека всё оживает и пленяет взор.
— Ты настоящий пиита! — с легкой усмешкой вымолвил Аносову царь. Смотри же, тут, при воинском деле, могут оказаться не к месту подобные увлечения! — И оборотясь к Иванке, он сказал: — В Туле я тоже слышал одну притчу. Похвалялись там, что будто они для меня подковали стальную блоху, сделанную в заморских странах: «Вот, мол, государь, дивись нашему мастерству!». А скажи-ка мне, если это не сказка досужих туляков, то что бы ты сделал?
— Клинок для нее подобающего размера! — уверенно ответил Иванко.
Довольный ответом, царь рассмеялся, за ним рассмеялись и в свите.
— Дибич! — обратился к генералу государь. — Выдать ему рубль!
Иванке выложили на верстак рубль. Он посмотрел на серебряную монету и дерзко сказал:
— Благодарствую, но принять не могу денег, ваше величество.
— Это почему же? — удивился царь и недовольно взглянул на Аносова.
Павел Петрович стоял, вытянувшись во фрунт, и смотрел Александру в глаза. Боясь, что разобиженный Иванка скажет дерзость, Аносов предупредил его и объяснил государю:
— Среди работных такой обычай: за подарок не берут платы, государь. Мастерство бесценно!
— А-а-а! — издал протяжный звук государь и, передав клинок Дибичу, зашагал прочь…
Аносов на приличном расстоянии сопровождал его. Вдруг Александр остановился, поманил Павла Петровича к себе. Горный офицер почтительно приблизился.
— Скажи, как ты считаешь: больших успехов достигла моя фабрика? спросил Аносова царь.
Павел Петрович слегка побледнел, но твердо ответил:
— Не могу этого сказать, ваше величество.
— Почему? — недовольно удивился Александр.
— Все русские люди, и я в том числе, мечтают о том, чтобы сделать для отчизны такое оружие, которое превосходило бы золингенское и не уступало лучшим булатам! — смело сказал Аносов.
Честный и мужественный ответ поразил царя.
— Спасибо за правду, — милостиво поблагодарил он и что-то шепнул Дибичу.
Генерал сказанное царем быстро записал в книжечку.
Татаринов на ходу шепнул Аносову:
— Полагаю, вас представили к награде…
Вечером Александр пожелал ознакомиться с жизнью иноземных мастеров. Дородный кучер Илья подал к подъезду временной царской резиденции экипаж. Александр предложил Татаринову поехать вместе с ним на Большую Немецкую улицу. Начальник горного округа, отличаясь невероятной тучностью, еле взгромоздился в экипаж. Под огромной тяжестью рессоры сдали и экипаж так осел, что ноги царя оказались почти на земле. Император развеселился. Пришлось подать начальнику крепкие, устойчивые дроги, на которых он и поехал вслед за царским поездом.
Остановившись перед опрятными светлыми домиками, царь вышел из коляски и в сопровождении свиты и Татаринова стал заходить в квартиры клипгентальцев. Он охотно вступал в беседы с немецкими мастерами, выслушивал их жалобы, в такт покачивая головой. Александр сдержал свое слово и зашел к Крейнштоку, у которого остался завтракать. Белокурая толстая немка смущалась и краснела под пристальным взглядом царя и прятала под фартук большие потные руки. Остроносый немец, воздев кверху руки, вздыхал:
— Майн гот, как я щастлив, фаше феличество!
Под восторженные восклицания колонистов император покинул Большую Немецкую улицу, приказав — выдать из государственной казны каждому из хозяев посещенных им домов по пятьсот рублей ассигнациями.
При выезде из Большой Немецкой улицы к царской карете бросился обрюзглый клингенталец и, держа на голове лист бумаги, закричал:
— Фаше царское феличество, есть один жалоб…
— Что это значит? — спросил император генерала Дибича.
— Немец жалуется, ваше величество!
— Принять жалобу и учинить следствие. Нехорошо притеснять иностранцев! — резко сказал царь.
Карету остановили, и Дибич взял жалобу немецкого мастера.
Вечером генерал вызвал Аносова на допрос.
— Почему вы допустили небрежное отношение к иностранным мастерам? строго спросил он.
Павел Петрович пожал плечами:
— Но я не знаю, в чем моя вина.
Дибич выразительно посмотрел на горного офицера и сурово сказал:
— Они жалуются на то, что вы не вставили двойные рамы в окнах их квартир!
— Ваше превосходительство, я не обещал этого делать. Мои обязанности заключаются в другом. Вставлять двойные рамы — это их личное дело! спокойно, но решительно ответил Аносов.
— Но вы могли это сделать хотя бы из уважения к таким великим мастерам! — более мягким тоном сказал Дибич, и в голосе его прозвучала легкая ирония.
— Ваше превосходительство, я не вижу от сих великих мастеров никакой пользы — ободренный улыбкой свитского генерала, признался Павел Петрович.
— Что вы сказали? — Дибич выразительно посмотрел на горного офицера.
— Золингенские мастера плохо знают оружейное дело. Не у них надо учиться русским рабочим, а им следует присмотреться к нашей работе. Взгляните на работу русских мастеров, и вы сами убедитесь в этом!
Генерал подошел к Аносову, его глаза были непроницаемы.
— Не будем говорить об этом, — сухо предложил он…
Царь осмотрел музеум при Златоустовском заводе, где хранились макеты с золотых самородков, обнаруженных на Урале. С любопытством рассматривая их, император вдруг спохватился:
— Кстати, скажи, — обратился он к Татаринову, — как работает мой золотой прииск на Миассе?
— Весьма хорошо, ваше величество.
Александр повернулся в сторону вагенмейстера генерала Соломко и приказал ему:
— Повелеваю приготовиться завтра в дорогу. А вас, господа, обратился он к свите, — приглашаю на мой прииск, где я буду копать золото на счастье.
— Ваше величество, счастье у вас необъятно! — льстиво вставил Татаринов. — Вы поразили врагов России на смерть и унижение. Уверен, что будете счастливы и в поисках благородного металла!
Царю понравился угодливый, кстати вставленный намек: император считал себя талантливым полководцем и победителем Наполеона. Он не переносил, если в его присутствии восхваляли и одобряли действия главнокомандующего русской армией покойного Михаила Илларионовича Кутузова.
Глава седьмая «СЧАСТЛИВЫЙ» САМОРОДОК
Ранним утром 23 сентября царь Александр со свитой отбыл на Миасские прииски. Его сопровождали Татаринов, Аносов и заводская охрана. Погода выдалась на диво, не по-осеннему солнечная, теплая и ясная. Кругом простирались синеватые горные хребты, в багрянец одетые леса. Экипажи спокойно катились по хорошо укатанной отремонтированной дороге, огибавшей обширный зеркальный пруд, по берегам которого были установлены полосатые столбики. Сытые резвые кони легко вынесли коляски на вершину хребта. Здесь среди мелкой поросли высился гранитный столб, служащий указателем границы Европы и Азии. Царь вышел из коляски и долго любовался сопками. Заметив на голубом небе силуэт самой высокой сопки, он сказал восторженно:
— Как величава!
Татаринов не замедлил по-своему истолковать выражение восторга государя. Он восхищенно сказал:
— Ваше величество, разрешите для памяти потомства назвать сию гордую горную вершину «Александровской сопкой»!
Царь сделал вид, что не расслышал предложения горного начальника, но порозовевшее лицо его говорило об удовольствии, которое так кстати доставил ему Татаринов.
После небольшого отдыха экипажи двинулись к Миассу. Спустя час показались разбросанные домики, а вскоре царский поезд въехал в небольшое горное селение.
— Вот где родина золота! — сказал царь.
У околицы царскую коляску задержала толпа жителей, которая поднесла Александру хлеб-соль. После короткого молебствия в местном храме царь отправился на Царево-Александровский прииск.
Там шла обычная работа. Но когда приисковые заметили клубившуюся пыль, они быстро схватили по приказу управляющего приисками Бекмана огромное деревянное блюдо, покрыли его чистым полотенцем, положили на него хлеб-соль и толпой вышли навстречу царю.
Все они были одеты в праздничные одежды, причесаны.
«И здесь поставлен отменный спектакль!» — угрюмо подумал Аносов, взглянув на расторопного управляющего приисками.
— Вот ваши верноподданные, ваше величество! — доложил Бекман. — Они век не забудут выпавшего им счастья!
Несмотря на праздничную одежду и опрятность, Аносов поразился испитым, изможденным лицам рабочих. Они угрюмо протянули царю хлеб-соль и низко поклонялись:
— Прими, государь!
Александр даже не взглянул на приношение, — он торопился к месту добычи. Добравшись до отвалов, император вышел из коляски, и опять Зекман угодливо сообщил ему:
— Ваше величество, необычное счастье: за три часа до вашего приезда работный Дементий Петров нашел самородок. Взгляните!
Кряхтя, Татаринов наклонился и поднял с подноса плотный золотой самородок.
— Позвольте, ваше величество, представить сию счастливую находку! толстая, лоснившаяся от жира физиономия горного начальника сияла.
Взяв в руки самородок, царь обрадованно сказал:
— Хорошая примета! Значит, и я буду счастлив. Дайте же мне лопату: я хочу сам поработать на моем прииске! Господа, — обратился он к свите, милости просим испытать труд. Что найдете, то и будет принадлежать вам!
Каждый из свиты поторопился запастись лопаткой. Между тем государь спустился в забой, за ним последовали свитские и Татаринов.
— Теперь я горный царь! — усмехаясь, вымолвил Александр и стал ковыряться в породе. Он неумело загребал лопаткой песок и высыпал его в бадью; песок тут же поднимали для промывки. Государь проработал не более получаса, а у него уже появилась сильная одышка, на лбу и лице выступил крупный пот. Не менее быстро устал и Татаринов. Он оставил кайло и обратился к царю с мольбой:
— Ваше величество, вам вредно находиться здесь. Слезно прошу вас поберечь свои силы для нас, верноподданных!
Вдруг Татаринов взмахнул руками и закричал на весь прииск:
— Батюшки, самородок!
С проворностью, неподходящей для его тучного тела, он быстро наклонился и поднял выпавший из песка грубый кусок породы, облепленный глиной. Взвесив на руке, он немедленно передал его царю:
— Редкое счастье, ваше величество! Стоило появиться вам, и вот… Ах, боже мой!
Царь взял в руку самородок и самодовольно сказал свите:
— Выходит, из всех вас только я один и счастлив! Господин Татаринов, проверь его и убедись, золото ли это?
Все выбрались из шахты. Услужливый Бекман в присутствии всех произвел очистку самородка и взвесил его. Чистого золота в нем оказалось 8 фунтов и 17 золотников…
«Тут что-то не так!» — недовольно подумал Аносов, приглядываясь к лицедейству Бекмана. Павел Петрович вернулся в забой и оглядел породу. Его догадка подтверждалась: место, из которого выпал самородок, было взрыхлено. Очевидно, совсем недавно параллельно копани поблизости шла другая, только чуть укрытая грунтом.
«Подлец! Большой подлец!» — подумал Аносов про Бекмана и вылез из забоя. Его так и подмывало рассказать про свои подозрения Татаринову. Но начальник округа резко предупредил Павла Петровича:
— Вы, сударь, чем-то недовольны. Оставьте ваши беспокойные мысли, они не соответствуют сейчас величественной минуте. Кроме того, благодарите бога, государь отклонил жалобу на вас немецкого мастера. Его величество сменил гнев на милость, — вас награждают, Аносов!
На другой день в Златоусте состоялось торжественное вручение орденов офицерам горного округа. Царь пожелал лично вручить Аносову орден Анны третьей степени, но Павел Петрович внезапно «заболел» и не явился на его вызов…
В то время, когда государь знакомился с заводом, жизнь в Златоусте шла своей чередой. В рабочей слободке две женщины поспорили из-за холстов, подобранных на дороге после проезда царя. Каждая хотела отыскать и взять свою холстину, и тут произошла свара. На счастье, она происходила в глухом переулке, женщин быстро разняли и за свару наказали розгами. Рабочий Семен Репин не обул сапог, выданных ему на царские дни из заводских кладовых и сказал: «Не буду обувать! Всё равно Татарник-стерва завтра отнимет. Кроме прочего, не желаю обманывать сам себя!». Опасного человека за ослушание посадили на цепь и били палками.
…В солнечный день царь отбыл дальше. В поклаже везли золотой самородок и подарки — лучшие златоустовские клинки. За царским поездом на рысистом коне ехал Лучкин, обряженный в синий казакин. В сторонке от дороги стояли мать Лучкина, его сестры и горько плакали. Не радовала их царская милость: подсказывало сердце, что богатырь их никогда не вернется на родной Урал.
Как только из глаз провожающих скрылся царский поезд, на заводскую плотину в Златоусте въехали дроги, груженные лозой. На площадь заботливо выставили на время припрятанные козлы. Возле них понуро стояли осужденные к наказанию.
В острожке командир инвалидной команды убирал увядшие березки:
— Будет, настоялись! Завяли от всей кутерьмы!..
Всё пошло по-старому. Только страдавший одышкой Татаринов любил пройтись по заводу, выставив грудь, на которой красовался орден святой Анны…
Глава восьмая ДЕКАБРИСТЫ ПРОХОДИЛИ УРАЛОМ…
До Златоуста дошли глухие слухи о восстании декабристов на Сенатской площади, которым началось воцарение императора Николая I. По его указу 14 декабря 1825 года из пушек расстреляли солдат, приведенных на площадь вождями восстания. Неподалеку строился Исаакиевский собор, и рабочие приняли участие в героической борьбе декабристов. Царь не пощадил ни рабочих, ни жителей столицы, собравшихся на Сенатскую площадь. Многие пали под картечью. Вожди восстания были схвачены и заточены в каменные темницы Петропавловской крепости. Спустя три недели, 3 января 1826 года, на юге страны у деревни Ковалевки отряд николаевского генерала Гейсмара из пушек расстрелял восставший Черниговский полк. Восстание против деспотизма монархии было жестоко подавлено, и началась не менее жестокая расправа.
25 июля 1826 года руководителей декабрьского восстания повесили на Трубецком бастионе. Солдат-декабристов прогоняли по двенадцать раз через строй в тысячу человек и шпицрутенами забивали на смерть. Сотни декабристов были приговорены к каторжным работам в рудниках Восточной Сибири. Лишь незначительную часть из них под строгим конвоем провезли на почтовых, а большинство осужденных отправляли на каторгу из Петербурга и Киева пешком, в цепях, вместе с толпой убийц и разбойников. В зимнюю стужу и в летний зной шли они, больные и слабые, голодные и оборванные, гремя кандалами. Они брели в течение девяти месяцев, подвергаясь оскорблениям и жестокостям со стороны особой стражи, приставленной начальником царской охранки Бенкендорфом.
Партии осужденных проходили через Урал, и, как ни оберегали царские жандармы тайну, окружавшую декабристов, народ узнавал и передавал из уст в уста правду о них. От проезжих горных чиновников Аносов услышал о трагедии на Сенатской площади. Сердце его болезненно сжалось. Не так давно он с упоением читал стихи Кондратия Рылеева, а теперь за одно только знакомство с книгой этого пламенного поэта грозило самое суровое наказание. Однако по всему Уралу народ бесстрашно распевал любимого «Ермака», не зная того, что песню сложил казненный декабрист. Она была проста, сердечна, напоена любовью к народному герою и так пришлась по душе простому русскому человеку, что казалась рожденной самим народом. Люди передавали, что когда декабристы проходили по сибирскому тракту через одно горное селение, они неожиданно услышали знакомый мотив. Поселяне с косами и граблями через плечо возвращались с покоса. Завидев кандальников, они обнажили головы и запели «Ермака».
Молва о декабристах далеко опередила их шествие. Аносов мечтал хоть издали взглянуть на этих мужественных, бесстрашных людей, поднявших голос протеста против царского самовластия. И то, о чем мечтал Павел Петрович, внезапно сбылось.
Вместе с Евлашкой они на дрожках приближались к перевалу, на котором высился грузный каменный столб: здесь сходились Европа и Азия. Безразлично сидевший в полудреме старик вдруг встрепенулся и показал Аносову на дорогу:
— Гляди-ка, Петрович, горемычных по каторжной гонят!
И впрямь, у каменного обелиска копошилась партия кандальников. Многие расположились тут же на земле, устало протянув натруженные ноги. Некоторые бродили у столба, оглядывая величественные вершины Таганая и окрестных сопок. Неподалеку находились жандармы; солнце отсвечивало на остриях штыков.
Караульные не заметили, что подкатили дрожки и усталая лошадь остановилась за обелиском. Евлашка проворно соскочил с сиденья и, оглядываясь, подошел к ближнему арестанту. Это был юноша с пронзительными глазами и черным пушком на губе. В осанке и в поведении кандальника проглядывали благородство и независимость, — черты, сразу покорившие Аносова.
«Это они!» — сообразил Павел Петрович и, не слезая с дрожек, чтобы не привлечь внимания конвоиров, быстро оглядел партию. Пыльные, исхудалые, они, казалось, не обратили внимания на проезжих. Вот в тени обелиска сидит с раскинутыми ногами высокий, голубоглазый, с русыми усами, загорелый до черноты арестант. Его товарищ по несчастью, склонившись к ногам, перевязывает кандалы обрывками рубахи. Голубоглазый морщится от боли.
А Евлашка уже очутился рядом о чернявеньким и проворно сунул ему в руку горбушку хлеба. Не менее ловко отсыпал он на ладонь кандальника горсть махорки. Лицо юноши просияло от радости.
— Спасибо, добрый человек! — прошептал он.
Крадущейся охотничьей походкой старик потянулся вперед, но тут раздался сердитый окрик.
— Эй, кто такие? Подальше! — властно закричал поднявший голову жандарм. Он быстро вскочил и, подбежав к Евлашке, толкнул его в грудь. Пошел, пошел прочь, а то самого в кандалы закую! — пригрозил он. Заметив Аносова в форме горного офицера, конвойный сказал: — Возьмите, ваше благородие, слугу и живей уезжайте с богом! С нашими подопечными запрещено разговаривать! — жандарм хмуро посмотрел на Павла Петровича.
Евлашка не угомонился; он бесстрашно глянул на конвоира:
— Эх, червивая твоя душа, жалости у тебя к несчастному нет! укоризненно сказал старик. — Сам господь бог повелел горемычным милостыньку подавать, а ты!.. Неужто жандарм выше бога?
Лицо конвоира стало багровым, он сердито уставил в Евлашку штык.
— Прочь, а то на месте уложу! Вста-ва-а-й! — закричал он кандальникам.
Арестанты нехотя стали подниматься и строиться попарно. Аносов с волнением еще раз взглянул на несчастных, среди которых находились люди разного возраста. Измученные, усталые, они оживились, разглядывая Евлашку. Недовольный и хмурый, старик подошел к дрожкам, проворно уселся рядом с Аносовым:
— Поехали, Павел Петрович, пока и впрямь не обидели. С жандармом шутить опасно!
Он погнал коня, и вскоре каменный обелиск и партия кандальников остались позади. Евлашка еще раз оглянулся и обронил:
— Гляди-ка, по горсти землицы берут! Чтут стародавний русский обычай…
Вдали показался Златоуст. Евлашка скинул шапку, взглянул на небо и сказал со вздохом:
— Эх, парит ноне сильно! Разреши, Петрович, душу отвести — песню спеть!
— Ну что ж, спой! — согласился Аносов и по лицу старого горщика догадался, что у того тяжело на душе.
Евлашка встрепенулся и запел:
Трактовая большая дорога Да сибирский большой тракт, По тебе вели, дорога, Арестантов в кандалах. Они падали на землю: «Дай немного отдохнуть. Кандалами сжаты ноги, Нету хуже этих мук…»— Это ты про них поёшь? — спросил Аносов.
Старик кивнул, глаза его затуманились тоской. Со щемящей грустью он продолжал:
«Вас за что же, арестанты?», Их спросили старики. «Нас на каторгу сослали За народ, за мятежи… Эх-х!..»Евлашка глубоко вздохнул и пожаловался:
— Эх и доля! И день за днем, шаг за шагом шли в сибирскую сторонку! Вот они, горемычные…
Аносов молчал. На сердце было тяжело. Он ниже склонил голову. Так молча и доехали до Златоуста.
Не знал Павел Петрович, что на квартире его подстерегает новая неожиданность. Одна из комнат его домика в отсутствие хозяина была предоставлена под временное жилье проезжавшему в Тобольск сенатору Борису Алексеевичу Куракину, которому Бенкендорфом вменялось в обязанность следить за декабристами во время их следования на каторгу из Петропавловской, Шлиссельбургской и других крепостей. Раздосадованный предстоящей встречей, Аносов не спешил показаться на глаза Куракину. Сенатор разместился в кабинете, из которого открывался вид на Уреньгиньские горы, и весь день расхаживал из угла в угол. Через тонкую стенку в комнату Аносова доносились ритмичные шаги и приглушенный голос: Куракин про себя что-то напевал.
На горы давно опустился синий вечер. Утомленный Павел Петрович устроился в походной постели и, тревожимый думами, долго не мог уснуть.
Утром его разбудили громкий говор и шаги в кабинете. Аносов становился невольным свидетелем встречи декабристов с Куракиным. Он выглянул в окно и увидел у крыльца своей квартиры часовых. Осужденных поочередно вводили к сенатору.
Послышались шаги, и четкий волевой голос введенного объявил о себе:
— Бестужев, осужденный по известному вам делу…
Последовало глубокое молчание. Тихо скрипнул стул: по-видимому сенатор встал, и вслед за этим раздался его вкрадчивый, бархатистый басок:
— Я имею приятное поручение узнать о ваших нуждах. Не имеешь ли жалоб, не желаешь ли о чем просить?
Послышался твердый ответ:
— Я и мои товарищи ни в чем не нуждаемся, ни на кого не жалуемся, ничего не имеем просить. Разве только…
Голос оборвался, снова стало тихо. Сенатор жестко спросил:
— Чего же ты хочешь?
— Ваше сиятельство, нас очень торопились отправить из Шлиссельбургской крепости, и в последнюю минуту отправления кузнец заковал мои ноги «в переверт». При передвижении это причиняет мне невыносимые страдания. Железа стерли мои ноги, и я не могу ходить…
— Я здесь ни при чем! — отозвался сенатор. — Что я могу поделать?
— Ваше сиятельство, прикажите меня заковать как следует. Раны очень болезненны…
— Извините, я этого сделать не могу! — раздался вежливый, но бездушный ответ…
Аносов затаил дыхание. Не видя сенатора, он уже ненавидел его до глубины души. Снова на несколько минут наступило молчание, которое казалось очень тягостным.
— Что вас побудило присоединиться к заговорщикам? — заговорил сенатор, и его голос повысился. — Как вы смели поднять руку на обожаемого всеми монарха?
Тот, кто сейчас говорил о своих ранах, внезапно ответил решительно:
— Нашей единственной целью было приобретение свободы!
— Свободы! — вскричал, перебивая осужденного, Куракин. — Мне это было бы понятно со стороны крепостных, которые ее не имеют, но со стороны русского дворянина! Какой еще большей свободы может желать он?
— Вы забываете о народе, о России! — настойчиво ответил осужденный.
— Уведите его! — не сдерживаясь, выкрикнул сенатор.
Топая сапогами, вошли жандармы. Аносов потихоньку выбрался из своей комнаты и ушел на завод, где пробыл до вечера.
Всё же ему пришлось встретиться с сенатором, пожелавшим поблагодарить его за гостеприимство. Сумрачный Аносов тяжелой походкой вошел в свой кабинет. Навстречу ему поднялся высокий, статный мужчина лет за сорок. Черные густые бакенбарды обрамляли его холеное лицо. На большой покатый лоб, завиваясь, спускалась черная прядь волос. Со светской сдержанностью он протянул руку горному инженеру:
— Рад вас видеть и благодарить.
Раздушенный и напомаженный сенатор поправил прическу, разгладил пышные бакенбарды и устало опустился в кресло.
— Я душевно истерзан своей миссией! — рисуясь, сказал он Аносову, пытливо разглядывая его.
Павел Петрович скромно уселся напротив и молча склонил голову. В кабинете стояла тишина, потрескивали свечи. Лицо сенатора при их свете казалось желтым.
— Вы видели их? — спросил Куракин.
Павел Петрович признался:
— Да, я видел их, ваше сиятельство.
Сенатор нахмурился, глаза стали колючими.
— Сожалею весьма, что вы видели сих несчастных, — с холодным равнодушием продолжал он. — Однако они сами уничтожают всякое благорасположение к ним. Подумайте, среди них нет ни одного раскаявшегося в своих поступках! Вот только что у меня побывал бывший прапорщик Мозалевский, совсем еще молодой человек, лет двадцати. Видимо, природа не наделила его большой чувствительностью. Он из числа тех, кто не раскаялся и безразличен к своей участи…
Аносов терпеливо слушал, на лице его читалась скорбь, которую сенатор истолковал по-своему и сказал:
— Я напомнил ему о престарелых родителях и спросил, не чувствует ли он угрызения совести или страха, что они могут умереть от тоски. И что же? Он глубоко вздохнул и сказал только: «Да, я, должно быть, убил их». Вот и все!
Кровь прилила к лицу Аносова, он поднялся и сказал смело:
— Нет, ваше сиятельство, они не безразличны к своей судьбе. Они любят свою отчизну, я сам видел, как, прощаясь на перевале с Россией, они взяли по горсти родной земли. Они безусловно честные люди!
Сенатор встал, сурово перебив Аносова:
— Простите, я отказываюсь понимать вас. Может быть, сказывается моя усталость, — он преувеличенно вежливо поклонился горному офицеру: — Желаю вам спокойной ночи…
Ранним утром декабристов угнали по скорбному сибирскому тракту. Сенатор Куракин тоже отбыл, не попрощавшись с хозяином домика. Аносов уселся за стол и, чтобы забыться, занялся вычерчиванием геологической карты. Через раскрытое окно виднелось серое небо. Павел Петрович работал с увлечением. Неслышно к окну подошел дед Евлашка и закашлялся. Аносов вздрогнул и поднял глаза.
— Ты что? — спросил он беспокойно старика.
— Угнали бедолаг! — сокрушенно прошептал дед. — И аспид уехал! Помолчав, Евлашка вдруг спросил: — А что, Петрович, будет ли польза от сего русскому народу? Я так думаю, непременно будет!
— Ты это о чем? — как бы не понимая его мысли, спросил Аносов.
— О том самом! — загадочно отозвался дед. — Ну, бывайте здоровы, работайте, а я поплетусь! — он вздохнул и побрел со двора.
Аносову всё еще мерещился звон кандалов, окрики конвойных.
«Будет, непременно будет польза! Каждое семя даст свой всход!» подумал он, и на сердце его немного полегчало…
Глава девятая И ПТИЦА ВЬЕТ ГНЕЗДО
Павел Петрович затосковал мучительно, тяжело: единственный родной человек на свете, дед Сабакин, умер. С Камско-Воткинских заводов пришло запоздалое письмо, когда старик уже лежал в могиле. Знакомые писали, что в последние минуты он вспоминал внука, метался и хотел его видеть.
«Он мог подумать, что я неблагодарный, забыл его!» — казнил себя тревожными мыслями Аносов.
Чтобы хоть немного отвести душу, он взял отпуск и отправился в места, где прошло детство. В пути он слегка забылся, но вот блеснули воды Камы, показались строения знакомого завода, и сердце снова болезненно сжалось. Завод выглядел серым, обветшалым, и старый дом, в котором Павел Петрович жил с братьями, теперь покосился; стёкла в окнах от древности отливали радужными затеками. Вот и скрипучее ветхое крылечко, на ступеньках которого бывало сидел дедушка. И, странное дело, как будто ничего не случилось: из-за угла вышел бодрой походкой седенький старичок.
— Павлушенька! — вдруг обрадованно закричал он.
Аносов узнал Архипа. Бобыль припал к его плечу и всплакнул.
— Нет его, родимого… Две недели как похоронили. Эх, какого человека потеряли! — вымолвил он с тоской. — Теперь черед за мной.
— Что-то рано засобирался, — силясь улыбнуться, подбодрил его Аносов.
Архип безнадежно махнул рукой:
— Где уж! Свое отжил. Под сотню подобрался. Уж годов десять не охочусь.
Старик свел Аносова на кладбище. Под двумя раскидистыми березами нашел себе последнее убежище любимый дед. Павел Петрович поклонился могиле. Долго вместе с Архипом сидели они в густой тени, слушая шелест листвы. Тихо было на кладбище, только дикие пчёлы хлопотливо возились над цветущими травами, да кое-где гомонил родник. Тоска постепенно стала проходить, и на душе посветлело. Аносову представилось, как много пришлось пережить деду невзгод и потрудиться, а теперь он отдыхает после большой работы.
— Поди, годков восемьдесят пять отжил, — тихо обронил старик. Крепкий духом был человек, а смерть сломила в одночасье, как дуб молнией! — он поднялся и скрылся в кустах.
Вскоре старик вернулся с темным корцом в руках, наполненным прозрачной студеной водой.
— На, испей, Павлуша, облегчит! — сказал он ласково.
Аносов утолил жажду. Оба они снова поклонились могиле и тихо побрели к заводу.
Вечерело, когда они вошли в пустой дом. В больших нежилых комнатах гулко отдавались шаги, в углах серыми лоскутьями висела паутина. Всюду были тлен, запустение. Аносов обошел все комнаты, с грустью вспомнил минувшую жизнь в этом доме, маленькие радости и заботы. В раздумье он вышел на крылечко, присел на скамеечке и вдруг вспомнил слова неизвестного поэта:
Рассыпалось гнездо, навек осиротело. Забыт старинный дом, обрушилось крыльцо. И в ночи тихие уверенно и смело Минувшее глядит мне с горечью в лицо…Дальше он не помнил слов: в памяти уцелели только две строки, и он с горечью проговорил их вслух:
И жалобно скрипят подгнившие ступени, И шорох носится по комнатам пустым…— Это ты верно подметил, — сказал старик. — Вихрь всё уносит. Вот и меня унесет…
Аносов приободрился.
— Мы еще поживем, дедушка! — сказал он уверенно.
— Тебе непременно долго жить! — твердо ответил старик. — Такие люди сильно потребны России!..
Ночью спалось беспокойно. Утром Аносов дал Архипу пятьдесят рублей и уехал к пристани. Дед долго охал, отказывался от денег, но в конце концов взял их и проводил Павла Петровича на пароход.
Из-за густого бора поднималось ликующее солнце, пристань отходила назад. Впереди открылись широкие просторы Камы. На высоком яру долго еще стоял одинокий старик и смотрел вслед удаляющемуся пароходу.
— Ну, теперь, Петрович, видать, никогда больше не увидимся! прошептал он и опустил голову…
По возвращении с Камско-Воткинского завода Аносов почувствовал томительную пустоту. Часами он сидел над рукописями, но мысли его были далеки от работы. Часто вспоминалась Луша, и тогда сердце охватывала тоска. На заводе он невпопад отвечал Швецову. Старик озабоченно покачивал головой:
— Ты что-то, Петрович, не в себе. Словно в тумане ходишь, — заметил он. — Пора, милый, тебе семьей обзаводиться. Птица — и та вьет гнездо.
Аносов молча склонил голову и подумал: «Пожалуй, старик прав. Родных не стало. В доме пустынно и не с кем словом перемолвиться».
Молодой инженер держался обособленно, но когда однажды горный чиновник Сергеев пригласил его к себе на именинный пирог, он обрадовался. В доме товарища гость заметил у стола тонкую большеглазую девушку. Наклонясь над скатертью, она проворно передвигала тарелки.
— Чем не хозяюшка? — засмеялся ласково, но грубовато пожилой горный полковник. — Всем взяла.
— Кто такая? — тихо, краснея, спросил Аносов.
— Татьяна Васильевна — девушка скромная. Сиротка. Отец ее тоже из горных, на Камско-Воткинских заводах подвизался, — словоохотливо сообщил собеседник. — Из милости тут держат, но гордая…
«Как же так? — вдруг вспомнил Аносов свое сиротство и детство, проведенное на Каме. — Почему я ее не знаю, ведь мы почти одногодки?»
Ласковое, теплое чувство охватило его. Павел Петрович взглянул на девушку. Она стыдливо опустила черные глаза и принялась расставлять бокалы. Нежный звон хрусталя наполнил столовую. Полковник, поглядывая на бутылки, оплетенные соломкой, прошептал Павлу Петровичу:
— Коньячок самый лучший. Именинничек знает толк в винах!
Аносов промолчал. Он не сводил глаз с Танюши, чем окончательно смутил ее. Вспыхнув, девушка собралась убежать, но Павел Петрович улыбнулся и спросил:
— Говорят, вы с Камы. Я тоже оттуда. Не знаете меня?
— Вы — Аносов, много слышала о вас, — просто ответила она, и сразу между ними завязался сердечный разговор.
— Давно бы так! — одобрил полковник и протянул руку к вину.
После обеда, когда все разбрелись кто куда, Павел Петрович сошел в садик и присел на скамью. Сладостное, щемящее чувство не покидало его. «Отчего же из мыслей не уходит эта скромная девушка с черными глазами?» подумал он и взглянул на горы. Как темные облака, на горизонте тянулись опаловые вершины Уральского хребта. Голые острые утесы, нависшие над безднами, под лучами солнца сверкали огромными аметистами. Вершины Таганая пламенели, и тысячи оттенков и красок всеми цветами радуги переливались в небе. Аносов не удержался и восторженно вслух сказал:
— Чудесен наш Урал!
— Нет ничего краше! — отозвался приятный голос, и Павел Петрович увидел Таню, стоявшую на дорожке. Инженер подошел к ней.
— Пушкин воспел Кавказ, — вздохнув, сказал Аносов. — Но кто же воспоет этот дивный край, незаслуженно обойденный поэтами?
— Я думала, что вас интересует только завод, а вы, оказывается, любите еще и поэзию, — удивилась она. — А я, знаете, очень, очень люблю русские песни! — немного помолчав, сказала девушка.
Через несколько дней Аносов имел случай убедиться в этом. В ясный солнечный день Павел Петрович случайно встретил Таню на плотине. Отсюда во всей своей прелести раскрывался городок с узкими кривыми улочками, сбегавшими с гор. В ларях плотины журчала вода. На заводской площади толпились верблюды, позванивая колокольчиками. Нагруженный оружием караван собирался в дальний путь. Подле него суетились погонщики, приемщики клинков, лаяли псы. Своей пестротой и криками всё напоминало восточный базар. Разговаривая, молодые люди медленно шли по извилистой тропе, которая бежала среди густого ивняка вдоль пруда. Завод давно остался позади, его строения за обширными водами казались теперь низенькими и далекими.
Павел Петрович и Таня стояли на берегу. И вдруг она запела просто, без жеманства:
Во поле березынька стояла…Павел Петрович восхищенно смотрел на девушку.
В этот миг Аносову вспомнились четкие очертания величавого Петербурга, одетая в гранит Нева и мрачные бастионы Петропавловской крепости, где недавно томились декабристы. Павел Петрович не утерпел и сказал:
— Нет ничего прекраснее на свете Петербурга! Город окутан голубоватым призрачным туманом. А весной — сказочные белые ночи… Но это прекрасное не для всех. У меня до сих пор в ушах стоит звон цепей. Здесь, неподалеку от нас, прошли декабристы…
— Ради бога, замолчите! — вскинула она умоляющие глаза и тревожно прошептала: — Об этом теперь нельзя вслух говорить! Слышите?
Подуло вечерней прохладой. Погасал закат, а над дальним лесом показались золотые рога молодого месяца. Где-то рядом журчал ручей.
Таня встрепенулась, крепко пожала руку Аносову:
— Не сердитесь, Павлушенька! Давайте лучше о другом! — И, не ожидая ответа, тихо-тихо запела:
Как у месяца — золотые рога, Как у светлого — очи ясные…По заводскому пруду засеребрилась лунная дорожка, горы стали окутываться тьмой, когда она спохватилась:
— Уже ночь, пора по домам!
Аносов бережно взял Таню под руку, и оба, притихшие и счастливые, пошли по тропке, ведшей к заводу…
Они расстались поздно. Аносов возвращался домой с новым, радостным ощущением.
«Люблю или не люблю?» — спрашивал он себя и не знал, что ответить.
В комнате светился огонек. «Кто же у меня?» — удивился Аносов и вошел во двор. В распахнутую дверь лился мягкий золотой свет. На пороге сидел дед Евлашка и попыхивал трубочкой.
— Дед, ты ничего не знаешь? — многозначительно спросил Павел Петрович.
— Это о чем же новость? — весь встрепенувшись, поинтересовался охотник.
— Я влюблен! Влюблен! Влюблен! — восторженно признался Аносов.
— А, вот что! — разочарованно сказал Евлашка. — Эта хвороба, как лихоманка, обязательно ломает каждого в свое время. Прямо скажу, — хуже чахотки.
Старик спокойно глядел на Аносова.
— Но ты же пойми: она краше всех, лучше всех! — возмутился равнодушию Евлашки Павел Петрович.
— Это уж завсегда так, — безразличным тоном ответил дед. — Полюбится сатана пуще ясного сокола. И красива, и мила, и добра… А скажи мне, Петрович, откуда только злые жёнки берутся?..
— Ничего ты не понимаешь, дед! — сердито перебил его Аносов. — Самое лучшее на земле — любовь!
— Может, так, а может, и не так, — уклончиво отозвался старик. Простой человек, когда любовь приходит, думает не только о ласке, но и о труде. От любви труд спорится, — тогда и хорошо! В таком разе, Петрович, жаль расставаться с подружкой. Что же, счастливой дороги! Не поминай лихом молодость. Хороша она, когда глядишь со ступеньки старости!
Евлашка взволнованно запыхал трубочкой. Голубоватый дым потянул в комнату и заколебался в ней прозрачным туманом.
— Кто же она? — спросил дед.
— Татьяна Васильевна! — ответил Аносов.
— Хороша барышня. Сирота. Рада, небось, что жених объявился? Сказывал ей?
— Неудобно как-то. Боюсь чего-то, — признался Павел Петрович.
— Ну вот, это уж ни к чему, — сказал Евлашка. — В таком деле, сынок, девку бьют, как щуку острогой. Пиши ей, а я отнесу, — вдруг решительно предложил он. — Пиши!
Аносов уселся в кресло и, волнуясь, стал писать.
— Ты много не пиши и о дуростях не рассуждай, умная девушка с двух слов поймет, что к чему, — отеческим тоном наставлял Евлашка. — Кончил, что ли? Давай бумагу!
— Да куда ты пойдешь ночью! — запротестовал Аносов.
— Это уж мое дело, голубь, — дед взял письмо, засунул его за пазуху и ухмыльнулся в бороду. — Ну, в добрый час!
Прошел час, два, а Евлашка не возвращался с ответом. Полный тревожных дум, Аносов открыл окно и подставил разгоряченное лицо свежему ветерку. Тишина. На минуту в небе пролились журчащие звуки. Павел Петрович поднял голову: дикие гуси с криком летели к дальнему горному озеру.
Аносов вышел в палисадник. Ожидание томило его. Незаметно небо заволокло тучами, по листьям и крыше зашуршал дождик. Аносов зажмурил глаза и с замиранием сердца ждал, твердя про себя: «Евлашка, куда же ты запропастился? Иди же, иди скорей!».
С непокрытой головой и лицом он сидел под дождиком и широкой грудью вдыхал влажный воздух. Вода стекала со взъерошенных волос, пробиралась за шиворот. Постепенно промок мундир, а он всё сидел и бесконечно повторял:
— Иди же, иди скорей…
Но в эту ночь Евлашка так и не принес ответа.
Утром Аносов проходил мимо знакомого домика, боясь взглянуть на окна. Лишь только он поровнялся с калиткой, как она шумно распахнулась и в просвете встала Танюша с цветами в руках. Над прудом дымился туман, громко шумела Громатуха, оживленно перекликались птицы. Утреннее солнце радовало всех. Сердце Аносова учащенно забилось: он не смел поднять глаз. Тысячи росинок блестели на цветах, переливались в ярком солнечном свете.
— Вот вам мой ответ, Павлуша, — сказала она и протянула букет. — Я всё утро ждала вас… тебя…
Он осмелел, взглянул на нее. Две толстые косы короной украшали ее высоко поднятую голову.
— Ваш чудаковатый старик напугал меня. Кто же так делает?
— Да так уж вышло. Не ругайте меня. А сейчас…
Он поднялся на крыльцо и постучался в дверь.
— Что вы делаете? — испуганно закричала она.
— Буду говорить с вашим приемным отцом! — он еще громче постучал, но дверь долго не открывалась.
Наконец загремели запоры, и на пороге появился сам Иван Захарович приемный отец Тани.
— Что с вами, милейший, вы так встревожены? Не пожар ли на заводе?
— Иван Захарович, пожар у меня! — пытаясь шутить, ответил Аносов. Простите за поспешность, я пришел просить руки вашей дочери…
— А-а… — изумленно отозвался чиновник и отеческим тоном вдруг радостно пожурил: — Посмотрите, хорош молодец, всё втихомолку обладил! Ну, полно, полно, проходите в дом!
Он обнял Павла Петровича за талию и увел к себе…
Свадьба состоялась спустя две недели. Венчались в церкви Иоанна Златоуста. Когда вышли из храма, знакомые и друзья Аносова обсыпали новобрачных хмелем и зерном. Танюша испуганно посмотрела на мужа:
— Что это значит?
— Так надо, милая, — ласково шепнул Павел Петрович жене. — Народ любит и чтит свои вековые обычаи. Всё идет от доброго сердца!
В коляске они проехали в домик приемного отца и там отпраздновали свой свадебный пир. Рядом с невестой сидел приемный отец, а подле Аносова — литейщик Швецов. Он первый и поднял заздравную чару.
— От всей души желаю вам счастья, — торжественно сказал он. Перво-наперво, чтобы семья была крепкая, чтобы господь наделил вас потомством, а главное — пусть будет радость среди вас в любви и в труде! В добрый путь, милые, в счастливый час!
Утром Павел Петрович отвез жену в свой домик. На пороге их встретил Евлашка с хлебом-солью. Аносов принял дар и поцеловал старика:
— Спасибо, друг…
— Смотри, Петрович, не забывай нас… — У Евлашки на глазах блеснули слёзы, и он, с досадой махнув рукой, вышел из комнаты.
Татьяна Васильевна ласково улыбнулась мужу и сказала:
— Как хорошо, Павлушенька, но, знаешь, я даже к этому старику ревную тебя…
— Входи, входи, моя дорогая хозяюшка! — радостно сказал Аносов.
И Таня с горделиво поднятой головой уверенно вошла в дом…
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Глава первая ПРЕДДВЕРИЕ ТАЙНЫ
Начальник оружейной фабрики Адольф Андреевич Ахте поручил Петеру Каймеру начать производство литой стали. Как всегда очень самоуверенный и заносчивый, мастер похвалялся перед русскими литейщиками:
— Я покажу, кто такой есть Петер Каймер! Мы будем открывать большое дело, и тогда в России каждый будет почитать меня…
Литейщик Швецов держался ровно и на все похвальбы Каймера ухмылялся в бороду:
— Обещала синица море зажечь, а что из этого вышло? Э, батенька, не страши нас! Пуганые…
Ахте очень внимательно относился к Каймеру и в беседе с Аносовым подчеркнул:
— Мы должны помочь нашему лучшему мастеру. Вы превосходно знаете, что добрая сталь для клинков — всё. Я уверен в том, что он оправдает наши надежды.
— Всё это так, — согласился Павел Петрович. — Однако мне кажется, что изготовление лучшей стали — дело чести всего завода.
Начальник холодно посмотрел на своего помощника и ответил раздраженно:
— Не будем обсуждать этот вопрос. Я вам рекомендую делать свое дело, а Каймеру не мешать.
Пользуясь высоким покровительством, Петер Каймер свою работу обставил глубокой тайной. Он плотно закрывал в цехе все двери и никого не впускал. Однажды Аносов не утерпел и, несмотря на мрачный вид Петера, перешагнул порог цеха.
Каймер с холодной вежливостью поклонился Павлу Петровичу:
— Вы пришли в весьма неудачный момент, когда у нас идет только проба. Прошу извинить, я очень волнуюсь. Мы стоим у порог большой тайны, и вы сейчас не сможете получить никакой удовольствий…
Он медленно, как бегемот, повернулся к Аносову спиной и ушел в глубь цеха. Возмущенный Аносов молча покинул цех.
— Не тревожься, Петрович, — успокаивал Аносова литейщик Швецов. По-моему, он не с того конца начал поиски. Всякое дело требует глубокой думки, а так, наудачу да в темную играть, — толку не жди.
Старый кержак величаво-сурово проходил мимо заветных дверей таинственного цеха. Разговаривал он с Каймером с большим тактом, сохраняя достоинство. Иначе относились к Петеру молодые русские мастера. Они не могли примириться с таинственным поведением иноземца. Подносчики запоминали, сколько и чего доставили в цех, забирались в темные уголки, наблюдали, но всё было напрасно: Петер вел себя осторожно.
Время между тем уходило. Миновал год.
— Долго чегой-то шаманит наш кудесник! — с легкой насмешкой вымолвил однажды Швецов. — Нам бы самим поколдовать, Петрович. Соскучилось сердце по большой работе.
Аносов понимал, что настоящее открытие легко не приходит, и поэтому спокойно ответил старику:
— Каймер взялся за важное открытие, а оно требует огромной настойчивости и терпения. Надо обождать. Погоди немного, отец, придет и наш час. Великий труд впереди, а пока терпи и думай свою заветную думку. Не всё в Каймере плохо.
Старик хотел что-то возразить, но Павел Петрович предупредил его:
— Ты возмущаешься поведением немца; а у нас какой обычай? Кто из литейщиков не хранит своих секретов? А если и передаст, то только по наследству. А это как назвать?
Аносов попал в больное место литейщика. Он смущенно опустил глаза: понял намек.
Волновался не только Аносов, но и сам начальник фабрики Ахте: он переходил от восторгов к растерянности, от растерянности к новым обещаниям, а дело между тем подвигалось медленно. Были выданы плавки, но они оказались плохими.
Терпению, казалось, приходил конец, но тут Каймер выдал обычную сталь, которая обошлась значительно дороже.
— Вот оно как, обремизился! — оправляя сивую бороду, хмуро сказал Швецов. — Теперь бы посмеяться над бахвалом, да бог с ним! Небось у самого паскудно на душе.
Каймер сразу опустился, посерел, куда и спесь девалась! Когда наступал вечер, он не уходил, как в былые дни, в немецкий клуб, чтобы поразвлечься там за кружкой пенистого пива, а оставался дома и безмолвно просиживал долгие часы в глубоком кресле. Эльза с жалостью смотрела на отца. От неудачи старик осунулся, постарел. Однажды Эльза купила отцу две кварты ячменного пива и с соболезнующим видом поставила перед ним.
— Пей, отец. Тебе трудно отстать от старых привычек, — сказала она старику.
Каймер решительно отодвинул кувшин с пивом. Хмуро опустив голову, он пожаловался Эльзе:
— Я честный немец, и мне стыдно смотреть людям в глаза! Я был в Золингене лучший мастер. Я делал ножи и думал, что здесь, в России, всё смогу. Но тут есть свои сталевары. Если бы я знал!
Дочь разгладила взъерошенные волосы на голове отца.
— Ты всегда был слегка заносчив, но сейчас больше не станешь хвастаться, и всё будет хорошо, — ровным, спокойным голосом уговаривала она его. — Пей свое пиво, отец.
— Нет, нет, — покачал головой Петер. — И пиво не буду пить, и не всё будет хорошо. Аносов мой враг и теперь будет смеяться надо мной.
— Он порядочный человек и не позволит себе насмешки над старым человеком! — уверенно сказала Эльза.
— Ты ошибаешься, он не такой! — запротестовал Каймер. — Он оставил тебя — лучшую девушку из Золингена.
— Это совсем другое, — вспыхнув, перебила дочь. — Не надо говорить об этом, отец…
Старик догадался, что Эльзе тяжело от воспоминаний, вздохнул и замолчал.
Однажды в сумерки он вышел на Большую Немецкую и нос к носу столкнулся с Аносовым. Каймер сделал вид, что не заметил Павла Петровича, но тот окликнул его и дружески протянул руку:
— Ну, как дела, старина?
Каймер отвел глаза в сторону и не отозвался. По его хмурому виду Аносов догадался, что творится в душе литейщика. Он обнял его за плечи и дружески сказал:
— Не вешай головы, братец. После большой пирушки всегда наступает горькое похмелье. Ты человек решительный, возьми себя в руки и трудись. С кем не бывает неудач?..
Каймер благодарно взглянул на Аносова и повеселел. Придя домой, он облегченно сказал Эльзе:
— Русские люди — хорошие люди. Этот инженер не плохой человек… Он совсем не смеялся над моей бедой…
Павлу Петровичу предстояло серьезное испытание. Он решил сам добиться изготовления литой стали. Это и будет настоящим преддверием к открытию тайны булата!
Снова долгие вечера проводил он за книгами и рукописями. Работы Гей-Люссака, Ринмана и Реомюра не давали ясного и определенного ответа на интересный и важный вопрос.
«Чем же, в конце концов, обусловливаются свойства стали? — спрашивал себя инженер, и опыт говорил ему, что количество углерода и характер соединения железа с ним предопределяют ее качество.
Сталевары знали два способа получения стали. Одни шли к цели путем насыщения относительно чистого железа определенным количеством углерода, другие стремились удалить из чугуна некоторое количество углерода и все посторонние примеси.
Павел Петрович решил использовать эти способы. Путем комбинации их он попытался установить свой, совершенно новый прием, основанный на превосходном понимании химических процессов, которые происходили при томлении сплава. Но при этом следовало подвергнуть ревизии воззрения крупных европейских ученых.
Предстояла большая битва, и надо было иметь большую смелость и веру в себя, чтобы схватиться в решительном поединке с людьми, каждое слово которых принималось за истину. В этой схватке приходилось обдумывать каждый шаг, и Аносов погрузился в подготовку интересного опыта. Неторопливо, основательно он вместе со Швецовым продумал устройство камерной воздушной печи, в которой можно было сохранять и регулировать желаемую температуру. Старый литейщик отобрал лучшие огнеупорные тигли. Но главное оставалось еще впереди: нужно было разработать технологический процесс плавки и разливки стали.
Мучительно терзаясь, Павел Петрович думал об этом. Мысль работала остро, лихорадочно. Он перебирал данные опытов, вспоминал высказывания металлургов.
После глубоких раздумий он занес в записную книжку:
«С тех пор, как появились сочинения Ринмана в Швеции и Реомюра во Франции, способы цементирования сделались в металлургии подробно известными, а вместе с тем сохранилось и правило, что для цементирования железа необходимо непосредственное проникновение угля к железу».
Аносов отверг это положение. Когда закончили возведение и просушку печи, он со Швецовым лихорадочно принялся за дело. В большой тигельный горшок Швецов положил железо и поставил его в горн. Павел Петрович не отходил от плавки. Он тщательно следил за температурой. По силе и цвету вырывавшегося из горна пламени, по цвету искр он устанавливал желаемый накал.
Горшок стоит в пылающем жаром горне. Непосредственного соприкосновения угля и железа как будто не имеется, но это только так кажется. Углерод раскаленного в печи угля перешел в газообразное состояние и быстро проник в тигель. Там, в таинственном полумраке, творится чудесная метаморфоза: частицы углерода, как резвые и напористые невидимые всадники, атакуют железо и насыщают его.
«Вот когда начинается», — подумал Аносов. Железные обсечки на дне тигля заметно понизились, и постепенно началось расплавление.
Прошло около часа. Каждый нерв в теле дрожал, как натянутая струна, но инженер и литейщик не отходили от горна. Наконец наступил долгожданный, еле уловимый момент, когда последняя крупица железа начала плавиться.
«Пора!» — решил Аносов и, энергичным движением накрыв горшок крышкой, в маленькую скважину продолжал наблюдать за дальнейшим нагреванием тигля.
Золотые блестки засверкали на расплавленном металле. Швецов переглянулся с инженером, тот кивнул головой, и литейщик, не теряя ни минуты, осторожно снял тигель и мастерски вылил сплав в форму…
Как пахари после тяжелой работы, опустив руки, сидели они у меркнувшего сплава и ждали, когда он остынет. Оба не шевелились, — шли самые напряженные минуты. «Что-то получилось?» — тревожно думали они и сердцем догадывались, что рождалось что-то новое, удивительное, ради которого стоило так напряженно и взволнованно работать.
И когда литейщик щипцами схватил и бросил на звонкую наковальню слиток, Аносов стал ковать. Он работал, как заправский кузнец, и от каждого доброго удара лицо его озарялось сиянием горна.
— Тук, тук, в десять рук! — выкрикивал он в такт. — Вот оно желанное: ковкий металл — литая сталь!
А литейщик тряхнул бородой и запел во всю силу:
Идет кузнец из кузницы, Слава!Они долго не могли успокоиться. Первый успех окрылил их.
— Почему это ты вдруг запел? — поглядывая на литейщика, спросил Аносов.
— Когда работа спорится, тогда сердце горит и песня сама в душу просится! — ответил Швецов. — Скажу тебе один сказ, Петрович…
Приятно было отдохнуть у горячего горна, держать в руке прокованный слиток и слушать спокойную, ритмичную речь старика.
Швецов рассказывал:
— Жили-были купец и кузнец. У каждого свое: купчина день-деньской в хоромах брусяных сидит, деньги считает-пересчитывает да голову ломает, как с алтыном под полтину подъехать, а ночью толстобрюхий трясется, как бы кто не ограбил. Жаден был купчина! Одно слово, живодерская порода! — с презрением подчеркнул литейщик. — Всё-то ему мало было, всё хотел заграбастать в свою мошну да в свои сундуки запереть. Каждая копейка у него алтынным гвоздем была прибита. Только и дум у него, как бы сплутовать, кого бы надуть-обмануть, вокруг пальца обвести да самому нажиться. Заела купца жадоба, ой, как заела! Так, что и белый свет не мил…
— А кузнец? Про кузнеца-то и забыл, — напомнил Аносов.
— Погоди, дай срок! Кузнецу что! Он день-деньской железо кует, песни поет да приговаривает: «Не кует железо молот, кует кузнец». Кипит, спорится у трудяги работа. Р-раз-з, — раздует меха — искры трещат, дв-ва, — ударит молотом — каленые брызги летят. И была у молодца-кузнеца любимая русская присказка: «Худая работа — хуже воровства, хорошая — сердце веселит». От честного труда всегда был весел кузнец. На работу идет песни поет, с работы возвращается — еще пуще соловьем разливается. Слушает купец, как кузнец песни поет, шутки шутит, и зависть его взяла. «Как же так, — думает купец, — я живу в хоромах, на злате-серебре ем, на пуховых перинах сплю, одеваюсь в шелка-бархаты, а день-деньской маюся — забота меня заедает, только и дум, что про торг да про прибыли. Мой сосед кузнец-бедняк, что зарабатывает, то и съест, с гроша на грош перебивается, а весел — весь день песни поет, шутки шутит, и горюшка ему мало…»
Аносов лукаво посмотрел на Швецова, хотел что-то сказать, но тот сурово повел глазом — не мешай, дескать, — и продолжал:
— Однажды повстречал купец на улице кузнеца, подошел к нему и спрашивает: «Кузнец, друг милый, почему ты весь день песни поешь да шутки шутишь, с какой-такой радости?» — «А почему мне не петь? — удивился кузнец. — Спорая работа сердце веселит». Еще сильнее позавидовал купец кузнецу и решил его испытать. «Погоди, увидим, как труд тебя веселит!» сердито подумал толстосум, и хотя жаль ему было свое добро, но взял он из заветного сундучка золотые лобанчики, набил ими туго кошелек да и подбросил в кузницу. Кузнец утречком нашел деньги — глазам не верит! Уселся у наковальни и давай считать да пересчитывать. Прислушался купец, что же делается у соседа? Не стучит больше молот, не поется песня. Тихо, скучно стало в кузне. «Вот так да! Моя взяла!» — обрадовался купец и пошел в кузницу. «Ну, как живешь-поживаешь, соседушка? — спрашивает он. — Что-то песни перестал петь?» Кузнец поднялся, вытащил из-за пазухи кошелек с деньгами, бросил под ноги купцу и говорит: «Забери свое золото! Измаялся я с ним вовсе. Не сплю, не работаю, — всё боюсь, как бы кто не стянул капитал. Нет, хороши только те деньги, что своим честным трудом заработаны, — они и сердце веселят, и жизнь красят…» И кузнец запел свою песню. Под нее и работа загорелась… Ах, Петрович, Петрович, вот тут, в груди, — показал на сердце литейщик, — всегда огонек светится, когда видишь хлебушко, добытый честным трудом!.. — Швецов поднялся и сказал: — А не пора ли нам и на отдых?
Уходить не хотелось. В тишине тонко потрескивали остывающие тигли.
Аносов снял кожаный запон, вымыл руки и вместе с литейщиком вышел из цеха. Ночь стояла лунная, черные тени сосен на Косотуре казались нарисованными на серебристом небе. Горы ушли в голубоватый туман. Ночной воздух бодрил.
— Держись, мы еще посмотрим, кто кого! — улыбнулся Павел Петрович.
На Большой Немецкой улице гуляли клингентальцы. Они с удивлением разглядывали странного русского инженера: порыжелый мундир его был прожжен во многих местах, шел он слегка сутулясь, как ходят мастеровые после тяжелого трудового дня. Петер Каймер с Эльзой торжественно шествовали по дощатому тротуару. Завидя Аносова, они приветливо улыбнулись ему. Показывая на луну, Каймер восторженно сказал:
— О, какой волшебный ночь!
Павел Петрович сильно устал. Он еле добрел домой. Широкий диван манил его к себе. Однако, преодолевая усталость, Аносов уселся за стол и по привычке записал о только что завершенном опыте.
«Когда я заполнил горшок железными обсечками, без примеси угольного порошка, не покрывая их ни флюсом, ни крышкою, — записывал он, — то вскоре заметил понижение обсечков, а потом и самое расплавление; но получил не ковкий металл, а чугун. Заключив из всего, что железо в излишестве насытилось углеродом, я накрыл горшок крышкою прежде, нежели всё железо расплавилось, оставив в ней небольшую скважину для наблюдения за ходом работы, и спустя несколько времени удостоверился, что металл совершенно расплавился. Тогда, вылив в форму, я получил удобно ковкий металл — литую сталь.
Таким образом, для получения литой стали плавиленный горшок с крышкою есть просто отпираемый ящик. Стоит только знать, когда его открыть и когда закрыть. Цементование железа, находящегося в горшке, совершается точно так же, как в ящике с угольным порошком, токмо тем скорее, чем возвышеннее температура…»
В доме сонная тишина, спала жена, отдыхала и служанка. Аносов не захотел их будить и лег спать не ужиная. Приятное чувство покоя овладело им, а мысли шли ясные, прозрачные. Павел Петрович отчетливо представлял себе строение железа, соединение его с углеродом в процессе плавления в тигле с закрытой крышкой…
Если бы он мог хоть немного заглянуть в будущее, то узнал бы, что его открытие на десятки лет опередило достижения европейских ученых. Но не об этом думал сейчас Аносов. Павел Петрович загадывал о строительстве на заводе особого корпуса с восемью печами и о том, чтобы создать русский тигель — плавильный горшок.
«Предмет сей — ничтожный по названию, но весьма важный для металлурга!» — думал он и решил переговорить об этом с Ахте…
Утром Аносов вошел в кабинет начальника фабрики. Адольф Андреевич бесстрастно выслушал доклад инженера и, закинув руки за спину, заходил по кабинету, изредка недовольно поглядывая на Павла Петровича. Ахте долго молчал, потом спросил:
— Но где есть гарантия, что всё будет хорошо? Мы построим цех, и вдруг…
Он не договорил, нахмурился.
— Когда я задумал изготовить литую сталь, — сказал Аносов, — пришлось прочитать многое об этом предмете. — Тут инженер поднял глаза, встретил взгляд Ахте и продолжал смело: — Все писания, известные мне, оказались недостаточными и несообразными для Урала… Мне осталось проложить новый путь…
Начальник фабрики плохо слушал Павла Петровича. Ему думалось о другом: «Что будут делать золингенцы, если Аносов победит в этом состязании? Как жаль: Петер Каймер не оправдал надежд!..»
Адольф Андреевич вспомнил, что из Петербурга шли настойчивые приказы изготовлять лучшую сталь, и уныло уселся в кресло.
— Хорошо, я согласен с вами, — с тяжелым вздохом сказал он. Начинайте!..
Павел Петрович занялся составлением проекта сталеплавильной печи. Месяц он не появлялся в цехе. Рано вскочив с постели, бежал в баньку, там окачивался холодной водой, только что добытой из колодца, и утирался суровым полотенцем. Во всем теле чувствовалась свежесть, бодрость. Хорошо и легко работалось по утрам!
Как-то на квартиру к Аносову пришел встревоженный Швецов. С разрешения Татьяны Васильевны он неуклюже ввалился в тесный кабинет Аносова.
— Ну, как идут дела, Петрович? — озабоченно спросил он.
На столе лежали груды чертежей, бумаги. Литейщик со страхом поглядывал на всё это и ждал, что скажет инженер.
Аносов усадил мастера рядом.
— Всего будет восемь печей. Дела предстоят немалые! — пояснил он. Но пока очень трудно всё поставить на свое место… Да, трудно…
Он полузакрыл глаза и задумался…
Минуту оба молчали.
— Знаешь, о чем я сейчас думаю? — с мягкой улыбкой обернулся Аносов к Швецову. — Мне кажется, что я словно в заколдованном саду притаился и жду прилета жар-птицы.
Старик понимающе покачал головой.
— Дерзай, Петрович, дерзай, милый! — ласково ободрил он Аносова.
К осени цех и плавильные печи Аносова были построены. Мастера из Немецкой слободы ходили по небольшому приземистому помещению и придирчиво всё осматривали. Аносов держался спокойно, но в душе его таилась тревога. «Что-то будет? Как сработают печи?» — думал он.
Неожиданно из дома прибежала запыхавшаяся служанка и объявила Павлу Петровичу о рождении сына: Аносов засветился весь, взглянул на вестницу, перевел взор на плавильную печь, с минуту поколебался, а затем взволнованно сказал:
— Ну, беги, поздравь от меня Татьяну Васильевну с крепким дубком. В честь его мы с Николой нынче же изготовим сплав. Добрый сплав!
Служанка недоуменно посмотрела на хозяина:
— Как, разве вы, барин, не хотите хоть одним глазком взглянуть на сынка?
— Очень даже, горю желанием! — искренне и горячо отозвался Аносов. Вот сварим сталь и приду с подарком! — он повернулся и поспешил к горнам.
— Ну, отец, давай начнем! — сказал он Швецову.
Старик степенно, по-кержацки низко поклонился Аносову:
— С радостью, с новорожденным, Петрович…
…Сталь — сплав капризный, требует большой чистоты в работе. Тигли звонки, прогреты огнем, в них — ни соринки. Железные обсечки тщательно проверены и по железному жёлобу засыпаны в тигли верхом. Горн наполнен углем, подручные мастера тщательно замазали глиной дверцы.
— Дутьё! Нажимай на меха! — скомандовал Аносов и стал ждать. Скоро горн раскалился, и началась плавка…
Это было искусство! Седобородый кержак вдумчиво прислушивался и присматривался к пламени, к малейшим его оттенкам. Отсветы огня падали на строгое лицо старика и оживляли его заревом. Быстрые искринки вырывались из горна и пронизывали воздух. Литейщик внимательно следил за ними и, казалось, глазами говорил Аносову: «Видал, Петрович, там в тиглях всё идет хорошо!».
Инженер поторапливал подручных. Плавка только началась, но для новорожденной стали нужен хороший прием, и Павел Петрович приказал формы для разлива сплава смазать салом.
— Приготовиться, — скомандовал подручным Аносов, — а ты, Николай, обратился он к Швецову, — не торопись с выливкой!
Литейщик недовольно нахмурился: кто-кто, а уж он превосходно знал, что поспешно, залпом вылитая сталь дает большую усадку, да и в самой форме могут вдруг появиться трещины.
Старик взглянул на встревоженного Аносова и, чуть улыбнувшись, отозвался:
— Полагайся на мое старание, Петрович. Не выдам! Сам радости жду!
Павел Петрович ходил у горнов, прислушивался к еле уловимым звукам, а на душе росла тревога. «Как там жена? Всё ли хорошо?» — думал он.
Вот уже на исходе десятый час. Тишина. В цехе полумрак, лица горновых потемнели. И вдруг Швецов резко махнул рукой и выкрикнул:
— Доспела!..
Неторопливо, бережно разлили сплав в новые изложницы. Он лился ярко, ослепительно, разбрызгивая мириады искр. От этой огневой игры радовалось сердце.
Аносов долго смотрел на огненную лаву. Вот она уже в изложнице, не шелохнется. Тишина. Постепенно белый накал ее переходит в красноватый, потом синеет и незаметно для глаза тускнеет: сплав готов!
Дождавшись, когда остынет сталь, Аносов бережно взял слиток в руки, долго ворочал его, прижимал к груди.
— Наконец-то, наконец добыли! — прошептал он стоявшему рядом Швецову.
Глаза старика весело блестели. Он и сам был несказанно рад, но всё же напомнил Аносову:
— Ты, Петрович, ноне батькой стал. Сынок, поди, заждался…
— Это верно, давно пора. Сейчас побегу! — счастливо улыбаясь, сказал Аносов. Он сбросил кожаный запон, вымыл руки и до хруста в костях сильно потянулся. — Ну, а теперь скорей, скорей домой! — вздохнув полной грудью, радостно сказал он.
Татьяна Васильевна встретила мужа слабой ласковой улыбкой. Она страдальчески прижалась головой к его груди и просяще прошептала:
— Взгляни на него… Такой же, как ты… Щелочки глаз… Ах, Павлуша, он весь в Аносова, только пока еще не чумазенький… Не успел побывать в литейной…
Павел Петрович вышел из комнаты, где, сладко посапывая, лежал сын. Хотелось отдохнуть: так много сегодня радости! Он прилег на диван, но в душе его вдруг вспыхнуло беспокойство; оно нарастало, и вскоре мысли о литье вновь овладели им.
«Тигли! — вспомнил он. — Предмет сей, ничтожный по названию, но весьма важный для металлурга! Да, нам нужны свои, русские тигли!»
Снова лихорадочно заработала его мысль: «Да, да, нужны свои тигли!» решил он.
Ну что такое тигель, если подумать? Горшок! Нет, это не простой горшок. Он высок, с прямыми стенками и двумя доньями; в верхнем дне небольшое отверстие. Тигли делали из огнеупорных смесей графита и глины. В них плавили металл, и они должны были выдерживать температуру в три тысячи градусов.
По виду простая вещь, тигли привозились на Урал из далекого немецкого городка Пассау. Так и повелось с давних пор, что все русские металлургические заводы ввозили горшки для литья из-за границы. А каждый тигель стоил двадцать пять рублей!
Павел Петрович решил научиться делать горшки из уральских материалов. Ахте запротестовал:
— Это невозможно, сударь! Только в Пассау могут делать горшки, способные выдерживать самый высокий жар!
— Возможно! Вы увидите, что это возможно! — запальчиво воскликнул Аносов. — Мы не можем зависеть от других стран!
Инженер попал в больное место Ахте: тот старался казаться русским и внешне заботился об интересах России.
— Хорошо, попробуйте! — наконец смирился он.
…Это было смешно. Служанка подолгу втайне наблюдала за Аносовым. Серьезный, ученый человек помешался на горшках. Кабинет уставлен тиглями, всюду — на столе и подоконниках — черепки. Барин приносит их каждый день, толчет в ступке и рассматривает в лупу.
Татьяна Васильевна тоже в обиде: «Простые горшки его занимают больше нашего малютки!». В отсутствие мужа к ней толпой пришли золингенцы:
— Фрау Анософ, разве это занятие для образованного человека? Горшки можно купить готовые…
— Я тоже не понимаю его замысла, — чистосердечно призналась Татьяна Васильевна. — Но что я могу поделать? Ведь в горном деле я ничего не смыслю…
Несмотря на ее раздумья, она всё же упорно поддерживала мужа и всему находила оправдания. «Наверное, Павлуша надумал что-нибудь серьезное, раз всполошились немцы!» — мысленно одобрила она мужа.
Между тем Аносов взялся за изготовление тиглей: съездил в Челябу и вскоре доставил оттуда несколько видов огнеупорной глины; он составлял из нее и угольного мусора смеси и вместе со Швецовым ладил тигли.
Как-то Швецов с обидой в голосе пожаловался:
— Немыслимое дело мы затеяли, Петрович. Наши-то, златоустовцы, смеются, горшечниками зовут…
Аносов нахмурился:
— Что же, горшечники — это почетно. А ты потерпи еще немного!
Ему и самому приходилось тяжело. Он не раз уже ловил на себе насмешливые взгляды окружающих.
«Нам тяжело, это верно, — думал он. — Но ведь каждая копеечка, отданная за иностранный тигель, заработана русским мужиком, обильно полита его потом. Надо помочь народу».
Инженер упрямо продолжал работу, но неудачи преследовали его: горшки лопались, не выдерживая высокой температуры. Лицо Аносова похудело, стало восковым. Он нервничал: заводчики из Пассау откуда-то прознали о затее Аносова и пожаловались в горный департамент. В газете появились насмешливые заметки о тиглях златоустовского инженера. Казалось, все ополчились против Павла Петровича, и, чтобы отвлечься, он часто уходил в горы…
Однажды, вернувшись с прогулки, Аносов прошел в сарай. В раздумье он стоял, глядя на приготовленные тигли; в темном, тихом углу мерно трещал сверчок. Павел Петрович вдруг схватил лом и с остервенением стал крушить горшки.
— К чёрту всё! Пусть не иссушают мозг! — Он раздробил тигли на мелкие черепки и растоптал их.
Аносов не слышал, как позади скрипнула дверь и кто-то вошел.
— Ты что ж это, Петрович, взбесился вдруг? — укоризненно сказал вошедший Швецов.
— Ничего путного не выйдет у нас! — в отчаянии закричал инженер.
Старик прошел вперед, присел. Он недовольно посмотрел на Аносова:
— Это почему же, Петрович, у немцев, в Пассау, получается, а у нас нет? Выходит, мы вроде как бы хуже? Аль, может, назад повернуть, бросить свои замыслы?
Лицо литейщика стало строгим. Он поднялся и сказал решительно:
— Ну, нет, милок! Назад нет ходу! Два года прошло, а при моих годках это не шутка. Не выспался ты, Петрович, это верно. Идем! — Он бережно обнял Аносова и повел на квартиру. — Утро вечера мудренее.
Старик оказался прав. На другой день Аносов отправился в сарай и с сожалением осмотрел осколки.
«Что наделал?» — укорял он себя; нагнулся, поднял черепок, стал разглядывать. Словно толчок пронизал его мозг. Внезапно пришла ясная и простая мысль: «Тигли лопаются от расширения частиц глины при нагревании. Одни частицы давят на другие, отсюда и трещины. Вот в чем секрет! — Аносов склонился над черепками и задумался. — Что же надо сделать, чтобы избежать неудачи? Надо ввести в смесь тело, которое уменьшит в глине способность сжатия. Какое же это тело?»
Павел Петрович вспомнил о привозных горшках.
«В пассауских горшках, — думал он, — сама природа позаботилась соединить глину с графитом…»
Он сбросил мундир, засучил рукава и опять принялся составлять смесь. На этот раз он взял десять частей челябинской огнеупорной глины, пять частей толченых черепков и столько же мелкого угольного порошка. Подручные замесили тесто…
Подошел хмурый ноябрь. Ранняя пороша покрыла горы и городок. В распахнутую дверь смотрели зимние звёзды. В цехе томила жара. Аносов целиком поглощен был тихими, еле уловимыми звуками, шедшими из горна. Прошло семь, восемь, девять часов… На городской каланче пробили десять ударов, и вслед за ними старик Швецов ликующе выкрикнул:
— Братцы, сталь поспела! Тигель наш выдержал!..
Татьяна Васильевна пришла встретить мужа. Павел Петрович взял ее бережно под руку и повел по сонным улицам городка. Жена восторженно говорила о природе, о горах. Он слушал, но мыслями всё еще был в литейной, сравнивая свои тигли с заграничными.
И вдруг, прервав излияния Татьяны Васильевны, он сказал:
— Милая, пассауские горшки обходятся по двадцать пять рублей штука, а мои обошлись всего по сорок четыре копейки… Да, да… И вся разница в употреблении заключается в том, что наши горшки требуют большей осторожности в прогреве, а вместе с тем отнимают и более времени для начатия самой плавки, но в огнестойкости имеется положительное… Впрочем, это всё покажут опыты…
Молодая женщина как-то странно посмотрела на мужа:
— Всё? — спросила она, когда он запнулся.
— Нет, погоди!
— Ну, милый мой, хватит! — решительно сказала она и вдруг, крепко обняв его, приказала: — Целуй свою жёнку, чумазенький…
— Боже мой, что скажут прохожие! — теряясь от смущения, воскликнул он.
— Пусть что угодно говорят, — спокойно ответила жена. — А теперь давай лучше поговорим о любви. Без нее скучно мне, милый…
Они пошли в гору, к осиянному лунным светом Косотуру, крепко держась за руки. И, вместо разговора о любви, молча наслаждались счастьем, и это было лучше всяких слов…
Глава вторая ТАЙНА БУЛАТА
Русские люди издревле интересовались булатом. Драгоценный булатный клинок ценился дороже золота. В грамотах российских Аносов вычитал немало исторических сведений, из которых было видно, что князья и цари русские не только получали булаты из восточных стран, но пытались и у себя обучить способных людей этому искусству.
Впервые булат упоминался в старинной грамоте — духовном завещании князей Ивана и Федора Высоцких, написанном примерно в 1504 или 1505 году. В перечислении разной «рухляди» упоминается одна сабля булатная гирейская. Велика была ее стоимость, если попала она в княжескую опись!
Известно, что от кызылбашского[10] Абасс-шаха и от гилянского Ахмет-царя посольства доставили в свое время царю Федору Иоанновичу и Борису Годунову желанные подарки — булатные сабли, разукрашенные золотой насечкой и драгоценными камнями.
В 1613 году в летнюю пору на Москву с большим и пышным караваном наехал персидский посол шаха Абасса богатый купец Хозя Муртазя и «бил челом» подарками. Это были исключительно редкие булаты.
Царь Алексей Михайлович, которого современники льстиво называли «Тишайшим», вовсе не был тихоней. Любил он соколиную охоту, и среди других его страстей самой сильной была любовь к булатным клинкам, которые он старательно собирал. Образцы этого булатного оружия впоследствии перешли на хранение в Оружейную палату.
Мало того, Алексей Михайлович сам пытался завести в Москве изготовление булатов. По его приказу выбрали трех способных юнцов и направили в Астрахань для «учения булатных сабельных полос и панцырного дела».
В царской грамоте, написанной 30 июня 1660 года астраханскому воеводе князю Черкасскому, указывалось:
«…И вы б тех ребят велели у того Ивана принять, а для учения сабельных булатных полос и панцырного дела велели тем их мастерам и ученикам и которые из астраханских робят похотят учиться, давать нашего жалованья, поденного корму, по сему нашему Великого Государя указу, а мастерам их велели б есте сказать наш Великого Государя милостивый указ, чтоб они тех робят выучили своему мастерству доброму, и открыли дела свои к ученью явно, и ни в чем бы они в делах своих не скрылись, а как они тех робят выучат, и им мастерам за то учение будет наша Великого Государя милость».
Весной 1661 года, когда кипели ожесточенные схватки с крымскими татарами и поляками, Алексей Михайлович был очень озабочен вооружением русских ратников и написал вторую грамоту с требованием «призвать и прислать к нам Великому Государю черкас, панцырного дела сварщиков, самых добрых мастеров, да булатного сабельного дела сварщиков самых же добрых мастеров… Как они будут у нас Великого Государя на Москве, и мы Великий Государь их мастеров пожалуем, велим им учинить свое государево годовое денежное вознаграждение и корм большой».
Знал Павел Петрович, что в течение последних десятилетий тайну булата стремились разгадать западноевропейские ученые Карстен, Ринман, Бертье, Фарадей…
Имя Фарадея всегда волновало Аносова. Увы, этот прославленный ученый в поисках тайны булата, как и его иностранные коллеги, находился на ложном пути. Все они добивались лишь того, чтобы воспроизвести причудливый рисунок, который всегда виден на поверхности настоящего булата. Некоторым это удавалось сделать либо с помощью специальной обработки поверхности металла, либо применяя сложные процессы сварки полос железа и стали. А Фарадей уверял, что удалось получить булат, прибавляя к железу алюминий.
Павел Петрович много недель не покидал оружейную фабрику. Он вместе со Швецовым проверил утверждения ученого и убедился, что Фарадей заблуждается. Рисунок на булате не сопровождался появлением подлинных свойств булата. Аносов записал в свой дневник:
«Европейских булатов высокого достоинства мне видать не случалось, и всё, что писано было об этом предмете, не заключает в себе удовлетворительных сведений, ибо ни в одном из трактатов о булате нет истинного основания — достижения совершенства в стали».
Задумчивый и озабоченный Павел Петрович целыми часами просиживал у себя в кабинете в глубоком безмолвии. Молодая жена по-своему понимала беспокойное состояние супруга.
— Почему ты, всегда такой оживленный, разговорчивый, вдруг замолчал и стал хмур? — допытывалась она. — Неприятности по службе?
— Никаких! — кратко ответил он и грустно опустил голову.
— Так в чем же дело? Что случилось? Ты недоволен мной? — упорствовала Татьяна Васильевна.
— Ах, какая ты непонятливая! — огорченно выкрикнул он. — Я не могу дознаться, в чем тайна булата!
— Только это тебя и беспокоит? Какие прозаические мысли! — улыбнулась она и оставила его одного в кабинете.
Долго перебирал он в памяти все опыты и думал:
«Булат есть совершенство! Он более твердый и острый, нежели обыкновенная сталь. Именно поэтому булаты в Азии с незапамятных времен не выходят, так сказать, из моды. Он, подобно благородным металлам, всегда сохраняет постоянную ценность. Азиатцы платят за лучшие клинки по сто и более червонцев. Они люди умные, не могли же они ошибаться в продолжение многих веков в истинном достоинстве клинка, приобретаемого за столь дорогую цену!»
Чем больше он раздумывал, тем сильнее верил древним сведениям о булатах. И в самом деле, на опыте он уже убедился, что при некоторых изменениях узоров булат, очевидно, тверже, но не хрупче стали, а следовательно, лучше ее. Аносов чутьем догадывался, что рисунок является лишь следствием высокого качества металла.
Позади осталось много лет напряженной работы, но как ничтожны пока результаты!
«Тайна булата должна быть раскрыта!» — упорно думал он, представляя себе всю трудность задуманного. Ему казалось, что перед ним простирается огромный океан, который надлежало переплывать многие годы, не приставая к берегу и подвергаясь различным случайностям…
Тяжелый, очень тяжелый путь предстоял впереди!
Павел Петрович не испугался его.
«Люди — самое важное в нашем деле! — думал он. — Россия, богатая железными рудами различного свойства, не бедна и искусными руками… Вот старый литейщик Николай Николаевич Швецов — заводский крепостной. Умный, способный, опытный. Разве он не пойдет за мной в поисках тайны? Он настоящий уральский кремешок и служит на благо отчизны. Таких здесь сотни, тысячи, они поддержат, помогут в большом деле!»
Опыт уже есть. Через руки Аносова прошли сотни булатных клинков, и десятки их, приобретенные на его трудовые сбережения, часто на последние рубли, украшали кабинет. По узору, отливу, грунту Павел Петрович научился отличать различные виды булата. Булатов было очень много, и, по совести говоря, до сих пор не существовало их научной классификации. В разных местах Востока один и тот же вид булата очень часто называли по-разному. Аносов пересмотрел и изучил свои записи. Он составил таблицу на все известные ему виды булата. Против каждого вида Павел Петрович написал его подробную характеристику.
Эта таблица висела сейчас в кабинете, и он снова — в который уже раз! — читал описания кара-хорасана, гынды, нейрисо, кара-табана и шама наиболее простого сирийского булата. Просматривая таблицу, он невольно бросал взгляд и на клинки. Как жаль, что ему не удалось собрать образцов всех булатов! Но зато у него есть самый лучший из них. Он взял в руку клинок с темными, иссиня-черными гранями, на которых переплетались сложные, красивые узоры.
— Хорош клинок! — вымолвил Павел Петрович, любуясь переливами. — Что за тайну хранишь ты?
Во всяком деле Аносов любил порядок, систему. Он хорошо понимал, что опыт — большое дело, но это еще не всё. Надо открыть законы, определяющие свойства булата.
В разных пожелтевших манускриптах он многое вычитал о том, как изготовлялся булат на Востоке. Много мистической чепухи писалось об этом. Не поддаваясь романтике легенд, преданий, Аносов решил открыть тайну булата у себя в цехе, исходя только из научных показаний.
По старой привычке он отправился в домик над Громатухой к старику Швецову. Давно уже не бывал он здесь. Тревожно забилось сердце, когда подходил к воротам. То же самое железное кольцо в калитке, как и несколько лет назад, но что-то изменилось здесь. Он постучал, — не вышла, как тогда, веселая резвая девушка с синими глазами. Калитку распахнул сам Николай Николаевич. Глухо покашливая, он пытливо, из-под очков, взглянул на Аносова.
— Петрович! Вот не ожидал, дорогой, — обрадовался старик. — Проходи, проходи!
Инженер прошел в знакомую горенку, где всё было по-прежнему: та же герань на окнах, те же кованые сундуки у стен. И даже библия на столе, которую, видимо, только что оставил хозяин.
Но как изменился сам Аносов с той поры, когда впервые переступил порог этого дома! Литейщик усадил гостя рядом.
— Что же ты не заходишь ко мне? — спросил Павел Петрович.
— Дел много, да и ноги сдавать стали, — уклончиво ответил Швецов. Он опустил глаза; Аносов понял, что старик стесняется несколько чопорной Татьяны Васильевны. Она не особенно приветливо держалась с простыми людьми, и это отпугивало многих.
— Я к тебе за помощью, отец. Задумал большое дело.
— У вас всегда дела немаленькие, с великим смыслом, — ответил литейщик.
— То, что задумал я, займет годы, может быть, десяток и больше лет. Потребует много труда, терпения и жертв! — со страстью вымолвил Аносов.
— Опять булат? — вопросительно посмотрел на него Швецов.
— Булат! — признался гость и схватил старика за руку. — Надо открыть тайну булата, узнать законы, которые управляют литьем лучшей стали. Я знаю — труд велик! Хочу, чтобы ты помог мне в этом деле. Будь моим помощником!
Лицо старика просветлело. Он вздохнул и душевно ответил:
— До гробовой доски, Петрович, я твой слуга. Дело твое — народное. Последнее отдам, чтобы добыть для русского человека заветное. Вот мое слово!
— Спасибо, старик, спасибо! А теперь дай совет, помоги моим думкам. Раскрою тебе свои замыслы.
Литейщик положил натруженные руки на стол и стал внимательно слушать.
— Первое, — начал Павел Петрович: — думал я поставить опытные плавки. Надо проверить, правильно ли пишут иностранцы о причинах образования узоров и о качествах булата.
— Правильно! — одобрил литейщик. — В темную играть не следует.
— Второе, надо узнать, что и как влияет на образование булатного узора: какие примеси, какие плавки, температура. И последнее: нужно нам установить, какую роль играет углерод в создании булата…
Не всё было ясно старику: в своей работе он руководствовался чутьем да накопленным опытом; всё же он с достоинством сказал:
— Трудновато будет, однако ты, Петрович, задумал правильно…
Они переговорили о многом, и пора было уходить, но Аносову трудно было подняться. Он вспомнил Лушу. Как и в былые годы, за перегородкой возились ребята. Заметив, что Павел Петрович к чему-то прислушивается, Швецов сказал:
— Всё внуки, прибывают, хвала богу. Только одни оперятся, глядишь, другие в гнезде возятся. Вот и сижу, как дуб среди поросли.
Павел Петрович поднялся:
— Ну, прощай, отец. Завтра за работу!
— А чего тянуть, — согласился старик. — Время мое под угорье идет, надо торопиться!
Он проводил Аносова до калитки. Инженер вышел на улицу, не зная, куда идти, — домой не тянуло. В горах выпали дожди, и Громатуха шумела, ворочая придонные камни. Павел Петрович вышел на берег резвой речонки и долго смотрел на мутные воды. Прошло не так много лет, но как сильно изменилось всё кругом! Он вздохнул и с грустью подумал:
«Отлетела, навсегда ушла милая, прекрасная юность!..».
…Опыты начались в старом цехе. Шел 1828 год. На первых порах опыты, казалось, ничем не отличались от прежних исканий по изготовлению литой стали. Те же тигли, те же старые печи, но Швецов всё же каждый день отмечал новое в работе. Он видел в руках Аносова журнал, в который заносились результаты и наблюдения над плавками. Павел Петрович не скрывал неудач, а мужественно старался найти и устранить причины их.
Первый опыт не удался, и Аносов прямодушно записал: «Тигель повредился, а металл не расплавился, что приписано жидкости шлака; почему к стеклу прибавлено кирпичной глины».
Глядя на трещины в тигле, Швецов угрюмо усмехнулся:
— Так, выходит — первый блин комом! Как будто мы малые ребята и впервые литье видим.
— И у доброй хозяйки бывает первый блин комом! — ободрил старика Аносов. — Что ж, это только начало огорчений. Но будут и радости!
Павел Петрович внес изменения в состав флюса, увеличил время плавки на десять минут. Увы, снова вышел конфуз! Пришлось и о втором опыте записать: «Сплавилась хорошо, но, по выливке в форму, не сковалась. По обточке оказалось много пузырей. Приписано доступу воздуха…»
Так, изо дня в день, потянулись терзания. Аносов чувствовал смертельную усталость и сильные головные боли от удушливых газов, но не уходил из цеха. Только старый, привычный ко всем невзгодам Швецов не уступал ему в терпении.
— Ты бы, Петрович, прилег, а я поворожу! — уговаривал он инженера, который, стиснув зубы, наблюдал за тиглями.
Татьяна Васильевна не могла уговорить мужа днем приходить домой; пришлось обеды посылать в цех. Судки и хлеб в чистой скатёрке приносила бойкая и смешливая служанка Матреша. Жене это было не по душе, и она иногда упрекала Аносова:
— Павлуша, подумай, что ты делаешь? Ты ведешь себя, как простой мастеровой, которым жёнки приносят горшок щей!
— Ну, милая, до простого русского мастерового мне еще далеко! протестовал он. — Для того чтобы им быть, надо овладеть мастерством. Посмотри на Швецова, у него огромный опыт! Знания у меня кое-какие есть, а вот опыт еще нужно перенять…
Татьяна Васильевна сердилась, хмурилась, капризничала.
— Почему все горные живут, как люди? У них семейные вечеринки, а ты всё в цехе и в цехе! — жаловалась она.
Аносов ласково брал жену за плечи.
— Погоди, добуду булат, устроим пир на весь мир! — обещал он.
— Ты поседеешь, а несбыточное не случится! — безнадежно отвечала она.
Что на это можно было сказать? И без того на душе Аносова было тревожно и тяжело. Он и сам понимал, что отдает делу лучшие молодые годы.
«Но как же иначе? Дело-то ведь большое! — раздумывал он. — Молодость прекрасна; пока много сил — только и творить чудесное. Надо прожить эти годы так, чтобы не краснеть в старости!»
И Аносов снова принимался за работу. Дни проходили стремительно, он похудел, на лице слегка огрубела кожа. Жена примирилась или, по крайней мере, делала вид, что это так. За вечерним столом она ерошила ему волосы и ласково приговаривала:
— Мастеровой ты мой, мастерко…
Восьмой опыт принес небольшую радость: сталь чем-то напоминала булат. Павел Петрович записал в журнал:
«Ковалась, но отчасти не проварена. По вытравке серною кислотою на ней оказались узоры».
Инженер и литейщик долго рассматривали полученный сплав. Швецов одобрительно крякал:
— Еще немножко, и, может, сбудется наше!
— Нет, еще далеко до настоящего! — с огорчением сказал Аносов. — Узор не тот, мутен, не радует глаз.
Слиток отнесли начальнику оружейной фабрики Ахте. Сухопарый, длинный, в больших очках, он низко склонился над сплавом и долго внимательно изучал его: вертел, взвешивал на руке, стучал молоточком, вызывая улыбку на лице Аносова.
— Это не есть действительно булат! — наконец с важностью изрек он. И ваш метод не даст желанный результат. Вам, господин офицер, надлежит следовать примеру столь известного ученого Фарадея! — Ахте величественно поднял длинный, сухой перст, как бы подчеркивая этим непоколебимость своего суждения.
— Я ведь пробовал идти путем Фарадея! — хотел запротестовать Павел Петрович, но в эту минуту начальник фабрики добавил:
— Учтите, господин офицер, сей ученый сейчас пошел дальше, он прибавлял к железу платину и получил весьма твердую сталь! Ноне на Урале найдена платина, и мы отпустим ее для опытов…
Павел Петрович склонил голову.
— Хорошо, я проверю и этот опыт господина Фарадея.
Уходя от Ахте, он понял, что трудно ему будет опровергнуть выводы мирового ученого. Но внутреннее чувство говорило ему: «Будь смелее, дерзай!».
Фарадей много лет жизни отдал поискам открытия секрета булата. Он думал, что тайна кроется в посторонних примесях к железу. Химический анализ индийского вуца[11] показал ученому, что в составе таинственного сплава имеется алюминий. И Фарадей поверил, что алюминий и явился источником узоров на булате. Ахте тоже сказал Павлу Петровичу правду: Фарадей, прибавляя к железу серебро и платину, получил прекрасные сплавы. Особенно хорошими свойствами обладал сплав с платиной. И всё-таки это не был булат!
Аносов продолжал опыты. Выполняя приказ Ахте, он добавил в сплав пять золотников платины. Это был десятый по счету опыт. Время плавки длилось час двадцать минут, но Аносову казалось, что прошла вечность.
«Неужели Фарадей прав?» — думал он.
И когда Швецов закончил плавку, Павел Петрович долго разглядывал полученный металл, присматривался к самым ничтожным его изменениям.
В журнале Аносов записал: «Дутье ровное: ковалась, но при малом нагреве и медленно. По испытании оказалась твердою и годною на тонкие инструменты. По вытравке слабою серною кислотою на ней оказались узоры».
— Что ж, сталь неплохая, — одобрил Швецов. — Но заметь, Петрович, это не брат булату!
Они снова принялись за опыты, и лишь на пятнадцатом решили еще раз проверить Фарадея. Теперь в сплав добавили десять золотников платины. Тут уж заволновался и Швецов. Всегда спокойный, терпеливый, он вдруг загорелся юношеским задором:
— А что будет, Петрович, если мы, златоустовцы, да нос утрем Англии?
— Шапками закидаем, так, что ли? — насмешливо сказал Аносов.
Старик смутился, понял: не о похвале идет речь, а о борьбе за лучший сплав. Кто будет обладать им, тот и сильнее!
Плавка продолжалась, как обычно, час двадцать минут. Долго проверяли себя. Сдерживая волнение, Аносов записал в журнал показания опыта:
«Ковалась хорошо, но тверда, при закалке поверхность темнее; весьма хороша по остроте и стойкости. Узоры явственнее прежних, но различны от булатных».
Выходит, английский ученый Фарадей ошибся. Тайны булата он не открыл. То, что он принял за булат, только улучшенная сталь, а не булат.
О результатах опыта Аносов очень корректно написал в рапорте начальству. Между тем опыты продолжались. Стремясь постигнуть тайну булата, Павел Петрович исследовал влияние марганца, хрома, титана, серебра, кислорода на сталь. Он тщательно изучал, как отражаются на качестве металла различные вещества, содержащие углерод. В виде присадки он добавлял золу растений, чугун, графит, слоновую кость.
Относительная удача была достигнута при восемнадцатом опыте. Откованный из полученного сплава клинок имел хорошие качества и выдержал установленные пробы. По вытравке на нем выступили местами мелкие желтоватые узоры, а местами — облачные, светлые.
Клинок отгравировал Иван Крылатко. Работал он со всей тщательностью и старанием. Отделанный клинок отличался отменными качествами. Старик Швецов был восхищен добытым, но Аносов оставался сдержанным и суровым.
— Ты, что же, Петрович, не радуешься? — обратился к нему Швецов.
— Рано радоваться, отец: задуманное нами — не достигнуто!
Литейщик, тяжело склонив голову, помолчал. Потом обнадеживающе сказал Аносову:
— Погоди, свое добудем! Непременно!..
Глава третья ВСТРЕЧА С ГУМБОЛЬДТОМ
В июне 1829 года на Урал приехал известный немецкий ученый Александр Гумбольдт. Свое путешествие он совершал в трех экипажах с небольшой свитой, сопровождаемый почетным эскортом казаков и горными чинами. Население, пораженное пышными нарядами, сверкающими орденскими звездами, принимало ученого за странствующего принца. Однако многие были в недоумений: Гумбольдт интересовался поведением на Урале магнитной стрелки, собирал разные камни, травы. И хотя многие работные кричали вслед его коляски «ура», некоторые жёнки замечали: «Гляди, какой красавец, а немного не в себе!».
Проездом через Пермь чиновник губернаторской канцелярии спросил конвойного казака:
— Что же он делает?
Служивый подмигнул лукаво и сообщил:
— Так что, самое что ни на есть пустое: травы наберет, песок посмотрит. Как-то в Солончаках говорит мне через толмача: полезай в воду, достань что на дне. Ну, я достал, обыкновенно что на дне бывает, а он спрашивает: что внизу — очень холодная вода? Думаю, нет, брат, меня не проведешь. Сделал фрунт и ответил: того, мол, ваша светлость, служба требует — всё равно мы рады стараться!
Около месяца Гумбольдт прожил в Екатеринбурге, выезжая на заводы. Он побывал во многих местах и тщательно осмотрел заводы Яковлева, Билимбаевский завод графини Строгановой, посетил Нижне-Шайтанский завод Ярцева, ознакомился с Березовскими рудниками и золотыми приисками.
Столица Урала приняла ученого шумно, хлебосольно: в честь Гумбольдта устраивались банкеты, концерты, вечера, на которых он танцевал с жеманными дамами бесконечные кадрили.
Горные инженеры держались предупредительно с гостем, который особенно интересовался минералами. Объезжая заводы, он внимательно присматривался ко всему. От него не ускользнули теневые стороны жизни работных людей. Он прекрасно видел, в каких тяжелых условиях они живут и работают. Напрасно чиновники горных канцелярий старались отвлечь его внимание. Ученый видел, как плохо используются богатства Урала. Кругом заводчики хищнически истребляли леса; в жаркий полдень у Нижнего Тагила дорогу экспедиции преградил лесной пожар. Было страшно смотреть на разбушевавшуюся огненную стихию, сокрушавшую вековые смолистые сосны и еловые чашобы. По дороге навстречу путешественникам, не страшась человека, бежали звери, спасаясь от гибели.
Гумбольдта поразило равнодушие, с каким встретили это бедствие горные чиновники. Один из них сказал Гумбольдту в утешение:
— Не волнуйтесь. Это не так страшно, огонь пройдет стороной. У нас каждое лето горят леса. Бывает и так: выйдешь — кругом синий дым, даже солнца не видно, — ну, значит, лесной пожар.
— Но позвольте, — в недоумении пожал плечами ученый, — ведь это ведет к истреблению топлива. А что без него заводы?
— Не так страшно. В горах есть каменный уголь! — чиновник порылся в дорожной укладке и добыл черный осколок. — Вот, полюбуйтесь!
Да, это был настоящий бурый уголь! Гумбольдт выпросил его в подарок и бережно уложил в чемодан.
«Урал — настоящее Эльдорадо! — с восхищением думал ученый. — Но как беден здесь народ!..»
С волнением ожидали Гумбольдта и в Златоусте. Аносову очень хотелось показать ученому свои коллекции булатов и рассказать об Ильменях.
Однажды Татьяна Васильевна по возвращении мужа домой с нетерпением спросила:
— Когда же он приедет к нам? Это правда, что он принц?
Павел Петрович добродушно улыбнулся и ответил:
— Он принц в науке, а может быть, и король. Гумбольдт — большой ученый и никакого отношения к коронованным особам не имеет. Что за глупая легенда!
Лицо молодой женщины омрачилось.
— Очень жаль, что он не принц, — разочарованно обронила она. — Ученые везде одинаковы: будете говорить о камнях, металлах, литье, а о нас, женщинах, и забудете!..
Выехав из Екатеринбурга, Гумбольдт отправился в Тюмень, предполагая добраться до Тобольска, а оттуда проехать и на Алтай.
В августе ученый находился уже в Омске и был ласково принят губернатором области Сен-Лораном, свитским и любезным генералом, но очень ограниченным человеком. В губернаторы он попал случайно и долго колебался, принять ли столь высокий пост. Царю он откровенно признался: «Ваше величество, поверьте, я вовсе не имею административного опыта!». Николай на это ответил серьезным тоном: «Поверь, наша военная часть мудрее всякой другой!».
Сен-Лоран оказался плохим николаевским служакой: он плохо усвоил дух времени. Когда в Омск прибыл Гумбольдт, Сен-Лоран прикомандировал к нему образованного ссыльного декабриста Степана Михайловича Семенова. Губернатор искренне полагал, что Семенов будет полезен ученой экспедиции. Декабрист оправдал его надежды, и Гумбольдт остался очень доволен помощью Семенова, хорошо знавшего край.
Не думал Гумбольдт, что похвалой декабристу он навлечет на него гнев царя.
Осенью, когда ученый завершил свое путешествие и собирался покинуть Россию, он получил прощальную аудиенцию у царя. Николай принял Гумбольдта приветливо и прямолинейно спросил: «Ну как, довольны увиденным?» — «Я был поражен и восхищен, ваше величество, — с льстивой улыбкой сказал ученый, встречая в самых отдаленных углах вашей необъятной империи истинно образованных людей».
Царь был польщен. Имея в виду кого-либо из сибирских сатрапов; он, улыбаясь, спросил: «Кто вам там понравился своей образованностью?» «Степан Михайлович Семенов», — простодушно ответил Гумбольдт. «Ах, вот как!» — удивленно воскликнул царь, и улыбка сбежала с его лица. Больше он ни о чем не расспрашивал ученого и вежливо, но холодно простился с ним.
Не знал Гумбольдт, что на другой день из Санкт-Петербурга в далекий Омск поскакал императорский курьер с письмом, объявляющим царское неудовольствие губернатору и приказ немедленно перевести декабриста Семенова в Усть-Каменогорск канцелярским служителем…
Всё лето Гумбольдт странствовал по Сибири и Алтаю, ездил верхом по горам, собирал гербарий, спускался в глубокие шахты, везде проявляя живой интерес к минералогии.
В Златоусте уже перестали его ждать, когда вдруг он появился в Миассе. Как засуетились Ахте и немецкие мастера! Начальник фабрики экстренно отправился на золотые прииски встретить ученого и уговорил его посетить Златоуст. Гумбольдт прибыл в горный городок. Депутация немцев подошла к экипажу и поднесла ему дары. Ученый обрадовался соотечественникам и немецкой речи. Со всей Немецкой улицы сбежались иноземные мастера и их семьи, восторженно приветствовавшие своего знаменитого земляка. Гумбольдт снял шляпу; седой, статный, он величественно раскланивался с толпой.
Ахте увез гостя к себе. На другой день Гумбольдт появился на оружейной фабрике. Из украшенного цеха прибежал мальчуган-подсобник и сообщил:
— Подходит к каждому граверу и разглядывает узорье.
— Ну и что, нравится? — пересохшим голосом спросил Швецов.
— Шибко нравится. Хвалит! Немцы его оттесняют, а он никак от Бояршиновых отойти не может.
— Покорили, стало быть, мастерством! — радостно сказал литейщик и, взглянув на Аносова, спросил: — Ну, а как мы с тобой, Петрович, не опростоволосимся?
Павлу Петровичу очень хотелось рассказать гостю о своих опытах и показать клинок, сделанный из восемнадцатого сплава. Однако Ахте забрал клинок к себе, пообещав отослать его в Петербург. Раздосадованный Аносов ничего не ответил литейщику.
На каланче отбили полдень, горячие солнечные лучи круто падали в низенькие оконца цеха, тяжко вздыхали воздуходувные мехи, когда вдруг Швецов зашептал:
— Идут… Сюда идут…
В цех двигалась шумная толпа, впереди которой шел человек с розовыми щеками. На нем был темно-коричневый, хорошо сшитый фрак с белым галстуком и круглая шляпа. Ученый шел медленно, размеренной походкой, внимательно оглядываясь по сторонам. Вдруг его серые проницательные глаза остановились на Аносове.
— Очень счастлив видеть вас, — крепко пожимая руку, сказал он Павлу Петровичу. — Я слыхал, что вы стремитесь отгадать одну тайну!
Смущенно улыбаясь, Аносов скромно ответил:
— Пытаюсь; проделал многие опыты, но пока достиг только малого…
Заметив бородатого Швецова, Гумбольдт кивнул в его сторону:
— Ваш помощник?
— Это лучший литейщик здесь. Редкий мастер!
Гумбольдт с изумлением рассматривал старика, потом спросил Павла Петровича:
— Можно видеть ваше искусство?
Аносов кивнул головой, выражая согласие. Не успел он оглянуться, как Гумбольдт решительным движением скинул шляпу, снял фрак и ловко засучил рукава белоснежной рубашки.
— Я очень хочу видеть, что происходит в плавильной печке и в тигле, деловито сказал он.
— Сейчас мы проводим тридцать пятый опыт, — четко доложил Павел Петрович ученому. — Заложено сорок пять фунтов рафинированной стали и пять флюса. Время плавки — четыре часа. Скоро будет готово!
Гумбольдт, как опытный мастер, осмотрел плавильные печи, тигли, заглянул в фурму. Он обо всем подробно расспрашивал и одобрительно кивал головой.
— Я счастлив, что встречаю здесь ученого-металлурга, — искренним тоном сказал он и, завидев журнал опытов, потянулся к нему: — Что это?
Аносов объяснил.
— Это очень ценно и честно! Вы по-настоящему желаете помочь науке! сказал Гумбольдт.
Старый литейщик одобрительно поглядел на ученого. Его поразила в нем простота и ловкость, с какой он заглядывал в тигли.
— Вот это стоящий человек, хотя и немец! — похвалил Швецов гостя, когда все ушли из цеха.
— Милый ты мой, — душевно сказал Аносов, — и немцы, так же как и русские, бывают разные! Одни думают о благе человечества, другие — только о своей шкуре!..
Вечером у Ахте состоялся бал. Аносовы пришли с небольшим опозданием. Большие окна управительского дома были ярко освещены, и в них мелькали танцующие пары. У подъезда стояли экипажи, толпились ямщики и любопытные. Шумя шелком, опираясь на руку мужа, Татьяна Васильевна неторопливо поднималась по лестнице.
— Ах, Павлушенька, мне не по себе, — с отчаянием вздохнула она: этот Ахте везде и всюду старается оттеснить тебя!
— Но ведь он начальник, не забывай этого, милая.
Они вступили в ярко освещенный зал. В канделябрах пылали сотни восковых свечей. Вдоль стен сидели разодетые дамы и их нарумяненные дочки. Во всем чувствовалась натянутость. Даже танцующие пары казались деревянными манекенами, — так бесстрастны, угловаты были их движения. В первой паре шел Гумбольдт с белокурой дочерью хозяина. Завидя Аносова, он приветливо улыбнулся.
Павел Петрович невольно залюбовался статностью шестидесятилетнего ученого. Движения его в танце отличались легкостью, изяществом. На нем был фрак голубого сукна с золотыми резными пуговицами, на груди сверкала звезда. Панталоны, забранные в короткие лакированные ботфорты, плотно обтягивали крепкие мускулистые ноги. Приятная улыбка озаряла свежее, спокойное лицо ученого.
За ним в кадрили вели своих дам горные инженеры в синих мундирах, расшитых золотом. Черные бархатные воротники были высоки и слишком жестки, и оттого фигуры кавалеров казались чопорными, — они чем-то напоминали журавлей в танце.
Но вот отгремели последние звуки оркестра, и пары распались. Ученый неторопливо подошел к Аносовым. Он учтиво поцеловал руку Татьяны Васильевны и пригласил ее на следующую кадриль. Глаза молодой женщины засияли.
— Мой дорогой, — взяв под руку Павла Петровича, просто сказал Гумбольдт. — Вы совершили чудо. Да, да, чудо! Господин Ахте подарил мне ваш клинок. Это настоящий булат! Я буду писать об этом Егору Францевичу Канкрину…
По телу Аносова пробежало тепло, он хотел рассказать собеседнику об опыте, но в эту минуту раздались звуки оркестра, и Гумбольдт, бережно взяв за руку Татьяну Васильевну, увлек ее на середину зала. Павел Петрович заметил, какой неподдельной радостью засияло лицо жены, как легко и плавно она заскользила по паркету.
Подошел Ахте и крепко пожал Аносову руку:
— Успех, большой успех у вас, сударь! Ваши опыты одобрил сам Гумбольдт!
— Я очень благодарен вам, Адольф Андреевич, искренне благодарен! взволнованно сказал Аносов. — Мне приятно, что я полезен заводу…
Неожиданно к Ахте подбежала дочь и увлекла его в сторону. Павел Петрович почувствовал себя неловко и решил пройтись в танце. Глазами он обежал зал и вдруг по-мальчишески покраснел. Прямо перед ним сидела Эльза Каймер и пристально смотрела на него.
«Боже мой, как она изменилась: потолстела, стала рыхлой! — с жалостью подумал инженер. — Потускнели и голубые глаза!»
Не пригласить ее на кадриль было неудобно; он подошел к ней и учтиво поклонился. Она обрадовалась, крепко сжала его руку и зашептала:
— Данке, данке, Павлуша…
Несмотря на тучность, Эльза танцевала легко. Аносову вспомнилось былое.
— Вы всё такая же хорошая хозяйка? — чтобы сказать ей что-нибудь приятное, вымолвил он.
— О да! — кивнула она. — Но мой отец становится всё больше нетерпим. Он всё время недоволен. О, как он не любит вас!
— Вы очень откровенны, Эльза! — улыбаясь, сказал Аносов.
— Я вас всегда уважала. Вы честный человек и умеете много трудиться и мало говорить… Однако я очень устала, — тяжело дыша, сказала она и снова крепко пожала ему руку. — Данке, Павлуша… У меня так сильно болит сердце, может скоро умру…
Ему стало до бесконечности жаль эту добродушную девушку. Отведя ее на место, Павел Петрович поклонился ей и сказал с нескрываемой грустью:
— Эльза, вам рано говорить о смерти. Знайте, что у каждого человека свое горе…
Когда смолкла музыка, Гумбольдт церемонно подвел Татьяну Васильевну к Аносову. Нарядно одетые служанки, шумя накрахмаленными юбками, разносили и предлагали гостям прохладительные напитки и конфеты на подносах. Было душно, пахло пудрой, духами. Вокруг Гумбольдта собралась стайка веселых, но назойливых дам.
Татьяна Васильевна взяла мужа под руку и пошла вдоль зала.
— Знаешь, милый, — восхищенно заговорила она: — Гумбольдт настоящий кавалер… Всё же жаль, очень жаль, что он не принц! — с ноткой сожаления закончила молодая женщина…
Александр Гумбольдт сдержал свое слово: еще будучи на Урале, написал письмо министру финансов Канкрину, в котором подробно описал посещение Златоуста и встречу с Аносовым. Ученый сообщил министру новость — на Урале ему, Гумбольдту, подарили настоящий булатный клинок. И сделан этот клинок из стали, отлитой по рецепту русского горного инженера. Что клинок булатный, — в этом нет сомнений. Ученый сам подробно исследовал красивые золотистые узоры, характерные для сплава высокого качества.
Гумбольдт не предполагал, что своим письмом сильно взволнует Канкрина. Министр финансов усиленно интересовался восточными клинками, Николай I любил хорошее оружие, очень много внимания уделял вооружению конницы и как-то раз сказал Канкрину: «Вы ведаете горным делом, но почему у нас нет хороших металлов для клинков?» — «Ваше величество, — угодливо склонив голову, ответил министр, — настоящие булатные клинки делаются только на Востоке, и мастерство это представляет большой секрет». — «Вы должны добыть булатные клинки и узнать секрет!» — властно заметил царь.
Министр финансов немедленно написал письмо кавказскому наместнику графу Паскевичу-Эриванскому, прося его найти мастера по булату и приобрести несколько кинжалов и сабель.
Паскевич отыскал такого мастера в самом Тифлисе. Кахраман Елиазаров жил в лачуге над Курой. В своей маленькой мастерской он изготовлял прекрасные клинки. По всему Тифлису ходила слава, что он является непревзойденным оружейным мастером, владеющим секретом восточного булата.
Когда адъютанты графа отыскали его лачугу и привели мастера к вельможе, он низко склонился и, почтительно выслушав Паскевича, ответил: «Ваше сиятельство, я действительно умею делать булатные клинки, но, к сожалению, сейчас ничего не могу вам предложить. Всё оружие разошлось. Если угодно вашему сиятельству, я изготовлю прекрасные кинжалы, но они будут дороги, очень дороги. Согласитесь ли вы на высокую цену?» «Сколько? — надменно спросил наместник, презрительно разглядывая оборванного, худого старика. — «Сто шестьдесят червонцев за один кинжал, ваше сиятельство», — низко кланяясь, ответил мастер. — «Ты с ума сошел!» зло выкрикнул Паскевич, но старик не испугался и ничего не ответил. — «Что же ты молчишь?» — уставился в него сердитыми глазами наместник. — «Сто шестьдесят червонцев, ни больше, ни меньше!» — хладнокровно отозвался оружейник и снова поклонился, собираясь уйти. — «Постой! — остановил его наместник. — Чёрт с тобой! Грабишь, но так и быть, делай пять булатных кинжалов и три сабли. Только поживее!..»
Паскевич знал о невероятной скупости Канкрина и сильно беспокоился, сообщая ему о цене. Однако, несмотря на большую скаредность, министр финансов немедленно отозвался. Он требовал, чтобы булатные клинки были добыты любой ценой.
Кахраман Елиазаров постарался: заказ исполнил в срок. Офицеры кавказской армии — большие знатоки восточного булата — нашли, что кинжалы и сабли — исключительно высокого достоинства. Изготовленные клинки с нарочным были спешно доставлены в Петербург.
Канкрин отнес булаты царю. Николай был в восторге. Он любовался синеватым отливом их и не хотел выпускать клинок из рук. «Отменное оружие! — одобрил он и, оборотясь к министру, сказал: — Такое надо и у нас делать. Договоритесь научить сему искусству наших златсустовских мастеров!».
Министр финансов вновь написал письмо наместнику Кавказа, прося его договориться с Кахраманом Елиазаровым о том, чтобы тот за изрядную оплату взялся обучить нескольких мастеров делать булат. Тифлисский мастер долго отказывался. Но червонцы, щедро высыпанные перед ним, соблазнили его и он согласился принять учеников и научить их своему секретному мастерству.
Еще задолго до приезда Гумбольдта в Златоуст прискакал петербургский курьер и по приказанию Канкрина велел срочно отобрать четырех смекалистых мастеров для отсылки в Тифлис. В городке поднялся переполох. Ахте настоял на том, чтобы обучаться булатному делу поехали два русских и два золингенца. На том и порешили. Павел Петрович предложил Швецову послать в науку сына его — Павла, но литейщик безнадежно махнул рукой. «Пусть помогает тут! Ничему их там не научат. Одно мошенство! — хмуро отрезал он. — Какой же настоящий мастер продаст свой секрет! Шалишь, батюшка!»
Златоустовские мастера уехали в Тифлис и пробыли в учении у Елиазарова два года. Жили они плохо, выполняли черную работу. Ни разу ученики не видели, чтобы Кахраман сам готовил сплавы. Уральские мастера привезли с собой пластины стали, железа, чугуна, но Елиазаров их забраковал. «Булат можно приготовить только из индийского железа!» заявил он. «Но чем оно отличается от нашего уральского?» — спросил наиболее любознательный из уральцев. «Это увидишь сам!» — строго сказал мастер и вручил уральцу кусок стали.
Разглядывая ее, ученики вспомнили, что точно такую же сталь они видели в кабинете Аносова. «Это кум-гунды, индийская волна!» — признал булат один из уральцев. «Ну вот и будешь ее нагревать!» — сказал Кахраман.
Целыми днями ученики постигали нагревание булатной стали. Сам Елиазаров садился за станок и принимался разрисовывать клинки.
Присматриваясь к работе мастера, золингенец вдруг вскричал: «Смотри, что он делает! Этот плут наводит узор. Так делают у нас в Золингене. Зачем было сюда ехать?».
Ученики отправились к наместнику. После долгих ожиданий их, наконец, пустили в приемную. Грозно насупившись, Паскевич выслушал златоустовских мастеров и укоряюще сказал: «Поторопились вы со своим суждением. Кахраман — старик, восточный человек. Он, без сомнения, знает секрет булата, но, судите сами, легко ли ему сразу расстаться со своей тайной? Потерпите, понаблюдайте, и всё откроется!».
Но сколько уральцы ни наблюдали за мастером, ничего интересного не нашли. Старик хитрил, лукавил. Своим таинственным поведением и недомолвками он старался показать, что таит волшебную тайну. На самом же деле, седобородый Кахраман скупал булатную сталь у персидских купцов и делал из нее клинки. Прошло два года, и златоустовские мастера были отозваны в Петербург. Их представили министру финансов, и уральцы по совести рассказали Канкрину всю правду. Министр пришел в негодование: он понял, что Елиазаров обманул Паскевича.
Канкрин был расстроен, не зная, как доложить о случившемся царю. К этому времени и подоспело письмо Александра Гумбольдта, в котором тот сообщал об Аносове. Министр финансов обрадовался: наконец-то найден выход! В тот же день начальству горных заводов уральского хребта последовало предписание поручить Аносову продолжать опытные плавки по изготовлению булата…
Глава четвертая НАЧАЛО МЕТАЛЛОГРАФИИ
Павел Петрович обрадовался, расширил опыты. В 1830 году он проделал семнадцать опытов, а в последующем году — уже двадцать шесть. Аносову удалось получить сталь с различными узорами. Однако он сдержанно относился к своим успехам: победа была еще далека!
В журнал об очередном опыте им было записано: «Сталь с хромом принимает высшую полировку… Узоры от хрома красивее, нежели от марганца, и по расположению своему более других приближаются к булатным».
«Но всё же это не булат! — решил инженер. — В этом, по всей вероятности, и кроется ошибка французского химика Бертье, который почитал хромистую сталь за булат».
Аносов упорно продолжал работать. Последнее время он почти не спал, руки у него огрубели, глаза стали воспаленными, красными…
Наступил хмурый, дождливый день. Из-за гор поднимались темные, косматые тучи и целый день клубились над Златоустом, изливая обильные потоки. Громатуха вздулась, гремела.
— Разошелся наш урыльник! — шутили рабочие.
В эти дни из Петербурга пришла неожиданная для Павла Петровича эстафета: Ахте переводили на должность берг-инспектора Пермского горного правления, а начальником горного округа и директором Златоустовской оружейной фабрики назначили Аносова.
Эта весть мгновенно облетела городок и заводы. Крылатая шутка смешила всех:
— Ахти, что стало?
Несмотря на проливной дождь, толпы рабочих спешили на завод проверить весточку.
— Как же так, что на этот раз обошлось без иноземца? — весело перекликались они. — Чудо, на русском примирились…
Назначение Аносова на высокую должность вызвало много толков.
Министр финансов Канкрин долго противился выдвижению Павла Петровича, хотя в горном департаменте все стояли за способного инженера. «Но ведь вы всегда за тех, кто умеет создавать доходы, — лукаво и вкрадчиво сказал министру начальник департамента. — Аносов очень полезный для горного дела человек, а это так важно для нашего министерства финансов». После долгих раздумий Канкрин, скрепя сердце, согласился назначить Павла Петровича. Когда царю Николаю доложили об Аносове, он наморщил лоб и вдруг вспомнил: «А, это тот самый, который клинки знатно мастерит! По всему видать, понимает толк в военном деле». Канкрин не успел и рта раскрыть, как император размашисто начертал: «Быть по сему!..»
Татьяна Васильевна была довольна служебным продвижением мужа.
— Теперь тебе станет легче. Ты сможешь опыты поручить другим, простодушно обрадовалась она.
Павел Петрович нахмурился и сурово ответил жене:
— Нет, теперь мне вдвое будет тяжелее: придется начальствовать и производить опыты.
В конце июня тучи разошлись, выглянуло жаркое солнце, и семья вновь назначенного берг-инспектора покинула Златоуст. Обширный дом начальника округа опустел; обоз, груженный мебелью, сундуками, разной домашней рухлядью, потащился из городка. Татьяна Васильевна успела-таки кое-что приобрести у госпожи Ахте и теперь оживленно суетилась в гулких комнатах новой квартиры, обставляя ее по своему вкусу. Павел Петрович целые дни пропадал на службе.
На неделю ему пришлось оторваться от опытов, и старик литейщик с мастеровыми сам возился со сплавом. Швецов ревниво относился ко всему, а особенно никого не допускал к составлению шихты. Сын Павел заметил озабоченность отца: перед уходом на завод старик долго возился у заветного сундучка, гремел разными камешками, обсечками сплавов, отбирал на ощупь, на глазок подходящее и всё ссыпал в ладанку, пряча ее на груди.
Молодого литейщика разбирало любопытство. Он не утерпел и спросил:
— Ты что это, батя, колдуешь?
Отец взглянул на Павла:
— Знай, да помалкивай. Пришла пора пустить в ход присадку к сплаву.
— Чего ж ты скрывал ее от Павла Петровича? — спросил сын.
— И вовсе не скрывал, а сам он не допытывался про мою коренную тайность. От твоего деда перешла она мне, да батюшка с меня заклятье взял не передавать ее барину… Ведь мы заводом куплены у Демидовых, не вольные. А что от господ натерпелись, не приведи бог!..
Швецов истолок в ступке камешки, а порошок подсыпал в плавку. Делал он всё на глазок, чутьем догадываясь о ходе плавки. Нет-нет, да и тяжко вздыхал старик: нехорошо было на душе от сознания, что делает всё втайне от Аносова. Плавка шла нормально. Швецов прислушивался к потрескиванию тигля, подолгу, до ряби в глазах, смотрел на огоньки и, когда выдали сплав, сказал:
— Ну, сынок, если коренная тайность покажет себя — будет булат, а тогда и нам радость. Не скажется удачи, знать, и умирать нам крепостными!..
Тут подоспел Павел Петрович:
— Ну что? Как? Покажи!
Начальник горного округа, одетый в тот самый старенький мундирчик, в каком всегда приходил в цех, надел кожаный запон и стал исследовать сталь.
— Не плоха, не плоха, — бормотал он, испытывая металл. — Но опять-таки не булат! Когда же узнаем, в чем суть? — огорченно воскликнул он и записал в журнал: «Сталь в ковке чиста, тверда; зубила не уступали английским… Узоры мало приметны…»
Руки старика задрожали.
— Что теперь робить, когда всю силу мастерства, всю коренную тайность вложил, да не вышло! — огорченно вымолвил он.
— Врешь! — перебил его Аносов. — Мастерство твое высокое, непревзойденное. Опыт дедов и прадедов сказывается в нем. Сталь получилась хорошая. Но ты пойми, сейчас этого мало. Тут наука и опыт должны быть связаны одним узелком…
Павел Петрович опять прирос к своему месту. Он словно и не замечал кручины Швецова. Когда тот, усталый, садился отдыхать и вздыхал, Аносов твердил свое:
— Найдем коренную тайность! Верь мне!
Знатоки холодного оружия высоко ценили узоры на клинке, но они принимали их только как украшение. Аносов же знал, что рисунок на булате обусловлен внутренним строением стали. Высокое качество булата, его упругость, твердость, незатупляемость являются лишь выражением этого строения. Узор появлялся на стали после шлифовки и травления. На старых клинках, которые попадали в руки Аносова, узор был стерт, покрыт ржавчиной. Рисунок еле-еле проступал. При плохой шлифовке его почти нельзя было различить. Долго думал Павел Петрович над этим. Он забирался в лабораторию и применял различные реактивы. Тут были и соляная и серная кислоты, и купорос, и лимонный сок, и пивной уксус. Все они по-разному действовали на булат.
Лаборатория была маленькая, полутемная, оборудована бедно. Аносов из своих скромных сбережений приобрел реактивы, аппаратуру, кое-что дали литейщики. Но нехватало самого главного — микроскопа.
Павел Петрович вспомнил слова Михаила Васильевича Ломоносова, напечатанные им в проекте академического регламента еще в сентябре 1764 года.
Великий ученый писал: «Химик без знания физики подобен человеку, который всего должен искать ощупью. И сии две науки так соединены между собою, что одна без другой в совершенстве быть не могут».
Ломоносов первый ввел в практику химических исследований микроскоп.
Аносов выписал этот прибор из Петербурга и теперь каждый день ожидал посылки. А пока все вечера уходили на перечитывание трудов Ломоносова. Какой поразительно всеобъемлющий кругозор был у этого русского ученого! Он первый в мире серьезно исследовал и вопросы кристаллизации.
Подходила осень. Вечера стали темными, длинными. С Уреньгинских гор задули пронзительные ветры, они выли за окном, рвали с деревьев желтую листву и гнали вдоль улицы. В такие вечера хорошо было посидеть в теплой комнате, у яркой лампы, и в тишине «побеседовать» с Ломоносовым. В столовой шумел самовар, служанка побрякивала посудой. Татьяна Васильевна радовалась редким вечерам, когда муж оставался дома и сидел у себя в кабинете среди кожаных фолиантов. Тогда семейное счастье казалось ей полным. В девять часов начинался вечерний чай, и Аносов приходил в столовую. Жена говорила о детях, о семейных делах, а он думал о микроскопе.
В один из ноябрьских дней на пруду заблестел крепкий ледок, горы и леса покрылись снегом. И вот, наконец, по санному пути доставили из Петербурга давно ожидаемую посылку. Ее торжественно отнесли в лабораторию. Аносов, никому не доверяя, сам осторожно вскрыл ящик, с восторгом извлек из него микроскоп и протер стёкла. Свершилось: прибор стоял на его рабочем столе! Павел Петрович радовался микроскопу, как ребенок любимой игрушке.
Утром он засел за микроскоп и стал рассматривать образцы полированных и протравленных клинков. Прибор не обманул его надежд. Перед Аносовым открылся дивный мир, доселе им невиданный. Трудно было оторваться от созерцания поблескивающих кристаллов металла, из которых складывался чудесный правильный узор. Аносов придвинул к себе бумагу, цветные карандаши и лихорадочно стал зарисовывать увиденное. Тут же он подробно описывал микроструктуру выплавленной стали.
Павел Петрович с головой ушел в исследовательскую работу. Более суток он просидел за микроскопом. За ним пришла Татьяна Васильевна. Виновато улыбаясь, Аносов говорил:
— Сейчас, сейчас, милая, вот только выясню, как действует на мой сплав железный купорос… Осторожнее, не опрокинь! — тревожно косился он на колбы, наполненные кислотами.
Жена молчаливо простояла около часа и ушла домой огорченная.
«Неисправим, навеки неисправим! Зачем таким людям жениться? недовольно думала она, но сейчас же отогнала эту мысль и решила иное: Таким-то людям именно и нужна семья! Ему некогда вспомнить о себе, вот жена и должна позаботиться об этом!» — Она шла по сухому скрипучему снегу, морозный воздух бодрил, и на душе ее становилось светло и радостно.
Тем временем Аносов продолжал возиться с разными реактивами. Перед ним, как на поле боя перед полководцем, разыгрывались сражения. Не все кислоты с равным успехом производили вытравку: одни из них обнаруживали свое действие только на железо, а другие — и на железо, и на углерод.
На другой день к вечеру Павел Петрович домой пришел усталый, еле добрался до кабинета и тяжело опустился в кресло. В темном углу на краешке стула сидел согнувшись старик Швецов.
— Ты как сюда попал? — удивленно уставился на него Аносов.
— Татьяна Васильевна допустила, — шепотком сообщил тот. — Под окошком стоял, выжидал тебя, увидела и отошла сердцем… Ну как, Петрович, теперь? Будет толк?
Аносов устало опустил голову, промолчал. И это безмолвие, которое на секунду установилось в комнате, словно жаром обожгло Швецова.
— Что ж ты молчишь, Петрович? Неужели и тут неудача? — схватил он Аносова за руку.
Серые утомленные глаза инженера вдруг зажглись юношеским сиянием.
— Знаешь, отец, — возбуждаясь, заговорил он, — я познал иной мир. Вижу, будет у нас булат! Глаза у меня открылись. До сих пор я шел вслепую, и вот — стал зрячим… Погоди, увидишь и ты!
Вскоре они закончили плавку номер 74. Она длилась четыре часа тридцать минут. На этот раз сплав не вылили в форму, а охладили в тигле. Литейщики проковали охлажденный слиток под молотом. Ковался он хорошо, и весело было на душе Швецова, но неожиданно по синеве сверкнула трещина.
— Всё пропало! — упавшим голосом выдавил литейщик.
— Погоди, еще не всё пропало. Теперь мы можем заглянуть в душу сплава, узнать, что случилось, — успокоил Аносов. — Продолжим дальше!
Стальной слиток отполировали, тщательно очистили его от масла мелкой золой и водой. После этого опустили в подогретый реактив, и на нем постепенно стали проступать узоры. Швецов вытащил слиток, обтер его досуха льняной ветошью, смазал деревянным маслом и подал Аносову.
— Ну, отец, пойдем посмотрим, что стало с металлом, — предложил литейщику Павел Петрович и провел его в маленькую лабораторию. Тут на большом столе были нагромождены куски руды, сплавов, пластинки стали; на полках в бутылях поблескивали таинственным мерцанием кислоты. Под окном стоял диковинный инструмент.
«Микроскоп!» — догадался Швецов и стал внимательно рассматривать разложенные на столике образцы сталей. Вот — булатные, литые, сварные, витые, кованые.
— Садись поближе, — указал Аносов на стул. — Я сейчас кое-что тебе покажу. — Павел Петрович показал глазами на образцы. — Обрати внимание, узоры у них разные. Теперь посмотрим!
Он положил восточный булат под микроскоп. Синеватый клинок излучал нежное блистание. Казалось, металл чуть-чуть охвачен изморозью.
— Взгляни в окуляр на сей узор! — предложил Аносов.
Литейщик, не дыша, уставился в линзу. Второй глаз он сильно прищурил, но в окуляре всё заволакивала муть.
— Туман кругом, ничегошеньки не вижу, — с разочарованием сказал старик.
— Погоди, сейчас увидишь! — Павел Петрович покрутил кремальеру, и слиток оказался в фокусе.
Швецов замер, очарованный видением.
— По рисунку, который ты видишь, во многом определяется качество стали, — пояснил Аносов. — Эти волнистые линии, которые, как ручеек, текут перед тобой, сплетения и блеск — есть результат той тайны, которую нам предстоит разгадать! Ах, отец, отец, что за чудо-булат перед тобой… А теперь взгляни на другой, и тебе всё станет очевидным! — Аносов положил под объектив микроскопа другой образец.
— Нет, Петрович, тут что-то не то! Сгасло сияние! — уныло проговорил литейщик. — Куда что и подевалось!
В стеклянном окошечке по синеватому полю просвечивал робкий узор. Однако что-то мертвое, потухшее ощущалось теперь. Не струился булат перебегающими искорками, блеск его был холодный, застывший.
— Какой же это булат? — иронически спросил Швецов.
— Известно какой. Разве не узнаёшь? Это булат работы прославленных золингенских мастеров. А в чем разница? — спокойно спросил инженер. Разница в том, что на немецких клинках узор сделан вытравливанием и при перековке он исчезает, как дым в ясную погоду! Вот в чем дело, отец. Мы установили простую истину: упругость и прочность металла всецело зависят от его структуры. И теперь я знаю, что тайна булата кроется глубоко внутри сплава, в сцеплении невидимых для нашего глаза мельчайших частиц кристаллов металла. Как разгадать нам тайну? Что нам поможет? А вот смотри. — И Аносов взял со стола два стальных отрезка.
— Сейчас я кладу на предметное стекло сплав немецкого булата. Взгляни сюда! — он подкрутил кремальеру.
— Стой, стой! — закричал старик. — Всё вижу, как на ладони. Вот так чудеса!
Простой немецкий булат вдруг сразу изменился: ровный, гладкий кусочек стали неожиданно предстал частицами, по-разному и, казалось, в беспорядке сцепленными. Не успел Швецов еще раз высказать свое удивление, как Павел Петрович сменил кусочек сплава на другой.
— А вот это наш, только что добытый! — сказал весело Аносов.
Литейщик, затаив дыхание, долго смотрел в микроскоп. Сердце его учащенно забилось. И как не биться ему взволнованно, когда перед простым человеком почти по-сказочному раскрылось дело рук его! По стали наметился узор, похожий на булатный.
— Да-а! — протяжно сказал старик. — Это уже почти булат! — Он поднялся и долго рассматривал сплав невооруженным глазом. Узор терялся в синеве слитка.
— Это еще не всё! — продолжал Аносов. — Теперь наши опыты показали, что сталь даже при совершенно одинаковом химическом составе может обладать различными свойствами. В чем тут дело? И вот выяснилось, что отливка, ковка, отжиг, закалка влияют на внутреннее строение стали и на качество клинка!
— Вот оно что! — оживился литейщик. — Великое дело — наука. Она всякую тайность откроет. Теперь, как пить дать, русский булат не за горами!
— Не за горами! — согласился Аносов. — Нелегко будет, но завершим опыты!
Швецов с уважением посмотрел на инженера: усталое лицо, воспаленные глаза его говорили о бесконечно большом труде.
«Нелегко ему достается булат! — подумал старик. — Чтобы до всего дознаться, надо самому быть булатом!»
За окном над Косотуром висели грязные лохмотья туч, посыпался редкий снежок.
— Которая зима в труде проходит, — со вздохом вымолвил Аносов. — Но чувствую я, что безбрежный океан остался уже позади.
И, как бы желая его ободрить, из-за разорванной тучи прорвался и засиял золотой луч зимнего солнца.
Глава пятая НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О ЛЮДЯХ!
Опыты продолжались. Ободренный успехом, Аносов дни и ночи проводил у горна. Он сам возился с тиглями и часами не сводил глаз с плавки. Тут же у горнов, примостившись в уголку, чтобы не мешать людям, он наспех обедал, делясь скромной трапезой со своим верным помощником Швецовым.
Аносов в такие дни забывал обо всем на свете, а в это время у цеха его часто ждали работные: граверы, шлифовальщики, жёны мастеровых. Они приходили со своими нуждами и печалями и терпеливо стояли на холоде, боясь оторвать Павла Петровича от работы. Однажды он вышел потный, без фуражки, с прилипшими ко лбу волосами. В обветшалой одежонке, в старом мужицком зипунишке, в стоптанных валенках, перед ним стояла вдова мастерового и жалобно смотрела на него.
— Ты что?.. — спросил Аносов.
— К тебе, батюшка. Большое горюшко пригнало. Помоги, родимый. — В голосе ее прозвучала большая печаль.
Павел Петрович присел тут же на бревне и предложил:
— Рассказывай.
Сбиваясь, вдова поведала о своей беде. На лесных куренях, где жгут для завода уголь, ее единственный сынок-малолеток провалился в дымящуюся кучу раскаленного угля и получил тяжкие ожоги.
— Парень ходить не может, а приказчик гонит его на работу и еще штраф требует. А какой тут штраф, если вторую неделю вовсе без хлеба сидим, жаловалась женщина.
— Как без хлеба? — переспросил расстроенный Аносов. Он достал кошелек, вынул кредитку и подал женщине. — Поди купи хлебушка, а я сам буду у тебя да и на курени загляну.
Женщина застенчиво взяла деньги и поясно поклонилась:
— Спасибо тебе, родной, от голодной смерти спас… — Вдова хотела еще что-то сказать, но не смогла. Губы ее задергались, на глазах появились слёзы. Отяжелевшей походкой она ушла, а Павел Петрович стоял и долго с грустью смотрел ей вслед.
Аносов сдержал свое слово. Подгоняемый злым сиверкой, начальник фабрики зашел на запрудскую Демидовку и среди ветхих бревенчатых домишек отыскал хибару вдовы. За окном серели сумерки, в избушке было сыро и темно, как в подвале. Смущенная хозяйка высекла кремнем огонь и зажгла смолистую лучину. Робкие тени заколебались на посветлевших стенах. Аносов огляделся, и страшная, ужасающая бедность поразила его. На скамье лежал подросток, прикрытый лохмотьями, и тяжело стонал. Павел Петрович склонился над больным и сейчас же от волнения закрыл глаза: перед ним кровоточило обожженное лицо, большие серые глаза мальчугана страдальчески смотрели на него.
В углах горницы сверкал иней, дыхание вырывалось густым паром. Аносов подошел к печке, приложил руку. Холодна и пуста.
— Давно не топлена, батюшка, даже тараканы и те вывелись, — с покорной удрученностью сказала женщина.
— А муж где? — спросил Аносов.
— Кузнец был. От чахотки помер. Аль не помните Кузьму Веселого? пытливо уставилась она на начальника.
— Вспомнил! Добрый кузнец был, — с сожалением сказал Павел Петрович. — Ты вот что, не убивайся: сына вылечим, а тебе пенсию схлопочу!
Женщина хотела броситься Аносову в ноги, но он удержал ее:
— Что ты, что ты вздумала!
Гость ушел, когда замерцали звёзды. Провожая его, вдова облегченно вздохнула:
— Спасибо, батюшка. Теперь чую сердцем, что не пропаду!
На посаде лаяли псы. Звёзды густо усеяли небо, искрился снег, и шумели сосны на Косотуре. Аносов шел и думал, укоряя себя: «Булат очень важен, но дороже всего люди. Как же я проглядел людское горе?».
Он понял, что сейчас он не просто горный инженер, а начальник большого округа, многих заводов. Он должен бывать в Сатке, в Кусе, в Арсинском: его ждут люди, работающие на лесосеках, углежоги, золотоприискатели. За всем нужен хозяйский глаз: приказчики и управители злоупотребляют властью. Аносов вспомнил день выпуска, прогулку с другом вдоль набережной Невы. И, вспомнив, сказал себе: «Кто, как не ты, обещал облегчить труд простого человека? Кто обещал присмотреть за тем, чтобы зря не морили людей?».
В этот памятный вечер он составил расписание, где и когда бывать.
— Это ты правильно решил, — одобрила мужа Татьяна Васильевна. Нельзя всё время быть у литья, ты же не просто мастер. Я прикажу, чтобы подготовили тройку серых. После отъезда Ахте кони заскучали.
Павел Петрович хотел протестовать, но вспомнил гривастых, сильных коней, и его потянуло промчаться по зимней дороге.
Утром, несмотря на метель и ветер, он отправился на лесные курени. Под завывание ветра Аносов въехал в дремучие леса. Глубоки снега, от тяжести их гнутся ветви елей. Стихло. Слышно, как дятел долбит сухую лесину. Всюду следы зверей: вот осторожно, крадучись, прошла лиса, вот пробежал зайчишка, наискось — тяжелые волчьи следы.
Кучер — мужик с заиндевелой бородой, проворный и бывалый — обратясь к Аносову, засиял:
— Эх, и глухомань! Леса, помилуй бог, без конца и краю. Тут и лоси, и горные козлы, и куницы, и горностай, и сам батюшка Михайла Топтыгин. А сколько птиц всяких! Здесь и глухари, и рябчики. Мать моя, всем, каждой кровиночкой, люблю я, барин, коней, зверьё и птиц. По-ясному живут, — всё видишь. Не то, что человек. Другой в глаза улыбается, а ломит тебя по суставчику!.. Эх, ну, коняшки, проворней, гривастые!
Через час потянуло горьковатым дымком, а там и лесосека распахнулась. Стучали топоры, шумели деревья, на лесной делянке раздавались звонкие человеческие голоса.
К Аносову поспешил куренной мастер — статный, хитроглазый мужик в добротном полушубке. Смахнув с головы ушанку, он низко поклонился начальнику округа:
— С приездом, ваше высокоблагородие. Никак не ждали, не гадали! — Он юлил, сыпал льстивые слова, без шапки побежал вперед по тропинке. Пожалте, пожалте…
На лесосеке дымились темные кучи: жгли уголь. Долготье[12] было уложено правильно, точно по наклону. Павел Петрович остался доволен работой. Рядом укладывали новые курени. Трудились оборванные, отощавшие мужики, изнуренные женщины и малолетки. Все были черны от сажи и угля, пропахли дымом, потом. Тут же рядом — землянки, словно звериные норы. Аносов не решился заглянуть в эти логова. Заметив беременную женщину, которая тащила валежину, он крикнул:
— Бросай да поди сюда, хозяюшка!
Женщина в первый момент остолбенела, но, привычная к покорству, сбросила с плеча березовую валежину и послушно подошла к Павлу Петровичу.
Аносов строго посмотрел на нее:
— Не знаешь, что ли, что нельзя тебе тяжелое поднимать?
Работница, низко опустив голову, молчала.
— Что молчишь? — мягче спросил Аносов.
Кержачка покосилась на куренного мастера. Тот заискивающе осклабился.
— Дикий народ, лесовики, ваше высокоблагородие, — пояснил он. — И говорить с благородными людьми разучились. — Сверкнув зло глазами, куренной прикрикнул на женщину: — Ну, что молчишь, скажи барину, что случайно, по своей нужде, валежину взяла!
— Врешь! — заплакала женщина. — Последние дни дохаживаю, а он гонит на самую тяжкую работу! Всё нутро жгёт, милые мои…
Выпятив огромный живот, кержачка пожаловалась:
— Ирод, замучил нас… Хотя бы смертушка меня прибрала… Ох!..
— Ты смотри, баба! — зловеще сказал куренной.
Аносов строго взглянул на мастера:
— Надень шапку и скажи, почему ты заставляешь женщину в таком положении работать?
— Закон-с! — прижав руку к груди, вымолвил приказчик. — Сам бы рад не возжаться с супоросными, но, помилуйте, закон-с! Так испокон веку заведено…
Павел Петрович покраснел, сжал кулаки:
— Как ты смеешь так говорить о будущей матери?
Из-за оснеженной ели вышел согбенный жигаль, хмуро взглянул на куренного и зло обронил:
— Он нас и за людей не считает!
Мастер снова снял шапку, молчал. Глаза его испуганно забегали.
— Простите, ваше высокоблагородие, мы — люди темные. Какие порядки были до нас, такие и теперь.
— Освободи женщину, пусть идет домой, а с тобой будет особый разговор.
В сопровождении куренного и толпы жигалей Аносов обошел курени. Заглянул в котлы, которые висели перед землянками. В них кипела вода.
— И это всё? — удивленно спросил Аносов.
— Нет, батюшка, не всё, — охотно отозвался согбенный углежог. Толокном заправляем, а насчет хлебушка, прости. С Покрова не видим. А без хлеба, известно, еле ногами шевелишь…
— Плохо живете, плохо, — глухо проговорил Павел Петрович.
По лесу раздался гулкий треск, Аносов оглянулся.
— То лесина от мороза раскололась, — пояснил жигаль.
Голос у него был приятный, глаза добрые и борода густая, серебристая.
— Как тебя звать, дед? — спросил начальник округа.
— Иваном кличут. С детства в лесу тружусь. Тут хорошо, кабы… — он замолчал и позвал Аносова: — Вы у огонька обогрейтесь…
Рядом пылало огнище. В огромной яме, вырытой для костра, трещали охваченные жаром коряги. Сыпались искры, и тепло манило к себе. Аносов сбросил доху, уселся на пне. Куренной мастер, делая вид, что сильно занят, ушел к дымящимся кучам:
— Погляжу, чтобы шкоды не вышло…
Он ушел, а за ельником прозвенели колокольцы: кучер устраивал коней на отдых в шалаш. Сумерничало. Постепенно к огнищу сходились измытаренные углежоги. Устроились у огня. В чащобе заухал филин:
— Фу-бу… Фу-бу…
Дед Иван засмеялся:
— Это соседушко меня зовет. Мы с ним дружно живем. Каждую ночь перекликаемся. Послушай! — Старик надул щеки, поднатужился, из груди его вырвался протяжный, странный звук. В ответ ему филин опять прокричал свое: «Фу-бу… Фу-бу…»
— Видишь, что робится? Так и перекликаемся с тоски. В ребячестве бабушка меня пугала: «Филин да ворон — зловещие птицы. Коли кричат — к несчастью!..» Пустое, и ему в таких трущобах, небось, тоска по живому голосу, — улыбнулся старик.
— Ух, и дебри тут! Словно и жизни здесь нет! — обронил Павел Петрович.
— В старые годы леса здесь были непроходимые… И-и, что было! Сам батюшка Емельян Иванович проходил этими местами…
— Ты что, видел его? — оживился Аносов.
— Как вас вижу, — спокойно ответил жигаль. — В плечах крепок, а умом еще крепче был!..
Аносов помолчал. Затем тихо попросил углежога:
— Расскажи, дед, что-нибудь про него.
— А сечь не будешь? За него, батюшка, покойная царица головы рубила… Ну, да куда ни шло, безобидное поведаю. Про клад скажу. Слыхал, барин, про озеро Инышко, глубокое да многоводное? — размеренно и складно начал дед. — Теперь с годами оно помельчало. Дело-то было по осени. Озеро застывать стало, а ночь выдалась темным-темнешенька. По правую сторону Инышка костры горели, а подле Емельян Иванович сидел в полушубке, в шапке лисьей. Ах, милые мои, как его рука донимала, — под Магнитной в большом бою его ранило; пришлось ему поневоле на Златоуст отступать. А по этим местам Салават башкир собирал для подкрепления. Там, где сейчас, братцы, гора Пугачевская, — войско собиралось. Подошел Салават к Емельянушке, словом сердечным перемолвились, а потом Емельян тяжко вздохнул и по тайности сказал: «Иди-ка, Салаватушка, запрячь подале добро, чтоб царице не досталося. Коли вернемся, захватим бочку золота». Салават людей надежных взял да в лодку прыгнул…
— А бочку? — перебил неожиданно согбенный жигаль.
— Известно, бочку захватил, — ответил дед Иван и, повернувшись к огнищу, сказал радостно: — И-их, как пылает!
— А ты не томи, кончай, раз начал!
— Не торопись, твое золото при тебе останется! — слегка насмешливо бросил дед в сторону углежога и продолжал: — Остановились у старого могутного осокоря, который в камышах рос. Салават крикнул башкир, сложили они в пригоршни руки и молятся: «Алла, бисмалла!». А потом столкнули бочку прямо в озеро. Тут филин с осокоря закричал: «Фу-бу, фу-бу!» — дескать охранять клад буду. И вот, братцы, в эту минуту заветную как бухнет пушка откуда-то из-за гор. Сели башкиры, а Салават по-соловьиному свистнул. Ему Емельян тоже свистом отозвался. И поплыла лодка на зов. Выбрались на берег, вскочили на резвых коней и лесной тропой к Златоусту поехали. Скоро на берег Инышко-озера генерал с погоней прискакал: пошарили, поискали ничего не нашли. Емельян Иванович от погони ушел, а здесь, в наших краях, ему не довелось больше побывать. Так бочка с золотом и осталась на дне в Инышко…
У костра наступило глубокое безмолвие. В небе вспыхнули звёзды. Ковш Большой Медведицы низко склонился над огнищем и, казалось, сыпал в него золотые звёзды. Из-за хмурой ели поднялся месяц, и на снегах засверкали синеватые искорки. К огню вышел кучер и сказал:
— Коней устроил, и вам пора, барин, на отдых… Тут в избенке куренного и переспите…
Еще не прояснилась утренняя синева в лесу, когда Аносов обошел курени, поговорил с работными, записал что-то в книжечку и только после этого уселся в сани. Застоявшиеся кони дружно рванулись вперед. Небо было чистое, холодно лучилось солнце, и кучер не утерпел, запел лихую песню:
Во Уральском, во дремучем лесу, В самой дальней во заимушке!..Однако, не допев ее, он вдруг обратился к Аносову:
— А что, барин, Емельян Иванович и впрямь царь был?
— Замолчи! — прикрикнул на него Аносов. — Знаешь, за такие речи язык рвут!
— Ну, вы-то этого не дозволите! — уверенно отозвался кучер и снова запел…
Аносов приезжал на заводы и рудники почти всегда внезапно: он ненавидел парадные встречи и лесть. Кучер Силантий, хорошо изучивший нрав начальника, подвязав бубенцы, тихо подвозил Аносова к заводу. Павел Петрович вылезал из экипажа и шел прямо к горну. На ходу сбрасывал мундир, надевал кожаный запон и без раздумий принимался за работу. В кузнице он ковал железо, у домен следил за выпуском литья. Вместе с работными ел постные щи. «Вкусны, но только после работы!» — говорил он.
После обеда торопился в казармы, осматривал всё сам, выслушивал жалобы. Уставившись строгим взглядом в жалобщика, предупреждал: «Говори, но без вранья и без прикрас». И ему говорили жестокую правду.
На рудниках Аносов лез в шахту. Он хорошо знал все горные породы и, заметив тяжелый, неправильный удар, сам брал кирку и показывал, как сподручнее отбивать руду.
Усталый, потный, он садился на отвалы и беседовал с рудокопами. Это всё были старые уральцы, с детства сроднившиеся с шахтами.
Сверху, с нависших грузных глыб, падали холодные капли, где-то поблизости звенел подземный ручей. Сыро, затхло, безмолвно, — плохо оборудованный рудник похож был на могилу. Тяжел труд, но люди не пугались опасной работы и старались на совесть.
Глава шестая В СТАРОМ ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Увлечение фрунтом, стремление военизировать всё, строгости, которыми отмечалось царствование императора Николая, не миновали и уральских заводов. Царским указом, который был опубликован 17 января 1834 года, горное ведомство во всей Российской империи получило военную организацию. Был учрежден корпус горных инженеров с министром финансов во главе в звании главноначальствующего. Главным начальником всех уральских заводов царь назначил генерал-лейтенанта Дитерикса. Заводские мастеровые были разделены на нижних и работных чинов. Первые сравнивались по службе с унтер-офицерами, вторые — с рядовыми военной службы. Они обязывались беспорочно прослужить в горном заводе тридцать пять лет и только после этого могли уходить в отставку. Мальчики, родившиеся в заводских семьях, с пеленок вписывались в список будущих рабочих чинов. Достигнув восемнадцати лет, они вступали в команду.
Указ привез из Екатеринбурга горный чиновник; его объявили златоустовцам. Старик Швецов молча выслушал грамоту, грустно посмотрел на сына Павла и горько сказал:
— Были мы крепостными, а теперь стали фрунтовыми. Секли нас лозинами, а ноне дожили до шпицрутенов. Я уж дотяну, сынок, а тебе доведется, не приведи бог…
Запекшиеся губы литейщика задрожали от обиды. В этот день он впервые не обмолвился ни словом с Аносовым.
Но и Павлу Петровичу было не по себе. Он ясно представлял себе, что горное царство, которое охватывало огромное пространство, — тысячи заводов, рудников, сёл и деревень, — теперь фактически станет своеобразными аракчеевскими военными поселениями. Всё теперь ставилось в полную и бесконтрольную зависимость от горного правления, которое размещалось в Екатеринбурге. В распоряжении начальника Уральского хребта появились подвижные инвалидные роты для наведения «порядка». Не случайно был введен и военный суд для рабочих. Аносов, мрачный, взволнованно ходил по кабинету.
Татьяна Васильевна тревожно взглянула на мужа:
— Неужели это тебя так расстроило?
Павел Петрович строго посмотрел на жену:
— А как ты думаешь, каково мне увидеть старика Швецова под шпицрутенами? Седого, отдавшего все свои силы заводу человека могут за нечаянную оплошку провести по «зеленой улице».
— Ты всегда страхи рисуешь. Ты же начальник и всегда сможешь своих отстоять, — самоуверенно сказала она.
Аносов взглянул на Татьяну Васильевну, хотел в сердцах сказать обидное слово, однако сдержался и промолчал.
Молча сели за вечерний чай…
В июне Павла Петровича вызвали в Екатеринбург. В мрачном настроении подъезжал он вечером к городу. Улицы тонули во мраке. Несмотря на летнюю жару, посреди площади простиралась огромная зловонная лужа, а неподалеку от нее подле полосатой будки стоял дремавший страж, опираясь на алебарду.
Аносов не решился вечером являться в горное правление и остановился в гостинице. В большом зале горели сальные свечи, клубился табачный дым, было шумно и неуютно. Павел Петрович устроился в замызганной комнате. Через час к нему постучали; он поднялся с дивана и распахнул дверь. На пороге стоял пьяный купец. Покачиваясь, он икнул и громогласно провозгласил:
— Наслышан о вас. Купец Рязанов. Будем знакомы…
Павел Петрович учтиво поклонился:
— Простите, я очень занят, да и на покой пора…
— Ты, милай, не кочевряжься, — панибратски перебил его купец. — Я тебе не шишига какая, — по пуду в день золота намывают на моих приисках. Слыхал?
Без приглашения он уселся в кресло.
— Милай, я только что в стуколку капитал выиграл. Пить хочу, гулять хочу! — золотопромышленник потянулся к Аносову целоваться. Павел Петрович отстранился.
— Помилуйте, мы так мало знаем друг друга, — сухо сказал он.
— Дворянин? Брезгуешь? — крикнул купец. — А это видел? — Он распахнул поддевку, и на рубахе заблестела звезда «Льва и Солнца». — Видал, милай? Шах персидский пожаловал… Я мечеть в Тегеране воздвиг. Ась?
Аносов много слышал о Рязанове, купец держал в своих руках большинство крупных горных чиновников. Не хотелось ссориться.
— Не сердитесь, — сказал Аносов. — Я очень польщен знакомством с вами, но я… я болен…
— Чем же ты болен? — сочувственно спросил гость.
— Я сам не знаю. Трясет… Может быть, что серьезное.
— А вдруг холера? — вскочил купец и закрестился. — Эфтова еще нехватало! — И, пятясь, он стал отступать в распахнутую дверь. Хол-е-е-р-а! — заорал он и затопал сапогами по коридору.
Аносов устало бросился на диван.
«Что за люди? — в ужасе подумал он. — Рабочим платят по три копейки в день, порют на смерть за прогулы, а сами прожигают тысячи!»
Незаметно стал дремать. Долго еще доносился шум, крики из зала. Кто-то истошно закричал:
— Спаси-и-те, бью-ю-т…
И всё сразу стихло. Усталость взяла свое; Павел Петрович загасил свечу и уснул…
Утром он отправился к начальнику горных заводов Уральского хребта. За Исетским прудом возвышались белокаменные палаты с прекрасной строгой колоннадой. Солнце щедро лило потоки света на зеркальную гладь пруда. Шумели густые береговые осокори. Но шумнее всего было на широкой немощеной улице. Перед распахнутой настежь лавкой кричала и волновалась большая пестрая толпа. Люди бросались на что-то, схватывались в драке, вопили. Мелькали кулаки. Из людского клубка на карачках выполз бородатый будочник с синяком под глазом.
— Что же это? Бунт? — испуганно уставился на него Аносов.
— И-и, батюшка, что надумал! — потирая синяк и поднимаясь на ноги, прохрипел будочник. — Бунты давно отошли. Купец Рязанов скупил всю лавку Абросимова, вот целыми штуками ситцы да сукно в народ кидает. Кому же охота упустить такое? Стой, стой, никак опять…
Не обращая внимания на Аносова, он снова бросился в толпу и закричал:
— Братцы, братцы, и мне хошь на рубаху!
— Кто это кричит? — захрипел пропитой голос и, раздвигая народ, вышел купец Рязанов со штукой яркого кумача. Размахнувшись, он кинул штуку ситцу вперед, она взметнулась, как яркое пламя, и красная дорожка простерлась среди улицы.
— Раскручивай! В кабак хочу! А ну с дороги! — властно закричал купец и хмельной, неуверенной походкой двинулся по кумачу.
Павел Петрович поспешил укрыться за спины. Рязанов прошел вперед, подобрал брошенную будочником алебарду и давай бить окна. Зазвенели стёкла, заулюлюкали люди. Самодовольный, потный и пьяный купчина, круша всё на своем пути, орал, словно на пожаре:
— Бей всё! Лакай, братцы, хмельное. За весь кабак плачу! — Куражась, он остановился у кабака и зычно позвал: — Еремеич, ведро шампанского, коня моего омыть!..
Аносов был поражен. В кабаке словно ждали купецкого выкрика, выбежал малый с ведром игристого вина и, бросаясь навстречу гулёне, готовно спросил:
— Куда прикажете, ваше степенство?
— Коня, савраса моего, окати!
Трактирный слуга, не раздумывая, побежал следом за купцом и, заметив гривастого скакуна, проворно окатил его шампанским.
— Батюшка, родной, мне хоть капельку! — ощеря редкие зубы, запросил будочник.
— А, это ты, шишига! Стой! — медведем рявкнул на него купец. Подставляй морду! За удар — красненькая! — И, не долго думая, он размахнулся кулаком и съездил бородатого стража по лицу. Будочник только сморкнулся, утер показавшуюся из носа сукровицу и залебезил:
— Еще размахнись, батюшка. Ну, ну, ударь, ударь, благодетель…
Он поспешил за бушующим Рязановым. И что больше всего поразило Аносова, — никто не торопился прекратить безобразие, и каждый радовался, когда буйство докатывалось до его порога. Стыдясь за толпу бездельников, Павел Петрович юркнул в боковую улицу и скрылся от позорного купецкого куража…
В прохладной приемной начальника Уральского хребта стояла тишина. Чиновник, выслушав Аносова, вежливо предложил:
— Садитесь. Их превосходительство генерал-лейтенант Дитерикс скоро-с примут.
Действительно, ждать долго не пришлось; Павел Петрович четким шагом вошел в кабинет Дитерикса и отрекомендовался. Старый, истощенный генерал поднялся с кресла, любезно пожал Аносову руку и просяще предупредил:
— Я очень, очень болен… Мне, извините, тяжело. Прошу вас докладывать покороче.
Начальник горного округа стал рассказывать о положении на заводах, а Дитерикс, прикрыв глаза, молча слушал. Его потухшее желтое лицо казалось пергаментным.
«Он действительно стар и болен», — подумал Аносов и поторопился. Кончая доклад, Павел Петрович не удержался и рассказал о булатах.
— Булаты! — вдруг встрепенулся и ожил генерал. — Это очень хорошо. Государь ждет от вас настоящих булатов. Я очень доволен вами.
Аносов покраснел от смущения и ждал вопросов. Их, однако, не последовало. Павел Петрович встал, вытянулся:
— Какое будет ваше распоряжение?
— Ах, да да, — спохватился генерал. — Распоряжение? Оно будет, но не сейчас, позже… А пока… — Он наклонил голову, давая понять, что аудиенция кончена.
Павел Петрович вышел на улицу, на полдневное солнце. Было тихо, вдали клубилось облако пыли. У будки, как ни в чем не бывало, стоял будочник. В руках — уцелевшая алебарда. Завидя Аносова, он укоризненно покачал головой:
— Эх, барин, напрасно ушел… Гляди, куда гульба покатилась, — указал он вдаль. — Теперь знай гуляй: Рязанов не меньше недели прохороводит. Весь город перевернет. Что ему? Миллионы. Шутка ли? Ему всё можно…
Инженер не дослушал его и пошел вдоль деревянного тротуара. Безотрадные мысли овладели им.
«Как безобразно, нелепо расточаются силы и богатство народа», — с укором подумал он.
Неделю Аносов прожил в Екатеринбурге, избегая шумных знакомств. Посетил гранильную фабрику и долго в задумчивости наблюдал за работой гранильщиков. На его глазах маленький, щуплый старичок, с быстрыми, молодыми глазами, гранил горный хрусталь; блеклый, тусклый, он оживал под корявыми руками мастера. Любовно обтерев минерал сухой ладонью, старик протянул его Аносову и предложил:
— А ну-ка, господин, глянь-ка в «окошко!».
Павел Петрович взял самоцвет, наклонился над срезом, и сразу заиграло на сердце. Казалось, перед ним раскрылся родник, ясный и прозрачный до самого дна. А вода в нем — голубоватая, студеная, — такая, от которой при питье ломит зубы. А вот рядом — тонкая травинка, и на берегу — кромочка желтого песка, озаренного солнцем. Тишина, покой наполняли этот хрустальный мир…
— Видишь, господин, что делает терпение! — радостно сказал мастер. Гранильное дело такое — терпение да терпение; и любовь, конечно. Когда самоцветик упорствует, я разговариваю с ним по душевности, — он скорее тогда поддается… Недаром в песне поется:
Уросливы, привередливы, Не ко всем идете в рученьки, Обойдете бесталанного, Обойдете несчастливого…Шустрый старик гранильщик и сам, как самоцветик, весь сиял и радовался своей работе. Его счастье развеселило Аносова, он улыбнулся и сказал:
— Ну, старина, жить тебе еще лет со сто да украшать своими камнями-самоцветиками человеческую жизнь!
— Спасибо на добром слове, родимый мой! — отозвался мастер, теплыми отцовскими глазами провожая Аносова…
Уехал из Екатеринбурга Павел Петрович со странным чувством пустоты. Город с наступлением темноты погружался в безмолвие. Ни огонька, ни звука. Только караульные сторожа исправно колотили в чугунные била; тяжелые, мрачные удары разносились над городом. Исправно храпел будочник. Так было в городе на Исети еще во времена начальника сибирских заводов Татищева, так осталось и теперь. Лишь в грязном зале гостиницы, освещенном сальными свечами, шумели торговые тузы, горные чиновники и пестрое окружение их. У большого стола с зеленым полем то и дело раздавалось: «Угол!» — «Дана!» «Бита!» — «На двенадцать кушей!» — «По тысяче очко!». Груды радужных ассигнаций и золота громоздились перед банкометом, который дымил вонючей сигарой…
Всё осталось позади. По лесной дороге Аносов возвращался в свой любимый Златоуст. И когда кони вынесли его к шумящей горной речонке, он приказал ямщику остановить тройку, вылез из экипажа и освежил лицо холодной водой.
— Как хорошо дышится! — облегченно вздохнул он.
И темные, косматые горы, и синее, усыпанное звёздами небо успокоили его. Прислушиваясь к шуму вековых сосен, он прошептал:
— Ропщет Урал-батюшка, сердится…
Ямщик, услышав слова Павла Петровича, весело отозвался:
— Из века так, барин! Но нет краше и милее сердцу нашего края. Богат и просторен! Э-ге-гей!.. Слышь, как эхо загудело в горах? — Ощерив крепкие, волчьи зубы, он богатырски гоготал. Ему отвечали дремучие дебри.
«Силен человек! — подумал о ямщике Аносов. — Могучий Камень и людей взрастил железных!» — Он поудобнее устроился в экипаже и под звон колокольцев скоро уснул.
Глава седьмая ГЕНЕРАЛ ГЛИНКА И АНОСОВ
В октябре 1836 года Дитерикс был уволен по болезни в отставку, и по высочайшему указу в марте 1837 года главным начальником горных заводов Уральского хребта был назначен свитский генерал-майор Владимир Андреевич Глинка.
Про него старые горные инженеры в Златоусте говорили: «Ну, этот покажет себя! Страшен! Жесток!».
Вскоре генерал дал знать о себе: в канцелярию Златоустовского горного округа из Екатеринбурга прислали образцовые шпицрутены при казенном пакете за сургучной печатью.
В первую минуту Аносов предположил, что это шутка, но, вскрыв конверт, увидел бумагу, в которой строго предписывалось озаботиться изготовлением трех тысяч шпицрутенов по наглядному образцу. Павел Петрович с брезгливостью взглянул на гибкую лозовую палку длиной в сажень и с возмущением приказал:
— Уберите немедленно!
Но грозовая туча подошла к самому порогу.
Когда сошли снега и отшумели талые воды, по просохшей дороге примчался на взмыленной лошади курьер. Доскакав до Златоустовского завода, он соскочил с седла и гулким военным шагом направился в кабинет Аносова. Без всяких предисловий курьер объявил:
— Ваше высокоблагородие, начальник Уральского хребта изволит вскоре сюда прибыть. Благоволите достойно встретить! — Он щелкнул каблуками, повернулся и, звеня шпорами, вышел.
Сердце Аносова болезненно сжалось: он почувствовал, что сюда, в его маленький неказистый кабинет, протянулись жестокие руки царя Николая. Отправился на квартиру, переоделся в парадный мундир и в сопровождении горных чинов на тройке поспешил к границам округа. Тем временем в Златоусте всех охватила небывалая суматоха. Началась она с квартиры Аносова, где взволнованная, раскрасневшаяся Татьяна Васильевна металась по комнатам. Ей нужно было успеть подготовить обед и справиться с нарядами.
— Ах, боже мой, что же это будет? Ведь он свитский генерал! Он любит утонченность в нарядах и в обращении! — поминутно восклицала она.
Суматоха перебросилась в город. Мастеровых немедленно переобрядили, построили на площади в батальонные шеренги. Командир роты, он же и начальник плац-парада, покрикивал:
— Главное, чтобы ни гу-гу! На месте замереть! Строй — святое место! Эй, ты, что пузо выпятил? А ну, подтянись! — голос красноносого подпоручика звучал резко и властно.
Рабочие угрюмо построились в ряды. Сутулые, коренастые, с тяжелыми мозолистыми руками, они стояли, опустив глаза.
— Головы выше! Явится начальство, сам генерал, — ешь его глазами! продолжал зычно поучать офицер.
Вокруг шевелилась говорливая заводская толпа. На площадь сбежались жёнки, прибрели старики, воробьиной стаей налетели крикливые ребята. Везде им дело, всюду суют свой нос и всё видят. Курносый мальчуган шмыгнул носом и, завидев вдруг соседку, заорал:
— Тетка Онисья, а к церкви воз виц привезли! Сказывают, сечь будут провинных!
— Замолчи, кликуша! — пригрозила баба и переглянулась с мужиками.
— Не привыкать нам. Баре продубили крестьянскую шкуру! — угрюмо проворчал стоявший рядом рабочий.
Солнце поднималось к полдню. Припекало. Над окрестными горами прозрачная синева.
Толпа ожидающе смотрела на Березовую гору.
— Гляди, братцы, скачут!
— Едет, едет! — закричали в толпе.
С крутого ската в златоустовскую впадину, поднимая пыль, мчались тройки. Впереди скакал бородатый казак и плетью сгонял с пути встречных:
— Прочь с дороги! Эй, посторонись!
Из-под копыт его бешено скачущей лошади разбегались куры, уносились с лаем псы. Женщина, схватив уползшего на дорогу ребенка, торопилась уйти от казацкой плети.
Экипажи приближались. Вот кони вылетели на площадь и, описав полукруг, разом остановились перед фрунтом. По взмаху офицерской руки, все вразнобой закричали «ура».
Из экипажа медленно вышел старый генерал. Высокий, прямой, как палка, с густыми нависшими бровями, он грозно блеснул глазами. Все взоры обратились на Глинку. Держался он браво, разгладил густые седые усы, расправил по-военному плечи, вскинул голову и выкрикнул:
— Здорово, молодцы!
Солдаты дружно ответили на приветствие, а работные опоздали. Спохватились, да поздно. Генерал стоял уже перед фрунтом. К нему подбежал с рапортом подпоручик, но генерал отмахнулся от него:
— Что вы ревете, словно коровье стадо! Где у вас воинский вид? Чему учили? — Оборотясь к подбежавшему Аносову, громогласно объявил:
— Вы распустили рабочие команды! Что за сброд такой собран? А? Я вас спрашиваю!
Павел Петрович побледнел, вытянувшись доложил:
— Это не сброд, ваше превосходительство. Всё умельцы — лучшие уральские мастера по холодному оружию.
Генерал опешил, вытаращил на Аносова изумленные глаза: он никак не ожидал внезапной защиты работных от начальника горного округа. Вскипев, он готов был накричать на Аносова. Однако, сдержавшись, сурово заметил инженеру:
— Вы плохо знаете воинский устав. Я не чувствую здесь нашего духа! и вдруг заорал на работных: — Я вас научу воинскому духу. Я покажу вам… Кто здесь проштрафился? Два шага вперед!
В рядах произошло замешательство. Однако, подталкиваемые сзади, из шеренги вышли двое хмурых работных. Они стояли, опустив головы, и ждали.
— Тэк-с, — крякнул генерал и, оборотясь к офицеру, приказал: Приготовиться к экзекуции. Построиться в две шеренги! — Он строевым шагом подошел к ближайшему работному и, уставя на него строгие глаза, спросил: Из рудника бегал?
— Бегал, ваше превосходительство, не утерпел, по семье соскучал, упавшим голосом ответил рудничный.
— Пятьсот палок! — безжалостно отрезал Глинка и отвернулся от осужденного.
Весь посеревший, Аносов приблизился к генералу и тихо сказал:
— Ваше превосходительство, вы в этих краях в первый раз. На этот приезд простите, пусть идет с миром…
— С миром? — высоко поднял брови генерал. — Вы с ума сошли! Строгость нужна сразу. Слышите? — неожиданно он осекся, встретившись взглядом с Павлом Петровичем. Его поразил зловещий блеск глаз и разлившаяся бледность на лице инженера. Снизив тон, он с легкой усмешкой сказал Аносову. — Вы, сударь, больны. Вам надо немедленно в постель… Вы свободны…
Было больно, обидно, но в то же время во имя большого дела Павел Петрович смолчал. Да и к чему мог бы привести сейчас протест? Аносов молча отошел от генерала и, постояв минуту-другую в толпе служащих, незаметно побрел домой.
Тем временем на площади, прямо перед собором, на некотором расстоянии друг от друга вытянулись две шеренги солдат с палками в руках. Поднимаясь в гору, Аносов услышал бой барабана, который всё усиливался.
«Началась экзекуция», — с ужасом подумал он и невольно оглянулся. С вершины всё было видно. Два рослых служивых вели полуобнаженного бородача, привязанного за руки к скрещенным ружьям, приклады которых упирались ему в живот. Удары градом сыпались на спину осужденного. Сквозь жуткую дробь барабана послышался вопль несчастного.
— Какая мерзость! Варварство! — выкрикнул Аносов и, сжав кулаки, поспешил домой. Он вошел в кабинет и устало упал на диван, закрыв лицо руками. Как противен он был себе в эту минуту!
Скрипнула дверь, и тихонько вошла Татьяна Васильевна.
— Почему ты ушел с парада? — спросила она.
— Не мог, понимаешь, не мог! — закричал Павел Петрович. — Там истязают рабочих.
— Грустно, — тихо обронила жена. — Но что же ты можешь поделать?.. Нужно хоть внешне смириться…
Барабанная дробь не прекращалась. Позади барабанщика стояла группа офицеров и горных инженеров, а среди них Глинка. Генерала нисколько не трогали страдания истязаемого. А вопль становился всё пронзительнее. Спина работного покрылась рубцами, из которых сочилась кровь.
Первый барабанщик смолк, как только осужденного довели до середины «зеленой улицы», и сразу же на другом конце забил частую дробь другой.
Силы быстро оставляли наказываемого. Его уже тащили, и он больше не кричал. Когда хожалые провели его обратно вдоль шеренги, спина осужденного представляла сплошную кровавую рану.
Швецов стоял в толпе, закусив губы.
«Эх, загубят бедолагу! — жалостливо думал он. — А ведь он и вправду соскучал по семье. Велик грех, подумаешь!»
Старик взглянул на окружающих. Толпа замерла в безмолвии. Гнетущее чувство страха, жалости и немого возмущения написано было на лицах невольных зрителей. Заводские жёнки украдкой утирали слёзы. Рядом с литейщиком тяжело вздохнул Иванко Бушуев.
— За пустяк кровянят человека! — выдавил он сквозь зубы, и по выражению его глаз угадывалась жгучая ненависть к палачам.
А несчастного всё еще волокли между солдатскими рядами. Наконец он упал. Тогда по сигналу офицера к нему подкатили тачку, уложили в нее изуродованное тело и снова повезли вдоль шеренги, чтобы отпустить положенное число ударов.
— Должно быть, убьют, ироды. Страшно-то как! — со вздохом прошептал Швецов. — И как только терпит Петрович такое варварство?
Иванко взглянул на литейщика и шёпотом сказал:
— Не видишь разве? Ушел. Разругался с генералом!
Тачка внезапно остановилась среди шеренги. К ней поторопился толстячок в военной форме.
— Лекарь бежит. Здорово уходили бедолагу! — укоризненно обронил старик.
Раздалась команда. Солдаты, сложив на воз растрепанные шпицрутены, строились повзводно. Подъехала подвода, на нее бросили истерзанное тело и повезли.
— В госпиталь, стало быть. А потом свое доберут! — пояснил Иванко Бушуев.
Генерал сел в коляску и в сопровождении адъютанта покинул площадь.
— На обед, значит, уехал! — с укоризной вымолвил Швецов и предложил граверу: — Ну и мы, Иванко, пошли.
Они обогнули площадь и углубились в узкие улочки, раскиданные по склонам гор…
Глинка тем временем появился в квартире Аносова. Он уже забыл об экзекуции и, завидев молодую хозяйку дома, приятно улыбался.
— Я и не знал, что у вас жена красавица! — обратился он к Аносову, оправляя усы. Однако Татьяна Васильевна оставалась равнодушной к комплиментам генерала. Всегда гостеприимная, она на этот раз вела себя учтиво, но сдержанно.
Не замечая холодности хозяйки, Глинка уселся за накрытый стол. Поглядывая на графины и закуски, он от удовольствия потирал руки.
— Право, недурно! Отлично даже! — Взглянув на Аносова, он заботливо спросил: — А вы и в самом деле больны? Лечиться надо, лечиться. Господа, обратился он к гостям — горным чинам. — Не пора ли нам приложиться?
Ему услужливо налили бокал. Генерал крякнул и с удовольствием опрокинул содержимое в широко раскрытый рот. После выпивки высокий гость сразу же набросился на яства. Он ел, широко расставив локти и громко чавкая.
«И это свитский генерал!» — с омерзением подумала Татьяна Васильевна.
После возлияний гости оживились и попросили Глинку:
— Ваше превосходительство, расскажите что-нибудь о столице…
— Кхе… кхе… — густо прокашлялся генерал. — Господа, не будь я Глинка, если не сломаю этого штафирку… хм… хм… Огарева.
Аносов понял, что речь идет о пермском гражданском губернаторе Илье Ивановиче Огареве. Между ним и начальником Уральского хребта шла непримиримая война.
— Представьте себе, господа, — раскатился по столовой бас Глинки. Однажды наши возки встретились на узкой дороге. Кругом глубокие сугробы. Не весьма приятно зимой нырять в снег. Кто же должен уступить дорогу? Как вы думаете? Сижу и слушаю: ямщики ругаются, кони стали. И тут господин Огарев не утерпел, высунулся из возка и сердито закричал: «Эй, кто там? Посторонись, губернатор едет!». Подумайте, господа, что за персона! — в голосе рассказчика прозвучала ирония. — А я, — продолжал Глинка, — откинул меховой воротник, да как рявкну: «Дорогу! Уральский хребет скачет!». И что вы думаете, испугался важный губернатор, приказал кучеру своротить в сугроб и тихо, скромно сидел в возке, пока я проезжал мимо! Каково?..
«Вот чем потешаются!» — недовольно оглядел гостей Аносов. Те в угоду генералу льстиво хихикали.
— Впрочем, не будем об этом… Пододвиньте мне, господа, осетра! попросил Глинка и стал насыщаться. Но через минуту он вдруг фыркнул и захохотал.
— Вспомнил, еще вспомнил! — размахивая руками и утирая салфеткой жирные губы, снова начал он. — Терпеть не могу щелкоперов! Господа, наш государь Николай Павлович считает, что самое важное — военная служба. Образование портит людей. Да-с… Именно портит, возбуждает в человеке дух противоречия… Захожу я в горное училище и слышу, учитель диктует ученику у доски. И что диктует? Подумайте только, господа! Он читает отрывок из «Мертвых душ»… Что-то о Чичикове. Я не удержался, распек вольтерьянца: «Как, Чичиков? Это, значит, Гоголь, щелкопер! Как не стыдно тебе, Наркис Константинович! Почтенный ты человек, а диктуешь в казенной школе такую мерзость! Никогда тебе не забуду этого. Сейчас же стереть с доски! Продиктуй что-нибудь из сочинений многоуважаемого Василия Андреевича Жуковского…» Вот до чего, господа, доходят наши либералы…
Горные чиновники зааплодировали генералу. Раскрасневшийся, сытый и довольный, он встал из-за стола и почтительно поцеловал руку Татьяны Васильевны.
— Берегите вашего мужа, — сказал он. — Жаль, что Павел Петрович заболел и не может поехать с нами.
За окном стало темнеть. В комнатах зажгли свечи. Гости заторопились. Аносов уныло провожал их, чувствуя в душе большую горечь. Только теперь он по-настоящему понял весь ужас николаевского режима.
Глава восьмая ТАЙНА БУЛАТА РАСКРЫТА
Из Петербурга от начальника штаба горных инженеров генерала Чевкина пришло ободряющее письмо с просьбой продолжать исследования. Аносов воспрянул духом: Чевкин считался большим знатоком и любителем восточных булатов, внимание такого человека было приятно Павлу Петровичу. Он только что закончил целую серию опытов, чтобы окончательно установить природу булата.
Аносов выяснил роль углерода в образовании булата, но далось ему это нелегко. Путешественники, прибывавшие из восточных стран, сообщали о том, что персидские и дамасские мастера закладывали в тигли различные растения, но какие — никто об этом не мог сказать. В действиях этих мастеров было что-то таинственное. И этому поддались даже такие ученые, как Реомюр и Ринман.
Холодный же разум Аносова требовал ясных и точных показаний о влиянии углерода растений.
Он понимал, что обуглившиеся в процессе плавки цветы и листья не что иное, как углерод и азот. Все эти присады были различными формами углерода разнообразной степени чистоты.
Павел Петрович начал с клена, затем в плавку пошли березовое дерево, цветы, бакаутовое дерево, ржаная мука, сырой рог…
Опыты показали, что сделанные присады свидетельствуют лишь о «наклонности к образованию булата». Только и всего! Может быть, восточные мастера и в самом деле делали присады из листьев и цветов, не имея под рукой других носителей углерода?
Павел Петрович записал в журнал:
«Не видев возможности достигнуть удовлетворительного успеха ни помощью углерода растений, ни помощью углерода животных, мне оставалось ожидать оного в царстве ископаемых».
Алмаз — это углерод в чистом виде. Но где раздобыть средств на эту драгоценность? Значительная часть жалования уходила на содержание лаборатории, на семью, которая быстро росла. Татьяна Васильевна и так с трудом сводила концы с концами в своем скромном хозяйстве. Старые мундиры мужа и ее платья переделывались и перелицовывались для детей.
В этот вечер Аносов чувствовал себя нехорошо. По телу разливался жар, кружилась голова, а во рту была противная сухость. Он рано ушел в кабинет и прилег на диван.
Татьяна Васильевна догадалась, что с мужем происходит неладное: уже за столом она заметила лихорадочный блеск его глаз, нездоровый пятнистый румянец на щеках. Встревоженная, она пошла за Аносовым. Павел Петрович лежал, полузакрыв глаза, и о чем-то сосредоточенно думал. Теплая, заботливая рука жены легла на его плечо:
— Что с тобой, милый? Ты болен?
Она склонилась над ним, прислушиваясь к тяжелому дыханию. Он напряг все усилия и улыбнулся. Однако улыбка получилась беспомощной и жалкой.
Татьяна Васильевна напоила мужа малиновым отваром, тепло укрыла и не отходила от постели. Всю ночь Аносов метался и бредил и только к утру затих и заснул спокойным сном.
Впервые за всё время Павел Петрович не пошел на работу. Жестокая простуда продержала его несколько дней в постели. Эти дни для Татьяны Васильевны были и самые горькие, и самые светлые. Она боялась за мужа и в то же время ходила по комнатам просветленной и довольной.
«Хоть несколько дней он побудет рядом», — радовалась она.
Пришел Евлашка. Громоздкий, в старом полушубке и стоптанных поршнях, он неслышным охотничьим шагом приблизился к постели Аносова и подмигнул:
— Ну, ничего, в скорости встанешь, пойдем на охоту! Соскучал я без тебя, Петрович!
— Пойдем, дорогой, дай только собраться с силами! — согласился Аносов.
Но после ухода Евлашки он снова задумался. Татьяне Васильевне стало грустно, и она подсела к мужу:
— Ты всё думаешь и думаешь. Словно уходишь от меня. При мне — и без меня. Неужели у тебя такие секреты, что нельзя о них говорить даже жене?
Аносов улыбнулся, схватил ее руки и прижал к губам.
— Хлопотунья ты моя, хлопотунья, ну какие у меня могут быть секреты? — вырвалось у него. — Да и горю моему ты не поможешь. Мне для опыта алмаз нужен, а где его достать?
— Только и всего? — укоризненно покачала она головой. — Почему же не сказал мне, я давно достала бы алмаз!
Он притянул ее к себе и ласково обнял:
— Где же ты нашла алмазные копи?
— Сейчас! — Татьяна Васильевна поднялась и вышла в свою комнату. Через минуту она вернулась и выложила перед ним свои алмазные серьги.
— И тебе не жалко? — пытливо посмотрел Павел Петрович.
— Нисколько! Бери.
Сияющий, он смотрел на жену и не мог надивиться.
— Так вот ты какая у меня! Ради моего дела не пожалела и дорогого…
Она опустила глаза; сердце ее сильно и радостно колотилось…
Аносов решил приберечь алмаз. Сейчас он думал уже о другом:
«Алмаз — хорошо, но ведь его нужно много. А что если ввести графит?» — И он решил попытать счастья.
Стояло серенькое холодное утро, когда он после выздоровления вошел в цех, осмотрел тигли и спросил Швецова:
— Скажи мне, где можно раздобыть графит?
Литейщик подумал и ответил:
— Фунта два у нас наберется. Поискать только да очистить… Сказывал дед Евлашка, что есть графитные окатыши где-то под Златоустом…
Вместе со Швецовым Аносов обыскал кладовую и нашел грудочку графитных галек с большими прослойками колчедана.
— Негож! — определил Аносов. — Но где же достать другой?
Они засели за очистку графита и к вечеру поставили новый опыт. Аносов неторопливо опустил в тигель пять фунтов железа и полфунта графита. Пламя в печи излучало жар. Павел Петрович внимательно регулировал ход плавки в печи. Было далеко за полночь, когда сплав был готов. Плавка продолжалась два часа. Медленно текло время. Усталые и закопченные, инженер и литейщик ждали охлаждения тигля. За окном засинел поздний рассвет, когда испытание подошло к концу. Павел Петрович вдруг оживился и крикнул Швецову:
— Смотри, смотри! Что же это?
Старик взглянул на кованец для клинка и весь засиял.
— Булат! — закричал он. — Наш… свой, русский булат!
Аносов не мог оторвать взора от чудесных узоров.
— Вот она — отрада сердцу! — Швецов, как садовник, бережно держал драгоценный сплав — плод тяжелого, но вдохновенного труда, и большая радость просилась в душу.
Четким и убористым почерком занес Аносов в журнал опытов взволнованные строки:
«Плавка производилась без крышки. По охлаждении тигля металл казался несовершенно расплавленным: ибо на сплавке видны были формы кусков железа, между коими заключался графит. Но сплавок удобно проковался. При ковке заметен запах серы, в нижнем конце обнаружились узоры настоящего хорасана. От нижнего конца вытянут кованец для клинка; при ковке употреблено старание к сохранению узора. Таким образом получен новый первый клинок настоящего булата…»
Захлопнув журнал, Павел Петрович поспешил домой. Татьяна Васильевна удивленно посмотрела на мужа.
— Что случилось? Приятное? Неужели удача? — она тормошила его, умоляюще смотрела в глаза.
Аносов бережно обнял жену.
— Милая моя, — с нежностью сказал он. — Мечта исполнилась! Мы только что выплавили первый булат! Впереди еще много работы, но…
Глаза Татьяны Васильевны вспыхнули, она встрепенулась вся, не дала мужу договорить.
— Павлушенька, ой, как я рада! Счастлива! И нисколько не сержусь на тебя, что ты сейчас радуешься больше, нежели при вести о первенце-сыне!
— Милая, терпеливая моя! Спасибо тебе за доброе слово. Я уже вижу счастливый берег. Может быть, скоро конец нашему великому плаванию…
— Вот и хорошо, а пока идем завтракать.
— И вправду, покорми, родная, а то мне в Миасс ехать, на золотые прииски…
Вскоре послышался колокольчик.
— Вот и кони! — сказал Аносов и стал собираться в дорогу…
Он вернулся на завод только через три дня и, не заглянув в кабинет, отправился прямо в цех. Швецов «колдовал» над очередной плавкой с графитом. Павел Петрович подоспел во-время. Он взял в руку слиток и обрадовался: узоры в нижней половине его были лучше, чем при первом опыте с графитом.
Срочно изготовили булатный клинок, и узоры на нем оказались ровнее. Успех окрылил литейщиков. Аносов при плавке стал применять разнообразные технологические режимы, но казалось, что весь успех пошел насмарку: происходили самые неожиданные явления. Снова пришло тяжелое раздумье. Поздно вечером дома Аносов пересмотрел свои ранние записи. Он чувствовал, что стоял на грани тайны, а теперь снова отброшен назад.
Инженер долго сидел в кресле, о чем-то раздумывая, мучительно морща лоб, стараясь найти разгадку. Охваченный беспокойством, он по старой привычке потянулся к дневнику и записал:
«Уже первый опыт увенчался большим успехом, нежели все предшествующие. Результаты повторенных несколько раз опытов с тем же графитом оказались сходными. Вся разность заключалась в незначительном изменении грунта и формы узоров, большей частью средней величины. Но этот успех был непродолжителен: с переменой графита или металл не плавился, или не ковался, или, наконец, терялись в нем узоры…»
Свет от лампы ровно разливался по кабинету. В доме все уснули. За окнами — тьма. А думы не уходят, терзают.
«Что же, что же случилось? — в сотый раз спрашивал себя Аносов. Природа булата ясна: соединение железа и углерода. Но что же мешает?..»
Шелестели листки дневников, проходили минуты, часы. Незаметно для себя он склонил голову и уснул. Пробудился от гудка. Занималось чудесное солнечное утро, какое редко бывает в Златоусте: свежие, искрящиеся, с крепким запахом осени рассветы наступают только в октябре. Горы и леса за окном купались в дымчатом голубоватом тумане, который уже таял и редел, оставляя на оголенных сучьях деревьев нанизанные бусы крупной росы. Павел Петрович потянулся, и после короткого сна пришла простая и ясная мысль:
«Успех наш кроется в чистоте графита, в методе охлаждения и кристаллизации; надо отыскать хороший графит! Отыскать у себя, на Урале!».
Ему вспомнился охотник Евлашка. После завтрака он распорядился запрячь коней и поехал отыскивать следопыта.
Охотник жил на окраине Демидовки в маленькой ветхой избушке. Он только что вернулся с охоты. Две яркие шкурки лис-огнёвок висели на шесте. Пушистые, красивые, они сразу привлекли внимание Аносова.
— Что, хороши? — свесив лохматую голову с полатей, спросил дед. Вспомнил всё-таки, Петрович, старика. Аль понадобился? Опять в горы?
— Слезай да поговорим, — сказал Аносов.
Охотник, в одних портах и рубахе, легко соскочил вниз. Сутулый, широкоплечий, он еще был силен. Пытливые глаза из-под нависших кустистых бровей уставились на Аносова.
— Ты что-то, батюшка, стареть стал, — вымолвил он, с тревогой оглядывая нежданного гостя.
— Зато ты по-прежнему молодец!
— Эх, милый, — весело ответил дед, — одна голова не бедна, а бедна, так одна! Что мне, Петрович, станется, я еще потопаю по земле! — Он присел на скамью и пригласил Аносова: — Садись рядком, потолкуем ладком! Прости, угостить нечем: один квас да мурцовка.
Старик выглядел бодрым; Павел Петрович положил ему на плечо руку:
— Рад, что ты здоров. Дело к тебе есть, отец. Сказывали мастера, что ты залежи графита знаешь. А без него всё наше дело с литейщиками стало. Помоги, друг!
Охотнику было приятно, что о нем вспомнили. Он лукаво подмигнул:
— Вишь, и Евлашка понадобился. Что же, Петрович, помогу. Есть на примете одно местечко. Сведу тебя, сам увидишь: есть там камушки, писать ими можно…
Сборы были недолги. Евлашка забросил за плечо старенькое ружьишко, и они вышли на улицу, посреди которой, побрякивая колокольчиками, нетерпеливо поджидали лошади.
— Место, куда я тебя повезу, — сказал дед, — еще господину Татаринову я показывал, да так о нем и позабыли.
К вечеру Аносов с дедом Евлашкой добрался до озера Большой Еланчик, расположенного к югу от Миасса. Стаи уток и гусей носились над камышами. Подъехали к берегу и остановились. Кругом немая тишина. По широкой озерной глади нет-нет да и пробежит шаловливый ветерок. От его легкого дуновения на воде ерошились серебристые чешуйки, и на секунду-другую зеркальная гладь рябилась. Аносов вздохнул полной грудью.
— Что за приволье! — восторженно сказал он и загляделся на просторы. Рядом большие плёсы, курьи, мысы, заросшие густым тальником. Безоблачное безмятежное небо глядится в глубину озерных вод.
Оставив лошадей на дороге, они пошли по берегу. Под ногами шуршала мелкая галька.
— Где же это заветное место? — пристально посмотрел на деда Аносов.
— Да оно перед нами, Петрович. Глянь-ка на галечку!
Павел Петрович набрал горсть темных камешков. Они были жирны на ощупь, пачкали ладонь.
— Графит! — изумился Аносов. — Настоящий графит!
Однако темных камешков на берегу оказалось не так уж много. Они набрали мешочек, отнесли и положили в экипаж. Аносов долго бродил по берегу, всматривался в породы, небольшим шурфом углубился в отмель. Перед ним раскрылась жила, которая круто уходила под Большой Еланчик.
Солнце незаметно опустилось за горизонт, по воде пошли красноватые отливы зари. Постепенно они переходили в нежно-синие, гасли, наступали сумерки. В тишине теплого вечера рождались звуки, полные своеобразной дикой прелести: заскрипел коростель, где-то завела свою незатейливую песенку болотная курочка, посвистывали запоздавшие на ночлег кулики. В глуши тростников закрякала потревоженная утка…
Взошла луна. Нежный зеленоватый свет превратил всё окружающее — и озеро, и рощи, и дальние горы — в сказку. Всё выглядело загадочным и было полно прелести.
— Тут бы заночевать, да торопиться пора, — с сожалением обронил Аносов… — Ну, дед, тронулись!
Евлашка сел за ямщика, тряхнул вожжами и кони, фыркая, побежали от озера, которое всё лучилось и переливалось под ярким месяцем…
…Снова Аносов приступил к опытам. Прошли плавки сто двадцать вторая, сто двадцать третья, четвертая, пятая. Опыты проходили с переменным успехом. После отдыха приступили к сто двадцать восьмому опыту. Швецов сосредоточенно закладывал в тигли железо и графит. На душе было тяжело: уходили силы, годы, а всё-таки тайна ускользала. Аносов устроил себе постель в цехе и на час-другой ложился там отдыхать.
Однажды на завод пришла Татьяна Васильевна, робко остановилась у двери литейного цеха и молча наблюдала за мужем. Потный и перемазанный, он пристально следил за тиглями. Она не решилась отрывать мужа от работы. Так же неслышно, как появилась, молодая женщина исчезла.
Павел Петрович последние дни находился в напряженном состоянии. Когда ковали сплав, у него дрожали руки, хотя кузнецы исправно делали свое дело. С трудомом дождался конца испытаний, и сразу у него отлегло от сердца. В журнал в этот день занес: «Ковалось хорошо, узоры хорасана. На клинке сохранились такие же узоры. Грунт темный, с синеватым отливом. В закалке крепче литой стали.
Из сих опытов следует, что совершенство булата, при одинаковых прочих обстоятельствах, зависит от совершенства графита или от чистоты углерода».
Подошел Новый год. Встречали скромно, в семье. Татьяна Васильевна ходила вокруг празднично убранного стола и по-девичьи радовалась:
— Сегодня ты весь вечер дома. Приласкай детей. Боже мой, посмотри, как быстро растут они!
На высоких стульях восседало буйное молодое племя. Дети радостно смотрели на отца и думали: «Когда же сегодня зажгут елку?».
Около полуночи наступил веселый праздник. Аносов вместе с детьми резво прыгал вокруг елки. Сияли сусальные звёзды, блестели позолоченные грецкие орехи.
— Папа, — закричала маленькая Аннушка. — Из чего делают порошок, которым золотят игрушки?
— Хотите, я расскажу вам про один волшебный камень, и тогда вы будете многое знать? — раскрасневшийся Павел Петрович выжидающе уставился на детей.
Все захлопали в ладоши, а Татьяна Васильевна предложила:
— Усядемся под елочку и послушаем о твоем волшебстве.
Все опустились на низенькую скамеечку, и Аносов начал:
— Жаль, нет с нами деда Евлашки, — он виновник всему волшебству… Ну, что ж, можно и без него… Как-то вечерком сидели мы с ним у костра. Хотелось отдохнуть после трудной ходьбы по горам и поесть. А в мешке и карманах у нас было совсем пусто, — всё поприели. Сидим, греемся у огонька, а от голода даже под ложечкой сосет. Дед Евлашка сидит медведем у кострища, а искры так и сыплются из него золотым дождем. «Смотри, дед, борода сгорит!» — пошутил я. Он угрюмо огляделся кругом. Видит, у ног лежит камешек, очень похожий на глыбку черной слюды. Поднял дед этот осколок и бросил в костер; из огнища взметнулась искра. «Эх, напасть, так я голоден — вола бы съел!» — сказал он. «А я бы, я бы…» — начал я и поперхнулся. Гляжу на огонь, и глазам своим не верю. Камешек, который бросил старик в костер, вдруг ожил, зашевелился и стал медленно расти…
— А ты, папа, не обманываешь? — лукаво спросила Аннушка. — Камни только под дождем растут.
— Нет, и под дождем камни не растут, и вообще этого не может быть, серьезно ответил отец. — В этом-то всё и дело. А наш камешек становится всё больше и больше. «Гляди, — кричу я Евлашке, — почему он дышит?» Дед и глазом не сморгнул, схитрил. «Лукавый его знает, почему он дышит? Знать, то волшебный, наговорный, гляди, как порох, взорвет!» — сказал, а сам подальше от костра отполз. Ну, и я за ним. Сидим и за волшебным камнем наблюдаем. «Вот-вот взорвет», — думаю, а черный кусок продолжает шириться и раздуваться.
— Ой, ребята, это всё не всамделишное! — закричал пятилетний Саша.
— Не любо — не слушай, а врать не мешай! — серьезно сказал Павел Петрович и посмотрел на сына. — Только тут никакой выдумки. Всё было так. Посидели-посидели мы с Евлампием, но камень не взорвался, а только в десять раз вырос. «Вот так штука!» — подумал я и вытащил его из костра. Глыбушка оказалась легкой и ярко-золотистой. Чудеса! «Погоди, я тебя, старик, удивлю!» — решил я, поднялся на горку, отыскал черную глыбищу и скатил ее в костер. «Вот это да! — одобрил дед. — Посмотри, что только будет!» И тут, мои милые, началось. Глыба стала набухать и, долго ли, коротко ли, величиной стала с дом!
— Браво, браво! — захлопала в ладоши от восторга Аннушка. За ней зашумели все остальные. Татьяна Васильевна серьезно посмотрела на мужа:
— Ты это сам видел?
— Сам, — твердо ответил Аносов.
— Странно. Неужели есть на Урале такие волшебные камни? — удивилась она.
— Есть, и они вовсе не волшебные. Это — черная слюда, ее много в наших горах. И называется она верникулитом. Вот из нее и делают золотые и серебряные порошки для елочных украшений… А домов из нее не построишь…
— Жалко, — разочарованно протянула Аннушка. — Какой же это волшебный камень, если из него не может вырасти дом…
Все засмеялись, зашумели. А за окном, разрисованным морозными узорами, ярко блестели звёзды. На сердце у Аносова было светло и хорошо.
«Пусть новый год действительно принесет всем нам счастье!» — с облегченной душой подумал он.
И в самом деле, новый год принес Аносову приятную неожиданность. Оренбургский генерал-губернатор Перовский — большой охотник и любитель булатов — прислал Павлу Петровичу булатный кинжал, сделанный из индийского вуца.
Булат отличался исключительной красотой. Узоры походили на серебристые переплетающиеся виноградные гроздья. Булату, несомненно, было не менее двух тысяч лет.
«Он пришел из глубины веков, — писал Аносову генерал-губернатор, — и, чаю, его сотворил великий чародей — мастер. Вглядитесь в его узоры и в таинственное мерцание, и тогда вы поймете, как заманчиво открыть тайну утерянного мастерства!»
Булат ходил по рукам. Швецов держал его, как большую драгоценность.
— Ты очень осторожен, — с улыбкой заметил ему Аносов.
Старик смутился, но со всей искренностью признался:
— Держу его словно дорогую чашу и боюсь выплеснуть живую каплю…
Рассматривая кинжал, Аносов угадывал секрет: вероятнее всего, булат этот был получен путем прямого восстановления железа.
«Каким образом убедиться в этом?» — думал Павел Петрович.
Притихший и молчаливый, взялся он на другой день за новый опыт, а старые тревоги и волнения продолжались. Была проведена сто тридцать восьмая плавка, когда Аносов смог записать:
«Смешивая железную руду с графитом, можно получить непосредственно из руд ковкий металл. Эти опыты заключают в себе открытие важное по многим отношениям: во-первых, потому, что до сих пор из руд в тигле никто еще не получал ковкого металла, в полном смысле этого слова; во-вторых, потому, что сим способом можно получать превосходный булат, если первые материалы будут высокого качества; в-третьих, потому, что он ведет к предположению, что древний и потерянный более шестисот лет способ приготовления булата, известного под названием табан, едва ли не состоял в плавлении графита с железной рудой; и, наконец, оно ведет к новым открытиям, которые могут послужить и к сбережению горючего материала в доменных печах и к улучшению качества самого чугуна в тех заводах, где графит находится близко; ибо, если он может восстанавливать железо, то он, без сомнения, заменит и часть угля, потребного для сей цели, а соединяясь с железом, улучшит чугун и приблизит его к состоянию более ковкому или увеличит в нем вязкость, что в особенности может принести пользу при отливке орудий».
Особенно задумался Павел Петрович над последним опытом. Вместе со Швецовым они получили королек в тридцать два золотника и отковали из него нож. По вытравке он оказался весьма хорошим хорасаном.
В этот вечер Аносов долго ходил из угла в угол.
«Игра не стоит свеч! — огорченно думал он. — Что из того, что последний способ заманчив; он весьма убыточен. А между тем требуется при этом высокое качество руд и графита… Надо оставить затею!»
Всю ночь он страдал от дум. Ворочался, лежал с открытыми глазами, пока не занялось утро; на рассвете отправился в цех. С темными кругами под глазами он подошел к горнам. Швецов уже возился с тиглями.
— Вернемся к опытам с графитом! — решительно сказал Аносов. — У нас остался только один путь!
— Долог, долог этот путь! — опечаленно покачал головой литейщик. Однако, Петрович, зашли мы далеко, и возвращаться нам теперь поздно.
Снова потянулись месяцы. Татьяна Васильевна всё ждала радости, но муж целиком ушел в свои дела. Казалось, всю жизнь заволокло густым, тяжелым туманом. Когда же просвет?
…Он, наконец, наступил.
Стоял ясный погожий день. Над Златоустом голубело небо, солнце заливало золотыми потоками горы.
Аносов стоял у распахнутой двери, и теплый ветер ласкал его лицо. Позади на каменном полу стыл только что выплавленный металл. Еще одно разочарование или удача? Быстрыми шагами Аносов подошел к слитку и не поверил своим глазам: на поверхности сплава струились знакомые продолговатые узоры булата!
Немедленно сковали из него шпажный клинок. Его закалили, обточили, подвергли испытанию. В цех набилось множество народа. Все взволнованно следили за действиями старого мастера. Швецов согнул клинок под прямым углом и отпустил. Легко пружиня, издавая чистый высокий тон, булат быстро выпрямился. Сын литейщика, ловкий и сильный Павел, взял добрую английскую саблю и стал рубить подставленный клинок. Удары были могучие, высекались тонкие искры, но когда осмотрели златоустовский клинок, на нем не нашли зазубрин. Бросили над ним газовую ткань: едва коснувшись лезвия, она распалась на двое.
— Ещё не всё! — волнуясь, сказал Швецов.
Он зажал клинок в особый станок и на конце его повесил тяжелую гирю, — булат не сломился. Освобожденный от тяжести, клинок принял прежнее положение.
Тайны булата не стало!
Аносов с любовью взял в руку шпагу.
— Вот теперь, наконец, вижу, что мы создали свой, русский булат. Это и есть, без сомнения, предел совершенства в упругости, которая в стали не встречается!
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Глава первая НА ЗОЛОТЫХ ПРИИСКАХ
В начале XIX столетия на Верхне-Невьянском заводе, на Урале, разыгралась тяжелая драма. Тринадцатилетняя крестьянская девочка Катя Богданова нашла золотой самородок. Произошло это неожиданно и просто. Ночью в горах разбушевалась гроза, маленькая горная речонка Мельковка, приток Чусовой, вздулась и целую ночь с ревом лезла на берега, размывая пески, кручи, рвала корневища и валила вековые деревья. Утром гроза стихла, выглянуло солнце, и кругом всё заблестело: умытые листья, травы и берега веселой Мельковки. Сколько редких сверкающих камешков выбросила на берег разыгравшаяся речушка! В воде и на песке блестели хрусталинки, ярко-красными разводами горела яшма, из-под камешков выглядывал малахит. Были тут и опалы, синие, как небо, камешки. Крикливые ребята радовались находкам. И вот среди них Катя Богданова нашла необыкновенный камешек, очень тяжелый по весу.
Отец девочки и демидовские рабочие долго рассматривали находку и, наконец, признали в ней золото. Простодушный крестьянин сейчас же доложил обо всем заводскому управителю Ивану Полузадову. Вместе с самородком к нему доставили на смерть перепуганную девочку.
Верхне-Невьянские заводы принадлежали Демидовым на посессионном праве, и открытие золота могло привести к изъятию завода в казну. Полузадов рассвирепел и велел высечь девочку розгами. Несчастную затащили в конюшню и так избили, что она не перенесла этого издевательства и помешалась в рассудке.
Много лет спустя Катя выздоровела. И когда Гумбольдт проезжал через Урал, он пожелал увидеть девушку, открывшую золото. Ему представили красивую, крепкую женщину. Она с охотой обо всем рассказала ученому.
Находка Катей Богдановой золотого самородка заставила горное ведомство отнестись к россыпям с большим вниманием. Опытный уральский штейгер Брусницын, проживавший на Березовском заводе, прознав о находке на поверхности земли, стал внимательно исследовать пески на Березовских промыслах. Труды штейгера оправдали себя: он напал на золотоносные пески и, наладив правильную промывку их, в течение сорока дней добыл около трех фунтов золота. Это окончательно всколыхнуло горное ведомство, которое занялось разработкой россыпей в районе Березовского завода, а затем и в других местах. Успех Брусницына вскружил головы уральским заводчикам, началась «золотая лихорадка». Этому способствовало и то обстоятельство, что в 1812 году правительство разрешило заводчикам поиски золота в их собственных дачах. Лихорадочные поиски и добыча золота постепенно охватили округ Верх-Исетских, Невьянских, Гороблагодатских, Нижне-Тагильских, Сысертских, Кыштымских заводов, а также район Златоуста и Миасса. В 1799 году в Миассе, задолго до приезда Аносова на Урал, отстроили золототолчейную фабрику и начали разработку золотоносных руд. Драгоценный металл выделяли из руд при помощи ртути. Работа была кропотливая, вредная, и такая добыча золота обходилась очень дорого. Ко всему этому, россыпи в бассейне речки Ташкатургана вскоре были истощены и добычу забросили.
Казалось, что всё будет предано истории. Но совершенно неожиданно старатели, промышляя на свой страх и риск, открыли на берегах Ташкатургана новые россыпи. Начальник Златоустовского округа заложил там прииски.
Прошло немного времени, когда из Миасса в Златоуст прискакал гонец и сообщил сказочную новость: в один из дней на прииске, который в честь царя назвали Царевониколаевским, из ста пудов песка намыли до пуда золота. Казалось, золотой песок неиссякаем: каждый день попадались крупные самородки, а весной 1826 года откопали золотой самородок весом более двадцати четырех фунтов!
Однако этот «золотой поток» продолжался лишь десять лет. Затем добыча резко снизилась, и большие затраты пропали даром.
Между тем министр финансов Канкрин проводил денежную реформу, для которой требовалось увеличение золотых запасов. Из Санкт-Петербурга в Златоуст полетели настойчивые требования расширить добычу золота, и Аносов энергично занялся геологическими изысканиями. К этому времени в Миасс для работы прибыл инженер-майор Лисенко. Небольшого роста, очень подвижной, горный офицер сразу пришелся по душе Павлу Петровичу. Аносов с увлечением рассказывал ему об Ильменях, о долинах уральских рек и тайнах гор. Оба они были влюблены в свое дело и могли часами разглядывать образцы горных пород.
А когда подули теплые весенние ветры, партии разведчиков тронулись в горы. Верхом на низкорослых лошадках Аносов вместе с Лисенко проехал долину Ташкатургана… Хороши в эту пору ночи в горах: вверху — звездная россыпь, рядом шумят боры, и торопливый Ташкатурган ревет и уносится в таинственную мглу. У костра тепло, уютно. Золотые рои искр рассыпаются над рекой.
Глядя на звёзды, Павел Петрович задумчиво спросил:
— Отчего шумит Ташкатурган?
И сам себе ответил:
— С гор бегут вешние воды, неспокойные, сильные… Нет, не от этого шумит Ташкатурган!
— Отчего же? — добродушно спросил Лисенко.
— Отпугнуть хочет! — серьезным тоном отозвался Аносов.
Горный офицер удивленно посмотрел ему в лицо:
— Вы всё шутите, Павел Петрович!
— Нисколько не шучу, — в серых глазах Аносова сверкнули искорки. Тут, как в сказке. Река эта, как Полоз-змей, шипит, злится, оберегает заколдованный клад. Я так думаю: ложе реки таит золото.
— Раз так, — весело подхватил Лисенко, — надо узнать петушиное слово, чтобы вырвать клад у Полоза.
— А петушиное слово нам подскажет геология сих мест! — улыбнулся Павел Петрович и стал подробно рассказывать о своих догадках.
Лисенко внимательно слушал.
— Сколько человек умения и хитрости применяет, чтобы найти золото! продолжал Аносов. — Что за металл? И радости, и горе сосредоточены в нем! Иногда бывают трагикомические истории. Сейчас вот вспомнилось… — Павел Петрович взял палку и пошевелил хворост в костре, искры посыпались гуще. Совсем рядом, в чащобе, заухал филин. — Хо-ро-шо! — глубоко вздохнул Аносов. — Слыхали про «кошачье золото»? Ну, так вот… Приехал к нам в Миасс некий хитрющий человечишка Бибельман. По всему видно, прослышал про золото и решил его втайне поискать. Мы спрашиваем его: «Зачем вы в такую даль на Урал из Одессы приехали?». Взглянул он большими, грустными глазами и ответил: «Что мне нужно? Совсем немного. Ищу малюсенький кусочек своего счастья». Сколько мы ни следили за ним, он вдруг исчез из Миасса и пропадал целый месяц. Надо признаться, на душе у меня стало немного тоскливо. Предприимчивый человек, а погибнет в тайге зря: может медведь задрать или дурной человек убьет… Бегут через Камень каторжные, среди них есть отчаянные… Однако опасения мои были напрасными. Бибельман явился. Но в каком виде? Оборванный, худой, обросший бородой, но сам веселый и прямо ко мне. С порога объявляет: «Хочу искать золото. Прииск хочу!». Я улыбнулся. Он понял мое недоверие, вынул из-за пазухи мешочек и положил передо мной: «Смотрите, здесь золотой песок!». Я высыпал горстку на ладонь. В самом деле, горят золотинки, и их очень много. «Это богатейшая россыпь. Я знаю, где она… Я нашел свое счастье», — полузакрыв глаза, в упоении прошептал он. Мне стало жалко этого самонадеянного человека, которым овладел дух жадности. Да что ж поделаешь? — вздохнул Аносов. — Взял я у него щепотку «золотого песку» и на его глазах бросил ее в стакан с водой. Как и следовало ожидать, песок быстро пошел на дно, а «золото», вопреки законам физики, осталось плавать. Бибельман побледнел. «Это вы подшутили надо мной? — с дрожью в голосе спросил он. — Ведь так не должно быть. Золото всегда тонет! Вы — фокусник!» — «Плохие фокусы, милый мой! — отрезал я ему. — Вы принесли «кошачье золото». — «Что это значит?» — в исступлении закричал незадачливый старатель. «То, что вы приняли за золото, всего-навсего чешуйки золотистой слюды — флогопита…» — «Как вы сказали? — схватился за голову Бибельман. — Но я же ему, паршивцу, сто рублей дал!» — «Вас обманули! Ваш проводник на самом деле нашел золото, а вы его потеряли… Плохое ваше счастье…» Представьте, от разочарования он сошел с ума…
— Жаль, — тихо обронил Лисенко. — Золото многих губит. — Он опустил голову, вздохнул: — А всё же человечество любит золотой блеск…
Костер догорал; раскаленные угли подернулись пеплом.
— Пора спать, — сказал Аносов и встал. Укладываясь в палатке на ночлег и прислушиваясь к неугомонному шуму реки, Павел Петрович сказал:
— Погоди, мы тебя успокоим. Вот пройдут талые воды, и ты смиришься…
Через три недели, исследуя русло Ташкатургана, геологи в урочище Андреевском открыли богатую золотую россыпь.
Аносов пребывал в Златоусте, и Лисенко послал ему туда весть;
«Найдено настоящее золото… Добыта тайна великого Полоза — вешнего Ташкатургана».
Аносов просиял: он радовался не столько находке, сколько предприимчивости Лисенко.
«Всё, к чему прикасается его рука, принимает вдруг романтический вид. Веселая душа!» — по-отцовски ласково подумал он о геологе.
Андреевский прииск оправдал надежды: из девяноста трех тысяч пудов золотоносного песку извлекли два пуда двадцать девять фунтов золота!
Нет-нет да и попадались увесистые самородки.
Однажды загремели валдайские колокольчики и у опушки леса на глухом извилистом тракте показалась тройка.
— Гляди-ко, сам Павел Петрович едет, — сказал один из старателей, жилистый старичок Митрошка.
Не прошло и десяти минут, как тройка оказалась у прииска. Ямщик разом осадил коней; из коляски вышел Аносов.
— Здравствуй, Митрий Иванович, — поздоровался Павел Петрович со стариком. — Кстати встретил тебя.
Глаза старателя осветились приветливым огоньком. Маленький, крепенький, как гриб боровик, он стоял перед начальником горного округа и выжидательно смотрел ему в лицо. Подошел Лисенко, Аносов крепко пожал ему руку, потом сел на колоду в густую тень березы, утер пот и указал на место рядом с собой. Лисенко устроился на бревне, а Митрошка опустился на траву, подвернув по-татарски ноги.
— Вот что, Иванович, человек ты бывалый, разное видел на своем веку, немало золотого песку пропустил через свои руки, — спокойно начал Аносов. — Вот и скажи мне по совести, много у нас из-под носа уходит золота?
Митрошка вздохнул, глаза его стали лукавыми.
— Это как тебе сказать, Петрович, — со смешком в голосе ответил он. Не пойман — не вор…
— Я совсем о другом, — перебил его Аносов. — Не о хищениях.
— А о чем? — поднял удивленные глаза старатель.
— Давно мы золото моем, а хорошо ли? Сколько золота в песке остается?
— Бог его ведает; надо думать, поболе, чем намываем. После нас тут проходят с лотками и тоже свое находят, — пояснил Митрошка.
— То-то и оно, — вымолвил Аносов и, обратясь к Лисенко, добавил: Подумайте, сколько силы человеческой зря теряется! Жаль, очень жаль. Надо подумать над тем, как побольше извлекать золота.
— Но мы и так намываем немало! Мне кажется, это предел, — возразил инженер. — Впрочем…
— Вот именно — впрочем; надо найти свое, новое! — загораясь, заговорил Аносов. — Почему мы должны всё водой делать? Я предлагаю применить плавку золотых песков!
Брови старика-старателя полезли кверху, губы задрожали в беззвучном смехе:
— Да где это видано, батюшка! Ты хоть людям о том не говори…
Аносов поднялся, лицо его стало суровым:
— Ну, коли так, Митрий Иванович, поедешь со мной и сам будешь делать то, о чем я сказал!
Митрошка взмолился:
— Освободи, сударь…
— Нет, нет, — отверг его просьбу Павел Петрович. — Полезай в дрожки, поедем!
Кряхтя, Митрошка взобрался на сиденье.
— А вы тоже над моими словами подумайте, — крикнул Аносов инженеру.
Заклубилась пыль. Жарко припекало солнце. Старатель беспокойно задвигался на сиденье.
— Ты угомонись, от меня не уйдешь! Опыт мне твой нужен! Ты, да я, да Швецов — увидишь, что сделаем! — сказал Павел Петрович и весело засмеялся…
Примчались на Николае-Алексеевский рудник. Добыча золота была там скудная. Горы песку промывали на вашгерде, и в результате каторжного труда в лотке задерживались лишь жалкие крупицы золота.
Митрошка встрепенулся.
— Вот она правда, Петрович. Сам видишь: золото моем — голосом воем…
— Погоди, братец, — остановил его Аносов. — Вот тебе задача. Отбери десять тысяч пудов золотых песков да перемешай. Будем пытать песок, что он скажет?
Поставили палатку, и Павел Петрович устроился в ней. Ранним утром, когда густой туман клубился в долине, он со старателями принимался за работу. Митрошка на глазах преображался. Его большие корявые руки легко и быстро справлялись с любым делом. На приисках всё было ему знакомое, родное. Работал он с песней. Как веселый воробей, он порхал по отвалам, управлялся с корытами, с ручным вашгердом. Потряхивая лотком, он пел:
Таракан дрова рубил, Себе голову срубил, Комар воду возил, В грязи ноги завязил… Эх!..Глядя на проворные, легкие движения старателя, Аносов удивлялся: «Сколько же силы и проворства в нем? И весел, как щегол!».
Рядом с Митрошкой в мыслях инженера вставал строгий, с иконописным лицом литейщик Николай Швецов.
«И тот, и другой — разные люди, а работе всё отдают! — думал Павел Петрович. — Для обоих труд не проклятие, а радость. Работают, как веселую игру ведут».
Поздно вечером, когда все старатели разбрелись по баракам, Митрошка вертелся у костра. Стряпухи налили ему в чашку хлёбова, досыта накормили и ласково уговаривали:
— А ты допой нам песню свою…
Старатель огладил бороденку, лукаво подмигнул женщинам:
— Будь по-вашему, сизокрылые.
Аносов, лежа в палатке, прислушивался к пению старика и удивлялся его неугомонному характеру. Митрошка бойко, разудало распевал:
…Вошка парилась, Приушмаривалась. Мушка подскочила И в предбанник утащила. Вы бегите-ко, ребята, По попов, по дьяков, По богатых мужиков… Эх!..Приискатель схватил две ложки и, выстукивая ими дробь, пустился в пляс. Он кружил, притопывал, задорно поводил глазами на жёнок и продолжал лихо распевать:
Зародила попадья, Зародила воробья, Долгоносенького, Чернохвостенького. Его староста судил. Егор Филатыч рассудил Не бить его кнутом, А остригчи кругом, Две косички оставить, Воробья в попы поставить… Эх!..Аносов не утерпел, вышел из палатки к костру. Тут уже толпились работные. Митрошка не смутился; закинув задорно голову, лукаво поглядывая на Павла Петровича, он зачастил под стрекотанье ложек:
Кто не едет, кто нейдет, Воробья попом зовет; Что ты, батюшка попок, Что ты ходишь без порток, Портки строченые, Невороченые. Портки девушки шили, Тараканы источили, Девки хлопнули окном, Убежали за попом. Поп не знает, куда деться: Он кадило-то под лавку, Аллилую на кровать, Сам забрался под кровать… Эх!..Старик в последний раз топнул ногой, махнул рукой и угомонился.
— Фу, устал, бабоньки. Кто пожалеет, жбан квасу поднесет…
Стряпухи охотно напоили Митрошку квасом.
— Ну и молодец ты, — похвалил его пожилой приисковый. — Тоску словно рукой снял. Оно, брат, так, с песней да с шуткой, веселее живется…
…Незаметно старатель Митрошка вошел в замыслы Аносова, с полуслова его понимал. Вот уже две недели, как они поселились на берегу ручья и ворошили песок.
Опыт за опытом. Всё новые и новые открытия. Павел Петрович тщательно записывал результаты в таблицу. Она раскрыла перед ним ошеломляющую картину: существующий «мокрый» способ промывки золотых песков извлекал из них золота в сто тридцать один раз меньше, чем его было в породе.
Горько усмехнувшись, Аносов рассказал об этом старателю.
— Теперь сам видишь, Митрий Иванович: мы только сверху слизываем. Египетский труд…
Митрошка потупился.
— Давно всё вижу, — признался он. — Что ни выдумка твоя, то лишнее золото…
Павел Петрович целый день молча сидел в палатке, шуршал бумагами. Последнюю ночь он плохо спал. Митрошка встревожился: сколько раз инженер выходил на берег реки, прислушивался к лепету струй и о чем-то вслух говорил сам с собой.
Утром Аносов приказал насыпать мешок золотоносного песку. Его уложили в дрожки, и Павел Петрович наказал Митрошке:
— Ну, Митрий Иванович, ты пока здесь поживи, а я в Златоуст…
По приезде на завод Аносов вызвал Швецова и сказал:
— Искали мы булат и нашли его. А теперь попробуем добыть из песка золото.
Литейщик не удивился, он привык к неожиданностям.
Они провели первую плавку в тигельном горшке. Сплавили десять фунтов песку с угольным порошком и флюсами. Из полученного золотистого чугуна извлекли 10,75 доли золота.
— Что же это дало?
Павел Петрович вслух подсчитал итоги: 100 пудов песку при обработке в тигле давали в 100 раз больше золота, чем при «мокром» способе.
Догадка оправдывала себя.
Аносов решил рискнуть проплавить золотоносные пески в доменной печи. Заложили 2818 пудов песку.
Стоя перед домной, Павел Петрович весело смотрел на огонек и думал: «Словно алхимики добываем золото!».
У него было бодрое настроение, его зоркий глаз и чутье подсказывали, что всё идет хорошо. Получили 50 пудов золотистого чугуна. Анализ показал, что в каждом пуде его содержалось 11 золотников и 4 доли золота. Значит, на 100 пудов песку выходил 21 золотник золота.
— В двадцать восемь раз больше, чем при промывке! — весело сказал Аносов. — Теперь за дело!..
— Еще того не было, чтобы золото добывали в домне! — удивлялся Швецов. — Шутка ли, плавим чугун, да не простой, а золотистый!
Он долго задумчиво разглядывал домну, словно впервые ее видел и хотел сказать: «Вот ты какая!».
Однако за первыми радостями пришла тревога. Было очевидно, что новый способ извлечения золота выгоден, но для того, чтобы ввести его в широкую практику, требовалось переоборудовать домны.
Со смутной тревогой Аносов писал в горный департамент доклад «О способе обрабатывать золотосодержащие пески плавкой».
Канкрин быстро отзывался, когда предстояло выколотить лишнюю копейку, но дать средства на организацию нового дела для него было выше всяких сил.
Министр, внимательно выслушав восторженный отзыв генерал-адъютанта Чевкина об открытии Аносова, молчал, хмурился. Наконец сердито сказал:
— К чему всё это, не понимаю. На наш век золотых россыпей хватит! Слава богу, рабочие руки дешевы, и золото они добудут недорого! Разошлите циркуляр с рекомендацией опытов Аносова. А пока — честь имею кланяться.
Канкрин, выпрямился, как палка, и протянул генералу руку.
Чевкину перевалило за пятьдесят, он много работал в горном департаменте, но в душе его остались живые чувства. Сходя с лестницы, он тяжко вздохнул и подумал: «Жаль, столько богатства упускаем. Рутина, косность, скопидомство… Что же после этого рекомендовать Аносову?».
Павел Петрович долго ждал решения. В конце концов пришлось махнуть рукой.
«Нужно искать что-то другое, чтобы облегчить каторжный труд золотоискателей и увеличить добычу», — решил он.
В мае, когда наступили погожие дни, Аносов захватил детей и вместе с Татьяной Васильевной отправился на всё лето в Миасс. В отрогах Ильменских гор на берегу резвой речушки он разместился с семьей в небольшом бревенчатом домике. Казалось, впервые за всю жизнь к нему пришли спокойные, приятные дни. Из-за дальних зауральских озер рано вставало ликующее солнце. Татьяна Васильевна поднимала детей, кормила их, и они шумной стайкой убегали на речку, пробирались в дальние прохладные ущелья, опускались в заброшенные каменоломни. Мать с беспокойством ждала их. Отец радовался: ребята возвращались из своих путешествий с карманами, набитыми интересной добычей. Чего только тут не было! Когда усталые дети укладывались спать, Татьяна Васильевна осторожно вытряхивала из карманов на стол ракушки, камешки, куски руды.
— Я думала, что они берегут сокровища, уральские самоцветы, а здесь всякая чепуха! Ах, милые, милые ребята! — вздыхала она, и лицо ее озарялось лаской.
Павел Петрович внимательно рассматривал находки детей.
— А ведь это и в самом деле сокровища! — восхищенно говорил он.
«Интересно, где они добыли эти древнейшие окаменелые ракушки? Надо спросить!» — Мысли Аносова уносились в далекое прошлое Каменного Пояса. Перед его взором расстилалось древнее море, в котором когда-то жили эти мелкие существа…
А вот еще диковинки! Окаменевшие грибы, «чёртовы пальцы» — камни разнообразных и поразительных форм. Где, в каких обнаженных пластах, обнаружены они?
— Это хорошо, что дети увлекаются всякими диковинками. Значит, сердца у них горячие, ум — пытливый. Внимательный исследователь природы не должен проходить мимо столь чудесных находок, — задумчиво сказал Павел Петрович.
— Ну уж и чудесные! — насмешливо отозвалась Татьяна Васильевна.
— Именно чудесные! — повторил Аносов. — Они имеют непосредственное отношение к полезным ископаемым. Это их спутники, надежные приметы! Погоди, милая! — Он оторвался от стола, порылся в чемодане, извлек оттуда томик Ломоносова и прочел вслух:
— «Пойдемте ныне по своему отечеству, станем осматривать положение мест и разделим к произведению руд способных от неспособных; потом на способных местах поглядим примет надежных, показывающих самые места рудные. Станем искать металлов, золота, серебра и прочих; станем добираться отменных камней, мраморов, аспидов[13] и даже до изумрудов, яхонтов[14] и алмазов».
Татьяна Васильевна попросила:
— Читай дальше. Это очень интересно.
Аносов проникновенно продолжал:
— «Малые, а особливо крестьянские дети, весеннею и летнею порою играя по берегам рек, собирают разные камешки и, цветом их увеселясь, в кучки собирают; но они, не имея отнюдь любопытства, неже зная пользу, так оставляют или в реки бросают для забавы. Сие великое действие натурой без народного отягощения в великую государственную пользу и славу легко употребить можно… Металлы и минералы сами во двор не придут: они требуют рук и глаз для своего прииску…»
Павел Петрович смолк и лукаво посмотрел на жену:
— Ну, что теперь скажешь? А знаешь ли ты, кто нашел на Урале первый алмаз? Крестьянский мальчик Павел Павлов… В кармашке он таскал кварцевые гальки. Однажды заезжий горный инженер попросил мальчугана показать свои «сокровища». И что же? К своему великому изумлению, инженер нашел среди галек алмаз!..
Татьяна Васильевна ничего не сказала, поднялась из-за стола.
Проходя в детскую, она взглянула в распахнутое настежь окно. Впереди под луной сияло озеро. За ним в горном ущелье шумел лес. Легкий ветер пахнул запахом пряных трав и цветов.
Мать склонилась над кроватью. Самый маленький крепко зажал в руке цветной камешек-окатыш.
Татьяна Васильевна пригладила его курчавые волосы.
«Милые вы мои, хорошие. Следопыты таинственных недр!» — с умилением подумала она и долго не могла оторвать нежного взгляда от безмятежных детских лиц…
На восходе дед Митрошка приходил к домику Аносова, садился на крылечко и ждал выхода инженера. Старик привязался к Павлу Петровичу и ни на шаг не отходил от него. Теперь старатель сам находил неладное в промывке золотоносных песков.
— Как ты ни промывай их, а всё же вода уносит легкие золотинки! рассуждал он. — Это первый разор. А второй, — глядишь, безобидные галечки, ну и в отвал их. Господи боже, а ведь внутри вкраплены золотинки! Кругом потери.
— Ты скажи мне, Митрий Иванович, что, по-твоему, мешает полностью уловить золото? — спросил Аносов старателя.
Митрошка подошел к вашгерду и, показывая на быстро взмученную струю, сказал:
— Несёт всё валом: и глину, и песок, и золотинки. Сделать бы протирку песков, чтобы глина не скрадывала и не уносила с собой золота.
— Это верно, — согласился Аносов и, следя за промывкой, пришел к мысли: «А что если для скорейшей и легчайшей растирки приводить в движение самые пески, а не сосуд, в котором они находятся… Хорошо бы еще привести пески в движение с наименьшей силой и тем самым уменьшить их сопротивление».
Старатель принялся за работу. Павел Петрович смотрел на струю и продолжал думать: «Хорошо бы, чтобы пески возможно долее соприкасались с одной и той же водой. Песок станет разжиженным, и из него выпадет больше золота».
Аносов подошел к лотку, захватил горсть галек и стал очищать их от глины и ила.
В это время в его мозгу шла лихорадочная работа. Постепенно в его воображении вставали очертания будущей золотопромывальной машины…
В троицын день приисковые девки ходили на реку пускать венки, вечером водили хороводы. Татьяна Васильевна издали любовалась цветистыми сарафанами, гибкими движениями, медленной поступью шедших по кругу жизнерадостных молодых работниц. Луга ярко зеленели, светилось голубизной озеро, в котором плыли отраженные белые громады облаков. Кругом переливалась богатая россыпь красок — лесов, величавых опаловых гор, небесной лазури и солнечного сияния. Очарованная ликующей красотой, молодая женщина вдруг всем своим существом почувствовала своеобразие и прелесть уральской природы.
«Ах, Урал, Урал — прекрасная земля!» — радостно глядя широко открытыми глазами на народное гулянье, подумала Татьяна Васильевна и, подхваченная внезапным порывом, забыв обо всем, бросилась к хороводу. Раскрасневшаяся, словно помолодевшая, она закружилась в плавном движении и своим мягким контральто подхватила песню:
Уж я, молода, Из-за гор гусей гнала… И круг живо подхватил припев: Это быль, это быль, Быль, былиночка моя…Ах, как хорошо стало Татьяне Васильевне! Всё случилось так просто. Никто не жеманится, ни сторонится ее. Все ласковы с ней. Бойкий чубатый старатель крепко сжал руку Татьяны Васильевны и высоко понес:
Это быль, это быль, Быль, былиночка моя…С крыльца сошел Аносов и залюбовался хороводом. Дети теребили его:
— Папа, смотри, как хорошо мама идет в хороводе!
— Чудесно! — согласился отец. Ему самому хотелось сорваться с места и смешаться с пестрой толпой приисковых, но, скосив глаза на серебряный эполет, он вздохнул и повернулся к дому.
Его радовало то, что вся семья находилась в светлом подъеме, загорелые дети здоровы, жена счастлива…
Аносов с увлечением работал над конструкцией новой машины.
Ее ладили на его глазах, тут же на прииске. В Сатке и Златоусте спешно отливали части. За отливкой следил Швецов.
Подошел денек, когда аносовский агрегат поставили на рабочее место. Лица у приисковых серьезны, торжественны; трудно отогнать людей от машины.
— Бог с ними, пусть смотрят! — разрешил Павел Петрович и махнул рукой.
— Эй, эй, пошла, родимая! — горласто закричал дед Митрошка и, сняв шапку, перекрестился. — В добрый час!..
Резвая струя устремилась по жёлобу. Машина работала легко, ритмично. Прислушиваясь к дыханию паровичка, Аносов безотрывно смотрел на чугунные чаши, где двигались лапы, растирая песок в воде…
Солнце между тем припекало, поднимаясь всё выше и выше. Павел Петрович ушел под навес. Постепенно расходились и приисковые.
Агрегат без остановки отработал всю смену — десять часов. Павел Петрович остановил машину и тщательно исследовал ее работу. В откидных песках оставалось значительно меньше золота, чем прежде! Промывка ста пудов золотоносного песку обошлась около пятнадцати копеек, а на старых грохотах и механических приводах стоила двадцать!..
Митрошка утер пот, умильно поглядел на Аносова.
— Ну, что хочешь сказать? — догадываясь о его желании, спросил Павел Петрович.
— Только выслушай, Петрович! — взволнованно сказал старатель. Видать, так суждено: на одну стежку-дорожку попали мы. Дозволь мне, Петрович, при механизме остаться. Хоть все тут старались, а всё же не могу свое сердце оторвать от этого дела. Будто и я вместе с тобою рождал умную машину…
— Что ж, вижу твое старание! — согласился Аносов. — Тебе и быть при ней…
На землю упал осенний лист. Пора и в Златоуст! Павел Петрович отправил семью домой. Бодрая, посвежевшая Татьяна Васильевна с детьми тронулась в путь.
Аносов остался в Миассе и принялся за новую затею…
Как-то, еще в Златоуст, к нему заехал демидовский механик Мирон Черепанов и рассказал о своем «сухопутном пароходе». И сейчас Павел Петрович мечтал о чугунной дороге. До паровоза было еще далеко! Но колесопроводы, тележки для груза с конной тягой оказались возможными. Хорошо доставлять по такой дороге тяжелые пески на промывальную фабрику!
Снова мастерские были заняты срочными заказами. Павлу Петровичу до зимы хотелось пустить тележки по рельсовому пути.
Глубокой осенью от прииска к фабрике пошли первые грузы по чугунной дороге. Две лошади свободно и резво тащили тележки, груженные песком. За рабочий день они перевезли две тысячи восемьсот пудов.
Радуясь этому, Аносов в то же время сожалел: «Как жаль, что нет сил подняться против косности санкт-петербургских департаментов. Нижний Тагил рядом; что за радость была бы пустить по колесопроводам черепановский «сухопутный пароход!».
Глава вторая РОССИЯ БУДЕТ ИМЕТЬ СВОИ КОСЫ ЛУЧШЕ ПРИВОЗНЫХ
Аносов много думал над тем, как облегчить тяжелый труд русского крестьянина. Часто вечерами он извлекал из укладки первые арсинские косы и подолгу рассматривал их. Вспоминалась поездка с Лушей на завод, светлое росистое утро, когда он вместе со стариком Николаем Швецовым взялся за косу. Долго пришлось ждать, пока отпали все препятствия. В 1834 году Аносов перевел Арсинский завод на выделку кос. Однако впереди предстояла жестокая борьба: русским изделиям нужно было открыть дорогу на рынок. Сделать это было нелегко. Россию к этому времени заполонили товарами иностранные фирмы. Передовые помещики, которые ставили сельское хозяйство на новый лад, преклонялись перед заграницей. Оттуда они ввозили машины, плуги, косы и, кто бы мог подумать, даже сохи доставлялись иностранцами! У Арсинского завода был сильный, изворотливый противник — австрийские промышленники, которые снабжали Россию косами.
Многое предстояло сделать, и, прежде всего, нужно было добиться, чтобы русские косы были лучше и дешевле иностранных.
Павел Петрович энергично взялся за дело. Он написал в Московское общество сельского хозяйства письмо, которое было опубликовано в «Земледельческом журнале».
Аносов прекрасно понимал, что его противники готовятся к жестокой схватке. До Златоуста дошли слухи, что австрийский заводчик полковник Фишер прибыл из Шафгаузена в Петербург с партией отличных кос. Он несколько недель осаждал департамент горных дел, подкупал чиновников и добивался испытания своей продукции. Австриец добрался до самого министра финансов Канкрина и уговорил его.
Павел Петрович предвидел трудности и всю зиму находился на Арсинском заводе. Изредка он заезжал домой, прокуренный дымом, усталый и пыльный, и, наспех перекусив, уже бежал на оружейную фабрику. Татьяна Васильевна умоляюще смотрела на мужа:
— Павел, ты бы пожалел себя! Отдохни с дороги!
Но Аносова не тянуло к домашним делам, он торопился к литейщикам, где его поджидал Швецов.
В тревогах и в непрерывной работе прошла зима. Наступил март. Косы были готовы. Вскоре пришло уведомление департамента о предстоящем испытании. Косы уложили в ящики и погрузили на подводы.
Павел Петрович написал второе письмо в Московское общество сельского хозяйства:
«Милостивый государь! Посылаю при сем в Москву косы с большей надеждой, нежели прежняя. Испытания прошедшей осенью, меры, принятые к избежанию недостатков, и частая поверка заставляют меня быть уверенным, что они выдержат все пробы, необходимые для кошения. Из 15 кос, взятых для общества, только одна, большой руки, несколько трудно отбивалась, но и ту я послал, не желая отступать от уведомления, что косы взяты без выбора. Впрочем, опыт на деле покажет ее достоинство.
Прочитав в «Земледельческом журнале» статью о кошении ржи в удельном имении Симбирской губернии, я направил также 100 кос к господину управляющему, статскому советнику Бестужеву; в виде опыта я прошу его оказать содействие к ознакомлению с ними крестьян…»
Тем временем в Петербурге произвели испытания австрийских кос и аносовских. Пригласили опытных мастеров и помещиков. Испытания повторяли много раз.
Эксперты вынуждены были записать в акте:
«Одна златоустовская коса закалена жестче шафгаузеновских и так остра, что превзошла 120 кос штирийских, выбранных из 600 таких же кос. Она выдержала в 1836 и 1837 гг. по два покоса и две ржаных жатвы…»
Кончилась распутица, отшумело половодье, на Москве зацвели сады, когда арсинский приказчик доставил Московскому обществу сельского хозяйства последнюю партию аносовских кос. Стоял теплый облачный день. На опытное поле Петровской сельскохозяйственной академии съехалось и сошлось много народу. Простых людей неохотно допускали до зрелища, но они-то живее и восторженнее всех отзывались на каждую удачу русских людей. Любо было смотреть, как ровно двигались ряды косарей, одетых в яркие кумачовые рубахи. Под их могучими взмахами покорно валами ложилась душистая влажная трава.
На луга наехал широкоплечий, с бычьей шеей купец Соловьев. Он легко выскочил из пролетки и побежал к косарям. В темно-синих широких шароварах, заправленных в лакированные сапоги, в длинной рубахе, он шел следом за работниками и удовлетворенно крякал:
— Э-эх, размашисто! Э-эх, хорошо!
Наконец, не утерпев, крикнул рослому косарю:
— А ну, милый, дай-ка мне аносовскую, вспомню старину! — Скинул купец полотняный картуз, расстегнул воротник рубахи и взял косу. — Берегись! выкрикнул, размахнулся и пошел следом за другими. Он шел прямо, не сгибаясь, красиво и плавно размахивая косовьем, и подбодрял шедших впереди косарей:
— Нажимай, нажимай, родимые, а то пятки прочь!
Купец прошел длинный загон туда и обратно, раскраснелся.
— Ну, Семен Николаевич, хватит с тебя, хватит! — кричали ему из толпы знатных гостей. — Гляди-ка, всех московских купцов ославишь на весь свет!
Купец блеснул белыми зубами.
— Честный труд — превыше всего! Из мужичья вышел и земле поклонюсь! весело откликнулся он и воткнул косовье в луговину. — Бог с вами, полудневать пора!
Косовицу прекратили, а косы отнесли в лабораторию. Ни косарей, ни простой народ не пустили к порогу, но никто не расходился, — все ждали решения. Из домика то и дело доносился зычный голос купца Соловьева:
— Не плутуй, не плутуй, родимые!..
В акт испытания пришлось занести:
«По достоинству кос, златоустовские косы г. Аносова не уступают штейермаркским косам всех штемпелей (коих более ста), кроме кос, поступающих в продажу под штемпелями «бокала» и «весов».
В рассмотренных образцах находятся косы, по доброте своей не уступающие и «бокалу» и «весам», но не имеют еще ни того наружного вида, ни склада, какой приобрели косы под означенными штемпелями от многолетнего постоянного выделывания их всегда по одному лекалу. Златоустовские косы на вид белые, и пока покупщики не привыкли к доброте белых кос, то вороненый цвет штейермаркских будет им казаться лучше, хотя от него и не зависит доброта и достоинство косы.
…При сем комиссионер общества купец Семен Николаевич Соловьев объявил, что он для содействия в распродаже кос Златоустовского завода из партии, ожидаемой в Москву, будет продавать оные из своей лавки, не требуя уплаты за комиссию. Такие же косы будут продаваемы по такой же цене (на 10 процентов ниже штирийских и венгерских) и у господина комиссионера златоустовских заводов Лошаковского в его доме на Остоженке…
Подписали: правитель дел общества Маслов, гиттенфервалтер 10-го класса Лошаковский, купеческий сын Соловьев».
Купец вышел на крыльцо, утирая пот. За ним шли с угрюмыми лицами иностранцы. Они невозмутимо уселись в экипажи, не обращая внимания на веселые выкрики из толпы.
Представители заводчика Фишера хорошо понимали, что они потерпели поражение на поле, но были уверены, что решающая борьба будет одержана в санкт-петербургских канцеляриях.
Несмотря на препятствия, которые чинил департамент горных дел, Аносов изготовлял на Арсинском заводе шестьдесят тысяч прекрасных кос в год.
Однако он знал, что это лишь капля в море, и сильно огорчался. Нервно расхаживая по своему маленькому кабинету, он думал: «Когда же наступит настоящий день и русское мастерство покажет себя во всей силе?».
Вскоре Аносова избрали почетным членом Московского общества сельского хозяйства и наградили за усовершенствование производства кос золотой медалью, но это нисколько не разогнало его тоски.
«Мне медаль, а иностранцам — Россия на расхищение! — с обидой думал он. — Не верят в силу и в таланты своего народа».
В тяжком раздумье он подошел к зеркалу. Глаза его расширились от удивления: на висках Павел Петрович заметил первый седой волос.
«Рано-то как! — взволнованно подумал он. — А впереди еще ждет очень большая работа!..»
Глава третья ТРУД — ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
Дни и ночи Аносова проходили в напряженном труде и размышлениях, а его семья по-прежнему не переставала нуждаться в самом необходимом. Откуда было раздобыть денег, если Павлу Петровичу платили меньше, чем немецкому мастеру. Когда-то Эверсман получал 2100 рублей серебром жалованья, превосходную квартиру и обильные кормовые. В Златоусте русские мастеровые про него говорили: «Живет у нас в городке воевода на великом кормлении!».
Аносову в год жаловали за службу 1257 рублей 90 копеек. Но горный инженер меньше всего думал о деньгах.
Как-то Татьяна Васильевна, раздраженная вечной нуждой, вспыхнув, словно порох, сказала:
— Когда же мы будем жить без дум о завтрашнем дне? Для кого ты работаешь?
Павел Петрович укоризненно посмотрел на жену и спокойно, но твердо сказал:
— Милая моя, разве я из-за денег отдаюсь работе? Погляди, как стараются простые мастеровые. Не из-за куска хлеба и порточной рвани они отдают силы!
Татьяна Васильевна покраснела, ей стало стыдно:
— Прости, Павлушенька, погорячилась…
Он не сердился. Знал: трудно ей, очень трудно. Взял ее руки и поцеловал:
— Труженица, хлопотунья моя…
Аносов весь отдавался труду, был терпелив ко всем, но одно всю жизнь ненавидел — лентяев, прихлебателей, людей, работающих с оглядкой. Он страдал, глядя на ухищрения ленивцев.
Однажды Павел Петрович пришел домой злой, раздраженный. Сбросив фуражку, он нервно зашагал по столовой.
— Что с тобой? — обеспокоенно спросила Татьяна Васильевна. Что-нибудь случилось на прогулке?
Синим рассветом Павел Петрович уходил на прогулку. От дома начальника горного округа к заводу вела дорожка. Древний столетний дед Потап каждое утро деревянной лопатой сгребал снег в высокие валы. Приятно было пройтись по скрипучему снежку, полюбоваться сверканьем снежинок в синеющих на заре сугробах и поговорить со стариком. Неделю тому назад Потап скончался. Контора поставила на его работу крепкую, смуглую женщину с крупными чертами лица и наглыми глазами. Она до отвращения не любила труд.
— Ты только подумай, — гневно рассказывал Аносов: — Я час сидел и смотрел, что она делает. Эта ленивица придумывала всякие поводы, чтобы только не сгребать снег. Все ее помыслы были направлены только на одно как бы не сделать лишнего движения. Как это можно? Нет, милая, я так не могу! Наш человек работает, как песню поет. Легче и приятнее работать, чем так паразитствовать. Убрать, убрать ее…
Расстроенный Павел Петрович ушел на завод, и только в литейной, где все работали в полную меру, он успокоился. Приятен был вид литейщика Швецова, когда после напряженного труда он блаженно утирал со лба обильный пот и говорил размягченным голосом:
— Эх, и похлопотал всласть, — от души, от сердца!..
В других цехах было иное: мастера работали по-разному, выполняя «уроки». Русские работали во всю силу, а для иноземцев нормы были занижены.
Раньше Аносов проходил мимо несправедливости, стиснув зубы. Став начальником, он ото всех требовал добросовестной работы.
Павел Петрович долго сидел над урочным положением, проверял его в цехах, и, наконец, оно вошло в силу.
Русские мастера ковали по девять-десять саперных клинков в смену, а норма в «урок» составляла восемь клинков. Труд спорился в их крепких руках! Золингенцы отставали от русских.
— Нельзя нас сравнивать с мужиком, — кричали они. — Мы не привыкли так! Будем жаловаться. Русский мужик есть грубый человек, а мы есть люди высокого мастерства!
Иноземцы, действительно, принесли Аносову жалобу. Павел Петрович с огорчением прочел заявление золингенцев о том, что немыслимо отковывать восемь клинков в день. Чего только не приводили они в свое оправдание: и сталь негодная, и уголь мокрый, грязный, и браковщики строгие, и фабрика от такой нормы пострадает.
Аносов решил не уступать. Он сел писать ответ золингенцам, когда в кабинет вошел старый кузнец.
— Ну как, тяжело? — озабоченно спросил его Павел Петрович.
— Не легко, но как же иначе? — удивленно сказал тот. — У нас молвится: на полатях лежать, так и ломтя не видать! Лень мужика не кормит. Труд, Петрович, благостен! Бездельное железо ржа ест! Так ли?
— Твоя правда, — согласился Аносов и забросил словцо: — А что если, скажем, установить для иноземца один урок, а для русских иной? Ну, скажем, поболе?
Инженер попал в больное место. Кузнец развел руками и сказал резонно;
— Невдомек что-то, Петрович. Зачем русского работника обижать? Давай так: что миру, то и бабину сыну.
— Опять твоя правда! — снова согласился Аносов, и оба они довольно засмеялись.
Павел Петрович сел к столу и твердым, четким почерком написал золингенцам ответ:
«Дается знать Златоустовской оружейной конторе… что все русские мастера выполняют вновь определенный урок по ковке саперных клинков по 8 штук в день без затруднения, то главная контора не может согласиться на понижение сего урока для всех мастеров. А поэтому предписывает: при распределении мастеров наблюдать тех из них, кои не могут с такой же ловкостью и скоростью сдавать по 8 штук саперных клинков, как другие, выполняющие тот урок, употреблять их преимущественно при ковке сабельных и палашных клинков, о чем объявить и просителям…»
На Большой Немецкой улице с утра начался переполох.
Разобиженные немцы толпой пришли к Аносову.
— Что вы с нами делаете? — выкрикнул Петер Каймер. — Где это может быть? Сам его императорских величеств покойный царь Александр сказал наш пастор: «Россия богат и может кормить, очень хорошо кормить золингенец и клингенталец!». Не так ли, господин начальник?
— Не так! — жестко отрезал Павел Петрович. — Хлеб нужно заработать. Вы получаете больше, чем русские мастера, а даете меньше. Где же справедливость?
Каймер насупился и непонимающе продолжал спор:
— Но что делать, если мы не в силах делать свой урок? Юлиус Шлехтер, пример, никогда не выполнял это…
Аносов строго посмотрел на Каймера и холодно ответил:
— О том известно мне. Ведомо также, что порой и на службу он не приходит, а потому Шлехтера сего дня от должности по оружейной фабрике я увольняю!
На минуту в кабинете установилась могильная тишина. Каймер стоял перед Аносовым с разинутым ртом и не находил слов в ответ. Он понял, что золингенцы и клингентальцы перестали быть незаменимыми в Златоусте. И как бы в подтверждение его мысли, Аносов сказал:
— Господа, запомните: труд превыше всего! В этом есть справедливость… Привилегии ваши окончены…
Опустив голову, комкая в руке шляпу, Петер Каймер первый повернулся к двери, а за ним гуськом потянулись и его соотечественники.
Глава четвертая СНОВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
К Аносову пришла известность: о его трудах знали во всей стране и за границей. «Горный журнал» печатал его статьи о проведенных исследованиях. Павел Петрович только что закончил большую работу «О булатах», мечтая опубликовать ее в столице.
Однако, как ни горько было это сознавать, известность его была довольно странная. В больших сферах его вспоминали лишь тогда, когда нужно было приготовить в подарок какому-либо королю или заезжему принцу драгоценный клинок.
Ни горный департамент, ни казенные заводы не перенимали его достижений. По-прежнему в Россию ввозили дорогую английскую сталь, значительно уступавшую по качеству златоустовской.
Министр финансов Канкрин вспоминал о Златоустовском горном округе, когда требовалось золото. Он охотно поддерживал иностранных ученых и, казалось, не хотел замечать русских даровитых людей.
Павел Петрович чувствовал несправедливое отношение к себе, и обида наполняла его сердце. Чтобы забыться, он с головой уходил в любимую работу.
В 1839 году приехавший в Златоуст горный чиновник сообщил неприятную новость: санкт-петербургскому Монетному двору нужны были штампы для чеканки монет. Чтобы изготовить их, требовалась сталь, которую собирались заказать в Англии.
Услышав эту весть, Аносов возмутился. Еще бы! Он много раз предлагал для изготовления штампов более прочную и дешевую златоустовскую сталь, однако департамент горных дел упорно отмалчивался.
И вдруг его неожиданно вспомнили и вызвали в Петербург.
Татьяна Васильевна быстро собрала мужа в дорогу. Ей самой очень хотелось побывать в столице, но связывали дети. Она только вздыхала и просила мужа:
— Побереги себя, Павлушенька, в пути. А главное, не спорь в департаменте с начальством!
Вечером Аносов сам уложил в чемодан рукопись, образцы русских булатов и заботливо спрятал приготовленную полоску металла. Это была подлинная драгоценность, свойства которой он собирался продемонстрировать в столице.
Весь последний вечер Аносов провел в семье.
Утром на ранней зорьке тройка рысистых коней вырвалась из Златоуста и понесла Павла Петровича по знакомой горной дороге.
Весна была в полном разгаре. С юга на север тянулись косяки гусей, уток. Из-под высоко плывущих нежных облаков лились волнующие крики журавлиных стай. Леса и рощи подернулись зеленой дымкой. Нагретая земля дымила испариной. Из конца в конец по российским просторам вышагивал за своим сивкой-буркой, наваливаясь на соху, извечный пахарь.
Перед Аносовым проходила Россия, истерзанная и ограбленная. Грустно было смотреть на всё это, и только думы о Петербурге немного отвлекали Аносова от мрачных мыслей. Когда же пошли плоские бескрайние болота, поросшие чахлой низкорослой сосной и вереском, а вдали встали смутные очертания столицы, сердце путешественника тревожно забилось.
Прошло двадцать три года с тех пор, как юноша Аносов покинул Петербург. Что ждет его теперь в этом большом городе?
Миновав заставу, экипаж покатился по широкой столичной улице. Тревожно было на душе. Всё было знакомое и в то же время незнакомое: Аносов отвык на Урале от городского шума, от многоликой людской толпы, которая потоком лилась вдоль каменных зданий.
— На Васильевский остров! Живее на Васильевский остров! поторапливал он кучера.
Бородатый детина и без того погонял коней, ожидая получить награду. Стояла теплынь, в садах и на бульварах шелестела густая зелень, но ямщик по привычке кричал на вороных:
— Эй, вы, шибчей по морозцу!..
Аносов невольно улыбнулся. Вот уж совсем рядом блеснула Адмиралтейская игла, и копыта коней застучали по разводному мосту. За ним поднялась белая колоннада Академии наук…
И разом, как вешний поток, нахлынули воспоминания. Вот гранитная набережная, где он гулял с Ильей Чайковским. За Невой темной громадой со сверкающим золотым куполом высился только что завершенный Исаакиевский собор, а перед ним — Медный всадник.
«Юность, юность, будто вновь воскресла ты! — восторженно подумал Аносов. — Как перевернутые страницы книги, возникают в памяти былые дни!..»
Павел Петрович остановился в семье знакомого горного инженера. Следовало бы отдохнуть после тяжелой дороги, но тянуло на петербургские площади, улицы…
Аносов умылся, переоделся в мешковатый мундир и отправился на прогулку. Он шел по городу и на каждом шагу встречал новое. Вот перестроенное здание Адмиралтейства. Сколько грандиозного и величественного в нем! Рядом Сенатская площадь. Павел Петрович замедлил шаги. Тут произошли декабрьские события 1825 года. Казалось, каждый камень обагрен здесь горячей кровью страдальцев. Аносов долго стоял у Медного всадника и размышлял о тех, кто поднял руку на царя.
Мимо прошел фонарщик с лесенкой через плечо. В руках он держал масленку и фитили.
«Всё совершает свой обычный путь. Неужели пролитая кровь навсегда будет забыта?» — с грустью подумал Аносов. Вдруг его внимание привлек прекрасный фонарный столб, у которого возился фонарщик, протирая стёкла. Чугунное узорчатое литье показалось Павлу Петровичу знакомым, и он вдруг вспомнил:
«Это наше уральское, каслинское. Простые бородатые мужики отлили изящное ажурное изделие, которое украшает собой одну из лучших площадей столицы!.. В этом сказывается великая сила и таланты нашего народа!» — с гордостью подумал он.
Впоследствии он часто встречал решетки, мостики, парадные навесы каслинского литья и каждый раз любовался творениями безвестных мастеров…
На Дворцовой площади появилось грандиозное здание Главного штаба. Широкой дугой, раскрытой в сторону дворца, как мощные крылья, распахнулось оно. А в центре поднялась триумфальная арка, увенчанная победной колесницей. По небу плыли лебяжьи облака, и, глядя на скульптуру, Аносову чудилось, что гении славы с лавровыми венками летят вперед, а всё кругом неподвижно.
И это чудо из чудес, эту сложную скульптурную группу, очень искусно и в короткий срок выполнили литейщики и чеканщики Александровского чугунолитейного завода.
«Как жаль, что сейчас нет здесь Иванки Крылатки. Он бы непременно пленился гением творцов этого ансамбля!» — подумал Аносов и опять, очарованный, затих перед возведенной Александровской колонной. Какая соразмерность и легкость в этом творении искусства! А между тем страшно представить себе огромную тяжесть, которая крылась в нем. Ствол колонны, представляющий единый гранитный монолит, весил тридцать шесть тысяч пудов. На большой высоте вознесся ангел с венком победы. Снизу казалось, что ветер прижимает его одежды к телу. Скульптуру ангела выполнил Орловский. Подножие колонны украшали бронзовые барельефы на воинские темы…
Не хотелось уходить с Дворцовой площади. Медленно двинулся Аносов по Мойке к Марсову полю. Две-три сотни шагов, и вот уже Зимняя канавка тихая и глухая, а против нее квартира, в которой недавно жил Пушкин. Прижавшись к чугунной решетке набережной, Павел Петрович снял фуражку и долго созерцал темные пустые окна осиротевшего жилья.
Аносов на минуту прикрыл глаза, прислушался к шагам одинокого прохожего. И ему почудились шаги Пушкина. Вот он проходит в темной крылатке и в цилиндре, постукивая о каменные плиты тростью. И до того было ярко это ощущение, что казалось: стоит открыть глаза, и перед ним пройдет живой Пушкин…
С грустью покидая это место, Аносов побрел дальше, к Марсову полю, обрамленному садами и величественными зданиями. Вот памятник Суворову. Позади в гранитных берегах медленно течет Нева, а за Лебяжьей канавкой раскинулись тенистые аллеи Летнего сада. Среди вековых лип высился золотой шпиль Инженерного замка, а впереди был простор, на котором происходили парады.
Но на Марсовом поле среди превосходных садов происходили не только парады, — Николай I устраивал тут и экзекуции. Провинившихся солдат прогоняли по «зеленой улице».
Прочь, прочь отсюда!..
Аносов вернулся к набережной и пошел вдоль Невы. Куранты Петропавловской крепости пробили одиннадцать часов, а над Петербургом всё еще разливался серебристый свет. Высокий шпиль крепостного собора сиял мягким блеском зари. Начиналась белая ночь…
Со смутным чувством тревоги Аносов вернулся на квартиру. Тихо прошел он в отведенную ему комнату и улегся отдыхать. Но в окно глядела светлая полоска неба, нижний край которой вспыхнул золотой каймой. Загоралась утренняя заря, спешившая сменить вечернюю…
На другой день в полдень Павел Петрович направился в Горный корпус. Он захватил с собой заветную полоску булата. Секрет ее, несомненно, заинтересует ученых. Один конец этой полоски закален так, что крошит своей твердостью лучшие английские зубила, другой — отпущенный — мягкий, словно железо. В одной пластинке два качества: булат и мягкое железо. Но этого мало — полоска обладает еще и сильными магнитными свойствами. Тут было над чем поразмыслить.
В раздумье он дошел до величественного здания, перестроенного Воронихиным. Вот широкая лестница, знакомые скульптуры, над которыми возвышался фронтон с барельефным фризом.
Волнение охватило Аносова. «Сейчас Захар распахнет дверь, бросится на грудь!» — подумал он и взялся за бронзовую ручку…
У порога стоял бравый усатый служитель в синем мундире. Увидев полковника горной службы, он вытянулся в струнку.
— Здравия желаю, ваше высокоблагородие! — молодцевато приветствовал он и спросил: — Сынка желаете определить?
— Да нет, в гости пришел! — ответил Павел Петрович. — А где же Захар?
— Позвольте спросить, какой Захар? — с недоумением посмотрел на него служитель. — Таких тут не значится. Я уж тут десятый годок выправляю службу, что-то не упомню такого.
— Да его все питомцы Горного знают. Неотделим от Корпуса…
— Извините, когда это было? — вежливо спросил служитель.
И тут только Аносов вспомнил, что это было давно, двадцать три года тому назад. Он смущенно сказал об этом. Унтер усмехнулся и вымолвил:
— Да он, ваше высокоблагородие, давно на погосте успокоился. Шутка ли, столько лет прошло…
Пусто и нехорошо стало на душе у Аносова. В это время навстречу ему по лестнице спускались два кадета. Один из них, высокий и стройный, приветливо обратился к Павлу Петровичу:
— Вам директора?
— Мне безразлично кого… Просто хочу увидеть коллег, классы… Давно, очень давно, я учился здесь…
Юноши переглянулись, и старший быстро спросил:
— Кто же вы?
— Горный инженер Аносов. Мое имя ничего не скажет вам, — скромно ответил Павел Петрович.
Но тут неожиданно совершилось то, что глубоко взволновало его. Кадеты разом оживились и бросились вверх по лестнице.
— Господа, к нам приехал господин Аносов! — закричали они.
На площадку высыпала толпа кадет, вышли и воспитатели. Они окружили Аносова, жали ему руки.
«Нет, я еще не забыт здесь, — с облегчением подумал Аносов. — Мои труды сделали меня здесь желанным гостем!» — Павел Петрович обнял двоих кадет за плечи и так пошел с ними вперед, в знакомые залы. Всё сохранилось на своих местах. Среднего роста блондин с бледным лицом почтительно представился ему;
— Илимов, физик…
Простое, открытое лицо. Такие люди отличаются честностью, и Аносов сердечно пожал протянутую руку.
Павла Петровича провели в спальные. Вот в углу коридора на козлах барабан. На нем бьют зорю. За порогом — выстроенные в ряды кровати. Когда-то малышом и он спал здесь, мечтая о горной службе. Каждая мелочь приводила его в умиление.
Незаметно прошли два часа. Аносова подвели к сухопарому, с рыжеватыми баками господину. Кто-то сзади шепнул:
— Академик Гесс!
Павел Петрович поклонился и назвал себя. Ни один мускул не шевельнулся на лице ученого. Он скучающе поднял вылинявшие глаза и промямлил:
— Рад, весьма рад, видеть вас, но извините, спешу на лекцию.
— Разрешите мне присутствовать на ней? — попросил Аносов.
Академик с минуту поколебался, о чем-то раздумывая, потом саркастически улыбнулся и сказал:
— Но я буду сегодня читать о знакомом вам предмете — о булатах…
Что это, случайность или Гесс решил сделать для него приятное? Инженер робко вошел в аудиторию и сел на заднюю парту. Химик взобрался на кафедру и монотонным голосом стал говорить о булатах. Он тщательно перечислил все попытки западноевропейских ученых открыть способ изготовления булата. С особым ударением он произносил имена Фарадея, Бреана, Бертье, Рихмана… Гесс рассказал даже о золингенских и клингентальских мастерах.
Павел Петрович густо покраснел, руки стали потными от волнения. Вот-вот сейчас академик произнесет его имя и подробно расскажет о златоустовских мастерах…
Однако лицо химика было отчужденным и скучным. Он ни одним словом не обмолвился о русских булатах. Слушатели с удивлением оглядывались на Аносова. Некоторые из них стали нарочно громко чихать, кашлять, наивным путем выражая свое недовольство профессору. Гесс поднял злые глаза и резко бросил:
— Вы мешаете мне!..
Никогда во всю свою последующую жизнь Аносов не чувствовал такой сильной душевной боли, как в эту минуту. Наглый, самоуверенный иноземец презрительно игнорировал русских людей. По блеску глаз, по учащенному дыханию, по лицам кадет Павел Петрович угадывал, какие благородные чувства обуревают юных слушателей. Они были возмущены высокомерием академика, и только жестокая николаевская муштра заставляла их молчать.
Когда Гесс сходил с кафедры, к нему подошел Аносов и протянул свою «волшебную полоску»:
— Я хочу показать вам сплав лучше тех, о которых вы только что говорили.
Академик взял пластинку и заносчиво ответил:
— Я должен прежде всего испытать вашу сталь, чтобы сказать свое слово! Впрочем, вам, очевидно, неважно мое мнение. Вы ведь не посчитались с мастерством золингенцев. Между тем…
— Я ничего плохого им не сделал, — поняв намек, вежливо ответил Павел Петрович. — Справедливость требовала…
— Хорошо, я поручу химический анализ господину Илимову! — не дослушав Аносова, снисходительно согласился Гесс и, слегка кивнув головой, удалился из аудитории…
Илимов добросовестно отнесся к поручению и, не скрывая своих чувств, написал свой отзыв быстро и решительно:
«Достаточно было испытать некоторые качества полоски, чтобы убедиться в достоинстве булата: она сгибалась без малейшего повреждения, издавая чистый высокий звон».
Академик нахмурился, но ничего не сказал своему помощнику…
Генерал Чевкин попросил Павла Петровича прочесть лекцию о своих опытах. Взволнованный и побледневший, Аносов вошел в большой зал, заполненный слушателями и горными инженерами. Он никогда не видел такой внимательной аудитории, не читал лекций, но сейчас понимал, что нужно рассказать о своих опытах. Постепенно он разгорался и со страстностью рассказывал о своих тяжелых неудачах. Лекция об исследованиях, которым он посвятил годы, показала слушателям, как широк кругозор этого образованного русского инженера.
Генерал по-юношески зааплодировал Аносову.
— Вы — гордость наша! Спасибо за русский булат! — говорил он, сердечно пожимая руку Павла Петровича.
Сотни восторженных юношей окружили Аносова. Только группа профессоров из иноземцев во главе с Гессом холодно и учтиво держалась в отдалении.
К Павлу Петровичу подошел академик Кумпфер.
— Вы настоящий ученый! — сказал он. — Меня очень интересует один вопрос, а именно — магнитные свойства булата. Это весьма важно для науки!
Аносов признался Кумпферу:
— Мною написана книга о булатах.
— О, совсем хорошо! Буду счастлив читать вашу рукопись, — потеплевшим голосом сказал академик.
Наполненный до краев радостью, Аносов покинул Горный корпус и весь вечер, счастливый и довольный, бродил по улицам города…
Он ждал приема у министра, а пока по заданию департамента горных дел работал над урочным положением. Помня об обещании физику Кумпферу, Павел Петрович отнес ему рукопись «О булатах».
Академик прочел сочинение и пожелал дать о нем свое мнение, которое непременно хотел видеть напечатанным вместе с трудом Аносова. Отзыв был лестный, и горный инженер отнес рукопись к редакцию журнала…
Между тем время уходило в повседневной суете, а министр всё не принимал Аносова. Занятый финансами, он уклонялся от приемов. В свободные часы Аносов присматривался к окружающему. Петербург резко изменился, неузнаваемы стали люди. В столице всё шло по желанию императора. Царь Николай любил только военное и военных — фрунт, парады, пышный мундир, высокий воротник, застегнутый на все крючки, блестящие пуговицы. Военная выправка и руки по швам тешили его глаз. Всюду преобладала форма, которая распространялась почти на всех; неправильно скроенная ливрея лакея или дамская шляпка на голове купчихи или мещанки вызывали вмешательство полиции. Казарменность, грубое фанфаронство наблюдались на каждом шагу.
Неожиданная встреча с министром произвела странное впечатление на Аносова.
Однажды Павел Петрович прогуливался по Зеркальной линии Гостиного двора. Вдруг кто-то рядом прошептал:
— Канкрин, сам Канкрин идет! Смотрите…
Навстречу шел высокий сухой старик в генеральской форме. Своим странным одеянием — теплой шинелью, треуголкой с султаном из белых перьев, зеленым шелковым козырьком-щитком над глазами — он вызывал улыбки прохожих. Инженер удивленно посмотрел на министра. Взоры их скрестились.
— Ты, голубчик, из горного департамента? Подойди-ка сюда, любезный! предложил Канкрин.
Павел Петрович вытянулся и отрапортовал:
— Корпуса горных инженеров полковник Аносов, ваше высокопревосходительство.
— Как? Тот самый, из Златоуста? — вдруг изумился министр и повеселел: — Ты здесь… Зайди-ка завтра ко мне, сударь! — Он протянул Павлу Петровичу сухую костлявую руку и удалился, шаркая большими ногами…
Подошли дни, которых так жадно ждал Аносов, — вот-вот наступит настоящее признание его трудов. «Горный журнал» принял к опубликованию его научную работу «О булатах». В академических мастерских Генгерсоном были произведены опыты над аносовской сталью. Она оказалась настолько крепкой и твердой, что с успехом применялась для обточки теодолитовых осей, тогда как ранее эта операция требовала алмаза.
На Монетном дворе генерал-майор Армстронг тоже произвел испытание стали. И здесь была одержана победа: аносовские стали оказались наилучшими для изготовления штампов.
Наконец Аносова принял Канкрин. Никогда еще этого не бывало: Егор Францевич встал и любезно встретил Аносова. Желтые, вялые щеки старика оживились, и в серых глазах появились искорки жизни.
— Я рад за вас, — начал министр и пристально взглянул на горного инженера.
Аносов почувствовал, что предстоит что-то важное.
— Вы колдун! — продолжал Канкрин. — Ничего не скажешь о вашей удаче в поисках золота. Поздравляю вас, — министр торжественно протянул руку. — Вы произведены в генерал-майоры!
Новость была приятной, но Аносов ждал иного — широкой поддержки его начинаний.
— Вы довольны? — дошел до его сознания глуховатый голос Канкрина.
— Благодарю, ваше высокопревосходительство. Тронут заботами, поклонился Аносов…
Министр провожал его до порога кабинета. Чиновники горного департамента заметили внимание вельможи и бросились поздравлять Павла Петровича. Сутулясь, Аносов прошел через канцелярию. Одна мысль, злая и неугомонная, сверлила мозг: «Здесь, в Петербурге, не любят Россию — свое великое отечество, своих сынов! Мы — пасынки на своей родной земле!».
…Зимой по февральскому зимнему пути он выбыл в Златоуст. На почтовых станциях, в столице, в Москве и на всем пути до Урала, много говорили о предстоящем строительстве железной дороги Петербург — Москва, о том, что главные заказы на рельсы и паровозы переданы Англии.
В Казани на почтовом дворе Аносов встретил одного важного господина. В ожидании смены лошадей проезжий непререкаемо изрекал:
— Русские — ленивый народ. Им правили варяги, потом татары, теперь немцы! Как хотите, господа, так суждено самим господом богом. Смотрите, англичане доставят в Россию и паровозы и рельсы.
У Аносова кровь прилила к голове. Он вскочил и решительным шагом подошел к незнакомцу.
— Сударь! — угрожающе сказал он. — Если вы не прекратите клеветы на русский народ, я не ручаюсь за себя.
— Позвольте, позвольте, я не понимаю вашего… — пожимая плечами, запротестовал проезжий.
— Это следует понимать! — резко вымолвил Аносов. — Знаете ли вы, что на Урале уже шесть лет, как действует первая железная дорога? Слышали ли вы, сударь, о Черепановых? Известны ли вам имена Ивана Ползунова и Фроловых? Вы ходите по великой земле, родившей Ломоносова, и поносите талантливый народ!..
Важный путешественник поспешил ретироваться. Сбегая с крыльца, он развел руками и вымолвил на ходу:
— Скажите, какой решительный генерал!..
Глава пятая ВОЗВРАЩЕНИЕ НА УРАЛ
Падал густой снег, когда тройка приближалась к Златоусту. В белесой мути скрылись вершины Таганая, Юрмы, очертания Уреньги. Кони ускорили бег. Ямщик ухмыльнулся в бороду:
— Городок близко, почуяли стойла!
Вот и первые домики. Из снежной пелены навстречу медленно выползали дровни. На них лежал грубый тесовый гроб. Печальная встреча. У гроба сидел лишь возница, кругом ни одной души.
— Стой! — крикнул ямщику Аносов.
Кони остановились. Смолкли погремки-бубенцы. Павел Петрович вылез из саней, снял треуголку и медленно подошел к дровням. Седой, нахмуренный возница с недоумением посмотрел на генерала.
— Кого хоронишь? — спросил Аносов.
— Безродного на погост везу, барин. Медведь в лесу задрал.
Мрачное предчувствие овладело Аносовым. Он невольно воскликнул:
— Неужели дед Евлашка погиб?
— Он и есть, барин. Бобыль, и хоронить некому. Эх, и дела! — вздохнул дед.
Павел Петрович махнул ямщику, тот понял жест: повернул тройку и поехал следом за Аносовым, который безмолвно пошел за гробом. Кладбище было далеко за городом на горном скате. Из ущелья дул пронизывающий ветер, но Павел Петрович не надевал треуголки. Снег редел.
Возница пожаловался:
— Продрог до кости. Зипунишка, вишь, какой дрянной…
Аносов скорбно молчал. Ветер со злым упрямством ударял в лицо. О чем было говорить? Вот ушел из жизни простой человек, охотник Евлашка, как будто никому не нужный. А кто, как не этот следопыт, открыл Аносову глаза на богатства Ильменей? Кто, как не он, помог добыть корунд и графит? То, что удалось сделать Павлу Петровичу, — плоды рук всех тружеников: следопыта Евлашки, литейщика Швецова, граверов Бояршинова и Бушуева. Сколько их, безвестных талантливых русских мастеров, беззаветно отдавших свои силы для возвеличивания Родины!
В редком снегопаде показалось кладбище. Распахнутые ворота. Сугробы. По глубокому снегу дровни дотащились до раскрытой могилы. Павел Петрович подошел к краю. Глинистые края ямы сверкали изморозью. Подле стоял седовласый могильщик с кайлом в руке. И тут Аносов спохватился:
— Позвольте, как же без священника?
— Что ж делать, батюшка, постеснялись иерея звать. Не на что! скорбно пояснил возница. Он сошел с саней и засуетился: — Вот и приют готов! Не позовете ли, сударь, ямщика? Поможет гроб опустить…
Вчетвером они осторожно на вожжах опустили гроб в могилу.
— Прощай, друг! — дрогнувшим голосом прошептал Аносов, и слёзы блеснули на его глазах. — Спасибо тебе за честный твой труд…
По крышке гроба глухо застучали комья земли. Когда над могилой вырос свежий холм, Аносов достал кошелек.
— Возьмите, старики, — смущенно предложил он и протянул им по рублю. — Берите на бедность. Вижу, трудновато доводится вам…
Аносов забрался в сани, и тройка снова помчалась в город…
Татьяна Васильевна засияла и, смеясь и плача, бросилась навстречу мужу, когда он переступил порог:
— Просто не верится! Слава богу, наконец ты вернулся, и еще генералом!
Он бережно обнимал ее за худенькие плечи и уговаривал:
— Ну, будет тебе, будет… Дети…
Ребята уже давно тянулись к отцу.
После объяснений и радостных восклицаний шумно уселись за стол.
Зимний день в горах короток, быстро гаснет. Засинели сумерки. Усталый Аносов едва добрался до кабинета и взглянул на рукописи. Они лежали в порядке, прибранные любовной рукой жены. Ни пылинки. Татьяна Васильевна никого не впускала в это святилище, боясь, чтобы не причинили беспокойств Павлу Петровичу.
Вернувшись из странствий, он с особым удовольствием растянулся на диване и, окруженный семьей, рассказывал о столице. Свои разочарования и огорчения он деликатно скрыл от семьи. Пусть будет радостным и тихим этот вечер!
Хотелось отправиться на завод и узнать о литье, но Аносов отложил посещение до утра.
Детей уложили спать. Татьяна Васильевна рассматривала подарки, привезенные мужем из Петербурга. Павел Петрович незаметно вышел из дому. Кругом была такая глубокая успокаивающая тишина, что слышался шорох падающего снега да согревающее дыхание большого завода. Аносов сошел с крылечка. Давно смолкла частая дробь колотушки. Но сторож не спал, он сидел на скамье и вполголоса пел:
Едут здесь купцы со товарами, А везут они в сумке золото, В сундучках везут семицветики. Нападем на них ночкой темною, Отберем у них чисто золото, Со товарами мы расправимся, Со хозяином рассчитаемся: Вздернем разом их на сосёночки, Пусть погреются здесь на солнышке!..«Ничего, хороша для стража песня!» — улыбнулся Аносов и остановился перед караульщиком.
— Здравствуй, Василий, голос у тебя приятный! — нарочито громко похвалил он.
— Батюшка, приехал! — обрадовался старик. — Прости меня, окаянного, на разбойничью песню польстился!
— Ну, как, не уворовали тебя?
— Что ты, что ты, батюшка, кому я нужен, старый да калека! — замахал руками Василий. — Ночь-то какая тихая. Небось, соскучился по заводу? ласково спросил сторож.
— Затосковал, — признался Аносов.
Они прошли до плотины, полюбовались огнями доменных печей и вернулись к дому начальника.
Татьяна Васильевна с тревогой на лице встретила мужа:
— Ты куда ходил?
— Захотелось подышать морозцем, — слукавил он и уселся у огонька…
После длительной разлуки он пошел прямо в заводские цехи. На потертом мундире блестели генеральские эполеты. Аносова поразило, что мастеровые притихли. Не беда ли случилась в его отсутствие на заводе? Нет, всё было в порядке. Его поздравляли, но какое-то отчуждение, смущенность читал он на лицах рабочих. В чем дело?
Наконец-то литейный цех. На пороге мастер Швецов и подручные. Швецов молча поклонился, прокашлялся и глуховатым баском вымолвил:
— Позвольте поздравить, ваше превосходительство…
Павел Петрович обиделся:
— Да ты что, Николай, неужели не нашел теплого слова ради такой встречи? Давно ведь не виделись!
Швецов вдруг оживился, хмурость как рукой сняло. Радостно улыбаясь, он обнял Аносова:
— Дозволь поцеловать с возвращением…
— Давно бы так! — взволнованно вырвалось у Аносова, и он крепко прижал литейщика к груди. — Соскучился и по тебе, и по литью…
Старик всё еще косо поглядывал на эполеты Аносова, и Павел Петрович, догадываясь, что его смущает, привычным движением сбросил мундир, засучил рукава рубашки и предложил:
— Ну-ка, покажи, как ведет себя литье в тиглях!..
Началась обычная жизнь. Пришлось делить время между заводом и золотыми приисками. А в это время в Петербурге в Российской Академии наук имя Аносова произносилось на все лады. Предстояло одиннадцатое присуждение демидовских наград. Многие горные инженеры настаивали отметить научные труды Павла Петровича.
— Этого не может быть! — с возмущением протестовал непременный секретарь Академии — маленький Фус. — Аносов есть практик, не ученый. Академия уважает лишь чистая наука!
Желчный и хитрый, он сумел склонить к своему мнению президента Академии князя Уварова. Барственный, с брезгливо поджатыми губами вельможа, ничего не смысливший в науке, вторил Фусу:
— Как можно войти в святилище науки со столь житейскими делами!
Академик Кумпфер, который раньше интересовался магнитными силами булата, теперь вместе с Гессом выступил против Аносова. В июне петербургские друзья Павла Петровича прислали список с решения Академии наук, читанного на публичном заседании Академии 22 мая 1842 года.
Павел Петрович с волнением прочел:
«Господину Аносову удалось открыть способ приготовления стали, которая имеет все свойства столь высоко ценимого азиатского булата и превосходит своей добротою все изготовляемые в Европе стали.
…Если бы в сочинении г. Аносова было указано, каким образом можно всегда с удачей изготовлять эту сталь, то, не колеблясь, должно бы было признать это открытие одним из полезнейших обогащению промышленности, и в особенности отечественной. Но в описании столь мало сказано о способе приготовления этого булата, что надобно думать, не представляет ли г. Аносов себе самому этой тайны или, может быть, ему самому только временем и случайно удается изготовлять такую сталь.
Сочинение г. Аносова не представляет тех элементов, из которых следовало бы основать прочное суждение о его открытии, а можно судить о важности его изобретения только по тем образцам стали, которые он доставил сюда. При таком положении дела гг. академики не решаются представить Академии о присуждении г. Аносову демидовской награды за изобретение, которое не сделалось еще общим достоянием и о котором даже неизвестно основано ли оно на приемах верных и доступных для всех и каждого.
Однако в предупреждение упрека в том, что столь важное отечественное открытие могло ускользнуть от внимания Академии, она, на основании свидетельства двух своих членов, видевших образцы булата г. Аносова, положила удостоить открытие его в нынешнем демидовском отчете почетного отзыва, уверена будучи, что если способ г. Аносова действительно основан на твердых указаниях науки и оправдывается верными и положительными опытами, благодетельное правительство наше, конечно, не оставит прилично вознаградить изобретателя».
«Иезуиты! — в страшной обиде подумал Аносов. — За русскими они не признают способностей в науке! Не такие ли затравили Ломоносова, единственного русского человека в Академии?» Ему ярко представилась картина заседания. Огромный стол, крытый зеленым сукном. Вокруг него сидят важные персоны с типичными чертами лица — большеносые, надменные. За дутой важностью они стараются скрыть свою тупость и пустоту. Кто из них прославился своими трудами? Прикрываясь лживой заботой о пользе отечественной, они ненавидят всё русское. Среди них председательствующий в расшитом золотом мундире со звездами, как попугай, твердит вслед за иноземцами: «Да, да, я с вами согласен…»
Аносов со страдальческим лицом сложил вчетверо извещение и упрятал его глубоко в ящик стола.
«Не наград и похвалы вашей я домогался, когда искал русский булат! с возмущением думал он. — Я желал блага моей родине! Ей отдаю и отдам все свои силы. Всё, что добыто мною о булате, рассказал без утайки. Каждый плавильщик по моим описаниям изготовит булат. А тот, кто не сведущ, тому никакие указания не помогут!»
В окно заползали сумерки, в кабинете становилось темно. Павел Петрович сидел, не зажигая света. Вошла Татьяна Васильевна и обеспокоенно склонилась над ним:
— Что с тобой, Павлушенька? Уж не болен ли?
— Устал, смертельно устал, милая, — впервые за всю их совместную жизнь пожаловался он жене.
Надо было забыться. Единственным спасением казался труд, и Павел Петрович выехал на Миасские золотые прииски. Еще до отъезда в Петербург Аносов приказал перевести золотопромывальную фабрику на новое место. Ложе реки Ташкатургана было изрыто, пески вынуты и промыты. Оставался небольшой участок под строениями. На нем Аносов надеялся найти золото. Это обещали его наблюдения.
В конце сентября он устроился в избушке на приисках. Унылая дождливая осень навевала тоску. Ветер срывал последние листья в лесу. Еще вчера пожелтевшие березы, черемуха, рябины и ярко-багряные осины стояли осиянные солнцем, как пылающие костры, а сегодня пронизывающий ветер лишил их золотого наряда. Кругом — глухомань: леса угрюмы, горы суровы, недоступны. Это самое дикое место в краю. Утро занимается нехотя, без пения птиц. Его пробуждает колокол, повешенный на длинном шесте под маленькой крышей. Заспанный «будинка», высокий, с желтой плешью старик, дергает черную смоляную веревку, и начинается угрюмый звон. Туман сползает с горных хребтов. Студено, не хочется вставать с теплой постели. Рассвет сопровождается дождем; мелкий, холодный, он иголками колет лицо.
Тяжело вставать в сырые туманы. Все кости ноют. Аносов удивленно думает: «Неужели это старость? Тяжело!».
Он пересиливает чувство недомогания и дремоты, быстро вскакивает с тощего тюфяка, потягивается до хруста в костях и бежит к колодцу. Холодная обжигающая вода сразу прогоняет сон. Тепло и сила возвращаются телу. Павел Петрович вглядывается в сумрак. Прииск медленно, нехотя пробуждается от тяжелого, свинцового сна. Вот в оконце низенькой приисковой казармы вспыхнул и затрепетал скудный огонек масляного ночника, за ним другой, третий… У караульной будки разминается бородатый казак-часовой с шашкой через плечо.
Прогудел колокол, из казацкой сборни выскочил бравый урядник и закричал:
— Барабанщик!
Мгновенно появился седоусый служака и заработал палочками. Глухая унылая дробь раскатилась по прииску, настойчиво призывая людей к труду. По баракам торопливо зашагали нарядчики.
— Живо, живо! — торопили они приискателей.
В эти последние минуты на полатях у кирпичной печки, между нар закопошились люди, грязные, оборванные, взлохмаченные, измученные нуждой и непосильной работой. Они торопливо натягивали на себя не просохшую за ночь одежду и, ругаясь, уходили под мокрое осеннее небо:
— Опять льет, опять мокреть…
Аносов понимал, как тяжело сейчас спускаться в забой, где по колено ржавой воды. Каторжная жизнь!
К нему размашистым шагом подошел поручик горного корпуса рыжеватый Шуман. Он вытянулся и отрапортовал:
— Ваше превосходительство, все в сборе и отправлены на работы!
Аносов озабоченно посмотрел на инженера:
— Много воды в забоях?
— Потоп… Однако отливаем… Зато невиданный успех!
— Сколько? — односложно спросил Павел Петрович, присматриваясь к офицеру.
— Вчера с одного пуда песку взяли по семьдесят золотников.
— Отлично. Приду сам в забой…
Поручик вскинул тревожные глаза.
— Вам никак нельзя: не к лицу. И притом возможен ревматизм, обеспокоенно воскликнул он.
— Ничего, — спокойно ответил Аносов. — Сами увидите, как это будет к лицу. А ревматизм — бог с ним! — безнадежно отмахнулся он.
В полдень под сеющим дождем Павел Петрович прошел к добытчикам. Глубокие сырые и грязные ямы были полны копошащихся людей, вооруженных кайлами и лопатами. Аносов в высоких сапогах спустился в развал. Он добродушно окрикнул рабочих:
— Бог в помощь, братцы! Как идет золото?
Золотоискатели посторонились, загомонили, оживая от доброго слова:
— Идет… Само плывет вместе с дождиком. Видишь, жила идет к старым строениям.
У края отвала стоял коренастый парень и кайлом долбил породу; с его скуластого лица струился обильный пот.
— Вишь ты, и под дождем жарко! — улыбнулся он Аносову. — Работёнка! Чем больше манит, тем охочее кайлом бьешь. Чую, раздув[15] будет!
— Неужели будет? — ласково посмотрел на него Павел Петрович. — Откуда ты знаешь?
— По породе, — ответил парень. — Ведь весь наш род по золоту робил. И деды, и отцы, а теперь — мы. Сказывал мне еще батя, тут места везде шибко богатимые, да и я удачливый, в рубашке родился…
— И врет, всё врет, — добродушно проговорил черный, как жук, старатель с бородой, измазанной глиной.
— Зачем вру? — обиженно отозвался парень. — Не будь я Никифор Сюткин, ежели вру. Да гляди, сколько золотища намыл на этой полосе. И всё крупнейшее, как тараканы. Ах и крупка! — в голосе его послышалось восхищение.
Аносов с удовольствием присматривался к ладному старателю. Глаза у него, видать, острые, сила — большая.
— А знаешь, Никифор, я в твою удачу верю! — убежденно сказал инженер. — Золото тут есть!
— Вот спасибо за ободрение! А ну-ка, копну! — Никифор взмахнул кайлом и врезался в породу.
Высокая, толстоногая девка, ловко орудуя лопатой, проворно наполняла бадью песком.
Завидя Аносова, она выпрямила широкую спину, задорно крикнула:
— От Сюткина, барин, идешь? Попробуй-ка с лопатой, это не чаи гонять!
— Что ж, попробую! — спокойно отозвался Аносов и, взяв из ее рук лопату, стал спорко работать.
— Гляди-ка! Руки белые, слабые, а старается, как мужик! — удивилась девка и вдруг засуетилась: — Давай лопату… Вон пучеглазый дьявол ползет! — показала она взглядом на шагающего по отвалу смотрителя…
В черном сюртуке с белыми пуговицами, смотритель подошел к Аносову. Вылупя глаза, заговорил хрипло:
— Ваше превосходительство, да разве же это возможно вам? — он перевел злой взгляд на девку и грубо сказал: — Куда лезешь? Не видишь, сам генерал перед тобой!
Девка потупилась и взяла из рук Аносова лопату. Павел Петрович нахмурился и сказал смотрителю:
— Что мне можно, а чего нельзя — знаю сам! И ничего плохого она не сделала, чтобы кричать на нее. Работает на совесть!
Девка благодарно взглянула на Аносова и усердно взялась за дело.
Под ногами хлюпала жидкая грязь. Дали заволокло беспросветными тучами. Аносов шел, внимательно вглядываясь в породу. Что-то блеснуло в разрезе. «А ведь это похоже на золотоносную жилу!» — подумал он и сказал:
— Посмотрите, что здесь!
Старатели загляделись на породу. Неоднородную прослойку по всей длине прорезала извилистая линия, справа темноватая, обрызганная зеленовато-желтыми пятнами.
Павел Петрович поднес фонарь, и прожилок словно ожил — засверкал, заиграл искристыми гранями.
— Это золотоносный пирит! — сказал Аносов. — Ну, как, братцы, будет золото? — обратился он к рабочим.
За всех ответил сухонький, с реденькой бородкой старатель:
— Богатимое место! Только счастье разное.
— Что ты болтаешь? — перебил его другой, с диковатыми глазами. Счастье-то одно для всех тут: ревматизм да грыжа! А то пласты вскрываешь и себя в могилу зарываешь.
— И всё-таки стараешься? — лукаво спросил Аносов.
— Известно. Да и как отстать, когда тянет к жиле. У горщика одна песенка!
Добыча шла удачливо, и Павел Петрович решил вернуться в Златоуст. По грязной дороге, по колдобинам кони потащили экипаж в горы…
А Никифор Сюткин тем временем взмахивал кайлом. Место подошло заманчивое. Тяжелый удар старателя пришелся по раздуву. Кругом твердая порода, а в середине пустота.
— Ух! Что же это? — загорелся Сюткин. Он припал к щели, и сердце часто, часто забилось. Схватив лом, обливаясь потом, он вывернул самородок. Но какой! Вот оно счастье!
В яме лежал огромный темно-коричневый кусок с приставшей к нему мокрой глиной.
— Окся! — закричал старатель. — Кабана выкопал!
Широкоплечая девка бросила бадейку и побежала к яме.
— Батюшки вы мои! Неужто и в самом деле оно?
— Ага, — золото!
Уже бежал народ. Побросав кайлы, лопаты, инструмент, люди торопились увидеть самородок. Поспешил и Шуман.
— Да-а! — в раздумье сказал он. — Это как же так?
— И сам не знаю, — чистосердечно признался Сюткин. — Долблю кайлом край ямы, что под углом бывшей конторы. Слышу — твердое… «Не камень это», — подумал и заглянул туда, а на меня и блеснуло. Просто ошалел я… Кричу Оксе: «Зови смотрителя, самородок выпал!».
В торжественной тишине старатель, краснея от натуги, поднял самородок и взвалил его на тачку.
— Поехали на весы! — крикнул Сюткин.
Под охраной двух казаков, горного поручика Шумана и смотрителя самородок доставили к шлангу. Тщательно обмыли находку и положили на точные весы, которые хранились под стеклом.
Старатель с трепетом смотрел на стрелку. Вот смотритель поставил пудовую гирю, а самородок и не дрогнул.
— Чудо! — вымолвил поручик. — Ставьте еще гирю!
И под тяжестью второго пудовика самородок лежал солидно, внушительно. Прибавили пятифунтовик, но и тут не поднялся золотой клад.
— Еще подкинь! — весело выкрикнул Сюткин.
Наконец стрелка весов сдвинулась, и отсчет показал вес самородка — 2 пуда 7 фунтов и 91 золотник…
— Ну, и Сюткин. Схватил-таки жар-птицу за золотое перо!
— Смотри, не загордись, парень! — присел рядом кряжистый бородач. Золото, брат, не только богатство несет: через него и жадность, и горе, и пропойство…
— Это истина, мужики! — вмешался в беседу старатель с реденькой русой бороденкой. — Скажу вам правду про старое да бывалое…
— Говори, Ермил!
— Так вот, братцы, робил у нас старатель один. Годов пять, поди, на прииске надрывался, а золото в руки не дается. И идет он раз по лесу, а дума одна: «Ух, если бы мне попало золото, враз жизнь по-иному бы повернул!». Только подумал, а тут что-то сверкнуло, словно огнем душу обожгло. Он застыл и глазам не верит: под елочкой золотая свинья стоит. Одумался старатель и стал красться к хавронье, а она от него прочь. Однако мужик смекалистый и упрямый, не растерялся и ну бежать за ней. Догнал и домой приволок. Ну, а избенка, известно, какая его! Закут, темно, тесно, бедность; тараканы, и те с тоски передохли. А тут такое богатство привалило! Видно, измытарился от голодухи, горемыка. Что ж на свинью-то глядеть: отрубил он ей ногу, иначе нельзя обойтись. У самого сердце ноет: жаль свинью без ноги оставить. Ладно, приделал ей осиновую.
— Ух ты, ловкий! — засмеялся Сюткин.
— Погоди смеяться, сказ еще не весь, — сурово остановил его рассказчик. — Сдал он свиную ногу перекупщику и выпил… А выпил — и в кураж вошел. Между тем денежки уже все. Пришлось вторую ногу рубить, а там, глядишь, третью. Отрубит и осиновую приделает. Через неделю, родимые, стала свинья на осиновых ногах. Потом, глядишь, и уши оборвал. Заскучал парень и решил раз во хмелю показать себя: разрубил всю свинью, продал по частям золото и забедокурил. Пил сам, весь прииск споил, бархатом дорогу укрывал, окна бил. «Чего хочу, то и сделаю!» — ломался он. Свинья хоть и золотая, а не на долго хватило: всё в трубу дымом вышло. Пришлось без похмелья на работу стать, опять на золото. И снова нищ, — яко наг, яко благ, яко нет ничего! Поглядел на свое рубище, вздохнул и говорит: «Эх, на мое горе кто-то свинью подложил… Если бы теперь попала, умнее был бы…»
— Нет, шалишь, не всегда такое фартит! Раз-два, — а весь век — нищий и каторжный! — с горечью сказал кряжистый бородач. — Ну, братцы, за работу пора! Гляди, нарядчик идет!
И опять все взялись за кайла и лопаты, и стали ворошить холодную влажную землю…
В это время поручик Фишер с конвоем казаков отвез самородок в Златоуст. Аносов внимательно осмотрел золото и велел снять точную деревянную копию с самородка, которую густо позолотили и положили на хранение в арсенал.
Павел Петрович сказал поручику:
— Этот первый в России самородок по величине пусть будет и не последним! Сегодня же отправитесь к начальнику Уральского хребта и вручите ему сие богатство.
Поручик немедленно выбыл в Екатеринбург. В горном управлении, как только узнали о редкости, сейчас же допустили посланца к генералу Глинке.
Глинка пристально смотрел на самородок.
— Да-а, велик кусок, — тихо вымолвил он. — Чего в нем больше: радостей или горя?
Он долго стоял над самородком, не в силах оторвать глаз от золота. Натешившись зрелищем, Глинка прошел в канцелярию и продиктовал приказ.
Поручик Фишер, не дожидаясь «золотого» транспорта, по этому приказу отбыл с находкой в Санкт-Петербург, чтобы лично доложить Канкрину все подробности события.
Невиданный самородок доставили в столицу и торжественно положили на крытый зеленым сукном стол. Министр склонился над матовой золотой глыбой.
Министерство опустело: кончились служебные часы. Только секретарь не уходил. Осторожно заглянув в щель, он увидел, что Канкрин сидит всё в той же позе.
«Какую страшную власть имеет золото! — подумал тщедушный чиновник. Даже сам господин министр не может наглядеться на сей презренный металл. Каково?»
Глинка предписал начальнику горного округа Аносову:
«Нашедшему самородок Сюткину выдать денежную награду по пятнадцать копеек за золотник, или 1266 рублей 60 копеек. Но так как заводский человек Сюткин в настоящее время несовершеннолетний, к тому же сумма эта, по ограниченности его потребностей, может быть растрачена им совсем непроизводительно, то я признаю за полезное выдать ему на руки только 66 рублей 60 копеек, остальные же деньги положить на хранение в государственный банк и, по мере накопления процентов, ежегодно ссужать ими Сюткина…»
Павел Петрович скептически отложил бумагу, задумался.
«Золото моем, а с голоду воем!» — вспомнил он поговорку старателей.
Глава шестая ПРОЩАЙ, ЗЛАТОУСТ!
Золотой поток непрерывно лился из приисков в Петербург, а старателям по-прежнему жилось плохо. Да и сам Аносов с трудом сводил концы с концами. Много денег уходило на книги и журналы, на редкие булатные клинки. Татьяна Васильевна однажды с тоской сказала мужу:
— Видно, никогда не выбьемся из нужды, Павлуша!
— Разве это нужда? — спокойно ответил Аносов. — Мы живем хорошо, а главное, у нас есть благородная цель. — Он привлек к себе жену и поцеловал. — Радость не в том, чтобы копить жир, страдать одышкой и носить лучшие одежды, прикрывая ими пустоту в жизни. Великий смысл ее — создать полезное для потомства…
— Это хорошо, — согласилась Татьяна Васильевна. — Но ведь я иногда не знаю, что подать на стол гостю…
— Какие там гости! — отмахнулся Павел Петрович.
Однако гость уже стоял на пороге. Это был неожиданно прибывший в Златоуст Глинка. Он заметно обрюзг, но взгляд остался строгим, внушительным.
Весь день Аносов сопровождал начальника Уральского хребта по заводу, давая объяснения, а на сердце было смутно, тревожно: «Будет ли приличный генералу обед? Как выйдет из положения Танюша?».
Наконец Глинка устал. Проведя широкой ладонью по серебристому ежику на голове, он грубоватым голосом пожаловался:
— Взалкал! Сильно взалкал, и жажда палит! Ведите же, милый мой, в свой очаг. Есть там добрая Татьяна Васильевна!
От завода до квартиры Аносова было недалеко, но Глинке подали экипаж. Он расслабленно забрался в него и замолчал. Павел Петрович волновался: как там с обедом? Но, к его удивлению, стол был накрыт великолепно и любимые генералом яства ждали его. Глинка разомлел и занялся чревоугодием. Для каждого блюда гость находил ласковое название, пил наливки, крякал от удовольствия. И всё же его опытный глаз уловил тщательно скрываемую нужду: квартира была обставлена бедно, Татьяна Васильевна — в стареньком, хотя и заботливо отутюженном платье.
— М-да… — усердно разжевывая кусок мяса, неопределенно промямлил генерал.
Ему, черствому, грубому человеку, вдруг стало жалко семью Аносова. Уезжая из Златоуста, как бы мимоходом обронил:
— Ваше усердие велико… Я постараюсь… Позабочусь о прибавке вам жалованья.
Павел Петрович встрепенулся, хотел протестовать, но Глинка понял его и сделал решительный жест:
— Не спорьте! Мне лучше знать!
И он уехал, оставив Аносова со странным чувством: почему генерал заговорил об этом? Уж не Татьяна ли Васильевна вздумала просить?..
Расстроенный вернулся домой, но по независимому виду жены догадался, что она не способна на такое унижение.
— Откуда ты добыла денег? — пристально глядя в ее темные глаза, пытливо спросил Павел Петрович.
Татьяна Васильевна густо покраснела, помолчала и призналась тихо:
— Не обижайся, Павлушенька, я продала маклерше твои петербургские подарки.
Он взглянул в ее грустные глаза и удержался от укора.
Глинка не забыл обещанного им. По возвращении в Екатеринбург 19 октября 1845 года он написал министру финансов письмо об Аносове:
«Занимая более 14 лет настоящую должность, проявленным трудолюбием и постоянным усердием к пользам службы Аносов принес многие значительные выгоды управляемым им заводам, ввел разные технические усовершенствования и много способствовал улучшению состояния заводов. В особенности в последние два года техническая и хозяйственная часть Златоустовских заводов и оружейной фабрики весьма значительно усердием и распорядительностью его возвышены.
По уважению столь важных заслуг и достоинств генерал-майора Аносова и по вниманию к многочисленному его семейству и неимению состояния, поставлю себе обязанностью просить ваше высокопревосходительство исходатайствовать ему прибавку к нынешнему жалованью той же суммы, какую он получает, т. е. 1257 рублей 90 копеек серебром ежегодно, пока он в корпусе горных инженеров состоять будет. Удовлетворением ходатайства моего, ваше высокопревосходительство, изволите доставить справедливую награду заслуженному генералу…»
Однажды в весенний день почта доставила на квартиру Павла Петровича два пакета. Ничего не подозревая, Аносов вскрыл один из них, и лицо его вспыхнуло. В руках он держал диплом об избрании его членом-корреспондентом Казанского университета. Под документом стояла подпись заслуженного профессора чистой математики Николая Лобачевского.
— Сам Лобачевский отметил. Для этого стоило работать! — воскликнул Павел Петрович, и сердце его наполнилось благодарностью.
«Совет университета, — прочел он, — в совершенной уверенности, что господин Аносов, принимая возложенное на него звание, не откажется способствовать пользам наук, дал ему сей диплом…»
Во втором пакете он нашел извещение об избрании его почетным членом Харьковского университета.
Татьяна Васильевна достала вино, два бокала, до краев наполнила их и сказала:
— Это твой первый светлый день, Павлуша! Выпьем за нашу радость!
— Это неверно, милая, — мягко поправил он. — Первый светлый день наступил, когда я и литейщики создали булат! Теперь я чувствую, что ко мне пришло настоящее мастерство. Силы во мне много, и хочется поработать на всю мощь. Выпьем за это, дорогая!
— Выпьем за это и за то, что я не ошиблась в тебе! — темные ресницы жены взметнулись, ее белые зубы засверкали на милом смуглом лице.
…Шли дни, месяцы, годы, а работы становилось всё больше. Аносов успевал всюду: он не оставлял заботы о литой стали, неделями жил на Арсинском заводе, где делали литые косы, изобрел новую золотопромывальную машину и занимался геологией. Во Франции и Германии публиковали его труды.
Весной 1847 года из Петербурга неожиданно пришел приказ о назначении Павла Петровича главным начальником Алтайских горных заводов и томским гражданским губернатором. Назначение застало Аносова врасплох. Тридцать лет прожито среди Уральских гор, сколько смелых и пытливых людей помогало ему в тяжелом труде, — мучительно было покидать их. Он с грустью обошел завод. Все знали о новом назначении Аносова, но отмалчивались. По лицу его догадывались, что ему трудно говорить об этом. В знакомом цехе он встретил старика Швецова. Тяжело склоня голову, Швецов сидел белый, как лунь. Его большие натруженные руки перебирали комочки шихты. Сейчас этот серый комочек казался ему благословенным и давал силы его дряхлеющему телу. Он будет трудиться до последнего часа!
— Как быстро прошли годы, — со вздохом сказал литейщик.
Аносов улыбнулся в ответ:
— Знаешь, отец, еще полководец Суворов сказал: «Деньги — дороги, жизнь человеческая — еще дороже, а время — дороже всего! Управляй счастьем, ибо одна минута решает победу!». Мы с тобой не растратили ни одной минуты, и нам краснеть не придется.
Глаза литейщика вспыхнули.
— А всё-таки мало человеку отпущено! — с задором сказал он. — Я хотел бы тысячу лет прожить!
— И тогда бы опять сказал: мало! — ответил Аносов. — Дело не в этом. Римский философ Сенека очень умно сказал: «Жизнь достаточно продолжительна, если уметь ею пользоваться!».
— Вот это правильно! — подхватил старик. — Время — великая ценность, и его надо расходовать бережно и расчетливо! Умные слова ты сказал, Петрович!
На заводской вышке отбили десять глухих ударов. Звездная ночь глядела в окна, не хотелось уходить из цеха.
В этом году весна на Урал пришла хмурая, неспокойная. То ярко засветит солнце, и тогда на лесных еланях голосисто защебечут птицы, то внезапно задует пронизывающий сиверко, и тогда отогретые леса и синие горы снова уходят в густую туманную мглу. Чудно как-то было: под ногами журчали талые воды, а сверху валил густой снег. Аносов в эти дни объезжал заводы и, перевалив увал, прибыл в Миасс. Издалека до него донесся с золотых приисков гул машин и человеческих голосов. Работа шла хорошо. Настроение у Павла Петровича было бодрое. Он удовлетворенно поглядывал на городок, на излучины быстрой речушки. Миасс обстроился, у приисковых лавок толпились жёнки, ребятишки, — ждали выдачи казенного довольства.
Кони пронесли Аносова по широкой улице и поровнялись с кабаком. Визгливые голоса неслись из распахнутых дверей, — шла гульба удачливых старателей.
— Глянь-ка, барин, — оборотясь, крикнул кучер и указал на валявшееся в дорожной грязи тело. — Вот черти, чуть не убили!..
Кони фыркнули и, сдержанные сильной рукой, разом остановились.
— Эй, золотая рота, — ожесточенно заорал с козел бородач. Поднимайся, дьявол!
Аносов вышел из экипажа и сурово сказал кучеру:
— Слезай да подними человека! Погибнет от холода!
Кучер слез с козел, шагнул в грязь и схватил пьяницу за плечи.
— Батюшки, да это Сюткин! — ахнул он.
На Аносова бессмысленно глядело тупое, опухшее лицо.
— Вот что делает с трудягами проклятое золото. А ведь какой парень был! — с жалостью сказал кучер и выволок Сюткина к домику. — Эй, люди, приютите несчастного!..
Из калитки вышла бойкая жёнка, огляделась и махнула рукой:
— Всё равно погибший человек… Отоспится и опять в кабак клянчить… Спился малый… Загубили…
Аносов ничего не сказал. Расстроенный он забрался в экипаж и быстро помчался к приискам…
…В июне установились дороги. Из Уфы в Златоуст пришли караваны. Площадь перед заводом напоминала торжище: ревели верблюды, суетились приемщики оружия, начиналась веселая пора, а Аносову приходилось покидать Урал.
Утром подали экипаж. Павел Петрович появился на крыльце в дорожном плаще. Перед домом горного начальника безмолвно стояла огромная толпа, а впереди всех Швецов.
На мгновение Аносов застыл на месте: теплый комок подкатился к горлу.
У крыльца появилась вдова с Демидовки. Она поклонилась ему и заплакала:
— Батюшка, никак нас покидаешь?
Павел Петрович обнял ее и сказал:
— Ну, ну, свет не без добрых людей…
К экипажу ему приходилось пробираться в людской тесноте. Каждый хотел сказать теплое слово уезжающему.
Литейщик обнял Аносова, и они трижды поцеловались.
Кто-то в толпе громко крикнул:
— Айда, распрягай коней, до расстанья на себе довезем!
Аносов взобрался на подножку экипажа. С обнаженной головой он поднял руку и сердечно попросил:
— Друзья мои, не нужно этого! Не утяжеляйте мне разлуку с вами. Спасибо за всё, за совместный труд…
Он замолчал, невольная слеза выкатилась из глаз. Смахнув ее, он опустился на сиденье. Толпа расступилась, и кони медленно тронулись…
Но вот тройка вырвалась на простор и рысцой понесла в горы. Над хребтами сияло солнце, раскинулся голубой простор.
Аносов приподнялся и взглянул на городок, который уходил назад, постепенно скрываемый горами и лесами.
— Прощай, Златоуст! Прощайте, дорогие труженики! — грустно вздохнув, сказал Павел Петрович и подумал: «Что-то ждет меня впереди?».
Глава седьмая ЛЕГЕНДА ОБ АНОСОВЕ
Сталевар Швецов возвращался из дальнего завода в Златоуст. Ныли старые натруженные кости. Колесный путь по горам — беспокойный, томительный. В долинах продувало осенним ветром. Березовые рощи осыпали землю золотыми листьями, последним ярким багрянцем пылали осиновые перелески, только темно-синие ельники не меняли окраски и хмуро шумели под холодным ветром. В небе не раздавались трубные крики журавлиных стай: перелетные птицы покинули Урал, охваченный дыханием осени. Только на глухих озерках да в тихих речных заводях уныло плавали одинокие утки-подранки да обессиленный лебедушка, — не видать им больше ясных теплых дней!
— Невеселая старость — осень человеческая! — тяжело вздохнул сталевар, поглубже натянул шапку и свистнул конькам: — Ну, пошли, резвые!
А мысли тянулись грустные, без конца и краю. Тосковал Николай Николаевич об Аносове.
«И зачем только понадобился ему Петербург-столица, — горько думал он. — Что в нем хорошего?»
Всю свою жизнь Швецов привык думать, что из столицы приезжали только чиновники. Никакого дела им не было до работных! Аносов был первый, кто так хорошо понимал простой народ и вместе с ним в поте лица своего трудился.
«Это наш кремешок! Правдивая душа», — подумал сталевар и прошептал:
— Вернись, дорогой! Без тебя завод опустел!
Над горами сгущались сумерки. Размытая дождями дорога становилась опасной. Вглядываясь в придорожную бездну, старик подумал:
«Впотьмах, того и гляди, со скалы сверзишься. В умет,[16] на полати пора!»
Он осторожно добрался до перепутья. В оконце постоялого двора заманчиво мелькал огонек. За дорогу изрядно порастрясло, и Николай Николаевич не прочь был растянуться на теплых полатях и вздремнуть. Он распряг коней, отвел в сарай и задал им овса. Затем степенно вошел в избу, истово перекрестился и поклонился народу. Большая и неуютная горница слабо освещалась лучиной. В синем табачном дыму у стола сидели и толпились постояльцы — самый разнообразный люд: приказчики с уральских заводов, военные приемщики оружия, сибирские купцы, скупщики краденого золота и, кто знает, может, и беглые удальцы. Слева в полумраке — широкие полати, сплошь забитые человеческими телами: отдыхали возчики, ямщики — все, кто пораньше поспел к ночлегу. Плешивый, с плутоватыми глазами хозяин двора предложил Швецову забраться на печь. О лучшем старик и не мечтал. Кряхтя, он улегся на теплые кирпичи. Приятный жар иголками покалывал тело. Ох, как хорошо лежать в тепле и прислушиваться в полумраке к завыванию ветра за окном! Под Златоустом прошли проливные осенние дожди, и теперь в горах бушевали речонки и падуны. Шум взбешенных вод доносился в избу, и отдыхающему Швецову казалось, что он находится на мельнице. Осенний вечер долог, и, как всегда, чтобы скоротать его, заезжие люди сбились в кружок и вели бесконечные разговоры. Среди коренастых, угрюмых с виду уральцев сталевар заметил чернявого, с большим носом юркого человечка, который на всё откликался, обо всем знал и, разговаривая, отчаянно жестикулировал.
— Кто сей вертлявка? — спросил у соседа старик.
— Прах его знает! По морде определяю — не русский. Купец не купец, торопится в Златоуст, а сам плетет нивесть что. За умного себя выдает. Ты только послушай, что за нелепицу плетет окаянец! — собеседник положил на ладонь большую голову и стал слушать. Заинтересовался и Швецов.
Чернявый с азартом говорил:
— Вы всё расхваливаете аносовский булат, но вы же не видели лучшего! На свете есть толедские, дамасские клинки! Вот это клинки! Что Аносов?
— Врешь! — сердито проворчал на печи сталевар, но никто его не услышал. — Врешь, балаболка!
Говорун не унимался, он презрительно выпятил толстые губы и продолжал:
— «Диво, диво!» Какое это диво? Откуда оно бралось? Не тут, на Урале, в паршивом городишке родилось…
— Сам ты паршивец! — злобно прошептал Швецов и навострил уши.
— Известно вам, что Аносов за этим чудом ходил на Восток? Слыхали? увлекаясь, рассказывал чернявый.
— То впервые слышим! — вставил свое слово сибирский купец. — Это что еще за байка?
— Это не байка. Сам знаю, как Аносов отыскал свое диво. Вы только послушайте!
Постояльцы насторожились.
— Перво-наперво, — начал свой рассказ чернявый, — он-таки ушел в Орду и там два года бродил среди киргиз, искал редкие клинки. Но там булата не делают; зато маленькая забавная история приключилась с ним. Слушайте! На одном степном озере Аносов и два его друга башкира встретили кибитку бая. Известно, как живет бай! Столько коней, столько коней, — табуны! В байском становище — семь дымов, семь юрт, в шести юртах по жене. Ой, богат бай! Стар князь, семьдесят пять годов ему, в бороде иней, а глаза совсем молодые…
— Вроде твоих, — усмехнулся купец.
Рассказчик глазом не моргнул, согласился охотно:
— Пусть будут вроде моих, — и продолжал: — И вот этот бай сидел на подушках, и к нему вошел Аносов. Башкиры рассказали баю, что русский полковник богат, ой, как богат! За жирным пловом хозяин похвалился перед гостями своим булатным клинком. Охмелевший от кумыса старик взмахнул им с него струился синеватый блеск. Без сомнения, это был булат. Что мог думать теперь Аносов? Может, он думал, сколько людей держали этот клинок или сколько крови пролилось в свое время на эти синеватые узоры? Бай осторожно, очень осторожно, провел пальцами по граням и сказал Аносову: «Клинок этот сделал арабский мастер Абдурахман. Этот булат, да простит мне Аллах, густо полит кровью. Мой дед заколол им двух неверных жен, — обычай наш таков: кто опозорит постель мужа, той смерть. Этот клинок переходит из поколения в поколение, и почти каждое из них обагрило его кровью…» «Бесценен твой клинок», — похвалил гость. «Твоя правда. Видит Аллах, не вру! — согласился хозяин. — Он оплачен табуном скакунов, и словно заклятье легло, когда клинок ушел из юрты: в зиму пришла гололедь и табуны полегли в степи, не добыв корма…»
Рассказ захватил всех. Даже Швецов, и тот хмыкнул носом:
— Ну и врет, ой, и врет… Послушаем дале… Ты скажи, что же Аносов? — выкрикнул он на всю избу.
— Аносов? Что мог поделать он? Известно, любовался и вздыхал. Ай, хорош булат! «Продай, хозяин, клинок, всё отдам!» — предложил он баю. Киргиз хитро прищурил глаза и стал теребить жесткую бороденку. Он покачал головой и ответил Аносову: «Теперь не делают таких булатов, а этот ты беден купить!». Аносов хотел рассердиться, но тут звякнуло монисто, и бай покосился на полог. И увидел Аносов в щели, как огоньком мелькнули жаркие женские глаза. «Ах, красавица!» — подумал он, но пора было уходить. Наступил вечер, солнце улеглось за холмами, за юртой лаяли псы. Пора спать!.. Утром Аносов ускакал с башкирами в степь. И что вы думаете? На кургане под Чебаркуль-озером он увидел всадника. Сорвался всадник с места и, как ветер, понесся навстречу Аносову. Под копытами разгоряченного коня сверкали брызги росы. Русского нагнала черноглазая киргизка и, размахивая булатным клинком, закричала ему: «Эй, слушай, возьми меня!». Ой, как хороша была девушка! Стройна, глаза полны блеска. Торопясь, страстно она о чем-то говорила ему, но Аносов ничего не понимал. Башкиры слезли с коней и подошли к ним. Аносов спросил: «О чем она говорит?» — «Она рассказывает, что убежала от старого бая и захватила клинок. Красавица просит джигита укрыть ее в степи, а в награду предлагает клинок». Степняки пытливо смотрели на русского. Аносов молча взял девушку за руку и залюбовался ее смуглым лицом. «Нет, милая, скачи обратно. Я не хочу крови!» — покачал он головой. И башкиры от этого повеселели. Но один из них сказал: «Ее убьет бай!». Аносову стало жалко беглянку, и он сказал степнякам: «Везите ее обратно. Скажите, что русский насильно увез ее, а вы отняли добычу и возвращаете хозяину». Башкиры перевели слова Аносова. Девушка вспыхнула, сверкнула злыми глазами, пронзительно взвизгнула, огрела скакуна плетью, как птица взметнулась и унеслась в степь. За ней умчались и башкиры. В степи остался один Аносов. Сверкал росистый ковыль, из-за древних курганов поднималось солнце. Он был один среди необъятного простора, и всё, что случилось минуту назад, казалось ему сном…
— Поди ж ты, ловкая басня! — проворчал литейщик.
— То не басня, а сказка арапская, — отозвался сосед. — Ишь, и ловок шельмец: говорит, что бисер нижет. Эй, ты! — окрикнул он чернявого. — Уж коли начал, то договаривай…
— Вестимо, надо поведать, что дальше с Аносовым было, — согласился купец. — Ночь велика, а веселое слово гонит скуку!
— Что ж, можно и дальше, — согласился рассказчик. — Вот что произошло. Аносов один пустился в путь. Ехал он степью, а она — широка и без конца, без краю. Ни кибиток, ни караванов, — ковыль, ковыль без конца да в небе орлы! Только на седьмой день у ручья ему попалась землянка, а из нее вышел старик: он был древен, беззуб, с сетью тонких морщин на лице. Аносов рассказал ему про хана из коша Сабакуль и про булат. Старик заморгал глазами, ухмыльнулся: «Ты ехал шесть дней, но путь к булату лежит дальше на восток. Я знаю за озером караванную дорогу, а она, быть может, приведет тебя туда, где делают булат. В старину и здесь имелись мастера, да перемерли…» Аносов попросил старика: «Дед, покажи дорогу!». Старик был легок на ходу: он вывел путника на протоптанную караваном дорогу. Аносов нагнал торговый караван и упросил взять его. Туркмены в бараньих шапках раскачивались на высоких верблюдах; они подозрительно оглядели Аносова, но польстились на обещанную награду, и он остался в караване. Днем было жарко: путники пекли яйца прямо в песке. Ночи были душные, нестерпимо мучили москиты…
— Ну и ловок на язык! — вздохнул сосед Швецова. — Ни слова правды, а слушать готов.
— Вот и я лежу и думаю, что дальше будет? — отозвался литейщик. — Всю жизнь бок о бок проробил с Павлом Петровичем. Прост, трудяга, а наплели чего…
— Много дней шел караван желтыми зыбучими песками, — продолжал свой рассказ чернявый, — наконец добрался до Бухары. Аносов честно расквитался с караванщиками, и они долго кланялись ему. В старой Бухаре шумел большой оружейный базар; на ковриках в тени сидели торговцы с раскрашенными бородами. Поблескивало драгоценное оружие. Рядом в мастерских молодцы с выбритыми головами ковали мечи. В толпе толкались воинственного вида всадники. На дальнем минарете древней мечети прокричал муэдзин. Кругом стоял шум, говор, звон. Медники бряцали тазами и кувшинами, лудили их. Сквозь толпу продирался голый дервиш. Он был так сух, что, казалось, его острые кости прорвут на иссохшем теле пергаментную кожу. Ревели верблюды, брызгали слюной в прохожих. Как тени, мелькали укутанные с ног до головы женщины. Словно пьяный, ходил Аносов по шумному базару. «Вот где можно узнать секрет, как делают булат». В прохладной тени лавчонок синеватым блеском отливали развешенные клинки. Аносов выбрал самого старого и самого почтенного торговца оружием и попросил его показать булаты. В караване он научился говорить самые необходимые слова. Торговец выложил перед Аносовым драгоценную коллекцию клинков. Среди них были прямые и тонкие, как жало осы, — они легко сгибались, в их упругости сказывалось великое мастерство. Здесь были и змеевидные клинки: как пламень, они извивались синеватым блеском. Тут лежали и широкие кривые мечи, похожие на месяц в новолунье. «Несомненно, это настоящие булаты», — решил Аносов и выложил перед старым купцом золотые червонцы: «Я отдам тебе всё это богатство, если научишь меня отливать эти булаты…» Старик равнодушно посмотрел на золото и спокойно сказал: «Я вижу, господин, ты прибыл из богатых стран и понимаешь толк в булатах. Увы! — в голосе торговца зазвучала печаль. — Ты видишь здесь большой оружейный базар, но здесь умеют только точить клинки и чинить старое оружие». — «Но откуда ты привез эти сокровища?» — Аносов указал на булаты. Старый торговец улыбнулся: «Это из Сирии. Добрый человек, ты хочешь найти то, что давно утеряно. Не ищи его здесь. Поезжай в Дамаск, только там еще остались настоящие мастера». Не утерпел Аносов и отправился в Дамаск…
— Эх, ты, шатун, шатун, и куда тебя понесло? — с обидой сказал купец.
— Погоди, сейчас заврется, и тогда увидишь, куда его занесло, сердито прошептал литейщик, но всё же решил сказ выслушать до конца.
А рассказчик, как ни в чем не бывало, продолжал:
— В горах Афганистана на него напали пастухи, носившие за плечами длинные ружья. Они ограбили его. Он ушел от них голый и беззаботный, как перекати-поле. Но настойчивость его походила на упругий толедский булат, тайну которого он искал. Аносов шел пешком, как нищий, всё дальше и дальше; он пересек горные хребты, песчаные бесплодные пустыни, зеленые оазисы, оживленные восточные города. Никто не узнал бы в нем офицера русской армии, начальника большого завода.
Прошло два года, и в один из дней перед Аносовым открылась долина Дамаска. Город утопал в зелени садов, над которыми пестрели цветами ляпис-лазури изразцовые купола мечетей и храмов. Небо простиралось голубое, бездонное. По дороге, проходившей среди безжизненных скал, шли толпы запыленного народа, на чистокровных скакунах ехали высокие, воинственного вида арабы; кричали ослы, погоняемые палками погонщиков; медленно раскачиваясь, шел караван верблюдов. Под сожженной солнцем смоковницей лежал одинокий путник и тихо стонал. Серый ослик, нагруженный переметными сумами, стоял возле него, уныло понурив голову. Аносов подошел к больному и наклонился над ним. Старик был сух, изможден, в его глазах Павел Петрович прочел мольбу. «Я не могу дальше ехать. В дороге меня одолела болезнь», — пожаловался старик. Неподалеку от смоковницы виднелся колодец. Аносов сходил к источнику, принес прохладной воды и утолил жажду старика. За раскаленными скалами скрылось солнце, и быстро наступила ночь. С гор повеяло прохладой. Старик не мог ехать на ослике. Аносов, недолго думая, взвалил старика на плечи и понес к Дамаску. Это была нелегкая ноша, но он не сдавался. Аносов и не подозревал, что сегодня, как никогда, он близок к цели. Аносов притащил старика в лачугу и уложил на жесткое ложе. Из соседней двери выглянула девушка. Тонкое матовое лицо оттеняло черные волосы, как звёзды в темную ночь светились ее глаза. Увидев чужеземца, она мгновенно скрылась. Старик пожал Аносову руку: «Я не знаю, кто ты. Но зачем ты пойдешь в ночь, когда здесь будет тебе приют и пища?». Аносов присел к больному и рассказал о своих поисках. Старик внимательно слушал. Глаза его вспыхнули, и он сказал горячо: «Ты угадал в самый раз. У меня нет подмастерья, я научу тебя делать литые булаты». Старик был последний знаменитый мастер дамасских литых булатов.
— Поди ж ты, как складно байку плетет! И голос, и слово какое подыскалось, наше, родное! — неугомонно заворочался Швецов и спустил с печи голову, пристально всматриваясь в рассказчика.
Сибирскому купцу тоже не по нутру пришелся чернявый. Сквозь спокойную, гладкую речь его проступало что-то фальшивое. А тот, не замечая старика на печи, продолжал свое:
— И сказал сириец Аносову по сердечности: «Сын мой, старое мастерство умирает и на Востоке. С тех далеких времен, когда полчища Тимур-Ланга покорили Сирию, здесь утратили мастерство дамасских клинков. Сейчас ты видишь мою бедную хижину и последние булаты! — при этом старик показал драгоценное оружие. — Эти клинки и дочь — последнее мое богатство. Оставайся у меня, и ты познаешь мудрость старинного мастерства!». Аносов, конечно, обрадовался, что пристроился к мастеру. Ковал мечи, подолгу размеренно бил тяжелым молотом по пучку железной проволоки. Так делали арабы самую важную работу: они холодным способом, без накала на огне, ковали «джаухар» — узорчатую дамасскую сталь. Однако до настоящего булата еще было далеко!..
От нагоревшей лучины отломился уголек, упал в бадейку с водой, зашипел. Потянула струйка дыма.
Чернявый вынул кисет, носогрейку, неторопливо набил ее табаком и, подойдя к лучине, разжег. Глубоко затянувшись, он продолжал:
— А раз подглядел Аносов, что и как! Познал-таки великое таинство рождения булата! И вот как было дело, братцы. Сковал старик из знакомого сплава клинок. И что вы думаете? Раскаленный, сыпавший искрами, этот клинок мастер поспешно передал арабу. Тот вскочил на коня и понесся из города. Мчится, как вихрь, а с горячего клинка так и сыплются искры! От страха конь стрелой вынес араба в пустыню и пустился, будто за ним гналась волчья стая. В ушах ветер свистит, белый бурнус араба от ветра хлещет, а всадник, подняв раскаленный клинок, подставил его ветру и еще горячее погнал коня.
— Ишь ты как! — изумился купец.
— Только к вечеру вернулся араб. Спала дневная жара, от арыков повеяло прохладой, и тогда конник на взмыленном скакуне вернулся к мастерской, а в смуглых руках его поблескивал клинок с синеватым отливом. Булат! И как только Аносов отгадал, в чем тут дело, сразу заторопился домой, в Россию. А мастер и говорит ему: «Никуда не ходи, оставайся здесь. Я отдам тебе мастерскую, а моя дочка пойдет к тебе в жены!» — «Нет, думает Аносов, — скорее в Россию!..» Вот, братцы, откуда к вам завезен булат! — пыхнув трубочкой, закончил чернявый.
— Врешь! — вдруг сердито отрезал Швецов и полез с печки. Высокий, сухой, с бородой до пояса, он вошел в озаренный круг. — Врешь! — энергично повторил он. — Никуда и никогда Аносов не ездил из России. С малых лет он в Златоусте. Кончил ученье в столице — и сюда.
— А ты кто таков? — ткнул в него черенком трубки проезжий, и глаза его вспыхнули. — Откуда знаешь?
Но тут из-за стола неожиданно вскочил сибирский купец и потянулся к старику.
— Батюшка, вот где довелось нам увидеться! — он обнял деда и заговорил: — Ведомо на всем Камне, кто он! Литейщик Швецов, сподвижник Павла Петровича Аносова. Они вместях тайну булата открыли.
Чернявый смутился, заюлил и поспешил отодвинуться в тень.
— Вот видишь, как! — весело сказал купец: — Ты байку врал, а тебя добрый человек на слове поймал!
— За что купил, за то и продаю! — хмуро отозвался чернявый.
— Купил дрянь, а за драгоценное хочешь сбыть! — сурово перебил Швецов. Величавый и строгий, оглядывал он проезжих ясными, умными глазами. — Из Дамаска, сказываешь, добыл булат, а того не знаешь, сколько труда и хлопот он стоил Павлу Петровичу! Русским разумом добыт булат, вот что, сударь! И поклеп нечего взводить. Слава богу, мы еще сильны и разумом не обойдены!
— Ух, и верно вымолвил! — засмеялся сибиряк. — К нам ходят вынюхивают лучшее, а потом за свое выдают.
— А коли так, зачем слушали? — спросил рассказчик.
— А любопытно дознаться, что за человек с нами, из чьего гнезда сюда залетела кукушка? Да и что робить в такую ночку, как не байки слушать? Все бока пролежишь!
— Не нашего поля ягодка! — осторожно вставил заводский приказчик и покосился на чернявого. — Птица узнается по полету, а человек — по ухваткам.
Проезжий отошел к скамье, важно развалился и сказал с насмешкой:
— Ты, борода, поосторожнее. Я тебе не мужик!
— Кто же ты? И как ты, белая ворона, сюда залетел? — раздраженно выкрикнул сибирский купец.
— Я не белая ворона, сударь! — сказал, поднимаясь, чернявый. — Я подданный его величества короля английского!
— Что-то обличьем и на англичанина не похож. На аглицких хозяев, сукин сын, работаешь! — хмыкнул сибиряк, сжал тяжелые кулаки и угрожающе пошел на противника.
Тот проворно отступил и юркнул за дверь.
В доме стало тихо.
— Куда подевался он? — тревожно спросил Швецов.
— Ищи теперь ветра в поле! — угрюмо ответил купец. — Мы-то уши развесили… А теперь был, и нет… Эх, сколько всякой нечисти присосалось к русскому телу! — Он поскреб затылок и закончил огорченно: — Проворонили краснобая, а теперь только и осталось — ложись да спи.
— Гаси, ребята, лучину.
Спустя минуту в горнице стало темно и тихо.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
Глава первая АЛТАЙ — ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ
С давних времен среди русского народа ходили слухи о богатой рудами, лесом и зверями сказочной стране Алтын-Даг — Золотых горах. Еще в восемнадцатом веке сюда протянулись жадные и цепкие руки уральского горнозаводчика Акинфия Демидова. Кержаки-звероловы, скитаясь по лесистым предгорьям, набрели на причудливое Колыванское озеро. Сверкая, лежало оно среди фантастических скал, напоминавших то средневековые замки с башнями и колоннами, то стены разрушенных крепостей, то каменные грибы или вымерших ящерообразных чудовищ, которые, казалось, притаились на верху гранитных утесов. Неподалеку от озера высится гора Синюха, а за ней простирались владения джунгарского князька Галдан-Цереза. Тут, среди бугров, и открыли звероловы старые чудесные копи, а в них — медные руды. Кержацкие старцы после долгих колебаний отправили к Демидову ходоков с образцами руд и посулили открыть ему месторождение, если он облегчит их жизнь среди чужих палестин. Демидов выслал на Колывань-озеро своих людей, которые прибыли на место, отыскали в окрестностях чудские копани, добыли руду и, сложив из обломков гранита печь, стали ее «пытать». Образцы выплавленной меди рудознатцы доставили заводчику в Невьянский завод. Обрадованный Демидов сам опробовал медные слитки, подробно расспросил о лесах и дорогах и решил построить на реке Локтевке первый медеплавильный завод с тремя печами и с ручными кожаными мехами. Завод этот был назван, по соседнему озеру, Колывано-Воскресенским. Он-то и положил начало горному делу на Алтае.
К югу от Колыванского озера, на правом берегу речки Карболихи, впадающей в Алей, в недрах Змеиной горы демидовские люди неожиданно нашли серебро. Вскоре над Карболихой выросла крепость Змеиногорск, а подле нее обосновались рудники. Приписные демидовские работные начали добычу серебра для своего господина. А в 1739 году Демидов задумал построить еще завод. В устье реки Барнаулки, впадающей в могучую Обь, он облюбовал удобное место. На правом берегу Барна-аулки, как она в то время звалась, существовала небольшая деревушка Усть-Барнаульская, в которой числилось всего тридцать пять душ мужского пола. Демидов не замедлил закабалить их. По его же приказу сюда перевели еще двести приписанных к уральским заводам крестьян. В больших тяготах приписные срубили избы, построили плотину и вододействующие колёса. Великими трудами возвели они Барнаульский сереброплавильный завод. Руды на него доставлялись издалека гужом. Барнаул стал быстро обстраиваться, расширяться, и уже в 1765 году один из попавших сюда иностранцев писал на родину: «Барнаул есть главный сереброплавильный завод, в котором приготовляется ежегодно 400 пудов чистого серебра и от 11 до 15 пудов золота; в нем находятся горная канцелярия и главная команда… В Барнауле более тысячи домов, три греческих церкви и широкие прямые улицы…»
Однако воспользоваться всеми богатствами на Алтае Акинфию Демидову не удалось. До Петербурга дошли слухи, что на своих заводах Демидов, кроме меди, секретно выплавляет много серебра, и что большие обозы со слитками благородного металла идут на Урал в демидовскую вотчину — в Невьянск. В народе ходили слухи, что грозный уральский заводчик чеканит из алтайского серебра добротные рублевики, которые ценятся выше царских. Тайная добыча серебра продолжалась несколько лет, и только сбежавший иноземный мастер Филипп Трегер, обиженный Демидовым, добрался до Петербурга и донес об этом царице Елизавете Петровне. Соглядатаи Акинфия Никитьевича не замедлили сообщить о кознях Трегера своему хозяину. Чтобы отвести напасти, Демидов сам поторопился ко дворцу и добился личной аудиенции у императрицы. Упав ей в ноги, он с деланно радостным видом сообщил царице, что на его алтайских заводах найдено серебро. «Прими, матушка, наш скромный дар, который мы обрели в далекой земле!»
Царица, хотя и сделала вид, что поверила Демидову, всё же послала на Алтай для расследования бригадира Беэра.
Пока царский посланец добирался до Алтая, грозный уральский заводчик внезапно скончался, а спустя два года после его смерти, в мае 1747 года, последовал указ императрицы бригадиру Беэру:
«Ехать тебе на Колывано-Воскресенские заводы умершего действительного статского советника Акинфия Демидова и учинить там следующее:
Оные Колывано-Воскресенский, Барнаульский, Шульбинский и прочие на Иртыше и Оби реках и между оными… взять на нас. Оным строениям и рудам сделать опись и оценку, чего стоят; для знания, что должно будет наследникам его из казны нашей заплатить, а в такой заплате зачесть и то, ежели оный покойный Акинфий Демидов и его наследники чем в казну нашу должны и о том о всем справиться где подлежит и прислать нам известия».
Беэр в три года закончил приемку демидовских заводов, значительно уменьшив их оценку. Напрасно наследники Акинфия жаловались на него, нарекания остались без внимания. С той поры алтайские земли и заводы навсегда перешли в казну и были переданы «Кабинету ее величества», составляя личную собственность царей. Это поставило огромный край в еще более тяжелую зависимость.
Обширная Сибирь никогда не знала крепостного права. И вот на Алтае на землях царя крепостничество проявилось во всей своей жестокости. Для управления алтайскими горными заводами цари присылали иностранцев, по преимуществу саксонцев, которые чудовищно эксплуатировали работных, используя принудительный труд приписных к заводам крестьян, ссыльных людей, закрепленных за горным ведомством. Бергалы[17] казались угрюмыми, замкнутыми людьми. В длиннополых халатах полосатого тика, в потертых бархатных шапках с кистями, странными казались эти русские люди, стриженные в скобку или «под горшок». Руки их с крючковатыми черными пальцами, с обломанными толстыми ногтями походили на темные корневища. Жили они тяжело, беспросветно, кляли свою долю, и многие из них испытали на себе плети за побеги. Рудокопы, плавильщики серебра, чугунных и медных дел мастера, углежоги, рудоразборщики-малолетки и рудознатцы люто ненавидели царских приказных и свою ненависть вкладывали в песни с потайным смыслом.
Однако, несмотря на тяжелые условия жизни на Алтае, здесь были сделаны великие изобретения, которые смогли бы значительно облегчить труд рабочего человека. К одному из замечательных изобретений относится первая в мире «огненная машина» — тепловой двигатель, сделанный шихтмейстером Барнаульского завода Иваном Ивановичем Ползуновым.
В те времена начальником завода был передовой для своего времени знаток горного дела Порошин. Он и заинтересовался проектом Ползунова. После тщательной проверки предложения Ползунова Порошин направил ходатайство царице Екатерине II о разрешении осуществить изобретение. Прошел томительный год, пока в Санкт-Петербурге рассмотрели проект и постановили выдать в награду Ползунову четыреста рублей и присвоить ему звание механика. Но к этому времени Ползунов, надеясь только на свои знания и силы, создал новый вариант мощного теплового двигателя, рассчитанного на пятнадцать плавильных печей. Начальник горных заводов Порошин, наконец, пошел на риск и разрешил механику приступить к строительству двигателя.
Получая мизерное жалование, не имея опытных рабочих, Иван Иванович страстно, самозабвенно отдался работе. Много трудностей пришлось преодолеть солдатскому сыну, чтобы претворить свою идею в жизнь. Невзгоды и огорчения преследовали его на каждом шагу, и всё же, будучи тяжело больным, он в два года закончил свою «огненную машину», и в декабре 1765 года ее опробовали. Снова — переделки, искания, но когда двигатель окончательно был завершен, творца его не стало. Ползунов умер 16 мая 1766 года, тридцати восьми лет, от скоротечной чахотки. Машина была завершена и пущена в ход его учениками Левзиным и Черницыным.
Ползунов опередил англичанина Уатта на двадцать один год. Однако ползуновское детище просуществовало недолго. Несмотря на то, что оно принесло более одиннадцати тысяч рублей серебром прибыли, после ухода Порошина в отставку, по приказу иноземца Ирмана двигатель был разрушен и выброшен на пустыри.
Ползунов мечтал облегчить машинами труд простого человека, но мечте его не суждено было сбыться.
Здесь, на Алтае, работали отец и сын Фроловы, отдавшие много сил и знаний для продолжения творческих замыслов Ползунова. Козьма Дмитриевич Фролов построил на Змеиногорском руднике первое в мире каскадное гидротехническое сооружение, которое обеспечивало подъем руды и отливку воды из шахт. Сын его, Петр Козьмич, построил на том же заводе первую рельсовую дорогу и составил проект первой в мире огромной рельсовой магистрали.
Творчество Фроловых воодушевило на трудовые подвиги многих простых людей — выходцев из недр народа. И каждый из них создал много полезного, чтобы облегчить тяжелую долю тружеников. Но на пути к осуществлению своих идей они наталкивались на тупое сопротивление иноземцев, которые не признавали талантов за русским народом и не разрешали осуществлять смелые технические проекты.
На Салаирском руднике изобретатель Поликарп Михайлович Залесов разработал проект первой русской турбины, соорудил модель ее, но начальник завода Эллерс запретил постройку машины. Горный инженер Степан Литвинов создал воздуходувную машину, но и тут на пути встал Эллерс, по приказу которого все расчеты и чертежи изобретателя были сданы в архив.
Бесконечная плеяда даровитых и умных русских людей создавала здесь многие технические усовершенствования, но всё это не находило поддержки и гибло.
И всё-таки Алтай был землей талантов, умных и терпеливых людей. Здесь и предстояло Аносову приложить свои силы и опыт. И что отраднее всего: Ползунов и Фролов были выходцы с Урала. Чем-то родным и близким повеяло на Павла Петровича при этой ободряющей мысли. Невольное волнение охватывало при сознании, что ему, Аносову, придется работать там, где приложили свой труд талантливые самородки из народа. Павлу Петровичу было лестно и приятно, что он едет не в пустыню, а на заводы, на которых, по всей вероятности, еще живы дух и традиции первых русских изобретателей. Это заставляло учащенно биться сердце: хотелось оказаться достойным их великого трудового подвига. Поэтому не терпелось скорее очутиться на Алтае и своими глазами увидеть то, о чем он только был наслышан стороной, хотелось скорее окунуться с головой в работу по устройству горных заводов.
Глава вторая ПУТЬ СИБИРСКИЙ ДАЛЬНИЙ…
Прошло несколько месяцев с тех пор, когда Павел Петрович был назначен главным начальником Алтайских горных заводов и томским гражданским губернатором, однако до сих пор он не мог выбраться из опостылевшего ему Томска. Он сильно тосковал по кипучей работе, но удерживала то приемка дел, то наступившая распутица, мешавшая отбытию на Алтай.
Скучный город и канцелярия изрядно опротивели Аносову. Губернаторская квартира помещалась в обширном каменном двухэтажном доме, который среди деревянных строений казался настоящим дворцом; из окон виднелся старый белый собор и каменные купецкие дворы. Еще дальше поднималась Юртошная гора с ветхим и невзрачным Христорождественским монастырем, в котором сто лет тому назад томилась в суровом заточении бывшая невеста императора Петра II княжна Екатерина Долгорукая. Город стоял на перепутье и поэтому отличался оживленностью и бойкой торговлей. Но торговая сторона Томска не влекла Аносова, — он всё время вспоминал любимый Златоустовский завод и даже дома не находил покоя от этих мыслей. В губернаторской канцелярии его выводили из равновесия спесивые чиновники своими вечными склоками и низкопоклонством. Он не любил стряпчих всех мастей и всё, что было связано с крючкотворством. Только один правитель канцелярии Федоров — пожилой, слегка тучный человек — работал тихо и споро, стараясь избавить Павла Петровича от лишних хлопот. Он держался учтиво, с достоинством, и сторонился других чиновников. Чувствуя неприязнь Аносова к ним, Федоров однажды доброжелательно посоветовал ему:
— Не обращайте внимания, ваше превосходительство, на мышиную возню. Мир в Томске так тесен и круг интересов столь мал, что люди только и живут сварами да дрязгами, чтобы заполнить пустоту. Поберегите себя для больших дел, идите отдохните! Скоро просохнут дороги и вам предстоит путешествие.
Уйдя из канцелярии, Павел Петрович долго молча ходил по гулким комнатам своей квартиры. За окном моросил мелкий дождь, на душе было тоскливо.
Из дальней светлицы донеслись веселые детские голоса: девочки о чем-то спорили с братом Алешей. Аносов прислушался и невольно улыбнулся. В доме остался только последний сын. Два старших — Александр и Николай поступили в Горный институт и отцу писали редкие письма. Аносов радовался каждой весточке от них, вспоминая свои юные годы и массивное воронихинское здание Горного корпуса на берегу Невы. Третий сын, Петр, поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров; четвертый, способный юнец, был принят в императорский Александровский лицей. Чего же желать больше? Хорошо и благотворно чувствовал себя Павел Петрович среди семьи. И на этот раз он не мог устоять от соблазна и ушел в детскую. Белокурая Настенька с радостным визгом бросилась отцу на шею. Он взял ее на руки и поцеловал в чистые синие глаза. Старшие — Аннушка и Лариса — закричали отцу:
— И нас, и нас подними, папа!
Началась веселая возня. Только Алеша, крепыш лет семи, держался строго и независимо. Он деловито спросил у Павла Петровича:
— Папа, ты возьмешь меня на Алтай?
— Что же ты там будешь делать? — разглядывая малыша, с улыбкой спросил Аносов.
— Я буду горным инженером, — солидно заявил мальчуган.
У каждого из ребят были свои заботы и беспокойства, и отец садился среди них, выслушивая мечты каждого.
Но и среди семьи Аносов не мог оторваться от своих горнозаводских дел.
«Пора, давно пора, отправляться в Барнаул!» — озабоченно думал он, поглядывая на окна. На улице перестал моросить дождик, выглянуло солнышко, и всё стало выглядеть по-иному.
Наконец наступил долгожданный день, когда Павел Петрович смог отправиться в долгий путь. Миновав томскую тайгу, он выбрался в степи. Необъятные просторы открылись перед ним. Всюду шумели березовые перелески, около них раскинулись цветущие луга и бесчисленные озёра талой воды. Весна стояла в полном разгаре и щедро украшала землю: золотые горицветы, пушистый лиловый сон, белые крупные цветы ветреницы, бледно-желтые стройные мытники, высокие красные медовики пестрили волнующийся на ветру ковыль. На речках и обширных озерах шумело несметное количество перелетной птицы, — непуганая и оживленная, она не боялась людей. Утки разнообразной окраски, заслышав звук колокольчика несущейся тройки, выходили на дорогу и поднимались из-под самых копыт бешеных коней. Сотни гусей на глазах спускались в ильмени, дупеля и бекасы беспрестанно с шумом вылетали из болотных трав.
— Гляди, гляди, барин! — показал ямщик вперед.
Аносов взглянул и замер от восхищения. Пара серых журавлей с азартным криком и с распущенными крыльями билась со степным кречетом в двух шагах от большой дороги. Ямщик свистнул, щелкнул кнутом, но птицы, увлеченные схваткой, не разлетелись. Кречет быстрым и сильным взмахом крыла опрокинул самку, но самец журавль, испуская гортанные крики, ринулся на хищника. Ямщик незаметно повел вожжами, и пара горячих коней свернула на пернатых бойцов. Закружилась пыль, и прямо из-под копыт резвых скакунов взмыл перепуганный кречет, журавли разбежались в стороны. Бородатый ямщик весело блеснул крепкими белыми зубами и задорно выкрикнул, показывая под облака, где парил стервятник:
— Что, разбойник, не досталась добыча?
Аносов почувствовал прилив сил и бодрости:
— Эх и просторы! И дышится так сладко!
Вот и Иртыш — могучая сибирская река. Привольно раскинулась она среди цветущей степи. Как сильный, но укрощенный зверь, бережно несла она старый паром, сделанный из лиственниц. Аносов стоял на корме и любовался закатом, догоравшим в степи. От места переправы до Омска оставалось не более пятидесяти верст, и кони неутомимо мчались вперед. Закат погас, над степью трепетно заблестели звёзды. Надвигалась тишина. Аносову захотелось побыть среди степного безмолвия, среди свежих трав, под темным весенним небом, и он велел ямщику остановить тройку. Сильная рука разом осадила коней. Они долго не могли успокоиться: храпели, рыли копытами землю и сердито ржали. Но, видно, и их охватила сладость ночного отдыха. Ямщик распряг резвых бегунов, снял с них колокольчики и погнал в степь. Из-за кургана взошел месяц и золотистым сиянием осветил дальние озёра. Хорошо было лежать на раскинутом ковре, вдыхать в себя аромат ковыля и прислушиваться к затаённым шорохам ночной степи! Поблизости запылал костер, ямщик подбросил охапку старых трав, и огненные языки весело заплясали, раздвигая тьму. Потом он улегся у костра и, потягиваясь до хруста в костях, вымолвил:
— Эх, барин, жить бы нам да жить годов сто! В такую ночку самое худое забывается!
— Что правда, то правда! — согласился Аносов. — В такие ночи и спать-то стыдно.
— А всё же и вздремнуть не грех, — сказал ямщик, повернулся на бок и сразу захрапел.
«Здоров!» — подумал о нем Павел Петрович и позавидовал бородатому крепышу, что тот быстро обо всем забыл и теперь наслаждается покоем…
В Омск приехали ранним утром. Тих и безмолвен был серый деревянный город, тянувшийся по обоим берегам Оми, впадающей тут же в Иртыш.
Аносов с любопытством осматривал старинный городок — резиденцию западносибирского генерал-губернатора. Многое сохранилось тут от воинственной старины. Вот отсюда расходятся укрепленные линии — Горькая и Иртышская, на левом берегу Иртыша еще высился Маякский редут, построенный для прикрытия менового торга, который производился купцами с казахами Средней Орды. Невольно на память Павлу Петровичу пришли слова наставления, в котором писалось: «Коль скоро киргизы приедут для торга, то на башне редута бьют в барабан, и тогда приехавшие из Омска купцы с товарами собираются для торга…»
Теперь заглохла, развалилась выстроенная на Иртыше выше впадения Оми старая крепость. Деревянные стены постепенно пришли в ветхость, бастионы и рвы поросли полынью и терновником. В 1768 году на правом возвышенном берегу Оми отстроили новую, усовершенствованную крепость, но ей так и не пришлось участвовать ни в одном военном деле: казахи замирились и предпочли прибывать в Омск для мирного и выгодного менового торга. В этой крепости и были возведены важнейшие казенные здания. Совсем недавно, в 1838 году, на памяти Аносова Омск стал центром гражданского и военного управления Западной Сибири. Здесь и пребывал генерал-губернатор края Капцевич — коренастый, энергичный служака. При воспоминании о нем Павел Петрович поморщился. «Аракчеевец! — с негодованием подумал он. — Узкое мышление и прорва злости! Готов всю Россию и Сибирь превратить в сплошное военное поселение».
Он должен был представиться генерал-губернатору, и оттого на душе стало тяжело…
Вечером, когда повеяло прохладой, Павел Петрович отправился в слободку, где жили омские кузнецы. Его невольно влекло к черным низеньким срубам, крытым дерном. Отсюда от темна до темна разносился звон железа…
Аносов запросто зашел к мастерам, долго с ними беседовал и задумчиво глядел на синее пламя в горне.
Кузнец размахивал молотом, легко и точно вскидывал его, и он, описав полукруг, ударял без промаха по раскаленной поковке.
— Любо, барин! Ой, люба работёнка! — крикнул Аносову мастер.
Этот чародей творил чудеса с железом. На могучих руках бородача выступили жилы, его твердокаменные мускулы, как шары, перекатывались под рубахой. Под веселый перезвон железа мастер ковал всё, но милее всего его сердцу была ковка коней. Ретивый конь замирал, чувствуя сильную руку кузнеца.
— Держись, сивка-бурка, вещая каурка! Так подкую, алмазы из-под копыт посыпятся! — добродушно ворчал ковач.
Со всей тщательностью и осторожностью он подгонял новенькую подкову к копыту, легко и ладно постукивал молотком по ухналям, прикрепляя подкову, и удальски пел:
Вдоль по улице широкой Молодой кузнец идет. Ох, идет кузнец, идет, Песни с посвистом поет…Радость любимого труда слышалась в его песне. Лицо кузнеца сияло, большие глаза брызгали смехом. Он пел вдохновенно и не менее вдохновенно работал.
— Откуда ты знаешь эту песню? — с удивлением спросил Аносов, вспомнив, что он давно слышал ее на другом конце России.
— Эх, милый барин, ее поет вся наша земля! — весело отозвался мастер. — А нашему брату ковачу милее всего эта песня. И не скажу, сударь, откуда взялась она, — народ, знать, родил такую душевную песню. Кто же мог другой?
Павел Петрович молча повернулся и с легкой грустью пошел по затихшей улице. Со степи надвигались синие сумерки. Из-за Иртыша повеяло освежающей прохладой. Городок постепенно погружался в ночь. Кругом тишина. Только в редких оконцах зажглись огоньки. Аносов шел по широким городским улицам. Толстый слой пыли глушил его шаги. Казалось, кругом всё вымерло; деревянные домишки сладко дремали во тьме, — лишь на обширной площади белели каменные казенные здания. Безмолвно, глухо и грустно… Чиновничий городок быстро засыпал. Лишь в одной избушке перед распахнутым окном стоял невидимый человек и жалобно играл на скрипке. И столько боли, невысказанной тоски слышалось в грустных звуках, что Аносов ускорил шаги, чтобы уйти от чужого горя.
Вернувшись домой, он разделся и улегся на диван. Однако сон долго не приходил. Перед мысленным взором Павла Петровича вставал пыльный, глухой город, населенный отставными чиновниками и офицерами. Жизнь здесь была так дешева, что сюда стекались все вышедшие в отставку из многих городов Сибири, даже из Иркутска и Оренбурга. Старые, дряхлые стряпчие, коллежские регистраторы, поручики, капитаны, уйдя в отставку, съезжались сюда доживать на пенсии свой век. Обилие чиновников, служилых и отставных, превращало Омск в город Акакиев Акакиевичей. На весь город было несколько небольших кустарных «заводиков», в которых три-пять рабочих выделывали свечи для омских канцелярий и кожи. Только кузнецы звоном наковален еще высекали искру жизни в этом мертвом царстве.
— Кузнецы! — вслух произнес Павел Петрович, и внезапно перед ним возник образ Луши. Он с тоской подумал: «Как давно это было! Незаметно отшумела юность, предательски блестит седина на висках… Сказывали, что она с мужем подалась в Сибирь, в Омск… Нужно будет отыскать ее».
Он повернулся на правый бок, улыбнулся своему далекому прошлому, отлетевшей юности и уснул…
Утром Аносов облачился в мундир и при шпаге отправился на прием к генерал-губернатору.
Сухой, с колючими глазами, старик Капцевич отменно вежливо принял Аносова. С хрипотцой в голосе спросил Павла Петровича:
— Торопитесь к заводам? Пора, сударь. Распустился народ. Запомните, голубь: для успеха надо почаще пороть, как их… бергалов!
— Ваше превосходительство, жизнь их и без того очень тяжела. Может быть, поэтому и совершают побеги в тайгу.
Генерал-губернатор нахмурился и резко сказал:
— Напрасно, сударь, так думаете. Здешний народ надо держать в струнке! Сибирь — страна каторжная, и простолюдины тут каторжные. Поселения им да воинский дух ввести!
Аносов заметил, что губернатор избегает называть его генералом, давая понять, что горный инженер — человек, не достойный этого звания. Приглушив недовольство, Павел Петрович ответил:
— Не согласен с вами, ваше превосходительство, в суждении о простолюдинах. Народ здесь превосходный, работящий!
— Вы близоруки, сударь! — почти выкрикнул генерал-губернатор. Чрезмерное увлечение металлами затмило вам глаза. Нет у вас воинского духа, сударь! Да-с… Великий государственный ум граф Аракчеев инако думал и всегда поучал: «Русскому мужику казарма нужна и шпицрутены!».
Аносов ничего не ответил: он понял, что с генерал-губернатором ему не сойтись никогда. Хорошо, что он, как начальник Алтайских горных заводов, не подчинен генерал-губернатору Западной Сибири. Просидев положенное приличием время, Аносов откланялся и с облегчением удалился из генерал-губернаторской резиденции.
На утро Аносов продолжал путь. Между Иртышом и Обью расстилалась обширная и однообразная Барабинская степь. Дорога всё время шла вдоль Оми. Бесконечное волнистое море ковыля распахнулось и уходило вдаль, за горизонт. Казалось, конца-краю не будет этой безлюдной пустыне. За почтовой станцией Убинской пошли низменности, поросшие березовым и ивовым мелколесьем, и бесконечные озёра. Однообразие утомляло, и Павел Петрович задремал. Мыслями он уже давно был на Алтае.
Прошло несколько дней, и впереди блеснули вдруг воды величественной Оби.
«Теперь скоро и Барнаул!» — облегченно вздохнул Аносов и протянул онемевшие от долгого сиденья ноги.
Глава третья В СТАРОМ БАРНАУЛЕ
Над Обью протянулись высокие крутые яры, а на них раскинулся большой горный город Барнаул. Но прежде чем попасть на левый берег, нужно было поспеть на паром. У переправы скопилось много подвод и пешеходов. В утреннем воздухе стоял гомон, слышалась перебранка. Каждому хотелось попасть на паром скорее, и кто был посильнее и понахальнее, тот локтями пробивался к переправе. Над рекой плыл легкий белесый туман. Огромный плот покачивался на волне, как диковинная рыбина. Из бревенчатого кабака вышла гурьба пьяных мужиков и, стараясь перекричать друг друга, заорала:
— Эй, отчаливай, неча ждать. Отчаливай!
Завидя горного генерала, народ молча расступился, и тройка, стуча копытами по деревянному настилу, проскочила на паром. Аносов с нескрываемым любопытством разглядывал паромщиков. Крепкие, коренастые мужики, упершись ногами, с натугой тянули толстый канат, поднимая плот вверх по течению. Поражали силища и энергичные загорелые лица. «Только таким богатырям и под силу бороться с Обью!» — с восхищением подумал Павел Петрович. Паромщики работали дружно. Река сносила паром, но человеческая сила не уступала. Широкоплечий, с бородищей до пояса, смуглый и рослый старик выкрикивал:
— Дружней, дружней, ребятушки!
Над величественным водным простором вставал город. Издали прочертились прямые улицы, над запрудой поднималась луковка церкви, рядом — белые каменные здания, а за ними темные деревянные домишки, выстроенные по ранжиру. По крутому берегу Барнаулки в гору поднималась черная дорога, а по ней тянулся бесконечный обоз с громадными черными гробами. Аносова поразило это мрачное зрелище среди ликующей природы. Зеленели заречные луга, шумел приобский бор, кричали птицы; всё — и яр, и река, и леса было озолочено сияющим солнцем, и вдруг на фоне этого — тягостные неуклюжие черные гробы.
— Что это? — недоумевая, спросил Аносов рослого старика.
— Аль не знаешь, батюшка? — в свою очередь удивляясь, ответил паромщик. — Да это угольный обоз. Короба угольные, почитай, сажень высотой, и всё наполнено доверху. Чернять одна, от сажи и не прочихаешься. Гляди, и дорога от угля-то черная. Весь лес кругом пожгли. Всё жрет завод! Ой, батюшка, он у нас ненасытный! — Мужик повел серыми глазами, показывая на берега. — Гляди, весь бор повывели-поистребили. Строевые сосны под топор валят да в ямах на уголь жгут; на глазах гибнут леса. Э-эх! — тяжко вздохнул он и смолк.
— А разве каменного угля на Алтае нет? — спросил Аносов. — Ведь писали о том, что открыли залежи его.
— Эх, барин, мало ли чего писаря настрочат, — отозвался паромщик. Пишут одно, а на деле — другое! Попробовал тут один, а что вышло?
— Что же? — пытливо уставился на него Павел Петрович.
Паромщик поплевал на широкие жилистые ладони и крикнул:
— Эй, паря, не замай, понатужься! — Всем корпусом подавшись вперед, он со страшной силой рванул канат. Черный неповоротливый плот закачался на тихой воде. Глаза мужика озорно блеснули из-под косматых бровей. Он с насмешкой сказал Аносову:
— Аль не слыхал? Инженер тут один взялся за каменный уголь, так его живо отучили. Кончил тем, что запил горькую да потом и застрелился. Не при против рожна! Начальство не переспоришь!..
Паром подходил к берегу, паромщики засуетились, силясь причалить поудобнее. Вскоре кони снова загремели копытами, и тройка быстро потянула в гору. Широкая, пыльная дорога и в самом деле вся была усыпана угольным порошком. Уголь чернел всюду: он поднимался из-под колес густой едкой пылью, которая покрывала густую листву придорожных берез и въелась в черные брёвна строений. Многие дома были выкрашены в черный цвет. Это было практично, но наводило еще большее уныние. Вот и широкие городские улицы, покрытые шлаком. От него и сам город принимал мрачный оттенок.
Аносова тянуло скорее взглянуть на Барнаульский завод. Павел Петрович заметил его уже издали по высоким горам угля и сизому дымку, который тянулся в голубое небо. Вот и обширный заводский пруд, окаймленный ивами. Утренняя тишина наполняла город. Нарушая ее, гремя цепями, прошла на работу партия каторжных. Экипаж катился сейчас по широкой улице, на которой среди бревенчатых домов с причудливой резьбой изредка встречались и каменные. Миновали сонный бульвар, и, не останавливаясь у особняка горного начальника, кони промчались прямо к заводу.
Аносов вышел из коляски и остановился, пораженный открывшимся видом просторной площади, сооруженной в стиле ампир. Посреди нее высился строгий обелиск, сооруженный покойным Петром Козьмичом Фроловым в память столетия Барнаульского завода. Площадь обрамляли фундаментальные здания простой и вместе с тем пленительной архитектуры. Прямо расположился завод, огражденный чугунной решёткой. Павел Петрович подошел ближе и с удивлением увидел, что она была копией решётки Михайловского замка в Санкт-Петербурге.
Вот и двухэтажное каменное здание заводской конторы, около которого толпятся работные. Аносов неторопливо прошел в широкий вестибюль и сразу был встречен начальником Колывано-Воскресенских заводов, стройным пожилым горным инженером Соколовским. Учтиво проводил он прибывшего в свой обширный кабинет, в котором на столах и в шкафах были разложены образцы руд, расставлены макеты шахт и разные модели. Аносов внимательно осмотрел их и, не заметив образцов железа и сталей, разочарованно спросил:
— А где же образцы сталей?
Соколовский молча склонил голову, развел руками.
— Барнаул занят только серебром! — тихо ответил он. — А то, что сейчас вы осматривали, является частью горного музея, созданного трудами Петра Козьмича Фролова.
— Здесь есть музей! — радостно воскликнул Павел Петрович. — Нельзя ли его осмотреть?
— Может быть, ваше превосходительство изволит раньше отправиться на квартиру и позавтракает, — предложил начальник завода.
— Завтрак потом, а сейчас — в музей! — настойчиво повторил Аносов.
В сопровождении Соколовского он отправился в залы, где размещались интересные минералогические образцы, ботанические и зоологические коллекции.
— В сем музеуме собраны модели и макеты горных машин, кои созданы трудами наших людей, — рассказывал начальник завода. — Тут вы изволите видеть модель двигателя Ползунова, а вот модель «Змеевой горы» и машин Фролова…
Аносов быстро повернулся к модели «Змеевой горы». На ней были хорошо видны все рудничные сооружения и механизмы, изобретенные Козьмой Дмитриевичем Фроловым. Он долго и внимательно рассматривал их. Поражало остроумие сооружений, облегчавших труд человека.
— Этот музей посетил сам Александр Гумбольдт. Взгляните на его роспись! — сказал Соколовский, протягивая книгу, на которой значилось: «Собственноручные подписи особ, почтивших своим посещением Барнаульский музей».
Павел Петрович с волнением перелистал книгу. Знатный путешественник отметил большое научное и познавательное значение музея, неутомимую деятельность его создателя, который был столь любезен, что сам сопровождал посетителей и давал им пояснения. Вздохнув, Аносов закрыл книгу и подошел к окну, за которым виднелась площадь. Показывая на строгие стильные здания и гранитный обелиск, он спросил:
— Кто же является творцом этого? Чувство подсказывает мне о большом такте и мастерстве зодчих, возведших этот величавый и спокойный ансамбль!
— Вы угадали, — сказал Соколовский. — Проекты сих зданий и решётки сделаны архитекторами Молчановым и Поповым — учениками великого Росси!
Аносов мечтательно смотрел вдаль. Всё было привлекательно в простых и строгих линиях и говорило о большом таланте строителей.
И вдруг он вспомнил о черных дорогах, усыпанных угольной пылью, и огорченно промолвил:
— Такие творения украшают город, но дороги к нему мрачны!
Павел Петрович повернулся и размеренным шагом пошел в кабинет. Усевшись в кресло, он спросил:
— А как доставляются сюда руды?
— Руды доставляются издалека, — пояснил начальник Колывано-Воскресенских заводов. — Вот карта, — показал он на стену. — На ней вы видите, что Барнаульский сереброплавильный завод снабжают рудой Салаирский завод, отстоящий от нас за сто шестьдесят с лишком верст, Змеиногорский рудник, который и того дальше, и Солоновский, расположенный за триста десять верст. Вся руда доставляется на подводах.
— Но это ведь очень дорого должно обходиться! — возразил Аносов.
Соколовский пожал плечами:
— Так угодно кабинету его величества. Даровая сила здесь дешевле всего.
Павел Петрович промолчал, на душе стало тяжело.
«Дешевый принудительный труд выгоднее усовершенствований! — с горечью подумал он. — Как это знакомо. И никто не подумает о простом человеке!»
Весь день Аносов был тих и печален. Обед в особняке начальника заводов прошел в сдержанном молчании. Вечером Аносов отправился в город. Он прошел по пыльной, безмолвной улочке, прохожие показали ему притаившийся за ветхим забором деревянный домик, в котором жил и умер Ползунов. Павел Петрович долго стоял с обнаженной головой перед крылечком, не решаясь войти. Ему чудилось, что вот-вот откроется дверь и выйдет, слегка сутулясь, с истомленным от болезни лицом изобретатель «огненной машины». Но тих и пуст был дворик. Лохматый пес лежал в тени под забором, кудахтали куры. Погруженный в мрачные мысли, Павел Петрович вышел к реке Барнаулке. Здесь на пустыре валялись огромные ржавые цилиндры. Чумазые ребятишки заводских мастеровых, играя среди зарослей полыни и крапивы, прятались в них.
«Вот и всё, что осталось от большой и умной машины!» — с грустью подумал Аносов и побрел прочь.
В конторе среди старых служащих еще свежи были предания об уральском механике, а словоохотливый подрядчик Данило Зуев поведал Аносову, что недавно умер старик, отставной мастеровой Харлов, прослуживший на заводе полвека да проживший в отставке три десятка лет. Этот дряхлый мастеровой хорошо помнил Ползунова и рассказывал о нем чудеса.
После утомительной дороги Павел Петрович спал крепко, а рано утром его разбудили нестройные, хриплые голоса. Пение смешивалось с бряцаньем цепей. Павел Петрович догадался — ведут на работу арестантов. Голодные и оборванные, шли они по широкой унылой улице и попрошайничали.
Аносов приоткрыл окно. «Эх, Русь, каторжная Русь!» — тяжело вздохнул он и прислушался.
Каторжники жалобно, тягуче пели:
Милосердные наши батюшки, Не забудьте нас, невольников, Заключенных — Христа ради! Пожалейте-ка, наши батюшки, Сожалейте, наши матушки, Заключенных — Христа ради! Мы сидим во неволюшке, Во неволюшке: в тюрьмах каменных За решетками за железными, За дверями за дубовыми, За замками за висячими, Распростились мы с отцом с матерью, Со всем родом своим, племенем…Заводские жёнки со слезами на глазах подавали последнее. Одинокая и голодная бобылка низко кланялась арестантам и просила:
— Не обессудьте, несчастненькие, бог вам подаст…
Сколько доброты и душевности проявлялось в сердцах этих простых людей! Бряцая цепями, погоняемые конвойными, арестанты с грустной песней прошли базар. Голоса их замерли вдали, а Павел Петрович стоял у окна и вспоминал Урал.
Его тянуло к исследовательской работе над сплавами, а положение обязывало заботиться только о незыблемости заведенного порядка.
Выйдя из дому, Аносов пошел к Барнаулке. Вязкие сыпучие пески тянулись вдоль берега; мутные желтоватые воды торопились в Обь. У тяжелой темной колоды, укрытой ракитником, седой бергал полоскал ветхую рубашку и распевал глухим голосом:
Идет бергал из штоленки, Шубенка на кем худенька; Одна пола во сто рублей, Другая во тысячу, А всей-то шубенке цены нету, Цена у царя в казне. У царя в казне, в золотом ларце…Павел Петрович горько улыбнулся: работный был сутул, портки на нем рваные. Ноги заскорузли от грязи.
— Как же так, старик: говоришь — одежка худа, а цены ей нет? спросил он.
— А ты, батюшка, не смейся, — перехватив лукавый взгляд Аносова, ответил бергал. — Песня моя не простая, с потайностью.
— Что за потайность?
— Не всякому прохожему да ясной пуговице эту потайность сказывать! отрезал бергал и, прищурив один глаз, недоверчиво спросил: — А ты чей будешь, ежели не ведаешь того, что у нас любой знает?
— Ученый человек. Всю жизнь влекут меня к себе руды и металлы, простодушно ответил Аносов и присел к старику. Горщик пытливо поглядел на Павла Петровича. То ли ясные добрые глаза пришлись ему по душе, то ли любовь ученого человека к трудному делу покорила его. Он глубоко вздохнул и горько сказал:
— Эх, и тяжела наша жизнь, батюшка! Ух, как тяжела! Горя много, а еще более плетей довелось испытать, а радостей и не было! Но погляди ты, батюшка, в корень нашей жизни. Вот они руки! — Он поднял перед Аносовым жилистые корявые руки и продолжал: — Неказисты, узловаты! И рубаха, вишь, худенька. А сколь бергал вот этими крюками серебра из-под земли-матушки выворотил! А ныне — литейщик. Сколько отлил? Не счесть. Вот и выходит, друг, что худенькой шубенке бергала да ему самому цены-то и нет, — цена у царя в казне…
«Умен старик», — подумал Аносов и, ничего не сказав горщику, взволнованный побрел к Оби.
В полдень Аносов решил посмотреть работу литейщиков. Он прошел к низенькому каменному зданию и привычно переступил порог. В полутемном помещении от плавильных печей шел сухой жар. Литейщики с черными от копоти лицами старательно возились у плавок. Среди них Павел Петрович заметил того самого горщика, который на реке пел песню с тайным смыслом.
Увидев начальника заводов в мундире, мастеровые встрепенулись, побросали всё и замерли, подобно фрунтовым солдатам. Аносов махнул рукой.
— Продолжайте свое дело! — добродушно сказал он и подошел к плавильной печи. — Кто тут старший?
Из полумрака выступил знакомый бергал.
— Я, — хрипло выдавил он, и руки его задрожали. — Аль прикажешь бить?
Аносов удивленно посмотрел на старика.
— За что же бить? Или упустил что-нибудь в литье? — спросил он.
— Сохрани бог! — вымолвил старик, и глаза его вспыхнули. — Дело нам знакомое. Разве упустишь? За тем и ходим, чтобы добыть добрый металл!
— В таком случае не наказывают! — сказал Аносов.
— Эх, барин, — со вздохом отозвался старик. — Бьют нас и за дело, и без дела, и за худое, и за хорошее! — Он рукавом смахнул крупные капли пота с лица.
Аносов заглянул в печь. Там над клокочущим сплавом колебалось синее пламя. По цвету пламени, по его блеску Павел Петрович чутьем определил добротность сплава. Он остался доволен и, повернувшись к литейщику, похвалил:
— Ну, кудесник, всё идет хорошо. Мастер ты отменный!
— Рад стараться, батюшка! Не из-за страха робим, а по любви к делу. Эх, труды наши добрые! Одно худо, батюшка: руда далеко, мается народ от тягот…
Он замолчал, встретив сердитый взгляд уставщика.
Литейщики снова засуетились; Павел Петрович достал записную книжку и записал о литье. Несколько часов он присматривался к работе и, довольный увиденным, ушел в контору. За большим столом сидел писец и, скрипя гусиным пером, усердно выводил строки. При виде начальника он быстро встал.
— О чем пишешь?
— Да вот, ваше превосходительство, — начал, заикаясь от смущения, писец, — составляю роспись пожитков, оставшихся после смерти бергала Ветошкина.
— А ну-ка, покажи! — попросил Аносов и прочел:
«1) ящик, окованный железом, с внутренним замком; 2) рубашек холщовых 3; 3) портов холщовых же ветхих 5; 4) зипун сукна сермяжного, поношенный; 5) опояска, поношенная; 6) камзол синего сукна, поношенный; 7) шляпа, поношенная; 8) шуба баранья, ветхая; 9) плат холщовый, ветхий; 10) шапка кофейного сукна; 11) чирки юфтяные, ветхие; 12) зипун, ветхий, серого сукна; заслужено денежное жалованье в июле месяце 90 копеек с четвертью, в августе 12 и 3/4 копейки».
Перед мысленным взором Павла Петровича встала картина долгой, тягостной жизни. Много лет не покладая рук работал трудяга, а после себя оставил только ветошь. Но тут же, спохватившись, Аносов подумал иное: «Неверно это! Такими людьми горное дело держится. Поистине беспредельно терпелив русский человек!».
Он вернул ведомость писцу и вышел из конторы. С Барнаулки подуло свежим ветерком, Аносов глубоко вздохнул, словно вырвался из мрачного затхлого подземелья.
Глава четвертая СНОВА БУЛАТ!
Алтайский горный округ, весьма разнообразный и богатый, не радовал Аносова. Трудно было ему уйти от самого главного, к чему тянулась его душа. Всю жизнь он мечтал о высококачественных сталях и булатах. Всегда и везде он с упоением думал об увлекательных плавках. В Барнауле и Змеиногорске этого не было, а серебро не манило его.
«Величие России принесут лучшая сталь и булаты, — с убежденностью думал он. — Без стали невозможен прогресс в технике!»
Между тем в Алтайском горном округе действовали только два чугуноплавильных и железоделательных завода: Гурьевский и Томский. Они с трудом удовлетворяли потребности Колывано-Воскресенских заводов, выделанное в них железо оставляло желать много лучшего, уклады стали и разные чугунные и железные вещи делались по старинке. Из-за этого в течение последних десяти лет заводы и рудники недополучили сорок пять тысяч пудов железа, пятьдесят семь тысяч пудов руды, не говоря уже о разных изделиях. Павлу Петровичу хотелось снова вернуться к булатам. В эти годы он много думал о сплавах и решил, что не всё им сделано; поэтому, поспешив закончить с барнаульскими делами, он отправился на реку Том-Чумыш, где расположился Томский железоделательный завод. Этот завод был возведен умным и талантливым строителем Дорофеем Федоровичем Головиным в 1771 году. Он учел опыт плотинного строительства Козьмы Дмитриевича Фролова, и гидротехническая установка Томского завода представляла собой остроумно устроенный каскад. Павел Петрович внимательно осмотрел расположение вододействующих колес. На мощной водяной струе строитель установил три колеса, последовательно уменьшая их размеры. Вся мощь водяного напора использовалась до предела.
Директор завода, старательный капитан Филов, встретил начальника горного округа без подобострастия. Было в нем что-то чистое, привлекательное, вынесенное из Горного корпуса, и Аносов невольно вспомнил свои первые годы в Златоусте. Он сердечно разговорился с молодым капитаном и почувствовал, что тот мечтает о большой и интересной работе. Чем мог заинтересовать его завод на Том-Чумыше? Здесь изготовляли заслонки к голландским печам, сковороды, ковши, ухваты, кастрюли, капканы, азиатские таганы, замки и ножи и многое другое для домашнего обихода. Правда, все эти вещи были необходимы, но такая работа не приносила удовлетворения Филову. Аносов видел, что работа на заводе идет по старинке. Директор завода хлопотал, затевал новые сплавы, но вековая косность глушила молодые порывы и не давала им осуществиться.
За вечерним чаем Павел Петрович слушал рассказ Филова, и когда речь зашла о сплавах стали, он не утерпел и поднялся из-за стола.
— Я сейчас кое-что покажу, что должно вас заинтересовать! — Аносов прошел в отведенную ему комнату, раскрыл чемодан и вынул тщательно хранимые им образцы булатов. Спокойно, с лукавым огоньком в глазах, Павел Петрович торжественно разложил небольшие слитки. При свете огня они лучились синеватыми переливами. Небольшая синеватая пластинка булата при ударе сверкала крошечными золотыми искорками. Молодой инженер склонился над образцами и залюбовался ими. Как волшебник из старой сказки, Аносов рассказывал молодому офицеру увлекательные истории о каждом образце.
— Все металлы перед сталью и булатом — ничто! — восторженно закончил Павел Петрович. — Кто будет владеть сталью и булатом, тот многое сделает для блага человечества!
Филов схватил руку Аносова и крепко сжал ее:
— Можете рассчитывать на меня! Верьте мне! Помогите мне; я постараюсь добыть булат!
Павел Петрович дружески взглянул на разгоряченное, взволнованное лицо инженера.
Увлеченные беседой о булатах, они просидели до утра. Давно в поселке пропели ранние петухи, над рекой заклубился седой туман и работные шумной толпой прошли к руднику. Прогудел гудок, и только тогда Филов спохватился:
— Уже день, а я помешал вам отдыхать.
Аносов улыбнулся:
— Это хорошо, очень хорошо. Теперь я верю, что мое дело будет в настоящих руках.
Умывшись, он сказал Филову:
— Ну, я готов, ведите и показывайте мне ваших литейщиков!..
У домны, заглядывая в глазок, суетился благообразный старик.
— Ну, как дела, Матвеич? — ободряюще спросил Филов.
Литейщик смущенно опустил глаза:
— И сам не разберусь, что творится. Давно бы литью быть готовым, а тут пузырится, кипит, а всё еще…
Аносов быстро подошел к печи и заглянул в нее. По цвету пламени он понял, что творится в домне.
— Слаба воздушная струя и угля пересыпали. Плохой сплав будет! строго сказал он.
Литейщик с удивлением уставился на Павла Петровича.
— Как же допустил такое? Ведь ты первый мастер тут? — укоризненно спросил старика Аносов.
— Посоветоваться не с кем, всё на глазок робится, вот чуток и ошибся.
— А о булатах слышал? — не отставал от него Павел Петрович.
— Слыхать-то слышал, а видеть не приходилось. Как учили, так и робим! — сказал литейщик и нахмурился.
Аносов обошел цехи и увидел, что на всем лежит печать безразличия.
«Так нельзя работать! — недовольно подумал он. — Сюда бы моих уральцев!».
Но, чтобы ободрить Филова, он сказал:
— Приемы у вас устарелые, однако люди неплохие. Мы их поучим. Будут варить булат, непременно будут!
Вернувшись в Барнаул, Аносов не замедлил написать просьбу министру финансов о присылке ему с Урала мастеров. Жаль, что старик Швецов вышел в отставку. С ним они показали бы, как надо делать булат!
Павел Петрович составил список мастеров и приложил его к своей просьбе.
Долго идут бумаги до Санкт-Петербурга, еще дольше они задерживаются в столе правителя канцелярии. Аносов с нетерпением ждал ответа. Прошло несколько месяцев, когда, наконец, от министра последовал ответ, что им дано указание главному начальнику горных заводов Уральского хребта послать мастеров для улучшения железоделательного производства на сибирских заводах. Павел Петрович, в свою очередь, поторопил уральского начальника, написав ему вежливое, но настойчивое письмо.
Из Златоуста к Аносову приехали только два литейных подмастерья Федот Ласьков и Виктор Голованов. Они прибыли вместе с возвращающимися караванщиками, отвозившими серебряные слитки в столицу. В сумрачный зимний вечер из окна кабинета Павел Петрович увидел вылезавших из возка людей в собачьих шубах и сразу догадался, кто они. Он приказал немедленно провести их к нему. Озираясь, златоустовцы вошли в обширный кабинет, но, завидя Аносова, сразу просияли:
— Ух, и соскучились мы без вас, Павел Петрович! Все наши кланяются вам низко.
Аносов не дал договорить им. Он подошел к литейщикам и крепко обнял каждого. Внимательно разглядывая их, он с волнением в голосе повторял:
— Так вот вы какие стали! Молодцы, право, молодцы!
Аносов велел накормить литейщиков, дал им отдохнуть, а затем на лихих конях отправил в Томский завод. В тот же час он вызвал правителя канцелярии и отдал распоряжение выслать из Гурьевского завода пятьдесят пудов кантуазского железа и десять пудов переплавленного в вагранке чугуна, который в Томском заводе надлежало еще раз переплавить в кричном цехе.
Аносов повеселел: он снова будет делать булат! Правда, прибыли только два златоустовца, но они-то хорошо помнят его выучку, они-то отлично знают, как лить булаты!
«В добрый час, мои дорогие! Я помогу вам!» — подумал он о златоустовских мастерах.
Глава пятая НА ТОМСКОМ ЗАВОДЕ
Аносов был в Томске, когда получил от капитана Филова донесение.
«Во время посещения Томского завода, — писал начальник завода, — ваше превосходительство изволили приказать мне изготовить несколько образцов булатной стали и переплавить вторично некоторые из неудавшихся слитков; вследствие чего между получениями литой стали были вторично переплавлены как эти слитки, так и несколько новых смешений по данным рецептам; первые большей частью оказались нехороши, а из последних те, которые заслуживали дальнейшей обработки, хотя бы и следовало проковать под молотком, но по недостатку в заводской плотине воды оставались до прибыли ее от дождей необработанными; а как ныне вода уже начала замерзать, при постоянной убыли ее на колесо одной воздуходувной доменной машины, и на прибыль ее нет уже надежды, то я приказал пустить молоток только на одну смену, чтобы не остановить доменного действия, и лучшие образцы булатной стали в изделии хотя и очень малом числе экземпляров в скором времени буду иметь честь представить вашему превосходительству…»
С бьющимся сердцем Павел Петрович читал письмо горного офицера. Значит, всё же литейщики добились успеха! Радость перемешивалась с тревогой, и Аносов стал собираться в дорогу. Встревоженная Татьяна Васильевна напрасно уговаривала мужа:
— Ну, куда заторопился? Голова седая, а ты всё еще горяч, как юноша. Побереги себя, Павлуша!
Аносов крепко обнял жену и заказал лошадей.
— Самых сильных и самых быстрых коней! — приказал он начальнику канцелярии. — Булат ждет! Алтайский булат, понимаете вы?
Татьяна Васильевна бессильно опустила руки: она знала, что теперь мужа не удержит ни плохая погода, ни трудная дорога.
Аносов спешил так, как торопится добросовестный врач к больному. Он снова переживал свою молодость, первые неудачи и успехи и поэтому волновался за Филова.
В пути он не отдыхал и, сменяя коней на почтовых станках, быстро промчался до Барнаула. Здесь его попытался задержать начальник Колывано-Воскресенских заводов, но Аносов твердо заявил:
— Булат! Вы понимаете, что такое булат?
Надвигались сумерки со снегопадом, однако по настоянию Павла Петровича к крыльцу подали сани, запряженные парой сильных лошадей-алтаек. Аносов завернулся в тулуп и крикнул:
— Гони!
Щелкнул бич, и горячие стремительные кони взяли с места быстрым аллюром. Побежали мимо снежные степи.
На третий день показались дымки Томского завода. Аносов облегченно вздохнул. Не заходя в контору, он прошел прямо в литейную.
— Ласьков, Голованов, — позвал Павел Петрович.
— Все тут! — отозвался из чада хриплый бас.
Навстречу Аносову вышел старик литейщик. Павел Петрович не узнал его: у мастерового посветлело лицо, по-молодому сверкали глаза.
— Экий ты стал молодец! — удивился Аносов.
— Станешь, коли такое веселое дело затеяли! — бодро ответил старик.
Подле изложниц стояли Филов и златоустовские литейщики. Их хмурые лица не обрадовали Аносова.
— Что случилось? — встревоженно спросил Павел Петрович.
— Сами не понимаем, — ответил капитан. — Всё делали по рецепту, а не вышло! Напрасно тревожились ехать в такую даль…
Златоустовцы молчали, боясь встретиться глазами с Аносовым.
— Не унывай, ребята! — ободряя их, прокричал он. — Что за беда! Или забыли, как случалось в Златоусте? Сегодня — неудача, завтра — неудача, а не сдашься, глядишь, и удача пришла! — Он скинул мундир, засучил рукава. Что ж, начнем сначала!
Алтайский литейщик в изумлении разглядывал Аносова: «Да где это видано, чтобы сам генерал занимался таким делом?».
Как простой мастеровой, Аносов сам составлял смесь, осматривал тигли, плавильные печи и, не доверяя никому, сам произвел засыпку шихты в тигли и установил их для нагрева.
Павел Петрович внимательно прислушивался к потрескиванию тиглей в плавильной печи, сдвигал заслонку и заглядывал на цвета побежалости. Медленно тянулось время.
Забрезжил рассвет, когда Аносов в последний раз подошел к плавильной печи и заглянул в щель сдвинутой крышки.
— Готово! — решительно сказал он. — Пора!
Златоустовские мастера быстрым и ловким движением извлекли тигли и вылили металл в форму. Опытным взглядом Аносов осмотрел сплав и непререкаемо сказал:
— Вышло!
После проверки изготовленный булат оказался лучше уральского. Долго Аносов разглядывал его в микроскоп, вертел в руках. Радостная улыбка светилась на его лице. Он утер пот и сказал:
— На этот раз я не скажу, что мы достигли совершенства. Стремления человека к познанию беспредельны, а значит, нет и предела нашему дивному мастерству.
— Поздравляю, ваше превосходительство, с победой! — подошел к нему капитан Филов.
— Позвольте лучше поблагодарить вас. Алтайский булат создан усердием всех литейщиков!
Над горами всходило холодное зимнее солнце, а на душе у каждого была радость и вера в будущее. Утомленные литейщики разошлись на отдых, бережно унося с собой эту радость.
Глава шестая «РЕКРУТЫ»
Глубокой осенью Аносов торопился в Салаир: он давно собирался побывать на заводе и золотых приисках. Позади остались пустынные степи, по которым гулял холодный пронзительный ветер. На юг летели последние журавлиные стаи. Степи сменились березовыми перелесками, которые незаметно перешли в тайгу. Постепенно дорога поднималась в горы, над которыми курились сизые облака. В тайге шла своя неугомонная жизнь. Торопливо и спорко шелушили кедровые шишки полевки и, ловко прыгая по деревьям, трудились над сбором корма белки. Дорогу часто перебегали зайчишки, иногда мелькала огненно-рыжим хвостом лиса и крался полосатый бурундук. Виднелись глубоко вдавленные следы медведя, лошади испуганно косились и храпели. Ямщик покрикивал на тройку:
— Но, но, пошли, чего спужались? Хозяин еще затемно пошел отыскивать зимнюю фатеру.
Погоняя коней, ямщик запел унылую песню. Дорога забирала всё круче. Скоро и Салаир!
Рядом с трактом змеилась тропка. Она то убегала в лес, то снова вилась по опушке. Аносов еще издали заметил на ней бодро шагающего коренастого мальчугана лет девяти, одетого в рваный зипунишко и старую отцовскую шапку.
Аносов взглянул на обветренное лицо парнишки, на его вздернутый нос и приказал ямщику попридержать коней.
— Ты кто такой? — улыбаясь, спросил он мальчугана.
— Иван! — деловито отозвался тот.
— Откуда бредешь, парень?
— Издалеча.
— Куда и зачем?
— Не видишь, что ли, барин? — по-мужицки серьезно сказал подросток. В Салаир помечен, в бергалы!
Разглядывая его утомленное лицо и плохую одежонку, Аносов спросил:
— Что ж тебя так плохо родные снарядили в дальнюю дорогу?
— А кому было снаряжать-то? Ни отца, ни матери, — один, как перст.
— Как же ты сиротой жил? — заинтересовался Павел Петрович.
— Как жил? — усмехнулся мальчуган. — Известно, по людям мытарился.
Аносову стало жалко мальчонку.
— Садись ко мне, дружок, подвезу! — предложил он.
Подросток неприязненно посмотрел на проезжего барина и отрицательно покачал головой.
— Спасибо, дойду и так! — отказался он. — Не привыкать нам гулять по тайге.
Ямщик свистнул, и кони понесли экипаж. Мальчуган остался позади.
Через час Аносов въезжал в Салаир. Подле горнозаводской конторы шумела толпа подростков.
— Гляди-ко! — указал кнутовищем ямщик. — Поди, со всего края согнаны. Тоже «бергалы»! Эх вы, горемыки мои, горемыки, — печально улыбнулся он в бороду.
Павел Петрович вылез из экипажа и стал пробираться через толпу. Более сотни мальчуганов окружило его. Плохо одетые, худые, с грустными лицами, они жадно рассматривали Аносова, угадывая в нем большого начальника, от которого зависела их судьба. Он ждал жалоб, вопросов, но мальчуганы притихли, молча следя за ним. Тяжело вздохнув, Аносов поднялся на крылечко. За массивной дверью слышались громкие голоса. Павел Петрович с минутку помешкал и оглянулся на ребят.
Каждую осень в Барнауле происходил набор и назначение горным советом детей-«рекрутов» на заводы и рудники. Их определяли на рудоразборные и другие работы, а более счастливые попадали в заводские школы. Сейчас «рекруты» спешили к заводам. Немало явилось их и в Салаир. Вот неподалеку от крылечка стоит мальчонка лет семи и пристально смотрит на Аносова. В больших изношенных сапогах с чужой ноги, в женской кацавейке, он старательно дует на посиневшие пальцы, и слёзы блестят на его глазах.
— Ты что же будешь делать? — ласково спросил его Павел Петрович.
Ребенок повеселел и торопливо ответил:
— Известно, что. Как другие, так и я буду робить.
— А может, тебе домой хочется вернуться, мал ты уж очень!
— Ой, что ты, дяденька! — со страхом отозвался «рекрут». — Мне сейчас — ни туда и ни сюда. Батя благословил. Иди, говорит, и радуйся, поди, три копеечки в день заработаешь на хлеб!.. Мне бы в школу, вот это другой резон!
— Ты что, учиться желаешь? — поинтересовался Аносов.
— Страсть как! Так и тянет!
— Ладно, похлопочу за тебя, — пообещал ему Аносов.
— Сделай милость, не откажи! — серьезно, по-мужицки, попросил «рекрут».
— Как тебя звать-то?
— Заюшкин. Не забудь, Заюшкин…
Аносов грустно улыбнулся, взялся за ручку и распахнул дверь.
В большой комнате за тесовым столом сидели управляющий и писец. Они внимательно рассматривали список «рекрутов» и вызывали каждого для определения на работу.
При входе начальника горного округа управитель Салаирского рудника, тяжелый и сырой старик, подошел к Аносову и доложил по уставу:
— Ваше превосходительство, мы здесь решаем, сколько и куда направить рекрутов.
— Садитесь, господа, и продолжайте свое дело, — пригласил Аносов. Сбросив дорожный кафтан и сняв теплую шапку, Павел Петрович тяжело опустился на скамью и склонил голову.
«В сущности, что мне здесь делать? Распустить по домам ребят я не имею права. Сочтут за бунт. Да и куда им идти? Чем помочь? Ну какие они работники?» — с грустью подумал он и вдруг вспомнил мальчонку в женской кацавейке.
— Есть в списке Заюшкин? — спросил он.
Писец угодливо склонился над ведомостью, зашуршали листы.
— Заюшкина в списках не значится, ваше превосходительство, испуганно ответил писец.
— Как же так? Проморгали, значит? — усмехаясь, спросил Аносов.
— Никак нет, ваше превосходительство. Мы не только человечишку, но и таракана не проморгаем, — обиженным тоном отозвался управитель Салаирского рудника. — Видать, по годам недомерок или никуда не годится за слабостью.
— Как не годится! — запротестовал Павел Петрович. — Мне кажется, он мальчуган смышленый. Позвать его сюда!
Писец быстро юркнул за дверь, и вскоре послышался его резкий голос:
— Который Заюшкин, марш сюда, в избу!
— А бить не будешь? — откликнулся недоверчивый детский голос.
— Иди, скоморох, а то и в самом деле смажу!
Мальчишка несмело переступил порог и проворным движением смахнул с головы шапку.
— Ну, вот вам и Заюшкин! — сказал Аносов. — Поглядите, чем он не бергал? Рекомендую его, господа, в школу.
Подросток сияющими глазами впился в Павла Петровича:
— Дяденька…
— Не радуйся преждевременно, — ласково сказал Аносов. — И в школе не сладка будет тебе жизнь. Но, главное, учись. А коли обидит кто, скажи мне…
— Ну, ну, иди отсюда, что рот разинул! — подтолкнул мальчонку в спину управитель. — Говори спасибо генералу да радуйся!
Заюшкин надел шапку и, громыхая сапогами, пошел к выходу.
— Ваше превосходительство, — заикающимся голосом заговорил управитель. — У меня в Салаире беда! Сбегли сразу полсотни варнаков. Охрану погнал на поиски и три воза шпицрутенов приготовил для расправы.
— Вы полагаете, что одними шпицрутенами можно поправить дело? — зло усмехаясь, спросил Аносов.
— А как же иначе, ваше превосходительство? — недоумевающе пожимая плечами, вымолвил управитель.
— По-моему, оттого и бегут, что вы много бьете и мало думаете о человеке! — резко сказал Павел Петрович и поднялся со скамьи. — Я сам поговорю с работными, почему они плохо работают. — Он повернулся спиной к управителю и спросил писца: — Все ли рекруты явились на сбор?
— Одного недостает, ваше превосходительство, Ивана Тягана. Хворый аль помер, неизвестно.
Павел Петрович вспомнил встреченного на дороге парнишку Ивана.
— Спешит! Скоро будет! — уверенно сказал Аносов. — Старательный и серьезный паренек.
Аносову придвинули список, он бегло просмотрел его.
— Господа, вы зачисляете детей на работу. Я прошу вас, и сам буду иметь это в виду, — строго сказал он: — они должны трудиться точно по горному уставу — не более восьми часов в сутки — и должны быть употребляемы только на дневные и легкие работы. Если будет не так, пеняйте на себя! А теперь прошу показать заводскую школу.
В низеньких унылых казармах размещалось около двухсот детей. Более печальное зрелище вряд ли можно было придумать.
Управитель заискивающе заглядывал в глаза Аносова и пояснял:
— Мы учим их чтению и письму и кое-что рассказываем о рудах…
— Кое-что, — нахмурился Аносов. — А это что за человек? — показал он на широкоплечего бородача в старом кафтане, очень похожего на бродягу.
— Это?.. Это дядька-воспитатель. А вот еще кашевар…
На пороге кухни стоял толстый неряшливый мужик с лоснящимся лицом. Аносову стало не по себе.
— Сколько средств используете на каждого ученика? — строго спросил он.
— От трех до семи копеек в день, — смущаясь, ответил управитель.
— Что за произвольная раскладка? — возмутился Аносов. — Три копейки и семь — огромная разница. Покажите обед!
— Вы не будете есть эту пищу, ваше превосходительство! — испуганно вскричал управитель и моргнул кашевару, чтобы тот скрылся. Но толстый служитель не понял намека и сиплым голосом объявил:
— Ноне каша без сала. Середа — день постный, скоромного не полагается!
— А что будет завтра, в четверг? — сердито спросил Аносов.
— В четверг — как будет приказано.
— Да ты пьян! — вдруг возмущенно выкрикнул Павел Петрович. — От тебя сивухой разит. Не вижу у вас порядка. Здесь не школа, а… а…
От волнения Аносов не находил подходящего слова.
— Ва… ваше превосходительство, мы не знали, не подготовились к столь высокому посещению, — растерянно пытался объяснить управитель. — И это действительно не школа, поэтому и зовем «приютом для рудоразборщиков»…
Аносов еле сдерживался, чтобы не наговорить грубостей. Он недовольно отрезал:
— Вам предстоит по-настоящему подумать о школе!
Молчаливый, угрюмый, покинул он грязные, неприглядные казармы и пошел к руднику. На склоне горы в отвалах работали рудоразборщики: старики и мальчишки. Завидя горного начальника и управителя, они замолчали.
Аносов остановился возле сухонького старичка:
— Здравствуй, отец! Как работается?
— Спасибо на добром слове, батюшка, — спокойно отозвался горщик. Работёнка у нас известная, да и то сказать: у доброго человека всякое дело спорится. Вот, глядишь, камень, ан нет, — это камень не простой. Смотри, будто ржа его хватила, а стукну молотом, раздроблю, и вскроет он себя. Хороша руда!
— Каков урок? — присматриваясь к скупым движениям старика, спросил Аносов.
— Я да мальчонка должны набить и разобрать в день сто пудов. Не мало, голубчик, ой не мало! Всё рученьками перещупаем да глазами зорко разглядим… Богатимо руды тут в горе, — копай, сколько душе угодно, и не исчерпаешь во век. — В бесхитростных словах старика прозвучала беспредельная любовь к своему труду.
Он добродушно уставился на Аносова.
— Откуда сам? — спросил его Павел Петрович.
— От века горщик. Еще дед на Демидовых робил, вот и я всю жизнь бергалом отслужил, а теперь, батюшка, стал я хил и немощен. Силушки прежней нет. Теперь и самому в землю не страшно лечь.
Бергал пришелся Аносову по душе. Желая помочь ему, Павел Петрович предложил:
— Ты много поработал, отец, и честно заслужил отдых; иди на пенсию!
— Что ты, батюшка! — обеспокоенно вскрикнул старик. — Да как же это можно? Разве проживу я на рубль тридцать семь копеек в год? Только уйди с работы, тут и смерть! А вот этак шевелишься-трудишься, и смерть бежит от тебя, а бросил всё, и на погост позовут. Эх-хе-хе, старость не радость, не теплое летечко, батюшка…
Старик разговорился.
— Пожито много, батюшка, всего испытал, досталось и рукам моим, и спинушке. Взял себе женушку в молодые годочки без разрешения начальства, так за это сквозь строй провели два раза. Пятьсот человек били вицами. Вот оно как! Живуч человек…
— Родные-то есть? — спросил Аносов.
— А вот моя роденка! — показал он на мальчугана-рудоразборщика. Вместе радости и горе делим…
В этот вечер Павел Петрович засел за рукопись об алтайском булате, но мысли были о другом. Думалось о горнозаводских школах. Обида сжимала сердце: угнетало сознание, что все его усилия будут напрасны, — в Петербурге не поймут его добрых стремлений и не захотят отпустить деньги на школы. Склонившись над листом, Аносов задумался. Ровный свет от лампы теплым кругом ложился на стол. И вдруг Павлу Петровичу вспомнился Заюшкин и шагающий по горной дороге мальчуган.
— Шагайте вперед, шагайте, други! — прошептал он, и теплое чувство наполнило сердце. — Вами земля держится, Иванушки…
На другой день Аносов заторопился на золотые прииски. Среди дремучей тайги у речки раскинулись хибары. Пронзительный ветер рвался в долину. Было неуютно, холодно. В долине у ручья шли вскрытые пласты, там копошились люди. Аносов сошел с коляски и остановился у ближнего забоя. Мерзлую породу рвали порохом. Черный дым клубами поднимался к небу. В этом чаду двигались тени.
— Ваше превосходительство, здесь всё штрафные, — тихо предупредил управитель. — Опасный народ!
Аносов не отозвался, подошел поближе к работавшим в отвалах и приветливо сказал:
— Здравствуйте, братцы…
Хмурый детина разогнул спину и отозвался с насмешкой:
— Здорово, барин, коли не шутишь! — в его голосе прозвучала нескрываемая враждебность.
— Чем недоволен? — стараясь говорить спокойно, спросил Павел Петрович.
— Радоваться нам нечего! Не видишь? Каторга! — грубо ответил приисковый.
И сразу, перебивая друг друга, заговорило несколько человек. С надрывом, с отчаянием они жаловались:
— Сейчас на ветру стынем, а летом и осенью — по колено в воде ржавой. Работёнка проклятая, а пища и того несноснее.
— Эвон, глянь! — Работный открыл рот и грязными руками потрогал зубы. — Все до единого шатаются!
Дёсны горщика сочились кровью.
«Цынга!» — хмуро подумал Аносов.
— Облегченья никакого, всё силой бери, — продолжал между тем приисковый. — Вот и живи тут! Каждый день на погост уносят. А кому охота маяться? Каторга, вот и бегут!
— Палок, значит, захотелось! — не сдерживаясь, прикрикнул на него управитель.
— Этого у нас много заместо хлебушки! Забивают, ну и пусть забьют. Скорее конец!
— Погодите, братцы, не все сразу. Вот ты, старик, — обратился Аносов к старателю. — Что скажешь, если установить здесь машину для промывки? Пойдет?
— Облегчит труд, понятно. За это спасибо тебе, батюшка, а палками да угрозами не накормишь нас… Нам бы теплую шубу да хлебушка. И плетей поменьше, и уж так работали бы… Порадей за нас, батюшка!
— Я не уеду отсюда, пока не помогу вам! Слышите, братцы?..
Приисковые заговорили, закричали, перебивая друг друга. Каждому хотелось рассказать о своих обидах. Аносов присел на камень и терпеливо всех выслушал. Ему хотелось поближе узнать этих людей.
Мрачный и душевно усталый, он возвратился в контору. Салаирский управитель исподлобья смотрел на него, выжидая момент, чтобы заговорить, однако начальник горного округа сам начал разговор резко и строго:
— Жизнь на приисках и так очень тяжела, а вы, сударь, обращаете ее в невыносимую. В казармах мерзость, пища отвратительная, обращение с людьми возмутительное. Неудивительно, что бегут. Молчите! — решительно перебил он, заметив попытку управителя сказать что-то в свое оправдание. — Надо уметь хозяйствовать. Плохой вы хозяин!..
Жестокий салаирский управитель на этот раз угрюмо молчал.
Аносов прошелся по конторе и решительно сказал:
— Про Салаир плохая молва идет. Надо по-иному работать. Я остаюсь здесь для устройства моей машины!
— Слушаюсь, ваше превосходительство. Я всегда готов, — залебезил управитель. — Только труд каторжан не в пример дешевле всяких машин.
Не слушая его возражений, Павел Петрович перебил:
— Завтра же направить нарочного в Барнаул, там у меня чертежи машин. Буду жить здесь, пока всё не пойдет по-иному!
В оконце конторы долго горел свет: Павел Петрович знакомился с приисковыми делами.
Глава седьмая НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА
В страшную жару Аносов возвращался по иртышской долине в Омск. На тройке крепких выносливых коней он ехал по правому берегу могучей сибирской реки, воспетой народом. Кругом простиралась степь, покрытая сухой выжженной травой. Только там, где поблескивали освежающие речонки, бегущие к Иртышу, зеленели густые травы, шумели заросли крыжовника, черной смородины, диких роз. Золотились на солнце пахучие целебные цветы, раскачивались желтые чашечки лютиков. Вдоль военной линии на пути к Омску то и дело встречались безмолвные, пыльные казачьи станицы. В тени у ворот лежали неподвижные псы, истомленные жарой; они не лаяли и провожали тройку сонными глазами. Над степью простиралась тяжелая духота; до самого светло-голубого горизонта ни зеленого листочка, ни свежего стебелька. На опаленной равнине внезапно возникали и двигались медленно и грузно огромные песчаные столбы, которые затмевали и солнце, и голубизну застывшего эмалевого неба. Аносов невыносимо страдал от зноя и жажды. Кружилась голова, темнело в глазах, и казалось, конца не будет мукам от нестерпимой духоты. Мелкая горячая пыль висела в воздухе. Среди голой необозримой равнины то там, то здесь чернели юрты казахов, изредка тянулись вереницы верблюдов, оглашая раскаленную пустыню унылым звоном колокольчиков. Проскачет быстрый всадник, и снова пустынно вокруг…
Далеко-далеко в степном мареве показались очертания Омска. Не доезжая до него, Аносов приказал остановить тройку в казачьем поселке. В тени у плетня сидела казачка, и Павел Петрович попросил у нее попить.
— Может, молока выпьете? По жаре куда хорошо! — гостеприимно отозвалась хозяйка.
Она принесла отпотевший жбан с холодным молоком. Аносов, не отрываясь, жадно выпил молоко и протянул казачке рубль. Молодка гневно сверкнула глазами.
— Не гоже так, господин! — укоризненно сказала она. — За хлеб-соль русские люди с проезжего никогда не берут. Поезжай с богом!
Он ласково улыбнулся ей:
— Прости, не хотел обидеть!
Павел Петрович поклонился казачке, и тройка помчалась вперед.
Через час кони на рысях вбежали в город. Знакомые широкие немощеные улицы, та же пыль и гнетущая жара.
Аносов остановился у старенькой учительницы. Оконца домика были прикрыты ставнями. У завалинки в песке копошились куры. Высокие густые деревья бросали прохладную тень на тихое жилье. В горнице стояла прохлада. Старушка приветливо встретила Павла Петровича, мигом принесла кувшин студеной воды и предложила гостю умыться. Он освежился, отпустил лошадей и решил отдохнуть.
Лежа на узеньком диване, полузакрыв глаза, он наслаждался покоем. Золотыми шпажными клинками щели ставней пронзали солнечные лучи, в которых веселым толкунчиком носились мириады пылинок. Аносову казалось, что он почивает в забытой всеми деревушке, — так тих и молчалив был Омск…
Когда он проснулся, солнце уже поднялось высоко и снова палило землю.
Аносов решил посмотреть город. Парадно одетый, изнемогая от жары, Павел Петрович в тяжелом раздумье шел пешком по Омску.
— Павел Петрович, охота вам бродить по жаре! — окликнул его ласковый голос.
Он поднял глаза и увидел хозяйку-учительницу. Худенькая, в пыльной шляпке, она шла с базара и несла корзиночку с продуктами. Аносов протянул руку:
— Дайте я помогу вам.
— Что вы, что вы! — испуганно заговорила старушка. — Что могут подумать? Вы же генерал, при мундире! Разве ж это можно?
Она семенила рядом, ее сухое узкое лицо порозовело.
Изредка взглядывая на Аносова, учительница сказала:
— Добрый человек вы, Павел Петрович…
Он хотел что-то ответить, но внимание его отвлеклось другим. На перекрестке улиц возводился дом. По крутым высоким лесенкам каторжники таскали вверх кирпичи. Среди строительных лесов слышались голоса каменщиков, постукивания и звон кельм. Аносов обратил внимание на высокого, слегка сутулого каторжника с пронзительными умными глазами. По его крупному лицу с взлохмаченной бородой струился обильный пот. Арестант уложил на «козу»[18] десять огромных кирпичей, в каждом из которых было не меньше 12 фунтов весу. Павел Петрович ужаснулся: «В таком пекле поднять по скрипучим, ненадежным лесенкам три пуда? Это ужасно!».
Между тем лицо и повадки этого чернорабочего напоминали интеллигента. Он готовился уходить с грузом, когда учительница прошептала Аносову:
— Это Достоевский, Федор Михайлович, писатель… Изволили, наверное, читать его сочинения «Бедные люди», «Белые ночи», «Двойник» и «Неточка Незванова»?
— Как! Неужели это он? — удивленно спросил Павел Петрович и, не ожидая ответа, решительно подошел и пожал каторжнику руку. Караульный солдат, глядя на мундир генерала, вдруг выпалил:
— Неужто помиловали эту окаянную душу?
Охранник осекся под строгим взглядом Аносова. Достоевский быстро скользнул по генеральскому мундиру недоверчивыми глазами. Пригнулся, приладил груз к спине и, лязгая кандалами, раскачиваясь под ношей, пошел к лесенке.
— Эй, эй, живее тащи! — прикрикнул на него с верхней площадки горластый унтер с рыжими бакенбардами.
— Несчастный! — прошептала учительница.
Каторжный всё выше и выше поднимался на леса. Аносов опустил голову.
— Печально, очень печально, — произнес он. — Надо облегчить его судьбу!
— Сделайте это, дорогой мой, — умоляюще взглянула на Павла Петровича учительница.
Встреча с Достоевским очень взволновала Аносова. Он постоял несколько минут в размышлении и, спохватившись, сказал своей спутнице:
— Чего же я стою? Вот схожу к полковнику де Греве и всё сделаю! Идите домой уж без меня, — улыбнулся он ей.
В мундире и при шпаге Аносов отправился к омскому коменданту. Де Греве встретил томского губернатора почтительно, молча выслушал его просьбу и сильно изумился:
— Помилуйте, ваше превосходительство, знаете ли вы, за кого просите? Известно ли вам, что Достоевский осужден за противогосударственное преступление?
— Мне известно, что он осужден за чтение у Петрашевского письма Белинского к Гоголю, — корректно, но напористо сказал Аносов.
— Ваше превосходительство, это не так. Достоевский — один из главных заговорщиков против государя, весьма скрытный и опасный человек.
Де Греве конфиденциально продолжал:
— Я вам доложу один факт, и вы убедитесь в этом. Когда во главе судей был поставлен генерал Ростовцев, то он весьма удивился, просмотрев дело, слишком ничтожны были улики против Достоевского. Но арест произведен и, видимо, по делам. Из сего генерал заключил, что тайна заговорщиков хранилась хорошо и только посвященные могли ее знать. Достоевский — умен, даровит. Кто, как не он, знает всё? Ростовцев был весьма любезен к нему, пригласил на беседу, но Федор Михайлович скупо отвечал на все вопросы. Всё шло хорошо, и вдруг Достоевский вспылил, понял разговор по-своему и возмущенно закричал генералу: «Вы предлагаете мне свободу за предательство товарищей!». Между тем, ваше превосходительство, ему предлагали только искренне покаяться и обо всем рассказать! — голос де Греве звучал тихо, ласково. Бездушные глаза полковника уставились в Аносова. Павла Петровича охватило раздражение. Ему хотелось крикнуть в лицо коменданту: «Подлец!». Стоило больших усилий, чтобы сдержаться, и он промолчал, дослушивая с волнением. Де Греве между тем продолжал:
— После этого симпатия Ростовцева к преступнику превратилась в ненависть. Раздражение генерала было столь велико, что он покинул зал суда и предоставил допрос другим членам. Извольте знать, генерал Ростовцев по характеру нетерпелив, — он несколько раз открывал дверь смежной комнаты и всё спрашивал: «Окончен ли допрос Достоевского? Я возвращусь в зал заседаний, господа, лишь после того, когда там не будет больше этого закоренелого преступника!».
Полковник пытливо посмотрел на Аносова и сказал с пренебрежением:
— Теперь вы сами видите, сколь недоступен для раскаяния сей каторжник!
— Но он писатель! Его все русские образованные люди знают! — не сдавался Павел Петрович. — Надо облегчить участь заключенного! Дайте ему другую работу, полегче!
— Ваше превосходительство, этого никак нельзя! — решительно ответил комендант. — У вас чувствительное сердце, но отступлений от воли государя никто не вправе делать! — И как бы в подтверждение своей решительности полковник встал, высоко поднял голову, и его синие глаза холодно блеснули. — Ваше превосходительство, лучше не будем говорить об этом. Вы сами понимаете, что… — Де Греве замялся, замолчал.
Аносов понял, что дальнейшие его попытки облегчить участь узника лишь навлекут на Достоевского неприятности. Он сухо откланялся коменданту и вышел из домика. Жара всё еще не спадала. На душе было тяжело, обидно, и, чтобы не тревожить больше Достоевского, Павел Петрович обошел стройку и тихим шагом побрел на квартиру…
Встретив вопросительный взгляд учительницы, он безнадежно махнул рукой. Отдохнув, вечером на тройке степных коней он отправился в дорогу. Мелькнули генерал-губернаторский дворец, каменные здания. Вот крепость подле здания острога, обнесенного зубчатым частоколом-палями, заросшие рвы, бурьян, и Омск остался позади, а горькие думы не оставляли Аносова. Покачиваясь в экипаже, он долго думал:
«Родина, Россия! Что делается на твоей земле! Гибнут лучшие люди. Кому в царской России нужны таланты? Поэт Кондратий Рылеев повешен Николаем. Пушкин убит на дуэли тридцати восьми лет. Грибоедов зарезан в Тегеране. Лермонтов убит на дуэли. Иссеченного розгами Полежаева свезли в Московский военный госпиталь, и он умер там. Белинский убит… голодом и нищетой. Достоевский на каторге. Эх, Россия, николаевская Россия!» опечаленно вздохнул Павел Петрович и закрыл глаза.
Глава восьмая РОКОВАЯ ПУТЬ-ДОРОГА
Всю зиму Аносов с нетерпением ожидал ответа из столицы на свою докладную записку. В марте, когда в Сибири свирепствовали последние метели, из Петербурга в Томск неожиданно прискакал курьер и передал Павлу Петровичу депешу из «Кабинета его величества». В ней сообщалось, что царю угодно было ознакомиться с запиской начальника горных заводов и заинтересоваться богатствами Алтая. Император посылает на заводы сенатора Анненкова, которому и предстоит всё решить на месте.
Аносов сильно встревожился. Смешанное чувство овладело им: он был рад, что его докладная записка обратила на себя внимание, и в то же время огорчен тем, что едет не горный инженер, а сенатор, который вряд ли что-нибудь смыслит в горном деле.
Начальник Алтайских горных заводов поспешил в Омск навстречу важному гостю. В тесном возке, загроможденном чемоданами, в которых хранились образцы руд, коллекции и дорожная постель с бельем, Аносов в сопровождении адъютанта отправился по сибирскому тракту. За Томью-рекой бушевали бураны, они перемели дороги, завалили почтовые станки, надрывали душу диким воем. Еще сильнее неистовствовали метели в Барабинской степи. Кони выбивались из сил, возок проваливался в снежные трясины, приходилось подолгу возиться, чтобы выбраться на верный путь. Всю дорогу Павел Петрович сидел в раздумье. Адъютант много раз пытался вызвать его на разговор, но Аносов отмалчивался. Где-то в глубине его души таилось сомнение в успехе поездки. На почтовых станках начальник горных заводов отогревался у камелька и охотно вел беседы с обозниками.
Под Колыванью из мглистого снежного вихря навстречу Аносову выбрела партия ссыльных. Гремя цепями, в рваной одежде, они шли под вой метели. За ними тащились сани, в которых, еле прикрытые соломой, сидели изможденные женщины с грудными младенцами на руках. При виде возка, запряженного в тройку серых, седоусый унтер закричал арестантам:
— С дороги! С дороги, сукины дети!
Посиневшие, дрожащие от холода, утопая в сугробах, они угрюмо отошли в сторону. И долго-долго не мог Павел Петрович забыть ни их скорбных лиц, ни укоризненных взоров.
— Зачем это унтер сделал? — огорченно спросил он.
— Так надо, ваше превосходительство! Это же ссыльные! пренебрежительно ответил адъютант.
— Но это жестоко! Это же люди! — сердито крикнул Аносов, но рев бурана заглушил его голос.
Со степных всхолмленных просторов, словно в океане в неистовую бурю, высоченными валами двигались седые снежные заносы. Вздыбленные подвижные сугробы дымились и хоронили всё встречное на пути. Пронизывал леденящий северный ветер. Колючий снег забивался в кибитку, слепил глаза. Кругом гудело, стонало. Сизые тучи, словно клубы порохового дыма, тянулись над холмами. Кони, выбиваясь из сил, еле тащились вперед. Адъютант испуганно посмотрел на Аносова:
— Ваше превосходительство, не прикажете ли переждать эту бурю на почтовом станке?
— Нет, мы будем отдыхать только в Колывани![19] — отозвался Павел Петрович.
Кони с трудом дотянули до станции. В избе повис густой пар от жаркого дыхания. На полатях, на скамьях, на печи и на полу — всюду, где можно приютить усталое человеческое тело, лежали люди. Аносову очистили место в углу у печи. Благодетельное тепло пронизало его. Сладкая дремота овладела им, и он, сидя, крепко уснул…
Когда Аносов проснулся и приоткрыл глаза, кто-то скорбно жаловался:
— По всему Томскому тракту летом сибирская язва прошла. Сколько пало скота! Сейчас по всей Барабинской степи смерть гуляет.
— Страсти какие! — отозвался грудной женский голос. — Народ-то от голода так и мрёт…
Мужичонка в сером латаном полушубке поскреб затылок и горько сказал:
— Это верно, и чума и мор для простого человека — страсти, но ничто так не приносит горя, как барская неволя. Она, братцы, страшнее чумы, мора и всякой напасти!
Плечистый ямщик, блеснув белыми зубами, перебил мужичонку:
— Ты, брат, расейский, по лаптям догадываюсь. Не стреляна птица, гляди, тишь-ко! Тут на станке народ всякий да и дорожка гулевая рядом. Аль желаешь пройтись по ней с браслетками?
— Молчу, коли так, — согласился тот. — А байки сказывать тут можно?
— Сказку послушать любо. Рассказывай, горюн, пока барин спит!
Прохожий подсел к столу, к нему потеснились проезжие мужики. Аносов, склонив голову, сделал вид, что снова задремал.
Мужичонка прищурил глаза и начал тихим голосом:
— Я про барина и чёрта сказывать буду, — кто из них справедливее… Жил на свете барин лютого-злого нрава. Чуть что не по нем, сразу на конюшню шлет, а там, известное дело, — слуги в плети берут. Зато и не любили крепостные барина, страсть как не любили шкуродера! Идет однажды барин и встречает на дороге чёрта. «Здорово, милый!» — говорит чёрт. «Здравствуй, нечистик!» — отвечает барин. «Как живешь?» — спрашивает чёрт. «Благодарение богу, живу его милостями и не жалуюсь, — говорит барин. Ну, а ты как?» — «Известно, как, — отвечает чёрт. — Бога мне благодарить не за что. Что люди дадут, тем и живу. Куда торопишься, господин?» — «На поле поспешаю, — отвечает барин. — Сам, чай, понимаешь, какой ноне народ пошел. Последнюю совесть потерял. Кроме чёрта да плетей никого не боится… Слушай, приятель, не пойдешь ли ты со мной? Мужики, как тебя увидят, от страху за десятерых работать станут. А то ведь от рук отбились, сладу с ними нет». — «Согласен, — говорит чёрт. — Только чур, ты уж не обижайся, если кто скажет: чёрт, мол, с тобой!» — «Ну вот еще! Мне не привыкать». Вот они идут вместе…
— Ишь ты, сдружились, значит, под масть один к одному подошли! засмеялся возчик.
Мужичонка повел глазами и продолжал:
— Идут они вместе и видят — возле дороги пастух свиней пасет. Словно на грех, один боров от стада отбился и на картофельное поле забрался. Хрюкает, с борозды на борозду шествует, всю ботву помял, землю изрыл, бед наделал. Паренек не выдержал и выругался: «А чтоб тебя чёрт забрал, проклятущий боров!». Тут барин толк чёрта под локоть и шепчет: «Слыхал? Это ведь пастушок тебе борова отдает. Бери скорей! Мне бы такого дали, сразу унес бы да бочку сала натопил!» — «Так-то оно так! — почесал за ухом чёрт. — Только, по совести, жаль мне паренька. Небось ты с него шкуру спустишь за этого борова. И обещан-то он мне не от души. Просто привычка такая у людей, — надо, не надо, а поминают меня…»
— Это верно, всегда от тягот лихое слово на язык напрашивается! опять вставил слово возчик.
— Вот идут барин и чёрт дальше. Идут мимо крестьянского поля. Самая страда в разгаре. Слышат, под межой ребенок плачет. А мать тут же рядом потная, загорелая, рожь жнет. Всю, видать, разморило. Не поднимая головы, горемычная работает-старается. На ребеночка ей и взглянуть некогда, не то что утешить его. А дитё всё плачет и плачет, так и заливается слезами. Не стерпела мать — от невыносимой тяготы, от несчастной жизни сорвалось у нее недоброе слово: «Чтоб тебя чёрт побрал! Зерно всё осыпается. Отец на барском поле спину гнет. Уж и не знаю, как одна и справлюсь с работой. А тут еще ты сердце надрываешь!». Барин опять чёрта под бок толкает. «Слышишь, — говорит, — экое дело привалило: ведь баба тебе задарма ребенка отдает. Что же ты не торопишься, не берешь его? Дали бы мне, я бы не зевал. Был бы мне даровой работник!» — «Так-то оно так! — согласился чёрт. — Ты на даровое сам не свой, это я хорошо знаю. А только мне этого ребеночка никак не взять, потому что не от души слова бабой сказаны, не от чистого сердца. От тяжкой работы мало ли что с языка сорваться может!» Барин нахмурился, промолчал. Шли они, шли и добрели до барского поля. Как увидели крепостные барина, стали они плеваться и чертыхаться: «Тьфу, опять принесла его нелегкая. Да чтоб тебя нечистый забрал, — ругались они. — Шел бы дармоед к чёрту в пекло!» Тут уж чёрт барина в бок толкнул: «Слышь, что они про тебя толкуют?». Испугался барин, руками замахал: «Что ты, что ты! Разве они это от души говорят? Ведь это не люди — скот. Брешут, как собаки, языком, а что к чему — сами не знают». — «Э нет, — засмеялся чёрт. — Меня-то уж ты не проведешь. На этот раз от всей души слова были сказаны. Так что теперь ты мой!» Без лишних слов схватил чёрт барина за шиворот, сунул в свою торбу, завязал крепко-накрепко, а как только завязал, закрутил тут вихрь до самого неба, и потащил чёрт барина прямо в пекло…
— Ха-ха-ха! — дружно грянули ямщики. — Просчитался барин! Эх-ма, ошибся!..
Аносов вздохнул, широко открыл глаза. Все замолчали. Мужичонка поглубже надвинул шапку и сказал равнодушно:
— Глянь, и пурга утихла!
На дороге улеглась метель, проглянуло скупое солнце. Выйдя во двор, Павел Петрович долго смотрел на снега, застывшие огромными вздыбленными волнами. Высокие сугробы искрились синевой, в просторах лежала тишина.
— Надо поспешать! — сказал он адъютанту.
Возчик взглянул в помутневшее небо и со вздохом ответил:
— Два станка промчим, а ночью опять буран налетит, помяни мое слово…
Аносов забрался в возок, рядом устроился адъютант. Ямщик свистнул, и тройка помчалась по снежной равнине. Было к вечеру, когда Аносов облегченно подумал: «Ну вот и буран обогнали? Скоро и Омск!». Высунувшись из кибитки, он сказал ямщику:
— Полегче гони!
Черные глаза мужика угольками сверкнули из-под нависших бровей. Он мотнул головой:
— И так, и этак худо! Гляди, барин: меж кустиков на степи снежные струйки потекли. Будет опять пурга! Отгуливает зимушка свою последнюю буйную удаль…
Павел Петрович взглянул на восток. Оттуда надвигалась сизая туча. Навстречу в лицо ударил ветер, и в степной тишине почувствовалось что-то зловещее. Аносов незаметно задремал. Он очнулся от толчков, свиста и воя ветра. Впереди за пологом в наступившей темноте бушевала пурга. Тревога и беспокойство невольно овладели Аносовым.
«Ничего, — подумал он, — скоро Омск!»
Но в этот миг могучий вихрь опрокинулся на путников, и возок неожиданно накренился.
— Берегись, барин, тут овраг! — донесся до него окрик ямщика. Возок кувыркнулся, полетел куда-то вниз, дверца распахнулась, и Аносов выпал в глубокий сугроб. Вслед за этим на него упал солидный адъютант, а сверху навалились чемоданы. Всей этой огромной тяжестью Павел Петрович был придавлен и уже не слышал ни завываний метели, ни крика ямщика. Спирало дыхание, и всем существом стало овладевать оцепенение, безразличие. Всё сознавалось смутно, и сколько времени он пролежал под тяжестью в глубоком сугробе, Аносов не помнил. Когда пришел в себя, с трудом выбрался из-под чемоданов и заполз в кибитку. Там уже возился адъютант.
— Пожалуйте, ваше превосходительство, тут совсем тепло! — и он заботливо прикрыл Аносова медвежьей полостью.
Ямщик верхом ускакал за помощью в Омск.
— Осьмсот верстов проехали, а тут осьмнадцать не пересилю? Шалишь! кричал он под вой бурана, погоняя выбившуюся из сил лошадь.
Мороз усиливался, ветер поднимал тучи снеговой пыли, однако Аносов не ощущал холода.
Медленно тянулась бесконечная, томительная ночь. Должно быть, прошло много часов.
«Наверно, скоро утро, — подумал Павел Петрович. — Но отчего до сих пор не видать просвета? Что за могильная тишина?» — Он с большим трудом освободил руку и дотронулся до адъютанта. Завернутый в тулуп, тот сладко спал.
Наконец вдали послышался колокольчик, а вскоре зарыхлился снег, «Кажется, нас отрывают», — догадался Аносов.
В самом деле, напрягая все силы, ямщик на обледенелых лошадях с большим трудом добрался до Омска и поднял тревогу; помощь пришла только к утру; Аносова и адъютанта освободили из-под снежных заносов.
Пурга улеглась. На морозном небе синела лазурь. Кругом стояла нетронутая тишина, и странным казалось только что случившееся. Павел Петрович чувствовал пока только усталость и сонливость. Едва добравшись до Омска, он поторопился в постель и заснул крепким сном.
Пробудился Аносов от болей в горле и пожаловался на это хозяйке. Сбегали за лекарем. Старый служака внимательно оглядел больного и сказал внушительно:
— Вам, батюшка, надо отлежаться несколько деньков в тепле да горячего молочка попить. А нет ли рому? Чего бы лучше!
Аносов встал с постели, оделся и сказал:
— Рому нет. Не пью. Молоко тоже не буду пить. Здоров! Всё пройдет.
Лекарь укоризненно покачал головой:
— Жаль, что не желаете послушаться доброго совета! После этого может случиться осложнение.
Аносов махнул рукой:
— Семи смертям не бывать, а одной не миновать!..
Глава девятая СЕНАТОР ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В апреле, наконец, прибыл в Омск сенатор Анненков. Он остановился в генерал-губернаторском дворце и первые дни уклонялся от деловых разговоров с Аносовым. Высокий, с изрядно полысевшим черепом, длинноносый, Анненков чем-то напоминал старого, облезлого ворона. Однако он не хотел замечать старческих своих немощей и усиленно ухаживал за дамами. На второй день по приезде сенатора во дворце генерал-губернатора дан был концерт. Анненкова, в парадном мундире при голубой ленте и звездах, окружили дамы, с которыми он охотно делился столичными новостями. Аносов удивился: на вечере не было Ивановой. Эта умная, образованная женщина была дочерью декабриста Анненкова.
Павел Петрович тихо спросил об этом у генерал-губернатора:
— Что с Ивановой? Она больна?
Вельможа удивленно пожал плечами:
— Ах, сударь, вы не хотите понять простой вещи: совместима ли у меня в доме встреча сенатора и дочери декабриста!
Аносов промолчал. Он с тоской рассматривал дам, которые старались попасться на глаза сенатору. Однако хотя они и оказывали гостю особый почет, но всё же не забывали со страхом и умилением поглядывать на генерал-губернатора: доволен ли он их поведением? Самодержец, неограниченный сибирский владыка, с важностью прохаживался среди них. Павлу Петровичу стало не по себе. Он с ненавистью смотрел на сытое, самодовольное лицо сибирского сатрапа и думал: «Его слово в этих краях закон. Самодур! Но военный губернатор Киргизской области генерал-майор Фридрихс еще чище. Всегда надут, как индюк, и глуп, как пробка! Редкий экземпляр. Доклады выслушивает стоя, играя на флейте, а поднесенные ему для подписи бумаги взвешивает на безмене. Этот бюрократ в конце недели хвастает, сколько пудов отношений пришлось ему подписать за шесть дней!».
Думы Аносова перебивала музыка. Военный оркестр заиграл полонез. Подрагивая тощими ляжками, Анненков прошелся в танце с генерал-губернаторской дочкой.
— Ах, маменька, он совсем молод сердцем! — восторженно вымолвила юная дочь генерал-губернатора.
— Великосветские люди никогда не стареют, моя милая. Порода! радуясь оказанному дочери вниманию, с важностью отозвалась рыхлая мать.
Было жарко и душно от сальных свечей, — Аносов еле дождался разъезда.
Только через неделю сенатор вызвал начальника Алтайских горных заводов на доклад. Прервав Аносова на полуслове, он улыбнулся ему:
— Видите ли, мне не интересны технические подробности. В министерстве двора уже читали ваш пространный доклад. Вы должны понять, что никто не думает тратить деньги на столь невыгодные предприятия. Важен доход. К чему попустительствовать рабам!
Аносов понял, что его просьба отклонена; он уныло опустил голову. Сенатор снова улыбнулся ему:
— Но я всё-таки должен объехать Алтай! Приготовьтесь в дорогу, милейший Павел Петрович…
Всё стало ясно: ревизора нисколько не интересовало состояние дел. Прогонные, командировочные — вот что стояло на первом плане. Аносов холодно ответил:
— Слушаю, ваше превосходительство. Всё готово к отбытию.
На ранней заре в сопровождении казачьего конвоя Аносов и сенатор на тройке двинулись по берегу Иртыша. Снег сошел с полей, и после освежающих дождей в степи буйно росли травы, радуя взоры путешественников. Трещали кузнечики, стаи птиц носились над озерками, блестевшими среди зеленого простора. Звенели ручьи, и стада сайгаков появлялись вдруг на холмах и так же внезапно исчезали в полдневном мареве, словно гонимые ветром.
Анненков с восторгом разглядывал всё встреченное. Завидя казахские юрты, раскинутые на берегу ручья, он весело закричал:
— Смотрите, смотрите, ведь это номады![20] Ах, какая прелесть. Давайте завернем!
Сколько ни уговаривал его Аносов, сенатор остался непреклонен. Пришлось свернуть в кочевье. Лохматые псы с хриплым лаем бросились к экипажу. Молодой пастух длинным шестом разогнал псов и что-то сказал по-казахски.
— Что он говорит? — спросил Анненков.
— Он сказал, что бай будет рад видеть русских начальников в своей юрте, — пояснил ямщик.
В большом круглом шатре, крытом войлоком, на груде подушек сидел ожиревший старик с редкой пожелтевшей бородой и хитрыми глазками. Он низко поклонился гостям и указал им на место рядом с собой.
В юрте было душно, неприятные запахи гнилой струйкой доносились из-за полога. Бай хлопнул в ладоши. Занавес шевельнулся, и вышла тонкая, с черными косами девушка. Позвякивая монистами, она протянула две прекрасные, китайского фарфора, пиалы гостям.
— Кумыс… Ашай! — сказал бай.
Перебродившее кобылье молоко отливало синевой, было прохладно. Еле сдерживая тошноту, Аносов приложился к чаше. Анненков долго колебался, но зная, насколько строги азиаты к соблюдению их обычаев, взял пиалу и выпил залпом. Прохлада прошла по телу, кумыс показался ему прекрасным напитком. Он решительно протянул чашу баю. Казах довольно покачал головой.
— Жамиль, Жамиль! — прокричал старик и глазами показал на пиалу.
Девушка, словно ящерка, нырнула под полог и снова появилась с полными чашами. Смущенно зардевшись, она протянула пиалу Анненкову. Косые глаза девушки лукаво смеялись. Сенатор улыбнулся баю и любезно сказал:
— Твоя дочь прекрасна!
Казах прижал руку к сердцу и учтиво ответил:
— Добрый гость, она не дочь мне, а седьмая жена! Мы просим вас обождать немного: сейчас пригонят стадо, мой сын Карашаш выберет лучшего барана и зарежет на ужин.
Аносов молча следил за сенатором. Тот поднялся и поблагодарил бая.
— Нам пора в дорогу!
Анненков круто повернулся и схватился за полог. За ним стояла бадья, полная кумысом; полчища мух с жужжаньем носились над ней. Большие глаза с испугом глядели на гостя. В лицо Анненкова ударило неприятным запахом. Он резко повернулся и быстро вышел из юрты. Садясь в экипаж, сенатор сластолюбиво сказал Аносову:
— Хороша азиатка! А глаза какие! Умеют же тут, в пустыне, сии дикари находить свои радости!
— Не для всех они здесь доступны. Дозвольте заметить, на сего бая много пастухов старается, — сдержанно сказал Павел Петрович.
— Чего же удивляться: так самим господом положено, — безмятежно отозвался сенатор. — Бай, без сомнения, умен, вот и сыт, и красавицами окружен, а пастух глуп, к тому же лентяй, — вот и гол, и желудок у него пуст! Где ему, нищему, жену прокормить!
Они говорили на разных языках, и раздосадованный Аносов, отвернувшись, стал разглядывать степь, полную буйного майского оживления. Смолк и сенатор. В стороне сверкали разливы Иртыша, веяло прохладой. Анненков задремал. В казачьих станицах застыла мертвая тишина. Лишь на безграничных пастбищах паслись резвые конские табуны да в синем небе, высматривая добычу, кружили орлы-стервятники.
Долог, долог путь по сибирским дорогам! Но еще томительнее и тяжелее показался он Аносову на этот раз. Спустя несколько дней они проехали старую сибирскую Колывань, минули Бердск, добрались до Тальменки и только изредка перекидывались скучными отрывочными фразами.
Вечером на закате перед ними поднялся высокий берег Оби. Аносов оживился. Наконец-то Барнаул!
По приказу сенатора тройка помчала их прямо к белокаменному дому начальника Колывано-Воскресенских заводов. Осматривая особняк, Анненков заметил:
— Прекрасен!
Еще более изумился столичный ревизор, когда вступил в покои, убранные с большим вкусом и роскошью. Оглядывая обширные залы, устланные бухарскими коврами и заставленные горками с чудесным фарфором, сенатор не удержался и восхищенно воскликнул:
— О, да здесь уголок Петербурга!
Его угостили изысканным обедом, который подавали вышколенные лакеи в темных фраках и белых перчатках. Горные чиновники, в большинстве инженеры — питомцы Горного корпуса, вели непринужденный разговор о литературе и театре; они были изящны, речи их — остроумны и свободны. Анненков за чашкой крепкого черного кофе шепнул Аносову:
— Кто бы мог подумать, что здесь я встречу таких милых людей и такой комфорт!
Но еще больше удивился сенатор вечером, когда прибыл на бал. Он не верил своим глазам: перед ним кружились пары, ничуть не уступавшие в нарядах и манерах столичному обществу. Барнаульские дамы тоже были одеты со вкусом, многие из них говорили по-французски, — всё здесь напоминало уголок великосветской петербургской гостиной.
На вопросительный взгляд сенатора Аносов шепнул:
— Не удивляйтесь: горные инженеры — люди просвещенные. Единственная утеха для них в сем глухом месте — книги, музыка и хороший наряд. Верьте, есть дамы, которые наряды выписывают из Парижа…
Павел Петрович смолк, не досказав своих мыслей. А хотелось добавить, очень хотелось: «И всё это добывается не совсем честными путями. Есть которые и плутуют сильно»…
Анненков не интересовался ни прошлым Барнаула, ни заводами. Ему не хотелось расставаться с приятным обществом, но прогонные, командировочные гнали его дальше.
— Везите меня туда, где больше всего добывается серебра, — попросил он Аносова.
— Тогда вам необходимо посетить Змеиногорск, — ответил Павел Петрович. — Вы увидите старейшие рудники на Алтае.
— Превосходно! — согласился сенатор.
И вот тройка снова мчит Аносова и сенатора по степи к быстрому Алею. Степи скоро надоели столичному гостю.
— Где же горы, где же Алтай? — хмуро спросил он Аносова.
Только на второй день за почтовой станцией Калмыцкие Мысы в синей дали встали Алтайские горы. Невысокие сопки кутались в облака.
— Значит, скоро и заводы? — спросил ямщика сенатор.
— Что ты, барин, только полпути отмахали. Нам еще скакать и скакать! — весело отозвался тот, горяча и без того быстрых и выносливых коней.
— Я полагаю, что вам небезинтересно будет посетить Колыванскую шлифовальную фабрику, — осторожно заметил Аносов. — На ней изготовляются знаменитые вазы. Вы помните «Царицу ваз»? Ее изготовили в этом краю.
— Всё, что касается интересов моего государя, меня радует, — с важностью ответил ревизор. — В Колывань, так в Колывань!
— Э, барин, — вдруг горячо заговорил ямщик. — Милее нашего края на земле не отыскать! Любого цвета камень здесь найдется. Мраморы, порфиры, яшмы, — глаз не отвести. Сказывают, когда царица те камни-самоцветы увидела — обомлела. И наказала она каменное диво сделать…
— И что же произвели мастера? — снисходительно спросил у ямщика сенатор.
— Такую дивную чашу, барин, выточили из зеленой волнистой яшмы, будто невиданный сказочный цветок распустился, — восхищенно сказал мужик, — век бы смотрел на эту красоту и не отрывался! Не всякому дано вдунуть в мертвый камень живую красоту. Мастерство это не зря далось простолюдину, сам богатырь Колыван Иванович, человек неимоверной силы и ласковой души, передал его народу.
— Что за богатырь? — полюбопытствовал Анненков. — Расскажи. Да не сделать ли нам привал на бережку?
Аносов оживился и крикнул ямщику:
— Останови, братец!
Коней не распрягали. Освежили лица в ручье, напились и посидели на шелковистой свежей траве. Сенатор размяк, подобрел и напомнил ямщику:
— Ну-ка, рассказывай, что за богатырь такой Колыван Иванович!
Широкоплечий детина радостно улыбнулся начальникам и спокойным неторопливым голосом повел свой сказ:
— Было это давным-давно, может тысячу лет назад, всё мхом да быльем поросло, а золотое, заветное словечко дедовское до нас дошло. Сказывали пращуры наши, что на краю земли русской, у ясного озера, среди дремучей алтайской тайги стояли могучей заставой русские богатыри: Илья Муромец, Алеша Попович да Добрыня Никитич, — а с ними оборону держал молодой да хваткий корешок-дубок Колыван Иванович. Сила в нем бурлила, как река в паводок, и тешил он свою душу богатырскими потехами, брал камни-скалы и складывал грузные глыбищи причудами. Душа у него была теплая да ласковая, не обманчив глаз. И такие веселые камешки подбирал он, и так ставил их, что диво-дивное сотворил. Украсил он землю нашу трудовую и берега озёрные; ушла застава богатырская, а память осталась. Ох и красота! — с жаром вздохнул ямщик. — Подойди к берегу — и увидишь: не скала над Колыван-озером, а живой зверь будто припал к водице, а рядом змей невиданный на гору ползет, а там башня высокая, недоступная. Повернись вправо — ящер зеленый, чудовище огромное глядит на тебя да завораживает. Обойдешь его — и опять чудо: обернется глыба лесным человеком, а то резным теремом. И что ни поворот, всё по-новому, как в сказке сказывается. Люди вдосыта не налюбуются мастерством Колывана Ивановича. Вишь, какую красоту да лепость сотворил. И по любви большой к богатырю дали светлому озеру доброе имечко «Колыван». И стоять ему навечно да радовать людей, а про камни цветные, яшмы зеленые, про порфиры — в другой раз… Пора, господа, торопиться, до ночи к Саввушкину бы поспеть!
Аносов нехотя встал; от ручья пахнуло холодком, Павел Петрович поежился от озноба и вдруг почувствовал боли в горле. Стало не по себе. Превозмогая неожиданное недомогание, он сказал ямщику:
— Ну, спасибо, брат, за сказку. Хороша!
— Э, нет, барин, то не сказка, а быль! Кто не верит в золотые руки простолюдина, тому поведанное за сказку сойдет, а душевному человеку в большую радость она оборачивается. Глянешь на наших камнерезов — и догадаешься, что могучую да богатую душу надо иметь, чтобы создать такую красоту!
Снова мчат кони. Пошли холмистые предгорья Алтая, одетые в шумящую зелень. На закате добрались до Саввушкина и заночевали, а утром на восходе тронулись дальше. Не прошло и получаса, как тройка вынесла коляску на берег озера.
— Вот она, наша краса! — горделиво выкрикнул ямщик. — Вот оно, наше Колыван-озеро!
Перед взорами путников открылось незабываемое зрелище. Как огромное сверкающее зеркало, лежало озеро среди живописных гранитных скал, напоминавших причудливые фигуры. И в самом деле, всё казалось фантастическим.
— Пойми, где тут сказка, где явь, — обмолвился сенатор и похвалил: И впрямь, твой Колыван Иванович был великий мастер.
— Это истинно, — согласился ямщик.
Долго Аносов и сенатор любовались причудливыми скалами, игрой света и теней. Потом двинулись к шлифовальной фабрике. Здесь, в этих местах, в демидовские времена и были обнаружены первые руды в чудских копях.
Всё дальше и дальше катилась коляска, всё больше и больше громоздились причудливые скалы. Пихты, кудрявые березы, заросли черемухи и рябины теснили дорогу. Потоки прохладного, пряного воздуха освежали лица.
Наконец засеребрилась река Белая, и на берегу показались хорошо отстроенные каменные строения.
— Вот и шлифовальная фабрика!
Ямщик разом осадил коней перед широким крыльцом конторы, соскочил с козел и, сняв шапку, поклонился горным начальникам:
— Прибыли, господа хорошие. Здравствуй, наша матушка — Горная Колывань!
На обширном дворе лежали обтесанные глыбы горных пород — порфира, яшмы самых живописных рисунков, горки зеленых камней и мрамора. Запыленные самоцветы под солнцем казались безжизненными, блеклыми. Из нижнего этажа фабрики доносилось жиханье пилы.
Прежде чем прибежал управляющий гранильной фабрикой, Аносов увел Анненкова в мастерские. В сыром полутемном подвале потные мужики передвигали громадные камни. Рядом шумела в ларях вода, и замшелое колесо приводило в движение пилу. Работные осторожно подводили глыбу к стальным зубьям, которые со скрежетом пилили цветной камень на пластины. На полу и на стенах слоем лежала каменная пыль. Сенатор расчихался.
— Здесь неинтересно, покажите, где работают яшмоделы, — попросил Анненков.
— С удовольствием, — согласился Аносов. — Сейчас вы увидите на самом деле чудо!
Они поднялись в светлицу. Солнечные лучи пронизывали облака наждачной и каменной пыли, и то, что увидел Анненков, взволновало его. За большим станком сидел старик. Огромная бородища в пыли. Из-под очков на сенатора смотрели умные светлые глаза. Перед стариком на круге стояла изумительной красоты ваза из голубой яшмы. Осторожными, четкими движениями камнерез наводил узор. Из-под корявых крючковатых рук мастера рождалось диво — яшма светилась синим жарким небом. Круг, на котором стояла ваза, вертелся, что-то сверкало в руке старика, из-под ладоней вспыхивали голубые искорки и угасали, — камень пробуждался к жизни.
— Превосходная работа! — восторженно сказал Анненков и, обратясь к гранильщику, спросил:
— Как же получается это чудо?
— Эх, барин, всё идет от большого упорства и терпения. Каждый камень открывается только умельцу. Дурная рука всю красоту зарезать может. У каждого камня своя нежность. Возьмем, к примеру, аметист. Приятный самоцветик, а не сразу свою игру покажет. Краску надо ловить. Опусти камешек в водицу, и что же? Со всего самоцвета краска сбежится в один куст синего-пресинего цвета. И ставь этот куст в низ камня, и тогда аметист станет бархатным, теплым. Так и с яшмой, и с другим камнем совет надо держать, примериться, как его взять, чтобы красоту показать, да во всей силе.
Старик говорил медленно, для каждого камня он находил ласковое слово, и сенатор, слушая его, всё больше и больше проникался уважением к ценному мастерству.
— Смотрите, что может сделать простой человек! — сказал он Аносову, который и сам не мог оторвать взора от голубой вазы.
Они долго еще стояли у шлифовальных станков и тихо беседовали с мастерами, любуясь их работой. Однако едкая пыль раздражала горло и легкие. Аносов снова почувствовал острую боль в горле. Сильная слабость овладела им, — он еле дождался, когда сенатор вспомнил об отдыхе…
Утром тронулись в Змеиногорск. Завод оказался скучным деревянным селением. Когда-то здесь была крепость с бастионами. Теперь всё обветшало, пришло в негодность. Кругом ни тени, ни садов…
— Крайне неинтересно, — с недовольной гримасой вымолвил Анненков.
— Ваше превосходительство, — с жаром отозвался Аносов. — Обратите внимание, рудники эти самые старейшие. Они более ста лет дают серебро. Известный вам ученый Российской Академии наук господин Паллас сказал про Змеиногорск, что он венец всех сибирских рудников.
— Превосходно! — одобрил сенатор. — Я рад за его императорское величество, что он владеет столь прибыльным рудником.
— Обратите внимание, ваше превосходительство, сколь скудно живут здесь рабочие люди. Трудятся они много, а выдачу хлеба им прекратили. Судите сами: ежегодно тысячу пудов серебра добывают, а жизнь проходит в невыносимых условиях, — страстно заговорил Аносов.
— Погодите минутку! — движением руки прервал его речь ревизор. — Вы, милый друг, не о том повели речь. Поверьте мне, сии простолюдины довольны своим положением. Неведение делает их вполне счастливыми. Познание же развивает только алчность… Ну, судите сами, что они видели хорошего? Живут наравне со скотом, и смеют ли они думать о лучшей доле?..
— Не говорите так! — оборвал сенатора Павел Петрович. — Вы не знаете их жизни. Это же люди, и какие превосходные люди!
Анненков отвернулся, глаза его стали льдистыми. Он не пожелал больше разговаривать. Вечером сенатор вызвал Аносова к себе и, показывая на доклад, написанный им, спросил:
— Вы хлопочете о сих людях и рудниках?
— Верно! О них я хлопочу! — подтвердил Аносов.
— Его величество государь не может отпустить средства на сомнительные предприятия, — холодно сказал Анненков. — Что еще имеете сказать мне?
— Прошу осмотреть рудники, и вы убедитесь, в каком они состоянии.
— Это глубоко? — трусливо спросил Анненков.
— Шахты достигли ста десяти сажен глубины, и там, безусловно, сыро. Вам следует убедиться в этом.
— Благодарю покорно, — язвительно отозвался сенатор. — А плавки можно видеть?
— Буду рад показать. Убедитесь сами в техническом расстройстве. Возведенные Козьмой Дмитриевичем Фроловым гидротехнические сооружения требуют ныне большого ремонта.
— Ничего, постоят и дальше. А плавки я посмотрю завтра непременно. Любопытно видеть, как рождается серебро.
Утром, освеженный ванной, сенатор отправился в литейные. Он шел по широкой улице и хмурился. Мрачное здание завода ему не нравилось. Встречные работные, завидев начальство, останавливались, брались за шапки и низко кланялись. Сенатор равнодушно проходил мимо. Однако его зоркий глаз схватывал и запоминал всё.
— Неужели эти грязные мужики смыслят в плавках? — недоверчиво спросил он Аносова.
Павел Петрович вспыхнул.
— Это прекрасные мастера по литью. Вы сами сейчас убедитесь в этом!
Они вошли в литейную, где у плавильных печей старались литейщики. Все они при виде начальников обнажили головы. Только один седобородый старик остался в шапке.
— Кто это? — сердито спросил Анненков.
— Он наблюдает за плавкой, — пояснил мастер.
— Высечь его! Сто лозанов! — выкрикнул, багровея, ревизор.
— За что же, барин? — вдруг сообразив, спросил старик.
— За непочтительность к старшим!
Сенатор и Аносов прошли вперед. Не видя вблизи работных, Павел Петрович тихо заговорил:
— Старик, которого вы приговорили к ста лозанам, выполняет трудную обязанность. Изо дня в день он наблюдает за плавкой сквозь небольшое отверстие.
— Для чего это нужно? — недовольно проворчал Анненков.
— Он следит, чтобы не пропустить того мгновения, когда серебро окончательно расплавится и начнет улетучиваться. Старик, которого вы решили наказать, ваше превосходительство, за долгие годы испортил зрение до того, что ничего не видит, кроме ослепительного серебряного блеска.
— Тэк-с! — вздохнул сенатор. — Мне припоминается подобное из книг. У одного знаменитого астронома спросили, как он может так часто наблюдать яркий солнечный шар? Он ответил: «Глаза мои упиваются солнечным светом!». Так и негодный старик этот…
— Пощадите его! — Павел Петрович умоляюще посмотрел на петербургского ревизора.
— Может быть, он и действительно невиновен, — словно в раздумье вымолвил сенатор. — Но теперь, сударь, поздно. Слово мое — закон! Непостоянство в мнении ведет к развращению народа. — Он холодно блеснул глазами и замолчал.
Аносов свернул в мастерские:
— Извольте осмотреть, ваше превосходительство.
Сенатор последовал за ним. Переступив порог помещения, столичный ревизор был недоволен тем, что оно низкое, почти без света и без вентиляции. Его охватила нестерпимая жара, которая шла от плавильных печей.
В дыму, в огненной метели из ослепительных искр опаленные зноем люди надрывались на тяжелой работе. Один из них, всклокоченный, со злыми глазами, прохрипел:
— Задыхаюсь, братцы!
К нему подбежал малый с ведром воды и окатил с головы до ног.
— Невозможно! — вырвалось у Анненкова.
Аносов хмуро пояснил:
— Сейчас весна, и это вполне возможно, но зимой, при здешних страшных морозах, ужасно. Потный, разморенный жаром, рабочий выбегает на леденящий ветер… Вот и чахотка…
Сенатор недовольно повел головой, давая понять, что ему неприятны объяснения. Однако Павел Петрович не отступил и продолжал:
— Но еще хуже под землей, в шахтах. Там работают в липкой грязи, в спертом воздухе штолен, каждую минуту грозит обвал или взрыв. Очень тяжело работать по четырнадцать часов в сутки. Ревматизм, полное истощение — вот удел здешних работных… Ваше превосходительство, в докладной я прошу о пересмотре урочных норм.
— Пустое! — сердито перебил сенатор. — Все заводские работные и приписные крестьяне, сударь, освобождены от податей и, кроме того, считаются на действительной военной службе. Известно ли вам это?
Это прозвучало неприкрытой злой иронией. Аносов вздохнул и понял, что все попытки убедить ревизора в необходимости преобразований тщетны. Как бы в ответ на эту мысль Анненков засмеялся и сказал:
— К чему на ветер бросать средства? Поймите, сударь, тут пребывают каторжники, и потому и жизнь каторжная. Иначе и быть не может! С меня уже хватит. Пойдемте отсюда!
Он брезгливо оглядел литейную и пошел к выходу.
— Я еще раз прошу вас осмотреть рудник, — настаивал Павел Петрович.
— Нет, нет, — наотрез отказался Анненков. — Да и пора, сударь, обедать.
Аносова всегда тянуло посмотреть на фроловское изобретение. Он переоделся и в сопровождении штейгера спустился в шахту. В мрачных подземельях слышался шум бегущей воды. Павел Петрович вышел в темный зал. При свете рудничной лампы и факела зал казался огромной храминой, посреди которой вертелось потемневшее от времени гигантское колесо, приводимое в движение водой. Через скалы по каналам, высеченным трудолюбивым человеком в камне, она торопилась к механизмам и приводила их в движение. Циклопические размеры вододействующих машин и небывалый размах построенной сложной системы подземных каналов всегда поражали Аносова. Ему казалось сказочным, что еще недавно жил русский умница-богатырь, который глубоко под землей соорудил такие мощные двигатели, облегчая труд рудокопа.
Увы, никто по достоинству не оценил трудов Фролова! Всё забылось, травой поросло, колёса покрылись мхом, и многое уже рушилось…
Аносов выбрался из глубокого рудника и уселся на скамеечку. Хорошо было вдыхать живительный весенний воздух! Под яркими лучами солнца синеватым отливом сверкали рельсы, над рекой повис мост, через который пролегала железная дорога. Аносов встрепенулся и подумал: «Отец устроил величайшие в мире водяные машины, облегчив труд рудокопа, а сын — Петр Козьмич Фролов — построил первую рельсовую дорогу. Это ли не подвиг!..»
И вдруг неожиданно по телу пробежал предательский озноб, Аносов опять почувствовал боль в горле. Стало не по себе. Подавленный и усталый, он добрался до квартиры и улегся на диван. Недомогание усиливалось.
Вечером Аносов почувствовал себя совсем плохо. Дыхание стало хриплым, появился жар.
— Что с вами? — обеспокоился Анненков.
— Пустое, — пытаясь улыбнуться, сказал Аносов. — Легкое недомогание, пройдет…
Нечеловеческим усилием воли Аносов заставил себя еще несколько дней сопровождать сенатора по горным заводам, но сам почти ничего не слышал, ничем не интересовался. Полное безразличие овладело им. Одна дума сверлила мозг: «Болен, очень болен; только бы закончить опыты с булатом!».
Глава десятая ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВЕЛИКОГО МЕТАЛЛУРГА
В Омске Аносов расстался с Анненковым. Когда кибитка сенатора скрылась из глаз, напряжение, владевшее Павлом Петровичем, сразу сдало и он по-настоящему почувствовал себя слабым и больным. Не в силах ехать в Томск, он решил отлежаться в тишине. Чтобы избавиться от визитов и назойливости омских чиновников, он отыскал скромный домик неподалеку от Кузнецкой слободы и вновь поселился у вдовы-учительницы, тихой и ласковой старушки.
У Аносова еле хватило сил выйти из экипажа и добраться до крохотной светлой комнатки. Он тяжело опустился на диван. В груди и в горле при дыхании хрипело. Нехватало воздуха, и больной полулежал с широко открытым ртом.
— Мне очень плохо, — пожаловался он хозяйке. — Но свалиться я не имею права. Еще не закончено с булатом, не всё сделано! — глаза Аносова вспыхнули и, задыхаясь, он сказал: — Мы еще достигнем большего совершенства! России нужна самая лучшая сталь!
— Вы бы лучше успокоились, — предложила старушка. — Я вам подушечку подложу, передохните, родной.
— Нет, нет, нельзя! — с испугом сказал Аносов. — Пока есть силы, я должен… Дайте мне чернил и перо…
Как ни упрашивала его учительница, он настоял на своем. Она принесла бумагу, зажгла лампу. Морщась от боли, Павел Петрович присел к столу. Лицо его вытянулось, пожелтело. Он склонился над рукописью и стал писать. Старушка бесшумно удалилась и, стоя за дверью, тревожно прислушивалась к тяжелому, хриплому дыханию больного.
Писать было очень трудно. Тело охватила слабость, от усталости слипались глаза. Но сознание было ясное, мозг работал отчетливо. «Значит, я еще не так сильно болен! Мы еще постоим за себя!» — подумал Аносов и снова склонился над бумагой.
Равнодушно он написал титульную часть бумаги и сразу загорелся, когда добрался до самого главного. Павел Петрович тщательно выводил строки, стремясь показать, что он здоров.
«…я предложил вам… предписать управлению Томским заводом немедленно приступить к приготовлению образцов стали и булата по следующим наставлениям:
1. Три пуда литой стали первого сорта; для приготовления ее брать 32 фунта на один тигель и по 3 1/2 фунта железной окалины.
2. 3 пуда литой стали второго сорта; для приготовления ее брать 32 фунта железа и 2 фунта железной окалины.
3. Для приготовления третьего сорта брать 32 фунта цементной стали и 1 фунт окалины; если в тигле останется свободное место, то по пропорции можно прибавлять железа и окалины…»
Больной отвалился на спину и, закрыв глаза, долго думал. И в эти минуты перед ним встала вся его жизнь. «Жаль, нет старика Швецова, мы бы с ним потолковали. Он обрадовался бы. Теперь мои булаты стали значительно лучше».
Аносов спохватился и торопливо заскрипел пером:
«Для приготовления булата первого сорта сплавить 30 фунтов в тигле томской стали с 2 1/2 ф. железной окалины, но без крышки или чтобы она не была плотно наложена; смесь сию вылить в воду, потом из нее взять 12 фунтов и плавить в тигле от 5 до 6 часов, затем поступать, как показано было…».
Он писал и улыбался. Перед мысленным взором стояли тигли, а вот пылает в печке веселый, живительный огонек. И вдруг вспомнил о заветной ладанке. Нервным движением распахнул рубашку и достал подарок старого Захара. Вот он, уголек! Он черен и мертв, но таит в себе большую и кипучую силу. Стоит только его раздуть, и веселое пламя заиграет в нем! Этот огонек жгуч и живителен потому, что на него упала капля народной крови. Пугачев! «Вот у кого следует учиться большой страсти! Он не побоялся, ничего не побоялся!» — горячечно подумал Аносов, и это придало ему силы, и перо снова безудержно побежало по бумаге.
А старушка-учительница всё еще стояла у двери, прислушиваясь к его дыханию. Великий соблазн был пойти и уложить его в постель, но деликатность мешала ей переступить порог. Чутьем она догадывалась, что им владеет большая страсть к делу, а если человека охватит она, то не следует ему становиться на дороге. Сокрушенно покачав головой, старушка вышла из прихожей…
Когда под утро учительница осторожно заглянула в горницу Аносова, то увидела, что он лежит на спине. Хриплое дыхание, казалось, разрывало ему грудь. Скорее почувствовав присутствие хозяйки, чем увидев ее, Павел Петрович неловко приподнялся и, задыхаясь, сказал:
— Теперь мне в самом деле плохо… Вот на столе бумага, сберегите ее и передайте по назначению! — Больше у него не нашлось сил говорить; он снова отвалился на подушки и устало закрыл глаза.
— Вам тяжело дышать! Ах, господи, что ж это я! — всплеснула руками старушка. — Давно ведь пора позвать лекаря! Простите меня, нерадивую…
Через час неуклюжий лекарь, стуча подкованными сапогами, ввалился в светличку. На Аносова смотрело доброе, загорелое лицо.
— Не извольте беспокоиться, — предупредительно заговорил он. — Годы ваши еще небольшие. Поборем хворость! — Он внимательно осмотрел Павла Петровича и положил ему на горло компресс.
— Нарывы. Терпеть надо, даст бог, и полегчает, — ободряюще сказал он больному. — Я тут неподалеку буду находиться, чуть что понадоблюсь, зовите.
Тяжело поскрипывая половицами, он выбрался из горенки и глазами поманил за собой хозяйку в сенцы.
— Вы вот что, почтенная, — густым басом обратился он к ней. — Найдите добрую терпеливую бабу ходить за ним. Состояние больного весьма тяжелое…
Женщина взволновалась и пересохшими губами тревожно спросила:
— Полегчает ли?
— Безнадежно, милая. Будь в Омске ученый хирург, тогда… — Лекарь замялся, на лбу рябью пошли морщины. — Впрочем, поздно — заражение крови, — тихо закончил он.
Вдова прижала худые руки к груди и умоляюще посмотрела на медика:
— Милый ты мой, спаси его! Человек-то он какой!
— Я буду здесь. Изо всех сил постараюсь, да кто знает, что случится, — лекарь смущенно посмотрел на учительницу.
Вдова поспешила в Кузнецкую слободу и привела оттуда румяную жёнку с приятным певучим голосом. Хозяйка осторожно приоткрыла дверь в горенку и напутственно прошептала бабе:
— Побереги его, милая. Ни на минуту нельзя одного оставить.
Женщина неслышно вошла в горницу, прикрыла за собой дверь и на цыпочках приблизилась к постели. Она наклонилась к больному; это измученное, обросшее седой щетиной лицо вдруг показалось ей до странности знакомым. С замиранием сердца вглядывалась она в больного и вдруг, задрожав от волнения, прошептала:
— Петрович…
Аносов хрипел и беспокойно метался в постели. Женщина опустилась на колени и застыла в скорбной позе. Многое она передумала, разглядывая такое близкое и милое ей лицо. Павел Петрович всю ночь лежал в забытьи, а она не сводила с него скорбных глаз. Только единственный раз после полуночи он широко раскрыл глаза и невнятно забормотал:
— Коней… Коней… в Златоуст…
Со слезами, блеснувшими на ресницах, она поправила подушку.
— Господи, горе-то какое! — губы ее судорожно подергивались; казалось, вот-вот она разрыдается.
Под утро Аносов пришел в себя, оглянулся и неожиданно протянул руку:
— Луша, неужели это ты?
Она жаркими губами благодарно припала к его пожелтевшей руке:
— Узнал, родной… Лежи, лежи, Петрович…
— Мне чуточку легче… Дай поглядеть на тебя.
Она подняла мокрое от слёз лицо и смущенно улыбнулась.
— Ты всё еще хороша! — тихо обронил он. — Еще не тронула тебя старость… А я вот умираю…
— Что ты, Петрович. Жить надо! И у меня появились сединки.
Он слабо улыбнулся.
— Ну, это твоя золотая осень, — с трудом выговорил он.
— Нельзя тебе говорить. Побереги себя! — Луша заботливо поправила одеяло. Еще раз беспомощная, жалкая улыбка промелькнула на исхудалом лице Аносова:
— Чего тут беречься! Чувствую, умираю. Дай руку!
Больной сжал ее горячую ладонь и снова устало закрыл глаза. Вскоре вернулось тяжелое забытье. Луша боялась шевельнуться и стояла на коленях перед постелью больного, не решаясь отнять руку. В окно заглянул первый луч солнца, вошел лекарь и предложил ей:
— Поди отдохни, а я побуду здесь…
Убитая горем, Луша вышла в сенцы и легла на скамеечку, не в силах уйти домой. Прислушивалась к каждому шороху, шедшему из комнаты. Всё еще на что-то надеясь, ждала знакомого голоса. Много раз подходила к двери, чтобы услышать его, но до напряженного слуха доносилось только зловещее хрипенье.
В полдень из слободы пришел муж Луши — коренастый, сильный кузнец, с проседью в широкой бороде.
— Михайлыч, — бросилась к нему жена. — Да знаешь ли, кто тут?
Он обеспокоенно взглянул на опечаленное лицо Луши и удивленно спросил:
— Да что с тобой, Лукерья?
— Павел Петрович здесь. Больной, шибко больной…
Кузнец на минуту задумался, потом тряхнул головой.
— Допусти поглядеть на доброго человека! — он тихо приоткрыл дверь и поманил лекаря. Тот вышел в сени.
— Ну что, легче ему? — обманывая себя надеждой, робко спросила Луша.
Лекарь сумрачно опустил глаза.
— Нет никакой надежды! — вздохнул он. — Думаю, ночью отойдет…
Она вскрикнула и рухнула на скамью. Кузнец бережно взял ее за плечи.
— Ну, хватит, хватит. Что поделаешь с таким горем? Разреши, господин лекарь, пойти взглянуть? — попросил он и, не ожидая разрешения, тихо прошел в горницу.
Аносов лежал пластом, закрытые его глаза казались синими провалами, на лице лежали темные тени. Из полуоткрытого рта вырывались зловещие хрипы. Кузнецу до боли стало жалко больного. Он склонился ниже, задышал жарко и с укоризной обронил:
— Эх, добрый человек, сердяга, да как же ты так?
Хрипы в горле больного становились всё громче и переливчатее. Расстроенный мастерко вышел из комнаты и тяжело опустился на скамью рядом с женой:
— Ох, какого человека теряем, Миколаевна. Мы бы всё отдали, — живи!
Лекарь угрюмо молчал, притихли и кузнец с жёнкой. У нее большие поблекшие глаза были полны слёз…
Учительница сходила к омскому городничему оповестить о болезни Аносова. В тот же день к семье Павла Петровича в Томск поскакал гонец с тревожной эстафетой.
Аносову с каждым часом становилось всё хуже. Ночью началась агония. Он лежал с высоко поднятыми под одеялом коленками и шевелил запекшимися губами.
В комнату осторожно вошла бледная Луша, и, ухватившись за косяк двери, вслушивалась в тяжелое дыхание больного.
На столе горела свеча, распространяя скудный свет и отбрасывая на лицо Аносова мертвенные блики. Дежуривший лекарь дремал в кресле.
Луша неслышно подошла к постели больного, припала к самому уху Аносова.
— Ты меня слышишь, Петрович? — шёпотом спросила она.
Он широко раскрытыми невидящими глазами смотрел в потолок.
«Не слышишь, милый. Не чуешь, дорогой», — со страшной тоской подумала Луша. Сердце ее сжалось от глубокого горя, охватившего всё ее существо. Она часто-часто задышала у его уха и снова зашептала:
— Всё суетился, старался… Не уберег себя, милый… Вся-то жизнь моя прошла с думой о тебе… Родной ты наш…
Из усталых глаз женщины побежали одна за другой жалостливые женские слёзы. Вдруг, с трудом ворочая языком, Аносов ясно произнес:
— Луша…
Она склонилась к его лицу, заглянула в меркнущие зрачки и с душевной мукой подумала:
«Вспомнил, в смертный час вспомнил. Значит, любил меня…»
Слёзы безостановочно катились по ее щекам. Положив руки ему на голову, она прошептала ласково:
— И зачем ты не простой горщик, не кузнец, не чеканщик! По-иному бы пошла жизнь, Павел Петрович…
Он вздрогнул и в упор посмотрел на нее.
— Худо мне! — стягивая на груди костлявыми пальцами одеяло, пожаловался он, и тело его всколыхнулось от мелкого озноба. Протянул руки и попросил:
— Открой дверь… Задыхаюсь…
В его горле снова послышались страшные хрипы.
Луша проворно бросилась к двери и распахнула ее настежь. Волна свежего воздуха ворвалась в душную горницу. Когда Луша вернулась к постели, Аносов лежал неподвижный и безмолвный.
«Умер!» — в смертельной боли догадалась она и стала креститься.
В открытую дверь лилась прохлада. Майский шаловливый ветер ворвался в горницу и заиграл прядью волос над выпуклым лбом покойника.
Лекарь всё дремал, а она в скорби думала:
«Ушел. Навсегда ушел Петрович…»
Ее рыдания разбудили всех в доме. Учительница с испуганным лицом долго бестолково суетилась в комнатке. Спокойный лекарь строго сказал ей:
— Слёзы горю не помогут. Надо приготовить покойного к погребению…
Луша принесла криничной воды, налила чашу и поставила на окно. «Пусть умоется его душенька перед долгим странствием», — покоряясь неизбежности, печально подумала она.
В степи, за березовым околком, поднялось ликующее солнце, и первые лучи его позолотили вершины деревьев и кустов, покрытых крупной росой. Неугомонно и радостно щебетали птицы, встречая начало яркого погожего дня. Слёзы застилали глаза Луши, — просто не верилось в смерть милого Петровича в такой дивный час. Своим женским сердцем она всю жизнь ценила в нем простоту и доступность. Сев под березкой во дворе, Луша горько заплакала. Муж ее стоял рядом растерянный, подавленный смертью Аносова и ласково говорил:
— Ты поплачь, поплачь, Миколаевна, может и полегчает на сердце…
А у самого подергивались губы и глаза потемнели от большого горя.
…В городе готовились к похоронам начальника Алтайских горных заводов и томского гражданского губернатора. Командование омского гарнизона отрядило солдат сопровождать гроб до могилы. Городничий, военные и гражданские чины отдавали последний долг усопшему. Он лежал в гробу в простом дорожном мундире. Где-то отыскали шпагу и приколотили ее к гробовой крышке.
В день похорон прибыла из Томска Татьяна Васильевна с дочерью Ларисой. Все удалились из домика, и худая, бледная вдова молча оплакивала смерть мужа. Тоненькая, как тростинка, большеглазая девочка безмолвно, со страхом смотрела в неузнаваемое лицо отца. Маленький и пожелтевший лежал он в черном гробу и, казалось, был чем-то смущен…
Аносова передала желание Павла Петровича, высказанное им еще в Златоусте, чтобы тело его в последнее пристанище отнесли или литейщики, или кузнецы.
Из Кузнецкой слободы вызвали ковачей. Шесть самых старых и самых почтенных, а среди них и муж Луши, подняли гроб и, степенно выступая, донесли на Бутырское кладбище. Толпы народа провожали покойного. Вдову вели под руки местные дамы, а позади по долгу службы шли важные чиновники, но больше всего с нескрываемой печалью шло простого люда, среди которого была и Луша. Словно в чем-то виноватая, она старалась не попадаться на глаза вдове Аносова, но та и не замечала ее. Старая, сухонькая, маленькая учительница — хозяйка домика, — одетая в черную широкую кофту, с черным платком на голове, семенила подле гроба. Она очень устала и не замечала косых взглядов чиновников.
Шесть кряжистых кузнецов бережно несли Аносова к месту погребения. Гроб, казалось, плыл над головами толпы. На солнце набежала тучка, и тихие прохладные капли упали на разгоряченные лица. Над широкими пыльными улицами, над степью пошел дождь. Вдали показалась небольшая роща. Шедший в толпе ссыльный поляк с тоской посмотрел вперед и вслух сказал:
— Vita brevis est![21]
Рядом с ним величаво выступал монах с худощавым, изрытым глубокими морщинами лицом. Словно у покойника, у него темнели большие провалы глазниц. Ни одним движением не отозвался он на замечание ссыльного.
Вот и распахнутые серые ворота, а в глубине кладбища груды черной земли. Завидев их, Луша схватилась рукой за сердце и, как подкошенная, упала на дорогу… Посадские жёнки встревоженно подбежали к ней и подхватили обессилевшее тело:
— Бабоньки, с Миколаевной дурно… Ахти, лихонько!..
Так и не пришлось увидеть Луше, как опускали в яму гроб, как забросали его землей и все понемногу разошлись под теплым дождем. Только через неделю, когда оправилась, она посетила свежую могилу. Ветер шумел в кладбищенской роще. Холмик осел и еще не порос травой. А рядом цвели простые цветы, и среди них лежал выкопанный могильщиками чей-то череп. Лепестки мака коснулись его омытого дождем желтого лба, голубые незабудки раскачивались в гладких впадинах глазниц, и окружающая густая, сочная зелень полузакрыла мрачный оскал.
«Так всегда бывает на свете, — с грустью подумала Луша, — одно умерло, а другое живет…»
Но сердце ее и мысли, однако, не могли примириться с преждевременной смертью Павла Петровича…
Как-то в минуту страшной тоски Лушу потянуло в домик, где Павел Петрович доживал свои последние минуты. Была у нее тайная мысль получить какую-нибудь мелочь на память о дорогом человеке.
Старушка приняла жену кузнеца ласково, засуетилась, усадила в передний угол и с жаром заговорила об умершем. В глазах учительницы читалась глубокая грусть. Рассказала она Луше:
— Пришла я тогда домой с кладбища — пусто, одиноко, и такая смертная тоска и жалость пали на сердце, — ни минуты забытья. Вижу, лежит на столе ладанка вроде маленького кисета, расшитого шелком. «Его эта вещица, его!» — обрадовалась и повеселела я. Взяла в руки, распустила мешочек, а в нем только уголек. И ничего больше. И тут подумала: «Нехорошо брать его вещь. Он ведь покойник. Может, это его что заветное?». Положила ладанку на припечек и зажгла. Вмиг вспыхнуло, и не стало шелка… За окном погасли сумерки и наступила ночь. Темно, темно так. А по комнатке моей разливается-струится нежный золотистый свет и душу ласкает. «Откуда это?» — подумала я и взглянула на шесток. А там маленький жаркий глазок светится: раскалился уголек и сияет ровным, спокойным светом. Ну, много ли его? Крохотуля, а сколько света и душевного тепла в нем… Сразу на сердце полегчало…
Глаза старушки посветлели, заискрились добротой. Луша схватила учительницу за руку:
— Ой, родная, да как же это? Как будто ты мне про всю его жизнь сразу изъяснила. Пятьдесят годков только отжил, — мало, совсем мало, а гляди, сколько жару: в немногих годах, а какую большую жизнь он прожил. Большую жизнь! — прошептала она многозначительно, поднялась со стула и тихо побрела домой.
Жена и дочь Аносова на другой день после похорон покинули Омск. Казенный мирок остался глух к смерти создателя русского булата. Лишь спустя два с половиной месяца после похорон, в июле 1851 года, в «Санкт-Петербургских ведомостях» появилась краткая заметка:
«Мая 13-го нынешнего года скончался в Омске после непродолжительной, но тяжкой болезни на поприще деятельной службы главный начальник Алтайских заводов и томский гражданский губернатор, корпуса горных инженеров генерал-майор и кавалер Павел Петрович Аносов. Заслуги его по части горнозаводской, верно, не останутся в неизвестности; нет сомнений, что из большого числа любивших его подчиненных найдется не один, способный передать современникам неутомимые труды и пользу, принесенные генералом Аносовым в продолжение тридцати трех лет отличной и усердной службы.
Мы скажем только, что смерть его поразила всех знавших покойного, в особенности товарищей и подчиненных на Урале и Алтае, невольно грустно при воспоминании его добродетелей, из которых главнейшие — строгая справедливость, необычайная доброта души и совершенное бескорыстие составляли постоянно основание всех его действий.
Занимая в продолжение многих лет должность начальника Златоустовских заводов, главного начальника Алтайских заводов и томского гражданского губернатора, наконец, неоднократно исправляя должность военного генерал-губернатора Западной Сибири, он оставил супругу еще в цвете лет и многочисленное семейство. Россия лишилась в генерал-майоре Аносове одного из опытнейших горнозаводских офицеров.
Мир праху твоему, незабвенный товарищ!»
В Златоуст известие о смерти Аносова дошло с опозданием. Оно взволновало не только горных офицеров, но и рабочих оружейной фабрики. Бывшие товарищи по службе собрали средства, на которые решили написать портрет русского металлурга. Когда художник закончил свою работу, друзья обратились с письмом к начальнику Златоустовского горного округа.
«Златоустовское общество офицеров, — сообщали они, — движимое чувством уважения и признательности к покойному генерал-майору Аносову, собрало на написание портрета его 135 рублей серебром и честь имеет покорнейше просить ваше высокоблагородие принять на себя ходатайство у высшего начальства на помещение сего портрета в Златоустовском арсенале, так как покойный прослужил на здешних заводах почти тридцать лет и большею частью на оружейной фабрике.
Февраль 1852 года».
Каспийские литейщики отлили превосходные барельефы для памятника Павлу Петровичу, который решила возвести жена покойного. Спустя несколько лет на краю кладбища, выходившего на Скорбящинскую улицу, был поставлен из серого мрамора четырехгранный обелиск шести метров высотой, водруженный на каменном кубическом постаменте и увенчанный позолоченным крестом. На одном из чугунных барельефов проступали военные атрибуты, на другом — зубчатое колесо, ворот с бадьей, циркуль и глобус — символы горного дела.
После установки мужу памятника Аносова с дочерью Ларисой уехала в Санкт-Петербург, и больше никто из родных не посещал могилу Павла Петровича.
Некоторое время за ней кто-то присматривал. Сказывали, из Кузнечной слободы приходила пожилая простая женщина и каждую весну приводила могилу в порядок, но прошел десяток лет, и она больше не появлялась. Чугунная плита и обелиск вскоре оказались в густой заросли бурьяна.
Глава одиннадцатая ЗЛАЯ СУДЬБА
Царское правительство осталось безразличным к судьбе изобретений Павла Петровича Аносова; оно низкопоклонствовало перед заграницей, снисходительно относилось к иностранцам, даже к тем, кто заведомо похищал секреты русских изобретений. Слепое преклонение перед всем чужим привело к тому, что многое открытое нашими русскими учеными незаслуженно приписывалось различным иноземцам. Так случилось и в области науки о металле. Всем известно, что Аносов применил микроскоп для изучения структуры сталей еще в 1831 году. Из этого бесспорно видно, что он является основоположником русской металлографии. Однако нашлись люди, которые честь этого великого открытия в науке о стали приписали англичанину Сорби, применившему микроскоп значительно позже Аносова.
Космополиты старались принизить роль талантливого русского ученого, вытравить память о нем. В словарях Аносову отводили всего несколько строк. И только почти полвека спустя после смерти Аносова в «Санкт-Петербургских ведомостях» 22 марта 1899 года появилась небольшая статья «Могила П. П. Аносова», где сообщалось:
«В последние годы жизни Аносов был томским губернатором и главным начальником Алтайского горного округа. Он скончался совершенно неожиданно, — проездом в Томск в 1851 году. За истекшее полустолетие город значительно вырос; кладбище, на котором Павел Петрович похоронен, очутилось почти в центре города; оно давно упразднено и предназначено, кажется, к совершенному уничтожению; пришел в запустение и великолепный памятник, поставленный Аносову на его могиле. Городскому же управлению, вероятно, и неизвестно даже, что под ним покоится прах одного из благороднейших людей, которых так мало видела Сибирь среди своих администраторов. Из сыновей покойного генерала уже никого не осталось в живых. На ком же лежит нравственный долг позаботиться о приведении в порядок его могилы? Быть может, Горный институт чем-нибудь ознаменует 100-летнюю годовщину рождения одного из своих выдающихся питомцев.
Н. А.»
Кто скрывался под этими скромными инициалами, трудно сказать. Известно, что младшая дочь Аносова — Лариса Павловна — вышла замуж за Аболтина. Не он ли являлся автором этой заметки? Сама Лариса Павловна скончалась в очень преклонном возрасте незадолго до Великой Октябрьской социалистической революции — 16 июня 1917 года… Перед смертью она успела поделиться воспоминаниями о жизни своего отца с дальним родственником горным инженером Нестеровским. На этом и обрываются сведения об Аносове.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Как ни старались царские чиновники принизить открытия Павла Петровича Аносова, русские люди не дали им затеряться и на деле доказали их великое значение.
Русские ученые продолжили замечательные начинания Павла Петровича Аносова, проявив при этом необыкновенное терпение и талантливость. Им, этим трудолюбивым людям, и посвящено настоящее послесловие.
СТАЛЬНЫЕ ПУШКИ
Спустя семь лет после отъезда Аносова из Златоуста, в 1854 году, управителем Златоустовской оружейной фабрики был назначен горный инженер Павел Матвеевич Обухов. До этого он работал на Кушвинском и Юговском заводах, где, по примеру Аносова, искал способы получения высокостойкой стали. В России шло строительство железных дорог, армии нужна была хорошая артиллерия. Для отливки пушек, а также для рельсов требовалась твердая, крепкая сталь. Поисками такой стали были заняты многие заводы в Европе. Генри Бессемер в 1855 году предложил особый способ переделки чугуна в сталь путем продувания чугуна воздухом. Русские металлурги, в том числе и Обухов, в своих поисках шли иными путями. Приехав в Златоуст, Обухов почувствовал, что здесь суждено сбыться его мечте: в маленьком горном городке еще свежа была память об Аносове, свято сохранялись его добрые традиции.
Шел 1855 год. Обухов решил приступить к опытам.
По зимнему завьюженному пути в лютый январский мороз на заиндевелой тройке в Златоуст примчался старый полковник. Обухов приветливо принял гостя. Полковник был невысокий, плечистый, с немного изуродованным, но приятным лицом. У гостя отсутствовало левое ухо, на шеке алел тонкий шрам.
Офицер приехал за оружием из-под Севастополя. Там обильно лилась кровь русских солдат, а сам он был участником жарких и кровавых схваток с врагом.
Обухов с волнением слушал гостя. Полковник сурово рассказывал о героизме защитников Севастополя, потом замолчал, полез в карман и достал какой-то предмет.
— Смотрите! — гость разжал ладонь. На ней лежало что-то похожее на длинный тонкий наперсток. Обухов наклонился и внимательно оглядел предмет.
— Пуля! — узнал он. — Но особая пуля!
— Совершенно верно, — со вздохом подтвердил гость. — Мы во врага целим из кремневок, из гладкоствольных ружей, а он в нас палит из аглицких штуцеров. Это — штуцерная пуля, она летит дальше и бьет сильнее!.. Возьмите на память о Севастополе, — и он протянул пулю Обухову.
Часы в старинном темном футляре пробили полночь; за беседой гость и хозяин не заметили, как быстро пролетело время. Пора было на покой.
Обухов встал. Был он высокий, с военной выправкой, и полковник невольно залюбовался им.
Они разошлись в разные горницы, но всю ночь Обухов не мог заснуть; зажигая свечу, он брал с ночного столика подаренную ему пулю, долго и задумчиво рассматривал ее.
Спустя несколько дней полковник, получив оружие, уехал, но Обухов не забыл этой встречи. Он много вечеров сидел над изучением статей Аносова, опубликованных в «Горном журнале». Особенно увлекла его работа Павла Петровича «О булатах», напечатанная в 1841 году. Обухов и раньше знаком был с этим замечательным трудом, но, перечитывая его, каждый раз находил в нем что-то новое для себя.
Еще был жив и работал старик литейщик Швецов.
Как-то Обухов зашел к старику Швецову. Борода литейщика отливала желтизной, глаза выцвели, но он держался еще бодро и вместе с сыном работал на литье.
— На вас вся надежда, Швецовы, помогите. Вы старались вместе с Павлом Петровичем, постарайтесь и со мной! — сказал Обухов.
— Всё, что в наших силах, сделаем, Павел Матвеевич, — ответил старик. — Трудов не пожалеем, чтобы добыть добрую сталь.
Началась упорная, кропотливая работа над плавками. Обухов и Швецовы проделали много различных опытов, имея перед глазами труды Аносова.
Успех пришел после того как им удалось удачно составить смесь. Литейщики изготовили несколько новых сортов стали.
Глядя на остывающий сплав, старик Швецов сказал Обухову:
— Ишь, как греет! Это добрый труд Павла Петровича своим теплом нас обогревает. Я знал, что аносовская дорога — верная дорога.
Обухов распорядился изготовить нарезные стволы для ружей из новой стали. Первая партия ружей выдержала все испытания.
Разглядывая ладный, отливавший синевой ружейный ствол, Обухов подумал: «Если можно сделать стальные стволы для ружей, то почему же нельзя их делать для пушек?».
Ободренный успехом, он повез образцы своих сталей в Петербург.
К этому времени окончилась неудачная для России Крымская война. Шел 1857 год. Над Невой стояли белые ночи, когда Обухов прибыл в столицу. Он остановился в отеле француза Лербье на Невском. Отдохнув после долгого пути и распахнув окно, Павел Матвеевич принялся за проверку своего доклада. Обухов хотел организовать в Златоусте производство стальных пушек. Проект предусматривал устройство цеха с тридцатью шестью горнами, с двумя тиглями в каждом. Это давало возможность увеличить выплавку литой стали. Расчеты оказались верными, и Обухов, сложив в папку документы, спрятал их в чемодан…
И это было кстати, так как в этот момент кто-то тихонько постучал в дверь.
— Войдите, — сказал Обухов.
На пороге появился хозяин отеля Лербье, а за ним, суетливо переступая с ноги на ногу, юркий человечек. Он был мал ростом и необыкновенно подвижен.
Лербье представил незнакомца:
— Его зовут Розенберг. Как истинный патриот, он будет счастлив пожать вашу руку. — И, наклонившись к уху Обухова, директор отеля шепнул: — Это самый богатый человек в столице…
Обухов нехотя пожал руку Розенбергу.
«Подозрительный субъект», — подумал о нем горный инженер, вглядываясь в черты неприятного, лукавого лица.
Розенберг несколько дней подряд приходил к Обухову; казалось, он хотел заговорить о чем-то важном для них обоих, но всё не решался. Наконец однажды он начал:
— Вы сами не сознаете, Павел Матвеевич, что в ваших руках находится участь важных персон.
— Ничего не понимаю! — прикидываясь простачком, пожал плечами инженер.
Розенберг воровски огляделся и, понизив голос, сказал:
— Вы всё поймете, если пожелаете обогатиться. Мы уже знаем, что ваша сталь много дешевле и лучше английской. Что из этого следует?.. Один очень порядочный человек боится разориться и предлагает вам крупную сумму, если…
Обухов всё понял. Юркий человек был противен, и Павел Матвеевич гневно пригрозил:
— Убирайтесь вон, или я вышвырну вас в окно!..
«Хорош знак, — подумал Обухов, когда Розенберг ретировался. — Проект будет принят, раз уж подозрительные личности заинтересовались моим сплавом… Надо о сем случае донести по начальству…»
Надежды Павла Матвеевича оправдались. Он представил проект во-время.
Военный министр, выслушав доводы горного инженера, сказал доброжелательно:
— Вы угадали, сударь, нам нужны пушки. Льщу себя надеждой, что в Златоусте они обойдутся дешевле! Подумайте, сударь, над этим и принимайтесь за дело…
Обухов вернулся в Златоуст и деятельно взялся за работу: на фабрике построили сталелитейный и поковочный цехи, установили паровую машину, и литейщики приступили к литью. По ночам Обухов подолгу просиживал над плавками со стариком Швецовым. Отлить пушку из обуховской стали оказалось делом серьезным, и опыты подвигались медленно. Однако литейщики дружно преодолели неудачи, и в марте 1860 года три пушки были обточены и высверлены.
На обширном заводском пруду, еще покрытом толстым льдом, устроили полигон. Пушку привезли на санях и установили на массивном лафете у подножия Косотура.
Стоял тихий морозный день. Ярко светило солнце. На Косотур сбежались все златоустовцы. Они рассыпались по склону горы и на плотине, наблюдая за тем, что происходило на полигоне.
Прогремел первый холостой выстрел. По горам прокатилось гулкое эхо.
Обухов просиял, переглянулся со стариком Швецовым. Наконец-то пришло долгожданное! Махнув рукой, он крикнул:
— Ядром!
Солдаты взяли ядро и торжественно вкатили в дуло. Старый фейерверкер подал команду.
Поднимая колючую снежную пыль, ядро с визгом перелетело пруд и ударило в далекие сосны. Было видно, как заклубился снег и подрезанное дерево темной кроной упало в сугроб.
— Знатно! — похвалил фейерверкер и похлопал пушку по стволу: — Рази супостатов, голубушка.
Пушки бережно уложили в сани и отправили гужом в далекий Петербург. Их давно ждали в артиллерийском арсенале. Там пушки нарезали и подготовили к испытанию. В августе 1860 года златоустовские пушки доставили на полигон. На испытания вызвали Обухова.
Неожиданно на полигон прибыл царь; милостиво подозвав к себе приехавшего инженера, он спросил:
— Уверен ли ты, что твоя пушка выдержит?
— Вполне, ваше величество!
Александр II пристально посмотрел на Обухова:
— А чем ты это докажешь?
— Если позволите, я сяду на пушку верхом и пусть стреляют!
Царь снисходительно улыбнулся.
— Пожалуйста, не вздумай этого делать!
Он взмахнул белоснежным платочком, и испытания начались…
Результаты испытаний превзошли все ожидания.
Из первой стальной пушки выстрелили четыре тысячи раз, и ни одной царапины не появилось у нее в стволе. Тут уж и министр не утерпел, поздравил Павла Матвеевича.
— Видишь, сударь, отлил-таки получше Круппа! — похвалил он инженера и доложил об успехе царю.
Александр II пожаловал Обухову десять тысяч рублей и приказал построить в Златоусте пушечный завод.
КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ ЧЕРНОВА
Надвигалась угроза войны с Турцией, и для русской армии требовалось хорошее артиллерийское оснащение. Одна Златоустовская пушечная фабрика не могла обеспечить потребность армии в пушках. Кроме того, перевозка орудий из горного городка гужом представляла большие трудности. Поэтому русское правительство решило организовать еще два орудийных завода — в Перми и Петербурге. Только что налаженное производство пушек в Златоусте решили постепенно прекратить. Павел Матвеевич Обухов в 1863 году был переведен в Петербург для строительства нового орудийного завода, который решили возвести неподалеку от столицы на берегу Невы в селе Александровском. Обухова назначили директором нового завода. Завод в селе Александровском стал известен в народе под именем Обуховского. Казалось, всё имелось на заводе для изготовления лучших пушек: превосходное оборудование, директор — талантливый ученый-металлург, опытные рабочие. Однако здесь Павла Матвеевича стали преследовать жестокие неудачи. Одни пушки, отлитые Обуховым, выдерживали по тысяче, а иногда и больше выстрелов, другие же, сделанные из такой же стали, неожиданно разрывались, нередко причиняя увечья артиллеристам. Дело дошло до того, что даже из испытанных пушек на Охтенском морском полигоне пробные выстрелы производили гальваническим способом — без орудийной прислуги.
«В чем же дело?» — обеспокоенно думал Павел Матвеевич.
В бессонные ночи тревожили подозрения: приходил на память ресторатор Лербье и подозрительный юркий Розенберг. Кто знает, может быть на заводе тайно орудуют шпионы? Усилили охрану завода, тщательно проверили химический состав стали. Но пушки нет, нет да и разрывались без всякой видимой причины. По Петербургу поползли слухи о необходимости прекратить производство пушек в России и передать все заказы иностранным заводам. В правительственных кругах явно не доверяли Обухову, а кое-кто открыто злорадствовал. Однажды в министерстве Павел Матвеевич оказался свидетелем неприятного разговора. Какой-то обрюзглый чиновник, собрав вокруг себя группу слушателей, с жаром разглагольствовал:
— Господа, я всегда говорил, что в России не могут отливать стальные пушки. Англичане и немцы — вот это другое дело. Пока не поздно, нужно закрыть завод, от которого только одни неприятности.
У Обухова болезненно сжалось сердце.
«Надо уйти от этой грязи! Никто не хочет помочь, и это на руку иностранцам», — с тоской думал он.
Он зашел в ресторан и сел за столик. Пил рюмку за рюмкой и не хмелел. В голову лезли горькие мысли.
«Несомненно, здесь действуют неизвестные законы литья!» — рассуждал он о металле, и снова перед его глазами прошел весь процесс изготовления стали.
И вдруг он вспомнил об одном молодом ученом-металлурге Дмитрии Константиновиче Чернове, о котором так много говорили знакомые инженеры.
«Надо глубже изучить технологию стали. Этот молодой человек обладает знаниями, большой любовью к делу и, самое главное, даром наблюдательности. Только он поможет мне разгадать секрет моих неудач». Обухов повеселел. На другой же день он был в Технологическом институте, где работал Чернов.
Павел Матвеевич сделал правильный выбор: Дмитрий Константинович оказался образованным, знающим человеком, умевшим добросовестно и упорно работать, и очень понравился Обухову. Девятнадцати лет Чернов окончил Петербургский Технологический институт и остался в нем преподавателем математики. Одновременно слушал лекции Остроградского и Чебышева на физико-математическом факультете Петербургского университета. Еще в студенческие годы Чернов внимательно изучил статьи Аносова, опубликованные в «Горном журнале», и особенно работу Павла Петровича «О булатах». В ней было много интересного, неожиданного, нового. В то же время он чувствовал, что за тайной булата кроется много других тайн в строении металла, которые еще до конца не изучены.
Придя на завод, Дмитрий Константинович тщательно изучил обуховскую литую сталь.
— Сталь превосходная! — восхищенно сказал он.
— Но почему же она разрывается? — спросил Павел Матвеевич.
— Это я постараюсь выяснить! — твердо ответил Чернов.
В поисках причин разрыва пушек Чернов решил внимательно проследить весь путь стали. Молодого исследователя всё время видели то на заводе, то в кузнице, то на полигоне. Он шаг за шагом исследовал все превращения, которые претерпевал металл, от сталеплавильной печи до готового ствола. С лупой в руках Чернов изучал металл разорвавшегося пушечного ствола, сравнивая его с металлом ствола, выдержавшего испытание. И что же удалось ему установить? В структуре есть разница: металл осколков имеет крупное зерно, а образец, отрезанный от доброго ствола, мелкозернист. Из этого Чернов сделал очень важный и решающий вывод: причины разрывов кроются не в химическом составе металла, а в особенностях его структуры.
«Выходит, дело не в рецепте Обухова, а в неоднородной обработке литья!» — пришел к выводу Чернов и углубился в дальнейшие поиски. Изучение процесса плавки не дало ему ответа на мучивший вопрос. Постепенно он добрался до кузницы. Чернов хорошо помнил опыты Аносова, который подчеркивал исключительное значение условий ковки металла. Здесь, в молотовом цехе, Дмитрий Константинович стал внимательно наблюдать за работой кузнецов. Процесс обработки стальных болванок, на первый взгляд, был прост. Их нагревали в печи, ковали и затем охлаждали, быстро опуская в воду. И всё это делалось по чутью. Кузнецы всё определяли на глаз: и степень нагрева, и его спелость. Здесь всё зависело от искусства, от умения и опыта. Златоустовские мастера очень зорко следили за цветами побежалости. При нагревании сталь принимает все цвета каления — от темно-красного, вишневого до ослепительно белого. При медленном охлаждении металла всё происходит в обратном порядке. Чернов спокойно следил за сменой цветов побежалости и определял по ним степень нагрева. Кузнецы, как чародеи, угадывали состояние раскаленной стальной болванки, и малейший их промах, недосмотр или потеря чутья могли немедленно сказаться на качестве металла. Наблюдая за работой кузнецов, Дмитрий Константинович вспомнил указание Аносова, который писал: «При проковке булатов ни один нагрев не должен быть оставляем без внимания и точного доведения до степени жара, при которой узор не теряется… Никакая сталь не должна быть перегреваема при ковке… Потеря узоров во время ковки есть порча металла, составляющая вину кузнеца… Нагревать должно сколь возможно менее и не более мясно-красного цвета, а окончательная ковка при вишнево-красном цвете».
Терпеливо вникая в работу кузнецов, Дмитрий Константинович почувствовал, что решение загадки кроется в кузнице. При нем проковывали образцы, накаляя их в горне до разных температур. Охладив, он брал их в руки, как драгоценность, и подолгу рассматривал, стараясь проникнуть в тайну. По совести говоря, это сильно волновало его. Есть какая-то прелесть перед порогом неизвестности, хочется потомить себя ожиданием, и в то же время не терпится открыть завесу в будущее. Это было не простое созерцание еще тепловатого металла, слегка давившего на ладонь, это было подлинным поэтическим наслаждением, которое пришло в результате упорного творческого труда. В душе боролись и страх и радость в ожидании чего-то необычного, когда он взял лупу и склонился над образцами. Сможет ли он подтвердить свои догадки?
И вдруг всё стало ясным и понятным; металл покорно и просто подчинился ему. Вот образцы стали с мелкозернистым строением, а вот крупнозернистые. Они, бесспорно, менее прочные.
Кузнецы, затаив дыхание, ждали слова технолога.
— Да, — задумчиво вымолвил он. — Все причуды металла происходят в момент ковки. Никто из вас, братцы, не подумал о том, в какой момент надо ковать сталь.
— Мы на глазок всё, — смущенно отозвались кузнецы.
— Чутье часто обманывает человека. Да и у каждого по-разному оно развито, — пояснил Дмитрий Константинович.
— Это верно! — согласились кузнецы. — Хоть и сказывают, глаз — алмаз, а и в нем бывает помутнение…
Чернов не удовлетворился рассмотрением образцов стали. Он испытал их на разрывной машине. Всё было так, как он и предполагал. Тайны не стало, причины разрыва пушек были выяснены. Но тут возникла новая тайна.
«При какой же температуре нужно ковать металл, чтобы он был прочен?» — озабоченно думал Чернов. И снова долгими часами он наблюдал работу кузнецов. Молодой ученый как бы погружался в таинственный мир, в котором происходили интересные загадочные явления. И вот, наконец, он уловил нечто странное, что происходило со сталью при медленном охлаждении. Это явление повторялось каждый раз, но даже опытные златоустовские сталевары не замечали его. Чернов обнаружил, что при медленном охлаждении постепенно темнеющая масса металла в какой-то критический момент остывания внезапно раскалялась, вспыхивала, а затем снова начинала темнеть и далее уже ровно охлаждалась до конца.
— Что же это такое происходит? — спросил кузнецов Дмитрий Константинович.
— Это не всегда бывает. Когда быстро охлаждаем сталь, этого николи не случалось. Может, это совсем пустое дело! Издавна так ведется раскаленный металл быстро опускаем в воду, и вот закалка есть! — пояснил Чернову седобородый кузнец.
«Нет, здесь не так просто всё происходит, — в раздумье решил исследователь. — Вспышка не возникает сама по себе, без всякой причины. Очевидно, в этот момент происходит какое-то преобразование внутри металла».
Новая тайна увлекла его. Он неутомимо стал искать разгадку. Кузнецы при нем отковали и по-разному закалили стальные болванки. Одни были откованы, когда уже прошли замеченную технологом критическую точку; другие — до этого момента.
Дмитрий Константинович подверг их испытаниям, и вновь открылось «оконце в неизвестное». Болванка, которая прошла критическую точку, закалки не приняла, осталась мягкой.
Технолог много раз повторял свои опыты, и они проходили, как и предыдущие. Значит, это не случайность, выходит, что в этом явлении есть какой-то закон. Опять он стоял перед новой «тайной» и опять не падал духом, а весь уходил в свои кропотливые наблюдения. Ничто не ускользало от внимания настойчивого исследователя.
При нагреве металла существует еще одна критическая точка, которая соответствует определенной температуре. Эти точки, при которых происходит внутренняя перестройка стали, Чернов назвал критическими точками a и b.
Взволнованные инженеры спрашивали его:
— Как же вы смогли заметить почти неуловимые признаки?
— При известном навыке их легко обнаруживает глаз, — ответил он. Это различие можно сравнить с различием во внешнем виде белого мрамора и гипса. Когда вы бываете в музее, вы легко отличите мраморные статуи от гипсовых. И те и другие белого цвета, но мраморные статуи имеют как будто блестящий, маслянистый вид, тогда как у гипсовых статуй вид матовый, тусклый. Точно так же и стальная болванка. Выше точки b она имеет накаленную красную, как бы маслянистую, блестящую мраморовидную поверхность. Когда же она охладится ниже точки b, она сохраняет тот же красный цвет, но поверхность ее тускнеет, утрачивает блеск и становится матовой, напоминающей гипс.
…Причины разрыва пушек были не только раскрыты, но и устранены. Мало того, Дмитрий Константинович научился исправлять бракованные стали, подвергая их дополнительной тепловой обработке.
Обухов крепко пожал руку молодому инженеру:
— Вы сделали большое научное открытие. Я чувствую, что вы еще только в начале пути и вам суждено многое сделать. А я уже старик… Меня измучили… — Голос его звучал печально. Он прикрыл на секунду ладонью глаза, испытывая слабость, а потом безнадежно махнул рукой: — Ну, да мое дело кончено!
— Не говорите так, Павел Матвеевич! — с жаром сказал Чернов. — Вы сделали для России большое дело, и опускать руки нельзя!
— Э-эх! — горестно вздохнул Обухов.
Было известно, что у него большие нелады с администрацией завода. С тех пор как завод перешел в Морское ведомство, вновь назначенный директор стал притеснять Обухова. Чтобы забыться, Павел Матвеевич всё чаще и чаще прикладывался к чарке. Оскорбленный, обиженный, он, наконец, отстранился от дел и уехал из Петербурга. А в 1869 году в столицу пришла весть, что Обухов скончался…
К ЧЕМУ ПРИВЕЛО ЧЕРНОВА ИЗУЧЕНИЕ ТРУДОВ АНОСОВА
Научное открытие Чернова о превращениях стали при накаливании дало возможность проникнуть во многие тайны металлургии и в том числе окончательно выяснить тайну булата. Дмитрий Константинович повторил последние опыты Аносова, изготовил булатную сталь и отковал из нее два клинка. После протравки на металле заструился приятный волнистый узор. Откуда появился он? Исследователь на опыте показал, что узор булата не что иное, как рисунок крупнозернистой структуры чистой углеродистой стали. Ясность и рельефность его получаются в результате травления клинка. Перед мысленным взором Чернова предстала работа оружейного мастера. Вот он берет накаленный стальной клинок и, постепенно замедляя охлаждение, творит чудо. Сталь становится крупнозернистой. Продолжая ковку при температуре ниже точки b, он изменяет форму кристаллов, вытягивая их. При искусной работе мастера металл не теряет своей крупнозернистой структуры.
Каждый день упорного вдохновенного труда приносил новые открытия, но работа в угарных цехах, постоянное разглядывание раскаленных, ослепительных образцов стали расстроили зрение исследователя. Нависла страшная угроза потерять зрение, но Дмитрий Константинович продолжал исследования.
В 1880 году летом Чернов поехал в Златоуст — на родину русского булата. Много лет прошло с тех пор как отсюда уехал Аносов, многое изменилось, но живы и неприкосновенны остались старые добрые традиции. Среди литейщиков работали еще сподвижники Павла Петровича. И как билось сердце Дмитрия Константиновича, когда он слушал душевные рассказы Швецова-младшего об Аносове!
Павел Швецов, широкоплечий, с густой окладистой бородой, был кряжист, крепок и вдумчив. Он с любовью рассказывал об Аносове:
— Павел Петрович был особый человек, его верный глаз примечал всё, а уши слышали самое тайное в металле. Стоит вот тут и смотрит, как металл накаливается в горне. По еле уловимому, только что рожденному цвету он уже понимал, в каком положении сталь. Всё слышал, что шепчет металл. Правда, и батюшка мой Микола Миколаевич большой мастак был, ну, прямо-таки, колдун по стали, а только всё колдовство его ничто было перед силой Аносова. Тот всё учтет. Нагреет до мясно-красного цвета, а потом моргнет глазом, — мол, живей к молоту, и пока перекидываешь накаленную болванку, она уже вишнево-красного цвета, — доспела под удар!
В Златоусте Чернов проследил весь процесс изготовления булата. Долго и взволнованно наблюдая за остыванием булата, он, в конце концов, уловил момент, который подсказал новое. Дмитрий Константинович сделал свои выводы: «Остывание должно происходить как можно спокойнее и медленнее… Тогда сталь находится при условиях, весьма благоприятствующих ее кристаллизации, так что образуются довольно сильные оси древовидных кристаллов и довольно большие группы параллельных осей; группы эти потом срастаются».
Что же такое остывание металла?
Чернов первый дал верный и точный ответ: сталь (и вообще металлы) имеет кристаллическое строение, и процесс затвердевания металла есть не что иное, как процесс кристаллизации.
Это подсказывали ему опыты с проведением кристаллизации различных солей. Вот и сейчас он еще раз убедился в этом, изучая условия затвердевания, при которых в сплаве происходят химические изменения. Именно в это мгновение прекращается падение температуры, и она остается постоянной до тех пор, пока не завершится перестройка сплава, после чего остывание продолжается.
Он хорошо помнил свой первый опыт с охлаждением раствора поваренной соли, который помог ему наглядно показать значение критических точек.
В маленькой тесной лаборатории на Обуховском заводе перед ним стоял десятипроцентный раствор соли. Дмитрий Константинович наблюдал постепенное равномерное падение температуры до -8°. Дойдя до этой точки, падение температуры вдруг прекратилось, и некоторое время она держалась на одном уровне. Что же происходило в растворе? В нем в эти минуты замерзла часть воды, отчего насыщенность раствора повысилась. Когда это произошло, температура вновь стала равномерно падать, и так продолжалось до -22°. При этой температуре весь оставшийся раствор застыл, и дальнейшее охлаждение раствора уже никаких новых критических точек и остановок в падении температуры не принесло.
Проведенные многократно опыты с соляными растворами различной насыщенности подтвердили это правило.
Тогда же Чернов перенес изучение на металл и установил, что подобное перемещение критических точек происходит и в стали.
Много раздумий и наблюдений осталось позади. Теперь он знал, что перемещение критических точек в металле тесно связано с процентным содержанием углерода, и записал:
«Сталь, до сих пор употребляемая в промышленности и в искусствах, по преимуществу есть соединение железа и углерода. Чем чище это соединение в данном куске стали, тем лучше, тем выше ее качество. Самая лучшая сталь, какую когда-либо, где-либо делали, есть, без сомнения, булат…
Особенности булата, а именно узоры на нем, сбивали многих с толку; все хотели искать эти высокие качества булата в каких-то особенных примесях, делали весьма тщательный анализ и не находили, к удивлению, никакого заметного элемента, присутствие которого могло бы объяснить эти узоры. Так как узоры в булате тесно связаны с качеством самой стали, то нападали на мысль найти такое вещество, которое, будучи сплавлено со сталью, давало бы узоры; сплавляли стали с разными металлами: с платиной, с серебром и т. д. — и, действительно, получали узоры, но, во-первых, они далеко не имели ни той правильности, ни той красоты, и, во-вторых, и самое главное, полученная сталь всегда уступала в качестве булату.
Особенность узоров булата заключается еще и в том, что если вы нагреете кусок хорошего булата с ясно развитыми узорами до светло-красного каления, то после охлаждения уже не получите на нем узоров, как бы долго вы ни травили его поверхность; узоры же, получаемые от сплавления с другими металлами, не исчезают, как бы ни нагревали такой сплав. Если же булатный кусок с исчезнувшими узорами вновь переплавить, то при известных условиях остывания полученного слитка узор появляется опять, хотя и несколько измененного рисунка; таким образом можно вызывать и уничтожать узоры несколько раз.
Исследования Аносова показали ясно, что загадка разрешается чистотой стали, и ему, как известно, удалось приготовить самые высокие сорта восточного булата».
Поездка в Златоуст и глубокое изучение булата позволили Чернову с уверенностью ответить на самый наболевший вопрос о качестве булата. В своей статье о булатной стали, опубликованной в 1899 году, он утверждал:
«Состав и качество булата весьма много зависят от качества положенного в тигель графита; если графит не чист, не промыт, то сталь выходит гораздо хуже. Аносов доказал, что булат есть высший сорт стали и по своему составу приближается к соединению железа лишь с углеродом; распадание же стали на два различных соединения при кристаллизации играет очень важную роль при назначении такой стали на клинки; при закалке более твердое вещество сильно закаливается, а другое вещество остается слабо закаленным; но так как оба вещества в тонких слоях и фибрах тесно перевиты одно с другим, то получается материал, обладающий одновременно и большой твердостью, и большой вязкостью. Таким образом, оказывается, что булат несравненно выше лучших сортов стали, приготовленной иными способами; высокие качества ее доказаны вековым опытом и вызвали целый ряд подражаний искусственным воспроизведением узоров на изделиях…»
Чернов всю свою жизнь отдал любимому делу и упорными трудами создал лучшие способы сталеварения. Не менее важной оказалась его теория затвердевания и кристаллизации стальных слитков.
Металлургия за последние десять лет далеко ушла вперед, получили распространение бессемеровские и мартеновские печи, сталь варилась тоннами. И тут возникли странные и тревожные явления. Несмотря на всю тщательность выплавки, сталь получалась неоднородной, рыхлой, пузырчатой. Усадочные раковины и пустоты в металлах делали отливки непригодными. И чем больше увеличивался вес отливок, тем больше обнаруживалось пороков в слитках стали. Металлургические заводы отыскивали знатоков и специалистов по литью стали, но те не могли установить причин возникновения раковин и пустот. Перестраивали печи, строго проверяли режим сталеварения, но какая-то таинственная непреодолимая сила стояла на пути, — слитки получались с дефектами.
Чернов заинтересовался странным явлением. Он проследил весь путь рождения стали. При разливке расплавленного металла он подметил то особенное, что влияло на его качество. Брак получался от неправильной разливки. Во время этого процесса происходило затвердевание металла, его кристаллизация.
Из центров кристаллизации, которые образуются при этом, выбрасываются, как древесные побеги, оси будущих кристаллов. И там, где жидкий металл соприкасается с охлаждающей стенкой изложницы, там в первую очередь рождаются кристаллы. Постепенно сплав покрывается твердой коркой. Закрытый ею жидкий металл остывает медленнее, и кристаллы здесь образуются позднее, но зато они имеют более крупные размеры. Они теснят друг друга, переплетаются, искривляются. Иногда в пустой полости, которая образуется сверху слитка из-за сокращения объема металла, вырастают огромные, правильной формы кристаллы…
В одной усадочной раковине стотонной отливки Чернову удалось обнаружить громадный стальной кристалл. Он оказался весом 3,45 килограмма. Этот кристалл сохранился до сих пор и известен под именем «кристалла Чернова».
Так появилась и была разработана Черновым теория кристаллизации металлов, чрезвычайно важная для металлургии.
СОВЕТСКИЕ СТАЛЕВАРЫ
В XVIII веке Россия являлась первой металлургической державой в мире. Швеция и Англия были оттеснены на второй план. В XIX веке произошел застой, и Россию в области металлургии отодвинули на одно из последних мест…
Но зато как далеко шагнула вперед наша Родина после Великой Октябрьской социалистической революции!
Наступили дни, когда Коммунистическая партия повела советский народ в бой против вековечной отсталости. Предстояло перевооружить не только промышленность, но и сельское хозяйство. Из страны аграрной Россия должна была стать страной индустриальной.
В 1929 году начался период великих строек в Советской стране. Гиганты индустриализации — тракторные, автомобильные, станкостроительные, электромашиностроительные и многие другие заводы — возникали во всех уголках нашей Родины. Преображались старые заводы. У горы Магнитной, где протекало мое детство, на месте глухой казачьей станицы вырос первый в мире металлургический гигант — завод имени И. В. Сталина. Я был свидетелем стройки Кузнецкого металлургического комбината, которая поразила мир своими размерами.
В эти горячие дни для создания машин и новостроек требовался металл, металл и металл…
Машиностроителям нужна была сталь особых качеств. Создать высококачественную сталь стало делом чести советских металлургов.
В цехах «Красного путиловца» в Ленинграде родился первый трактор «Фордзон путиловский». Паникеры и враги, используя трудности, стремились сорвать производство тракторов на советском заводе. Но они забыли одно важное обстоятельство: в Ленинграде в те дни жил и работал верный сын партии — Сергей Миронович Киров. Он всегда появлялся там, где возникали трудности.
Внимательно выслушав паникеров и маловеров на одном заводском собрании, Киров встал и просто сказал рабочим:
— Вы слышали, товарищи, сколько нам тут страхов наговорили. В нашей стране организуются сейчас крупные социалистические хозяйства — совхозы и колхозы. И наша партия не пойдет назад. Она поведет крестьянство к светлой и радостной жизни. Но переделать нашу отсталую деревню не легко. Для того чтобы повернуть ее на колхозный путь, нужны трактора. Эта машина не только увеличит урожай на полях, но и поможет нам изменить и самое сознание крестьянина. Поэтому мы должны во что бы то ни стало решить эту трудную задачу.
— Не выйдет это у нас, Сергей Миронович, — это технически невозможно! — заявил один из инженеров завода.
— Не знаю, как технически, но коммунистически это можно и должно быть сделано! — прервал маловера Киров.
— Вот это верно! — поддержали Кирова рабочие.
Глаза у них заблестели веселым огоньком. Киров понял, что путиловцы осилят все трудности. И они осилили их.
Один за другим сходили тракторы с заводского конвейера, и на всех машинах поблескивала новенькая заводская марка.
Я был в толпе и наблюдал, как на пустыре у завода испытывали новый трактор. На испытании присутствовали колхозники, агрономы, инженеры. Рядом с товарищем Кировым стоял коренастый, в синем замасленном комбинезоне, мастер.
Он сильно волновался и нетерпеливо спрашивал вслух: «Пойдет ли? Будет ли пахать?».
К трактору прицепили многолемешный плуг. Механик взобрался на сиденье и дал газ.
«Фордзон путиловский» загудел и пошел. Пошел послушно и уверенно. За ним легко и плавно черными лентами переворачивались пласты земли.
Старый мастер не удержался, схватил Сергея Мироновича за руку и закричал весело:
— Смотри, смотри, Мироныч, как шагает наш «Федор Петрович»!
Киров радостно улыбнулся в ответ мастеру:
— Погоди, еще не то будет. Увидишь, старик, как далеко он шагнет! Всю землю глубоко вспашет и старую тяжелую жизнь с корнем вывернет. По-новому вскоре заживем!
Слова Кирова сбылись. Но здесь я хочу сказать о правде, которая таилась в словах старого путиловца: «Наш Федор Петрович».
Он действительно был нашим от первой до последней гайки. В то время как в мастерских на станках обрабатывали первые детали трактора, в лаборатории и сталеплавильном цехе уже трудились над созданием советской качественной стали.
В заводской лаборатории в те дни работал Николай Тимофеевич Гудцов ныне академик. Он глубоко изучил труды Павла Петровича Аносова и, опираясь на современные исследования, создал новые марки высококачественных сталей.
Прошло несколько лет, и советские заводы стали плавить качественную сталь в неслыханных прежде количествах.
Златоуст за эти годы преобразился. Еще в начале нашего столетия на реке Ай, в шести километрах от старой оружейной фабрики, на которой когда-то работал Павел Петрович Аносов, построили новый металлургический завод с доменными печами на горячем дутье и с мартеновскими печами для выплавки стали.
Мне помнится этот завод. На нем работал еще сын Швецова — маститый старик Павел Николаевич, помнивший Аносова. В дни гражданской войны, в 1919 году он умер. Второй ветеран завода К. К. Моисеев дожил до первых пятилеток. Здравствует в наши дни и потомок именитой фамилии Бояршиновых лучших уральских умельцев — Петр Георгиевич Бояршинов. Он — живая история русской металлургии: он создавал сталь в кричном цехе, он готовил ее в тиглях, пудлингованием, в мартенах, в электропечах.
В 1922 году, после разгрома Германии, американцы привели в нью-йоркские доки пленные военные немецкие корабли. В те годы в американских газетах в течение многих дней помещались сенсационные сообщения о днищах этих кораблей. Американские инженеры при приемке всё внимательно осмотрели на кораблях и заглянули под днища. Перед их изумленными взорами предстала неожиданная картина. Обычно в долгих морских походах корабельные днища ржавеют и обильно обрастают ракушками. Это сильно уменьшает скорость кораблей. По-иному выглядели днища немецких судов. Они пробыли в морских и океанских водах долгие годы, а казались только что отполированными.
Инженеры познакомились с интересным металлом, которым обшивались днища кораблей. Это оказалась нержавеющая сталь: она не поддавалась ни ржавчине, ни кислотам и не окислялась при нагревании. О чем больше всего вопили американские газеты? Они возмущались тем, что способ изготовления нержавеющей стали в Германии был засекречен. А когда Германия потерпела поражение и вынуждена была выдать победителям военные тайны, немецкие инженеры просто уничтожили рецепт изготовления нержавеющей стали…
В 1920 году в Златоусте советские сталевары отлили первую нержавеющую сталь…
Традиции Аносова жили среди златоустовских сталеваров. На заводе выросли продолжатели его дела.
Классические труды Аносова открыли большие возможности для новых поколений ученых-металлургов, исследователей и практиков, которые обогатили отечественную металлургию новыми открытиями.
Широко известны имена Лаврова, Калакуцкого, Обухова, Износкова, Павлова, Бабошина, Чижевского.
Лавров открыл ликвацию в стали, причины образования пустот в стальном слитке. Он установил, что неоднородность твердого сплава вызывается неравномерным распределением составных частей при затвердевании. Найдя причину дефектов стали, он разработал и методы борьбы с ними.
Калакуцкий развил учение Лаврова о ликвации в стали и впервые разработал метод определения внутренних напряжений в стальных изделиях.
Износков внедрил в России так называемый мартеновский процесс.
Каждый день приносил новые открытия, всё новые и новые марки стали рождались на советских заводах. Наши ученые-металлурги любимы страной! Имена академиков Н. С. Курнакова, А. А. Байкова, И. П. Бардина, Н. Т. Гудцова и многих других известны всем.
Николай Семенович Курнаков внедрил в науку ряд физических методов для изучения свойств сплавов.
Александр Александрович Байков провел важные исследования в области цветных металлов и сплавов.
Николай Тимофеевич Гудцов известен своими исследованиями по разработке новых марок качественных сталей.
Металлургия стала ведущей отраслью нашего народного хозяйства.
Академик Бардин очень четко определил исходную точку расцвета современной советской металлургии:
«Производство высококачественных сталей, — писал он, — достигшее сейчас в нашей стране такого совершенства и размаха, берет свое начало в трудах нашего соотечественника П. П. Аносова, опередившего металлургов Запада».
Советские металлурги выплавляют ныне самые лучшие в мире стали. Они давно превзошли англичан, американцев и немцев.
Наша сталь идет на мирные нужды социалистического государства, на великое дело построения коммунистического общества.
В 1949 году на конференции сторонников мира, происходившей в столице Чехословакии — Праге, от имени всего нашего народа златоустовский сталевар депутат Верховного Совета СССР В. М. Амосов заявил:
«Мы, советские люди, не хотим войны!.. Мы не хотим новых человеческих жертв и народных бедствий ради кучки разжиревших на войне англо-американских империалистов и их наймитов. Мы хотим крепкого и устойчивого мира, — так говорят все честные труженики, чьими руками создаются материальные и духовные ценности. Мы этого хотим, за это боремся мы, советские металлурги.
Я горжусь, что работаю среди своих товарищей, советских металлургов сталеваров, прокатчиков, горняков и доменщиков, которые в годы войны выплавили сотни тысяч тонн металла для разгрома врага. Советские металлурги самоотверженно трудятся для того, чтобы завоевать победу, добиться мира во всем мире…
Я призываю металлургов всего мира отказаться плавить металл для войны. Ни одного килограмма металла не должно быть употреблено на строительство орудий насилия и истребления людей. Железо и сталь, если их выплавляет честный человек, любящий свою родину, свободу и независимость, является надежной опорой сторонников мира.
Я, как металлург, хочу сказать: пусть воля и единство сторонников мира будут так же нерушимы и крепки, как прославленная уральская сталь!»
СОВЕТСКИЙ КЛИНОК
Эта легенда — и в то же время быль — родилась в народе в годы Великой Отечественной войны.
…В пламени горна закален булат. Он прост и грозен в своей простоте. Суровый воин восхищен его крепостью и совершенной красотой. Только тот, кто родил это диво, остался хмур: мастерство приносило ему горечь. Часто оно оборачивалось против мастера. Заклятье трудового человека легло на булатное диво.
Для кого и для чего оно?
Старый Швецов, умирая, поведал сыну:
— Я и Петрович познали тайну рождения булата, но, чую, полного счастья не будет тому, кто станет у мастерства. Вещее заклятье лежит на булате. И заклятье это: если клинок попадет в немощные и недостойные руки, то тускнеет и не пылает он синей искрой, будто болезнь или ржа его съедает невидимо. И станет дивным диво только тогда, когда коснутся его могучие, мудрые руки.
Но где тот богатырь русский, для которого можно отдать всё мастерство без остатка, сковать меч-кладенец и навеки снять вещее заклятье?..
Лет сорок назад по Уралу прошла молва: едет на Восток, на синее море-океан знатный русский князь и будет он проездом в Златоусте, окажет большую честь — осмотрит завод. Решили начальники завода поднести ему в дар невиданной работы булатный клинок. Все старики-мастера с немалым трепетом взялись за работу.
Наипревосходнейший мастер Швецов готовил сплав. Словно кудесник, делал он это в большой тайне; никого не допускали к нему. Одному ему открыл секрет булата Аносов и передал его под клятвой браться за мастерство чистыми руками. Тому, кто кровь прольет в роде или хмельному подвержен, не дастся крепость булата в руки. Померкнет булат, сплав выйдет недостойный, не подлинный узорчатый булат.
С разумением мастер приступил к работе. Булат удался на диво. Испытали его с пристрастием, — устоял клинок. Сдавая его чеканщику узоров, старый кержак по обычаю взмахнул им, и все ахнули: с ручьистой стали сыпались и гасли синеватые искры. В один голос определили:
— Булатный клинок? Непревзойденный, аносовский! Молодец Швецов! Вот кудесник!
А старик стоял печален. Кто-кто, а он знал цену сотворенному диву.
Тут чеканщики приступили к делу. Опять-таки непревзойденный мастер гравюры по булату Бояршинов сам взялся за клинок. Тончайшая кружевная гравюра рождалась на его гранях. Из-под руки мастера в синеватой глубине металла проступал узор невиданной красоты. Всё мастерство, которое копилось доброе столетие из поколения в поколение, вложил в свой орнамент гравер. Все, и старый и малый, в Златоусте восхищались росчерком руки доброго кудесника. И опять-таки старый Швецов оставался холоден и угрюм. Многие согрешили: подумали, что зависть гложет старика. Он и глазом не моргнул на эту мирскую суету, только про себя буркнул:
— Еще дале поглядим, как себя булат покажет…
Открыл себя булат в тот день, когда князь на завод пожаловал. Торжество приготовили неописанное.
Ждали выхода князя. И каждый про себя думал: «Счастлив человечина, такой дар примет. Что ж, большому кораблю и великое плавание».
Распахнулись двери, и показался князь…
Вели его под руки. Сухонький, еле ноги переставляет, головка утиная дрожит; кадычок острый, как челнок, ходит.
Усадили его в кресло. Мастер Швецов склонился и протянул ему булатный клинок дивной работы. В ту пору из-за тучки выглянуло солнышко и золотыми лучами брызнуло на клинок. Вспыхнул он, заиграл, заструились по серебристому полю синеватые искорки…
— Дайте, дайте мне это диво! — вскричал князь и протянул сухие, дрожащие руки.
Оружейник поднес клинок…
Сразу отструились и угасли синеватые веселые искорки. Словно замкнулся в себе булат: густой пепельной пеленой подернулся сплав.
Начальник завода склонился над ухом князя и осторожно шепнул:
— Солнышко за тучку зашло, ваше высочество. К погоде изменил тоны булат…
Старый мастер, еле-еле выстояв положенное время, поторопился выбраться к своим.
— Видали? — сокрушенно поглядел он на товарищей. — Вот оно наше мастерство! Трын-трава! Коснулся перст недостойного, и клинок, как песок морской, обсох и рассыпался… Вот оно как обернулось дело!..
Швецов насупился, сгорбился и печально поглядел на свои жилистые руки…
Так и не дожил он до мечты своей. Умирая, сказал внукам:
— Изо всех сил старался Аносов. Как истый подвижник, он искал великую тайну. И добыл ее. А что дало нам наше древнее мастерство? Одну юдоль печали. Часто оно оборачивалось против мастера. Заклятье, слышь-ко, легло на булатное дело. Робили мы казачьи клинки доброго сплава, а что выходило? В девятьсот пятом году теми добрыми клинками рубили казачишки нашего брата, златоустовских ребят… А ты, слышь-ко, не спорь, сам знаю, что и супостатам отчизны снимал башки булат, да не в том дело. Горе-то наше, что жаждет сердце совершенства, а сколь ни клади силы и разумения, не достичь его. Кто, слышь-ко, и когда снимет колдовское заклятье на булатное диво? Мастера мы, а тогда и вовсе станем кудесниками.
За всю свою долгую жизнь старый оружейник сразу столько не говорил…
После смерти сподвижника Аносова прошло много лет. Внуки старинного мастера Швецова давно состарились, сед и слегка сутул стал гравер Бояршинов. Полвека непрерывной работы над орнаментом что-нибудь да значит…
В глубокую осень 1942 года в Златоуст пришла тягостная весть: враг рвется к Волге, совсем близок он от реки-матушки. Только и осталась полоска по бережку, а на ней стоят на смерть русские воины.
При этой вести помрачнел гравер и сказал молодым мастерам:
— Худо будет, коли дорвется немец и напоит коня в Волге. Не счесть тогда бед, не измерить пролитой русской крови, — лют враг! Одно спасение явись богатырь и загороди грудью дорогу супостату!
Предрек он сущую правду…
Старый мастер сказал молодым:
— Вот когда подошло время всю силу мастерства показать. Совершенство добыть. Явился богатырь в русской земле, ведет он полки, и надлежит нам сковать булатный клинок невиданной силы и красоты. В достойной руке и меч пусть будет достойный.
Слово старика покорило златоустовских оружейников.
Собрались на завод старейшие и лучшие мастера по булату, граверы и гранильщики драгоценных уральских самоцветов. С большим искусством они отобрали для сабли самый лучший боевой клинок и вновь предали его огню. В бушующем пламени закалился булат невиданной крепости. Как верность друга, златоустовские оружейники подвергли его всем трудным и лукавым испытаниям. Всё выдержал клинок: рубил металл и оставался без зазубринок, сгибался, как пламя, и сохранял непорушимость. Крепче алмаза, острее пламени оказался он!
После испытаний принесли клинок и положили на стол старейшему граверу украшенного цеха. Старик долго молча сидел над клинком, пораженный глубиной синеватого отлива. В похвалу сказал:
— Так мог сробить только сам Аносов!
Ученики и друзья старого гравера поклонились умельцу:
— Ты лучший из мастеров, — тебе и узорить этот клинок!
Большая честь была оказана старику. Не просто кто спину гнул и упрашивал, а кланялись мастера, клинки с чеканкой которых высоко ценились и составляли гордость Златоуста. Но старик устоял против соблазна. Ответил он уклончиво:
— Каждый хочет такой чести, но тут подумать надо, поискать достойную руку. У кого рука вернее, тому и травить орнамент!
На том и остановились. Много дней старик со своими учениками со всем тщанием полировал грани клинка. Ученики во время работы не отступали от мастера и просили его:
— Ты всех нас учил, и пусть на этом клинке останется роспись твоей руки!
И опять мастер устоял от соблазна. Но сердце его, видать, затосковало. Ходил он по цеху задумчивый и молчаливый; тревога съедала его.
Сейчас среди ночи, взволнованный думами, он встал с постели и подошел к оконцу. Над трехглавой горой Таганаем, как на серебряной подставке, мерцал золотой серп молодого месяца, неверный свет его озарял окрестные шиханы и дрожащей сверкающей дорожкой бежал через заводский пруд. Во мгле притаились мрачные заводские строения — старина. Старик вспомнил былое и бодро сказал:
— Вот коли приспела пора снять вещее заклятье…
Над Златоустом плыла тишайшая лунная ночь — ни звука, ни шороха, а в душе старого гравера не было покоя.
Он долго неподвижно, с грустным лицом стоял перед оконцем. Никто не видел, как в эту безмолвную минуту на седой жесткий ус старика скатилась скупая слеза.
Настала пора приступить к чеканке орнамента. В цех собрались все граверы. Они расселись, а на почетном месте усадили старика. Ждали они его решения. Взглянув поверх очков на своих друзей, он простосердечно сказал:
— Мыслю я так: под Сталинградом совершён поворот в судьбах отчизны. Рука, поразившая супостата, оказалась могучей, верной. В богатырской руке и клинок должен сверкать достойный. Так начертаем мы на грани его великий подвиг, свершённый у Волги. А на другой грани напишем просто, как прост и величав в своей жизни наш советский богатырь.
Мастера одобрили эту думку и стали ждать, когда старик склонится над клинком и начнет свое чудодейство. Но тут дед поднялся и сурово оглядел всех.
— Стар я стал, и рука моя начинает сдавать, — с печалью в глазах сказал он. — Взор мой ныне не столь остер, как в былые годы. Намыслил я просить, — пусть молодой художник Александр Боронников сробит гравюру на этом клинке.
Мастер протянул руку, и товарищи увидели: и впрямь дрожит она. Отчего это приключилось — не разберешь теперь, — от волнения или от старости.
Прилежный ученик гравера художник Александр Боронников сразу засел за работу. Много дней он трудился над гранью клинка. И в синеватой мерцающей глубине его рождалась дивная неповторимая гравюра о том, как русские повергли немцев под несокрушимым Сталинградом.
Рисунок радовал глаз зрелостью и совершенством.
Ученик поднес его на одобрение старому мастеру. Старик гравер долго смотрел на сказочное диво, потом наклонился и поцеловал клинок…
На смену граверам пришли уральские гранильщики. Мастерство у них свое, особое. Чудодейство! Каждый самоцвет таит в себе таинственное свойство; есть камень худой, есть чистый и безоблачный, как светлая радость. Для воина идет особый камень и своя грань. После долгих размышлений гранильщики отобрали лучшие, чистейшей воды драгоценные самоцветы, отысканные в уральских недрах, и отгранили их. Грани были обдуманны и точны. Пламень лала, зеленая морская кипень изумруда и лучистое сверкание аметиста были освобождены из глубины камня старинной екатеринбургской огранкой, которой извечно восхищался мир.
После неустанных трудов клинок завершили. Мастерство было исчерпано, доведено до предела рук смертных. И кто приложил руку, тот наполнился радостью.
Клинок увезли на фронт…
В ту пору пришла осень, листопад. Тонкие березки, как восковые свечки, догорали в своем последнем золотом уборе. Прозрачна стала студеная вода в заводском пруду. Над шиханами пролетали на юг торопливые косяки гусей.
В эти дни на завод пришел раненый боец Иван Гаврилович Чмуров. Вернулся он из-под Днепра-реки и рассказал о видении…
Шел он из-под Киева, а навстречу ему шли могучие полки. И где прошли они, там на косогорах, и на тропах, и в покинутых вражьих окопах, и в сырой траве, и в чертополохе белели вражьи кости.
Впереди полков на кауром коньке ехал конник в простой солдатской шинельке. В крепких зубах его дымилась трубочка, в густых усах блуждала улыбка, а в глазах, как синь булата, шалили искорки.
Иван Гаврилович Чмуров по низинке путь держал, а конник на кауром коньке на степной курган поднялся. И вот взмахнул он рукой, и в облаках сверкнула молния…
Взглянул Иван Гаврилович, простой боец, на курган и ахнул: узнал он этого конника и немеркнущее в его руках пламя златоустовского клинка!
Примечания
1
Шерл — разновидность турмалина (ценного минерала.).
(обратно)2
Зерцало — трехгранная призма, увенчанная двуглавым орлом; по ее сторонам были наклеены (иногда выгравированы) три печатных указа Петра I, относящихся к отправлению законности и правосудия в империи.
(обратно)3
Gluckauf — в добрый час! (обычное приветствие рудокопов).
(обратно)4
Панагия — иконка, носимая высшим духовенством на груди.
(обратно)5
Маркшейдер корпуса. Здесь — заведующий воспитательной частью.
(обратно)6
Пироскаф — пароход.
(обратно)7
Киндер (нем.) — дети.
(обратно)8
Карамбаш — водитель каравана.
(обратно)9
Елани — лесные лужайки.
(обратно)10
Кызылбашский — персидский.
(обратно)11
Вуц — один из видов булата.
(обратно)12
Долготье — поленья длиной около двух метров.
(обратно)13
Аспид — так в старину назывался черный аспидный сланец.
(обратно)14
Яхонт — старинное название рубина.
(обратно)15
Раздув — утолщение пласта или жилы.
(обратно)16
Умет — постоялый двор.
(обратно)17
Бергалы — так называли себя горнорабочие крепостной эпохи. Это слово происходит от немецкого Berghauer — забойщик породы.
(обратно)18
«Коза» — приспособление для переноски тяжестей на спине.
(обратно)19
Колывань — сибирский город, бывший одно время центром Колыванской губернии (не следует смешивать с алтайской Горной Колыванью.)
(обратно)20
Номады — кочевники.
(обратно)21
Жизнь коротка!
(обратно)
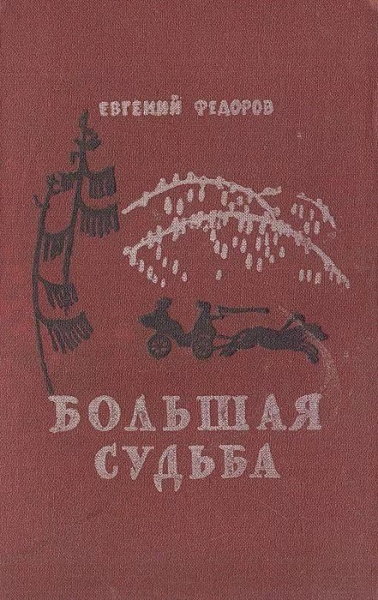





Комментарии к книге «Большая судьба», Евгений Александрович Фёдоров
Всего 0 комментариев