Скиталец ДОМ ЧЕРНОВЫХ
Посвящается моей жене В. Ф. Петровой.
АвторЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
В имении купца Силы Гордеича Чернова «Волчье логово» в зимний вечер состоялся семейный ужин, за которым было изрядно выпито по весьма серьезному поводу: в этот вечер из Москвы приехал знаменитый художник Валерьян Иваныч Семов свататься за младшую дочь Силы Гордеича Наташу. Дело, по-видимому, шло на лад: художника приняли радушно, хотя еще окончательного разговора не было. За ужином говорили о посторонних предметах, больше слушали рассказы гостя, а старик зорко приглядывался к будущему зятю, наводящими вопросами экзаменуя его.
После ужина, когда члены многочисленной семьи разошлись по комнатам огромного дома в старинном дворянском стиле, с антресолями и зимним садом, Сила Гордеич пригласил Семова в кабинет. Кабинет был небольшой, но уютный, с большим кожаным диваном у стены, украшенной фотографиями беговых лошадей, с мягким ковром, застилавшим всю комнату. На письменном столе горела электрическая лампа под зеленым шелковым абажуром, а рядом был накрыт маленький круглый столик с двумя стаканами кофе и бутылкой коньяку, с ломтиками лимона на тарелке.
Они сидели вдвоем за этим столиком, продолжая начатый за ужином разговор.
Сила Гордеич был маленький, сухонький старичок в опрятной пиджачной паре и крахмальном воротничке, с седой головой, остриженной бобриком, с седыми, коротко подстриженными усами, чисто выбритый, с сухим, энергичным лицом, напоминавшим фельдмаршала Суворова.
Знаменитый художник — высокий молодой человек лет тридцати, в черной бархатной блузе, бледный, о длинными волосами, с маленькой эспаньолкой и веселыми, смеющимися глазами — в положении жениха чувствовал себя не совсем свободно.
Старик налил в обе рюмки коньяку и, чокнувшись, заговорил неожиданным для его фигуры густым басом:
— Выпьем-ка, брат, Валерьян Иваныч, да потолкуем! Вы за ужином-то много кой-чего нам рассказали, теперь мой черед, расскажу вам про себя… — Он выпил, крякнул и продолжал: — Род наш старинный, купеческий, отцы и деды наши купцами были. Разорялись мы и на нет сходили, и опять возрождались: потому — у нас в роду коммерческий талант. Не хвалясь, скажу: я, Валерьян Иваныч, большой коммерсант! Да-с! Имейте это в виду! Я завсегда могу деньги нажить — честно и чисто, как и до сих пор наживал. Вы знаете, как я начинал?
— Нет, — улыбаясь, отвечал художник, — Расскажи-те-ка! Это, наверно, интересно.
— Хе-хе-хе!.. — низким грудным смехом засмеялся старик. — Не только интересно, а пожалуй, для вас, молодых людей, и поучительно.
Он придвинул мягкое кресло поближе к собеседнику и начал:
— Вот, послушай-ка. Отец мой помер, разорившись дотла. Перед концом его жизни жили мы на мужицкий лад: сами пахали и сеяли, на базар хлеб возили. Бывало, все пойдут в харчевню, а ты купишь калач, да на возу и поешь, чтобы деньги целее были… После смерти отца стало еще хуже: оставил он мне всего-навсего полторы тысячи… долгов! Только и всего. За долги пришлось последнего лишиться, все распродать; осталась избенка да лошаденка. Забился в деревню, притаился, — ни гу-гу! В город и глаз не кажу: людей стыдно. Думаю — как жить? Ведь надо же делать что-нибудь. Работал крючником на пристани, водоливом был — не понравилось. И надумал я овцами торговать; а у самого денег ни шиша, взяться нечем. Делать нечего, отправился в город и — к дяде. Дядя был у меня купец состоятельный, но, конечно, такой, что зря деньгами не сорил. Рассказал ему, каким делом хочу заняться. Дядя для начала дал мне взаймы триста рублей. С них я и начал. Купил на все эти деньги овец и сам стал пасти их С пастуха, Валерьян Иваныч, я начал! Бывало, пасу это я в поле овец и все думаю: как бы мне деньги нажить? Хе-хе! Осенью сам повез овец в Москву, продал выгодно, очистилась мне тысяча; я на всю тысячу — опять овец, и пошел в гору. Смотрю — годика через два у меня уже с десяток тысчонок завелось. Тут мы с братом моим покойным хлебную торговлю завели на Волге; двое орудовали, вместе и жили, попросту, без затей. Шибко мы тогда погнали дело. Случалось, брали барышу тысяч по сорок и по восемьдесят!
Старик потянулся к бутылке и, наливая в рюмки, сказал нравоучительно:
— Вот как мы наживали, Валерьян Иваныч!
— Да, у вас, по-видимому, была большая энергия. Но чем вы все-таки объясняете такой быстрый успех? Откуда были такие барыши?
— Бог его знает… — Сила Гордеич вздохнул. — Время такое было. Случалось, покупаем хлеб на одной пристани по одной цене, а перевозим прямо на другую пристань, верст за пятнадцать, — и продаем на пятак за пуд дороже; на всю-то партию и выходило тысяч пятьдесят барышу! Волга-то тогда дикая была, телеграфу никакого не знали. Первые-то пароходы на моей памяти пошли. Ну, кто посмышленее да порасторопнее других, те и наживали. И греха в этом никакого не было. Так и вырастали капиталисты. А дворяне и тогда ничего не делали, только имения свои проедали. Я, Валерьян Иваныч, открытый враг дворянского сословия. Они проживали, а мы наживали! Они падали, а мы возвышались. Вот это имение и дом, где мы сейчас с вами сидим, перешли ко мне за долги от кутилы-гусара, который всю жизнь только и делал, что наследственное, не им скопленное, по ветру пускал. Дом мой в городе — тоже бывший дворянский. Деньги прожить, проесть и пропить — это преступление великое: не жалеть и не любить деньги — это значит людей не уважать! Кто рубля не бережет, тот сам гроша не стоит!
Зычный голос старика постепенно повышался.
— Деньги — это что-то такое нежное, — заговорил он вдруг полушепотом, с неожиданной теплотой и лиризмом в голосе. — С ними нужно осторожно: не дотрагиваться до них, всякую пылинку с них сдувать, чтобы росли они, а не таяли; иначе ведь они живо пылью разлетятся. Любить их, беречь и лелеять нужно, нежно с ними обращаться; ведь это же что-то живое, святое, неприкосновенное, как жизнь человеческая… Ненавижу дармоедов, расточителей, разрушителей! — загремел он вдруг разряжающимся голосом. — Уважаю только тех, кто создает, кто накопляет. Идея накопления капитала — это великая идея! Ей посвятил я жизнь мою: самоучка, учился в уездном училище, с пастуха начал. На себя трачу не больше, чем, может быть, самый последний бедняк тратит. Идее служу! Российский капитал воздвигаю, создаю силу, которая в общем своем составе, может быть, впоследствии все судьбы России к лучшему будущему повернет. Ведь вы подумайте, что это за сила! Каждая копейка — работай! Все — кипи! Все — возрастай! Пускай корни, накапливай силу. Капитал — это все! Если одни растратят, другие должны будут опять с самого начала создавать его. Без этого — гибель, без этого — смерть! Все — для создания капитала, в нем — все начала и все концы!..
Густой голос маленького старика раздавался в ушах Валерьяна непреклонно и грозно. Художник слушал, склонясь на локотник кресла, полузакрыв ладонью глаза, и казалось ему, что голос этот принадлежал не хилому, низенькому, седенькому старичку, сидевшему против него, а кому-то другому — исполину.
Голос умолк.
Художник очнулся и взглянул на старика. Седой, сухой и хилый старичок вздохнул и наполнил рюмку.
— Одно меня крушит, — более спокойно, низкой октавой продолжал он, — некому дело передать, преемников нет.
— Да ведь у вас уже взрослые дети, и все такие хорошие! — удивленно возразил Валерьян.
— Люди-то они хорошие, слов нет, а только что не коммерсанты: интеллигенты все! Эти капитала не наживут. Дай бог хоть бы то, что есть, сохранили… Жена воспитанием их всех перепортила; книжница она у меня, идеалистка старая, все по книгам, все по системе. Нагнала полон дом учителей — шваль всякую; им бы, как служащим людям, место свое указать, чтобы знали они его, а она их — в передний угол! Развалится какой-нибудь выгнанный студентишка и порет дичь со всякими красными словами, а сам — уж видно его насквозь — рассукин сын, блюдолиз!.. Жена моя ничего этого, бывало, не видит — слушает словеса, да мне же в лицо фыркает: «Ты, дескать, что понимаешь? Тебе бы жеребят, а не ребят воспитывать! Твое дело — деньги наживать, а вот это — люди!» Хе-хе! вроде как увлекалась одним эдаким. А он — не будь дурак, да старшую-то дочь со двора и смани. Ну, тогда, само собой, жена моя его возненавидела. Денег за убежавшей дочерью я, конечно, не дал никаких, и мучилась она с прощалыгой десять лет, пока от него назад ко мне не сбежала. Живет теперь здесь. Ни вдова, ни мужняя жена — изломалась вся. Старший сын — больной, к делу неспособен, а младший — вроде как толстовец, не сочувствует мне, перед новыми идеями преклоняется. А того не понимает, что эти идеи придуманы специально против нас, имущего класса, чтобы нас же с наших мест спихнуть. Вот и некому дело передать… На тебя ежели посмотреть, — парень ты славный, чистый, прозрачный какой-то, насквозь тебя сразу и видно. Нет, не деловой, не практический ты человек. Не такого бы мне зятя нужно! Ну, так что поделаешь? Любимая дочка! Последнее и единственное мое утешение. Ведь она у меня — любимая, Валерьян Иваныч, совсем как ребенок, и сердиться-то на нее ни за что нельзя. Не знает ни людей, ни жизни, принцессой какой-то воспитали ее. Что поделаешь? Живите уж! Об одном только прошу — не обижайте ее!
Художник вспыхнул и вскочил со стула: слова будущего тестя как бы ударили его по лицу.
— Что вы, Сила Гордеич! Да я жизнь мою за нее положу!
— Вижу, вижу. Теперь-то это так, а жизнь велика, всего бывает. Тогда и попомните мою просьбу: берегите ее, не обижайте!
Старик встал, растроганный и готовый обнять Валерьяна.
Художник тоже встал и обнял его. Они поцеловались. Потом опять сели, и купец заговорил совсем другим, деловым тоном.
— Денег Наташа будет получать три тысячи в год…
— Он махнул рукой и с шутливой строгостью зарычал:
— Больше не дам ни копейки!
— А вы ничего не давайте, — внезапно возразил художник: — у меня есть годового дохода тысяч десять, нам и хватит. А если придет надобность, то, надеюсь, вы тогда Наташе не откажете.
Сила Гордеич обиженно взглянул на будущего зятя.
— Как же это так — ничего? Этого нельзя! Сколько ей полагается, она будет получать. А вы, — с прежним воодушевлением заговорил он опять, — если у вас будут лишние деньги, в банк их положите. Деньги надо беречь, Валерьян Иваныч. Они вам нелегко, чай, достаются. Ведь вот теперь у вас успех, слава, зарабатываете прилично; надолго ли это? Пройдет на вас мода или — не дай бог — болезнь пристигнет, и останетесь как рак на мели! Вы, — покуда на вашей улице праздник, — деньги копите. Деньги! деньги! Зажмите их в кулак вот так, крепче, покудова они сами в руки плывут, а не сумеете — потом поздно будет: близок локоть, да не укусишь. Послушайте меня, старика, я долго жил, много на своем веку видел всего: и беден был, и сам капитал наживал; цену деньгам знаю, сколько труда-то человеческого в каждой копейке заключается! А вот вы, видно, еще не знаете, даже своего труда, заметил я, не цените.
Молодой человек смутился.
— Ваша правда, я как-то не думал о деньгах.
— Для чего же вы тогда картины ваши пишете? Конечно, деньги хотите нажить!
— Нет! — с улыбкой и удивлением возразил художник. — Нужда — скверная вещь, но если бы за мои работы ничего не платили, я все равно писал бы. Работа моя сама по себе доставляет мне наслаждение… Ну, как бы сам это сказать?.. Ведь вот вы — купец, а я — художник; трудно представить себе двух людей, более противоположных, чем мы с вами. Но у вас — вы сами говорите — есть природный коммерческий талант к наживанию денег, которых вы лично на себя не тратите. Стало быть, не деньги сами по себе нужны вам, а только процесс созидания капитала, который является в руках ваших силой, управляющей жизнью людей. Благодаря этой силе вы можете, если захотите, творить: строить города, железные дороги, превращать пустыни в цветущие страны! Одним словом, капитал вы цените как силу, дающую власть, вам дорога и приятна возможность управлять. Мне в моей работе важны не деньги, а мое творчество; мы на полотне показываем новые, лучшие, еще не воплощенные формы жизни, лучшие чувства и мысли, бросаем в жизнь идеи в образах. Если вы — строители жизни, то мы — ваши архитекторы, создающие план: постройки, чтобы наши воздушные замки вы могли превратить в реальные — из железа и камня, из мрамора и золота. Я тоже, как и вы, думаю, что моя работа в общем составе с работой других, таких же, как я, художников, ученых, писателей и артистов, может иметь влияние на судьбы не только России, но и всего человечества. Ведь от того, что создаем мы, взгляды у людей меняются. А что мне будет за мою работу — большие деньги или бедность, это уже не главное в нашем деле.
— Ловко подвел! — прогудел Сила Гордеич, с большим интересом слушавший художника. — Однако идеи идеями, а деньги деньгами. Нынче все измеряется на деньги: написал ты ценную вещь — тебе честь и слава и — деньги! Выбился исподнизу — значит ты есть победитель в жизни, сила: получай приз — жену хорошую! Хе-хе-хе!.. Впрочем, — продолжал он с причудливой строгостью, — посмотрю я, как ты пьешь: если — плохо, не отдам за тебя дочь, а ежели сможешь мою марку держать, — ну, тогда бог с тобой — бери! Ну-ка, наливай, нечего мне зубы заговаривать!
Будущий зять, улыбаясь, налил рюмки, а старик, чокаясь, чудачливо ворчал.
— Люблю я тебя за то, что не из дворян ты, своим трудом и талантом выбился в люди, так же, как и я. Нашему-то роду двести лет, постарше другого дворянского: нынче тот дворянин, у кого деньги есть!
В комнату почти неслышными шагами вошла Наташа.
Красавица лег двадцати трех, несколько выше среднего роста, в простом сером, серебристом платье, с темно-каштановой длинной косой, нежно-смуглая, с большими синими глазами, отенёнными черными ресницами, художнику она показалась похожей на царевну «серебряного царства» на картине Васнецова.
— Можно к вам? — тихо и смущенно улыбаясь, спросила она глубоким, низким голосом.
— Можно, можно! — весь сияя, весело закричал Валерьян. — Пожалуйте! — и вскочил, подвигая ей кресло.
— Ты что, коза, зачем пришла? — шутливо заворчал отец.
— Не пора ли отдохнуть вам, папа? Уж поздно.
Наташа не села на придвинутый стул.
— А вас, Валерьян Иваныч, братья мои ждут в гостиной.
— Ну и пускай ждут, — шутливо и с оттенком нежности в голосе возразил отец. — Но только вижу я, что это все твои штуки! Не беспокойся: вот он, цел и невредим, — кивнул он на Валерьяна. — Грешный человек, хотел я поглядеть на него на пьяного, да не поддается, шельмец. Вничью у нас игра вышла.
Наташа укоризненно покачала хорошенькой головкой.
— И я тоже ошибся, — весело сказал Валерьян. — Думал, много ли старцу нужно, чтобы свалиться? А теперь боюсь, как бы он меня на обе лопатки не припечатал.
— Ну, положим, что не вам, молокососам, меня напоить! — рычал Сила Гордеич, тяжело поднимаясь с места. — Однако вижу, парень ты твердый, с умом пьешь, головы не теряешь. Отдаю за то тебе в супружество любимую дочь мою Наталью… Наташа!
— Что, папа?
— Поди сюда!
Он взял за руки дочь и художника, потянул их обоих к себе.
— Пойдешь за Валерьяна?
— Как прикажете, папа! — Наташа лукаво опустила глаза.
— У-у, ты, коза хитрая! Не бойся, знаю, что приказ мой по шерсти тебе будет. Ну, благослови вас бог!
Старик внезапно всхлипнул. Обнявши, поцеловал в лоб дочь и будущего зятя, махнул рукой и нетвердыми шагами направился к двери.
— Отдохнуть пойду. До завтра!
Молодые люди стояли рядом, держась за руки и смотря ему вслед.
На пороге старик остановился и, овладев собою, шутливо погрозил им пальцем:
— Ну, смотрите у меня, живите дружно, а не то — вот я вас!.. Лекции моей не забывать: кто пьян да умен — два угодья в нем!
Наташа опустилась в кресло, а Валерьян молча опустился у ее ног на колени, взял ее бледные руки в свои и долго целовал. Она смотрела через его голову в пространство, как бы желая проникнуть в будущее.
Глаза ее были замечательны: глубокая, непонятная Валерьяну печаль таилась в них даже тогда, когда она смеялась. Это свойство ее глаз поразило его еще при первой встрече, пять лет тому назад, когда он был безвестным, начинающим художником и с первого взгляда влюбился в недосягаемую для него тогда дочь миллионера, банкира, купца-помещика.
В выражении нежно-золотистого юного личика Наташи была трогательная душевная чистота и необыкновенная содержательность.
Откуда эта печаль Наташиных глаз? Наташа родилась и выросла в богатстве и роскоши, в любящей ее семье, никогда не знала ни нужды, ни горя. Художник, всю свою молодость бившийся в тисках нужды, испытавший все унижения, злоключения и мытарства бедности и только недавно и неожиданно вошедший в славу, не знал мира богатых людей, до сих пор считал их счастливцами, жизнь которых должна быть каким-то сплошным праздником, состоящим только из радостей и удовольствий. Откуда же эта печаль у красавицы из мира тех счастливцев, где, казалось Валерьяну, люди не знают страданий?.. Именно этой необъяснимой печалью глаз Наташа и поразила его при первой встрече. Если бы она была жизнерадостной, он бы не обратил на нее внимания. Он ненавидел этот мир эгоистичных, черствых людей, замкнувшихся в своем благополучии и презиравших бедность и труд. Гладкие, выхоленные, избалованные женщины высшего круга, каких ему приходилось иногда встречать, вызывали в нем раздражение.
Но Наташа явилась загадкой на его пути. Впечатление от ее печальных глаз осталось в его душе навсегда. Ему казалось, что он встретил тогда воплощение своего идеала, — увы! — недосягаемого для бедного художника. Теперь положение изменилось: он сам внезапно сделался богатым и знаменитым. Образ девушки, поразившей воображение художника, вдохновлял его при создании новых картин. Любовь художника была фантастична и безнадежна, но успех и завоеванное положение уничтожили прежнюю преграду между ними — разницу в материальном положении. Через пять лет молчаливой, скрытой любви он явился перед ней уже в ореоле славы. Она сделалась его невестой — и все же оставалась для него прежнею загадкой.
— Наташа! — прошептал он, — я отдаю вам всю мою жизнь. Только смерть разлучит нас!
— Только смерть! — повторила она, по-прежнему смотря в пространство.
— Я не верил, что можно полюбить с первого взгляда, но вас я полюбил тотчас же, как только увидел, тогда, давно…
— Я это знала.
— Я любил вас еще до встречи, любил как свою мечту. Мне представлялась она девушкой с большими грустными глазами. Серебряная царевна на картине Васнецова напоминала мне ее. Я искал ее по всей земле и не находил нигде, думал, что ее и не может быть в жизни, что она только плод моей фантазии… Ах, Наташа, я был как угасающий метеор, мои глаза окаменели от безнадежных исканий, но, встретив вас, я опять загорелся! Вы помните, — когда мы встретились в первый раз, вы были в шляпке с серебряной отделкой, а серое платье тоже было отделано серебром…
Не вставая с ковра, он откинул голову и с восхищением любовался ею.
Глаза их встретились. Наташа с кроткой, чуть смущенной улыбкой смотрела на него. Щеки ее вспыхнули.
Большое лицо с морщинами горечи около губ выражало силу, грубоватость и природное добродушие. Наташе нравилось это простонародное лицо человека, на ее глазах достигшего известности, но если бы она не знала, что он выстрадал свой успех необычайным упорством в труде, если бы не знала, что перед ней стоит на коленях известный художник, — она, может быть, и не нашла бы в его наружности ничего особенного.
Наташа чуть слышно дотронулась нежными пальчиками до его мягких, слегка вьющихся волос.
— А у вас было тогда ужасное, изможденное лицо, лихорадочные глаза. Мне было жаль вас.
— Да, я действительно в тот день был болен, лежал с температурой, но встал с постели и отправился на концерт, где встретил вас и вашу сестру… Я ожидал, что вы на нее похожи, но оказалось другое, необыкновенное. Я был потрясен. Ведь это она, моя фантазия, мой вечный бред: громадные глаза с непонятной глубокой печалью, лицо — как поэма.
Валерьян умолк и, в каком-то затруднении от полноты нахлынувших чувств, с горечью воскликнул:
— Я не умею говорить!
— Только художник мог сказать так, так чувствовать, найти такие слова, — возразила Наташа. — А я-то? молчу всегда.
Она улыбнулась.
— За вас говорит ваше лицо. Есть люди, которые говорят не словами… С вами так легко говорить, Наташа: вы все угадываете без слов, прежде чем успеваешь сказать. Не думайте, что я преувеличиваю, заблуждаюсь, фантазирую: я тоже угадал вас, почувствовал, отыскал. Мне кажется, что я всегда знал вас и всегда любил. Наташа, таких женщин, как вы, люди знают только по картинам и поэмам гениальных художников и поэтов, но я — я нашел вас в жизни!
Наташа, улыбаясь, упивалась этой страстной речью, но ответила шуткой:
— Боже, до чего я дожила! Я — царевна!
— Принцесса! — прервал Валерьян. — Принцесса, не знающая людей и жизни. Если вас одеть в лохмотья и рубище, то и тогда будет заметно, что это — принцесса…
— Из темного царства! — тихо добавила Наташа. Голос у нее был тихий, но грудной и глубокий.
Валерьян на минуту задумался.
— Я никогда прежде не слыхала того, что говорите вы, — продолжала она, опуская глаза и не смотря на него. — Здесь говорят только о деньгах. Никто никого не любит… Мы не знали материнских ласк. Нас учили никогда не смеяться, чинно сидеть, чинно ходить. Я привыкла считать себя дурнушкой. Мать не любила отца, не любила и нас. У нас как будто и не было матери… Отец зачерствел в своих делах и мало видел детей. Только тогда и бывал похож на человека, когда выпьет… А вы говорите о красоте, о любви… Здесь не знают этих слов!
Валерьян впился глазами в ее лицо: каждая его черта дышала затаенной печалью.
— Из темного царства! — повторял он в задумчивости. — Да, я начинаю понимать печаль ваших глаз. Наташа. Неужели это царство не отошло еще в прошлое? Ведь ваш отец такой умный, такой душевный человек, все дети получили образование, ваша семья — интеллигентная семья, в ней нет ничего общего с мрачным царством времен Островского. В чем же дело?
— Наше несчастье — папины миллионы, — с грустной улыбкой сказала Наташа. — Нас воспитали как принцесс, а от этого мы стали еще беспомощнее. Вот и ждем, чтобы кто-нибудь нас вытащил отсюда. Цель жизни для папы — это деньги. Но нам дали образование, вот мы все и не знаем, что же нам-то делать?
Наташа улыбалась, а верхняя губа вздрагивала, как у зверька, напуганного опасностью, или как у ребенка, который собирается заплакать.
— Нечего нам делать, несчастным!
— Да! — задумчиво начал Валерьян. — Деньги, как цель жизни, мстят за себя: кровь и слезы людей, превращенные в золото, со временем опять обращаются в слезы и кровь, становятся проклятием для тех, у кого их слишком много. Сердца каменеют, души мертвеют… Но вы здесь, — с прежним воодушевлением заговорил художник, — как одинокая березка, выросшая на бесплодной скале, высоко над морем: камень сушит ее корни, а безжалостное небо слишком ясно, нет облачка, которое пролилось бы на нее.
— Как вы красиво говорите!
— Ах, нет, Наташа, я не умею выразить словами того, что чувствую, и в особенности того, что предчувствую… Я должен бережно пересадить эту березку на другую почву. Это будет трудно для меня и болезненно для нее.
Валерьян взял невесту за руки и продолжал с искренним чувством:
— Я уведу вас, Наташа, и мы увидим другую жизнь, где люди живут и работают для счастья всех…
Наташа склонила голову к нему на плечо.
— Я бы хотела уехать отсюда далеко-далеко… Вы — мое солнце! — прошептала Наташа, пряча лицо на груди его.
Валерьян нежно обнял ее и, гладя ее густые темно- каштановые волосы, сказал тихо и страстно:
— Любовь — вот солнце!..
Из отдаленной комнаты послышались звуки рояля, и сильный женский голос запел;
Ни слова, о друг мой, ни вздоха! Мы будем с тобой молчаливы, — Ведь молча над камнем, над камнем могилы Склоняются грустные ивы…— Варвара запела! — сказала Наташа. — Пойдемте к ним, они давно в гостиной собрались.
— Это ее любимый замогильный романс, она его и прежде пела.
— Да ведь он подходит к настроению моей сестры, — возразила Наташа. — С мужем разошлась, разбитая жизнь… Вообще — невесело у нас…
— Но ведь она учится в консерватории.
— Все равно, артисткой ей не бывать! Цели-то и нет в жизни.
Они встали и, взявшись за руки, вышли в соседнюю комнату, заставленную тропическими растениями: до самого потолка поднимались широколиственные пальмы. В темной комнате Валерьян невольно замедлил шаги.
— Держитесь за меня, — с тихим смехом сказала девушка: — я-то знаю дорогу! Здесь однажды после выпивки папа заблудился и кричать стал. Под пальмой его нашли…
Рояль и пение умолкли. Наташа отворила высокую дверь, и оба они очутились в большой гостиной с мягкой мебелью, с роялем в углу. Гостиная освещалась сверху матовой, затемненной люстрой.
За роялем сидела старшая сестра Наташи — Варвара, высокая, черноволосая женщина, наружностью ничем не напоминавшая красавицу-сестру: плоское, бледное лицо татарского типа с серыми глазами зеленоватого оттенка, тонкими, крепко сжатыми губами, мужским лбом, твердым подбородком выражало ум и волю. Глухое черное платье оттеняло бледность ее лица.
В углу дивана сидела Елена, ее двоюродная сестра, очень худощавая девушка-блондинка, а рядом с ней братья Наташи — Митя и Костя.
Митя, очень высокий и страшно худой, поразительно напоминал художнику известную фигуру «Мефистофеля» Антокольского; он и сидел в позе этой знаменитой скульптуры, положив одну худую и длинную ногу на колено другой, согнувшийся, с сухой, впалой грудью в мрачным, острым лицом с маленькой, загибавшейся вперед эспаньолкой.
Костя — пониже ростом, стройнее и красивее брата, напоминал Наташу. Лицо его с молодыми черными усиками, с оттенком общей фамильной мрачности, улыбалось иронически.
По комнате из угла в угол ходил Кронид — их дядя, человек в старомодном толстом пиджаке и ситцевой рубахе, выпущенной из-под жилета, с небольшой светлой бородкой и некрасивым, скуластым лицом.
Как всегда, он ходил с опущенной головой и с тонкой веревочкой в руках, которую то скручивал, то раскручивал костлявыми, бледными пальцами.
— Проклятый дом! — говорила Варвара, опуская лорнетку, облокотись на спинку стула. — В нем уже вымерли две дворянские фамилии, теперь вымираем мы.
— Дядя, когда подвыпьет, всегда говорит; нашему- то роду двести лет! — вставила Елена.
Все засмеялись.
— Да! Дедушка разорился и повесился, а родитель наш опять миллиончик имеет! — насмешливо продолжала Варвара. — Дом — дворец, а он занимает в нем какой-то чулан, спит на диване, укрывается старым пледом. Все бережливость! Бережливостью своей всех нас искалечил, задавил. Все деньги, деньги! Но и денег не видим: каждый грош надо выпрашивать, унижаться. Мамаша — замученный человек, занимается астрономией, вечно книги читает…
— А что прочтет, сейчас же забудет!.. Гы-гы! — вставил Кронид, засмеявшись каким-то особенным, ему одному свойственным смехом, не переставая ходить и крутить веревочку.
— А мне его жалко, — тихо сказала Наташа: ведь он и сам страдает.
— Да, тебе хорошо его жалеть, — возразила Варвара, — а у меня с ним всю жизнь борьба, всю жизнь я от него бегала!..
— И опять к нему в лапы попала!.. Гы-гы!
— Что ж, потерплю, притихну, а потом такой прыжок отсюда сделаю, что…
— Как пантера! — заикаясь, мрачно сказал Митя.
— Как щука из невода! — добавил Костя.
Все опять засмеялись.
— Пусть буду щука, а он — сом подводный, в омуте живущий, а вы все — караси да плотва…
— Ну-ну, ты не больно… того… — шутливо вступился заика.
— Не дом здесь — склеп могильный, дышать нечем! Все деньги, деньги, бережливость! И куда берегут?..Тебе хорошо, Наташка: ты — его любимая дочка, будешь замуж выходить — приданое получишь, и в завещании он тебя не обидит, — не то, что я. Ненавидит он меня.
— Ну, в завещании-то, наверно, всем оставит, — заметил Кронид.
— На наши похороны, — со смехом сказала Варвара. — Когда все состаримся, когда не надо будет ничего!
Она приставила к глазам лорнетку и повернулась к Наташе и Валерьяну.
— Ну, а ты, Наташа, долго ли еще киснуть здесь будешь? Как ваши дела-то с родителем? Объяснение было?
Наташа густо покраснела.
— Э-ге-ге! — дразняще засмеялись братья. — Значит, в шляпе дело?
— Все честь-честью? по-хорошему?
— Все по-хорошему, — ответил за Наташу Валерьян. — Сила Гордеич ничего не имеет против. Дело теперь за Анастасией Васильевной.
— Ну, мамашу-то мы настроим! — весело вскричала Варвара, вставая. — Значит, поздравить можно?
— Можно, конечно, — решил Кронид, пряча в карман веревочку. — Пойду шампанского достану.
Он скрылся за дверью. Все окружили жениха и невесту.
— Валерьян Иваныч! Наташа!
— Тихоня этакая!
— И чем ты это отца умаслила?
Валерьян счастливо смеялся. Наташа от каждого слова вспыхивала до ушей.
Кронид принес стаканы и откупоренную бутылку.
— Счастлива ты, сестра моя! — говорила Варвара, обняв Наташу за талию. — Прямо отсюда в Петербург поедете?
— Да.
— Ну и я с вами. На радостях, чай, родитель отпустит. Вот и сделаю прыжок, вырвусь.
— Я без тебя не поеду, — сказала Наташа.
— Браво!..
Кронид наполнил стаканы.
— Споемте хором, господа! — волнуясь, кричал Костя. — Варвара, садись за рояль!
— Я петь хочу! — глубоким голосом вдруг сказала Наташа.
Раздался гул удивления.
— Наташа! — смеясь, сказала Варвара, — ты еще ни разу в жизни не пела. Никто никогда не слыхал… Что это значит?
— А теперь — хочу! — упрямо повторила Наташа. — Я из гнезда родного улетаю. Крылья у меня! Один-то раз и я спою. Аккомпанируй!
Варвара села за рояль.
— Что же играть?
— «Березку»!
Варвара заиграла.
И, смотря куда-то вдаль, как бы невидящими глазами, Наташа запела грудным, красивым, дрожащим от волнения голосом:
Я видел березку: сломилась она, Верхушкой к земле наклонилась она. Но листья не блекли на тонких ветвях, Пока не спряталось солнце в горах…В комнату вошла высокая, худощавая старуха в черном платье старинного покроя, болтавшемся на ней, как на вешалке. Опираясь на бильярдный кий, служивший ей посохом, она широкими мужскими шагами прошла через комнату, поставила кий в угол, села в кресло у камина; по-мужски положила ногу на ногу, вынула серебряный портсигар и закурила папиросу.
Лицо у нее было смуглое, худое и длинное, с энергичным и вместе печальным выражением. Это была мать семейства — Настасья Васильевна Чернова.
При входе старухи все замолчали.
— Ну, что притихли? — низким голосом спросила она, улыбаясь и затягиваясь папиросой. — Такой гвалт был, что даже я, глухая, слышала!.. Пожалели бы отца-то: спит, чай.
— Ему наверху не слышно, — отозвалась Варвара. — А вы где были, мамаша, так поздно?
Мать вздохнула задумчиво и скорбно.
— На крыше, в трубу на звезды смотрела. Устала! Какая красота! На Марсе, наверно, люди лучше нас живут!
— Безусловно! — подтвердил Кронид, ядовито усмехаясь и непрестанно вертя веревочку.
— Вы, мамаша, больше звездами заняты, чем нами, — вкрадчиво улыбаясь, пошутила Варвара.
— А что вы за звезды такие, чтобы все вами занимались? Я долг свой исполнила: воспитала вас и отцу помощницей была: капитал-то по грошам собирали. Век прожила — для себя не жила. А теперь уж и отдохнуть пора мне от вас. Надоели мне ваши дрязги!
Она встала, бросила окурок в пепельницу и, снова взяв кий, сказала полушутя:
— Ну, марш по местам, полуночники! Гостю-то дали бы покой, — затормошили, небось.
Длинная, сухая, прямая, с посохом в руке, она большими шагами направилась к двери.
— И я с вами! — встала за ней Варвара.
Старуха строго повернулась на пороге.
— Со мной?.. Чего привязываешься? Ты знаешь — я пустой болтовни не люблю.
— Дело есть, мамаша. Секретное и важное.
— Что за секреты? Опять у отца денег теребить?
— Нет, не денег, мамаша… Новость есть!
— Ну, идем, идем, коли не терпится до утра. Послушаю, что там еще случилось… Ох-охо! Ни днем, ни ночью покою не даете.
Мать и дочь ушли наверх по скрипучей лестнице.
— Пойду и я, — сказал Валерьян, взглянув на часы. — Два! Ого!.. Я столько выпил сегодня коньяку, как никогда в жизни!
— С дедушкой состязались? — спросил Костя.
— Вот именно.
— Кажется, вы уже успели подружиться с папой? — лукаво спросила Наташа.
— Кажется. Славный старик! Государственного ума человек!
— Ну, ума-то ему не занимать стать, а вот насчет откровенности вы с ним поосторожнее, — заметил Костя: — добрый старичок норовит подпоить, да и выпытать, что, мол, ты за человек?
— Я его не боюсь. Но, право, мне только теперь смешно вспомнить: выпили мы с ним в кабинете бутылку коньяку и смотрим друг на друга: никто не пьян! — Валерьян звучно расхохотался. — Только теперь чувствую, какую мину он под меня подводил!
— Хитрый старец! Ну, а теперь Варвара пошла мамашу обрабатывать: еще чего доброго — вздыбится на первых порах.
— Тайны черновского дома! — изрек заика. — Наташа, проводи гостя-то! Поединок у них был с папой. Устал, чай.
— Из поединка Валерьян Иванович вышел с честью, — шаловливо сказала Наташа. — Пойдемте, не заблудитесь у нас.
— А папа как?
— Ну, он-то и не таких в дугу гнул!
Валерьян и Наташа вышли.
Кронид продолжал ходить со своей веревочкой и наконец, сделав круг по комнате, остановился перед братьями.
— Ну, горе-охотники, как дела?
— Ишь ты! — огрызнулся Костя. — Какой тут делец из угла в угол ходит!
— Аж тропу проторил! — подхватил Митя.
— Как, бишь, Митя, ты стих-то про него сочинил?
Митя улыбнулся.
— K… кончается так, — объяснил он, заикаясь:
3…знать его л…лукавый мучит: И в…во сне н…ногами сучит!Все трое засмеялись.
— Вот и толкуй с вами!.. Я тут хожу, да думаю за всех вас… Наташа за художника выходит: говорят, большие деньги огребает, да и слава чего-нибудь стоит! Вы думаете, без меня вышло бы чего-нибудь? Безусловно ничего не вышло бы! Ведь это я дедушке подсунул невзначай журналы да статьи о его картинах… Варвара художника пять лет знает, а вот не разглядела же! Кусает, небось, локти теперь… Наташе — партия: за купца из нашего брата она ни в жизнь не пошла бы… А вы что? С отцом грызетесь, к торговому делу и к хозяйству безусловно оба неспособны. Пока жив Сила Гордеич, будет стоять дом Черновых, а свалится старик — все безусловно к чертям пойдет.
А что же им делать-то? — с надрывом отозвалась из угла Елена. — Куда деваться-то?
Кронид, усмехаясь, расхаживал и крутил веревочку.
— Выходи и ты замуж. Все лучше!
Елена вспыхнула.
— Вот я и спрашиваю: как, мол, ваше-то дело?
— Да никак. Дядя и слышать не хочет. Митя боится и заговорить-то об этом, а без денег — куда мы все годимся?
— Гы-гы! — засмеялся Кронид, — Ты, Митя, был бы рад, если бы тебя как-нибудь без себя добрые люди женили! Гы!
— Я уж того… решился, — возразил заика. — Как-нибудь за выпивкой обмякнет папа — и поговорю!
— Умница! — насмешливо вмешался Костя. — За выпивкой! Будто не знаешь его? Притворится пьяным, отшутится, а утром сделает вид, что ничего не помнит.
— Гы-гы! Не выйдет. Не время сейчас: тут Наташи на свадьба на очереди… В столице, наверное, венчаться-то будут. Мой совет — поезжайте все туда, а мы тут с Анастасией Васильевной почву подготовим.
Костя зевнул.
— Канитель, братцы вы мои, спать пора! Утро вечера мудренее. Пойдемте-ка! Завтра папа хозяйство наше критиковать будет, поругается всласть. Надо хоть выспаться.
Все поднялись с мест и вышли. Остался только Кронид, продолжавший ходить с веревочкой, опустив голову и ухмыляясь в бороду.
Вошла Варвара.
Лениво повела плечами, притворила дверь и медленно села на диван, облокотись на подушку и поджав ноги.
Кронид вил веревочку.
— Кронид!
Не останавливаясь и не глядя, отозвался:
— Что?
— Веревочку вьешь?
— Вью.
— Всю жизнь, с тех пор, как я тебя помню, ты вьешь веревочку, заплетаешь, а потом опять расплетаешь, и все расхаживаешь. Отчего это?
— Женщина ты умная, а вопрос безусловно глупый — стало быть озорной. Привычка у меня — веревочка эта: легче думать с ней, вот и все!
Варвара едко усмехнулась.
— Чего тут смешного, хотел бы я знать?
— Ты когда-нибудь повесишься на этой веревочке. Ха-ха!
— Боже избави! Ничего подобного не собираюсь делать.
Варвара, как кошка, следила за его ходьбой прищуренными глазами, продолжая странным, нервным тоном:
— Мне жизни твоей жаль, Кронид! Ты подумай: всю жизнь ты работаешь на всех нас, ведешь все дела, управляешь имением, — ведь братья ни к какому делу не приучены: так уж всех нас воспитали, — ты единственный деловой человек в семье, а вот так и не жил для себя, не женился и, наверное, никогда не женишься. А какой бы семьянин из тебя вышел хороший!
Кронид остановился подозрительно.
— Это ты к чему?
— Так. Вот Наталья замуж выходит. И сама же я сейчас мамаше жениха ее расхваливала: давно, мол, его знаю, далеко пойдет. Каждая его картина теперь стоит имения, а тут еще жену богатую дадут, приданое. Все будет по-хорошему, не го, что я — всегда наперекор родителям поступала.
— И всегда родители-то, безусловно, правы были. Гы- гы! — рассмеялся Кронид, опять начиная вышагивать из угла в угол.
Варвара стиснула зубы.
— Ну, это еще вопрос. Не повезло мне, Кронид, а кабы повезло, я была бы права. Мне большого человека нужно в мужья: я много требую от жизни!
Кронид усмехнулся, опять расплетая веревочку.
— Чего же ты хочешь? Любопытно!
— Грешница, власть люблю! Помыкать бы людьми, чтобы унижались все передо мной!
— Гы-гы! Бодливой корове бог рог не дает.
— У-у, домовой! — с неискренним смехом взвыла Варвара. — Ведь ты домовой, Кронид? Весь дом наш полон чертовщины и всякой нечисти, но я не могу его представить без тебя. Ты дух нашего мертвого дома: везде ходишь, все знаешь, лошадям гривы заплетаешь, вьешь свою веревочку.
— Безусловно глупо говоришь!
— Вовсе не глупо, а поэтично. Нужно только не буквально понимать: чертей нет на свете, вся чертовщина в душе у людей, а у нас всякой дьявольщины хоть отбавляй: мамаша — врубелевский демон в юбке, папа — дракон, я — несомненная ведьма на метле, Наташа — русалка водянистая, Митя — Мефистофель дохлый, остальные — мелкая нечисть безымянная, в кухне обитающая, а ты — домовой, добрый дух дома Черновых.
— Ладно, что хоть добрый. Про тебя и этого нельзя сказать.
— Вот только язык у тебя не из добрых.
— У тебя тоже с языка-то не мед каплет. Гы-гы!
— Такой уж дом у нас, все семейство такое. Изо всех углов шип да свист несется. Попробуй расчувствоваться — изжалят в лоск!
— Никогда не видал, чтобы ты расчувствовалась.
Ах, Кронид, — продолжала Варвара более мирным тоном, — язык твой — враг твой! Когда ты целыми часами молчишь и вьешь веревочку, я по лицу твоему вижу, какие скверные-скверные мысли ползут у тебя под черепом, лезут без конца и без цели и портят тебя: стареешь ты — озлобляешься, а сердцем-то любишь людей! Вот тут и разберись!
— Безусловно глупо в этом разбираться. Ты бы лучше рассказала, какой у тебя с матерью разговор был?
Варвара прищурилась.
— Ну, какой же разговор, когда уж папа без нее решил? Завтра, наверное, у старичков совет будет, Сначала-то она было и в толк не могла взять, а как разобрала, что этот мой приятель и есть искатель руки ее дочери, — расхохоталась: забавно ей, что теперь разные художники у купцов дочерей берут. «А что, — спрашивает, — у него есть? А из каких он?» Ну, я рассказала, что не из бедных он теперь, — обмякла, Завтра сама с ним будет разговаривать.
Кронид помолчал, искоса поглядел на Варвару.
— Тебе эта свадьба-то на-руку, что ли, или как? — спросил он недоверчиво.
— Конечно, на-руку: уеду с ними, вырвусь отсюда. В столице у него всякие знаменитости бывают; может, и мне судьба выйдет.
— Вон ты куда гнешь! А я думал — сестре добра захотела.
— И сестре добра хочу, ну, только, как они будут жить не знаю: пропадет он с ней из-за ее прекрасных глаз!
— А что?
— Да то! Смешно мне: ведь он в ее глазах какую-то возвышенную грусть видит, а у нее — просто живот болит.
— Гы-гы! Уж не ты ли на ее месте была бы лучше? Чего ж глядела?
— Ох, что ты, Кронид! Напугал даже. Хоть он и знаменитость, да не но мне: женщин не знает, живет, как ребенок, в мире фантазий. И она тоже — не от мира сего. Ему Наташа пара, — двое блаженных!
— Вот я и говорю — пара!
— И прекрасно! В деньгах нуждаться не будут знакомства у него — все люди с именами. Да на что все это ей, когда она всех людей, как мышь, боится? Не в коня корм.
— Опять!.. Слов нет, кабы тебе знаменитого мужа дать, ты бы…
— Да, — твердо перебила Варвара, — я бы показала себя.
Она положила свой большой подбородок на бледные руки, скрещенные на подушке дивана, и внезапно задумалась. Глаза сверкнули зеленым блеском, лицо приняло каменное выражение.
Кронид молча и пристально смотрел на нее. Потом вздохнул.
— Прощай! — сказал он вдруг, направляясь к дверям. — Пойду спать.
И, полуобернувшись к дверям, бросил с ехидной улыбкой:
— Железо-баба! Ну — души нет, честолюбчество заело!..
Варвара долго сидела в глубокой задумчивости, не переменяя застывшей позы. Вздрогнула. Дверь скрипнула. Тихими, неслышными шагами вошла Наташа. Варвара тряхнула головой и улыбнулась.
— С женихом ворковала?
Наташа села рядом с сестрой.
— Нет, к мамаше заходила.
— Вот как! Разговор был?
— Да. Я сказала: как хотите, а я все равно за него выйду.
— Ай да тихоня! Влюбилась? — Варвара обняла ее за талию.
Наташа поникла.
— Не знаю.
Ха-ха-ха! Чучело ты, чучело! Как не знаешь, когда этакое сказала матери?
— Он мне нравится, любит меня давно. Ну, а какая там у вас любовь бывает — не известно мне. Ты сама- то как выходила?
— Тебе известно — как: убежала. Без приданого… Чтобы вырваться.
Тогда Наташа, еще ниже наклонив голову, тихо прошептала:
— Ну и я — чтобы вырваться.
— Та-ак! — мрачно протянула Варвара. — Это понятно.
И вдруг, помолчав, улыбнулась.
— Расскажи, как он тебе объяснялся?
Верхняя губка поднялась у Наташи капризно и шаловливо.
— Я ехала сюда из Петербурга, остановилась в Москве. Он встретил меня на вокзале. Сказал, что случайно, но, наверное, кто-нибудь его предупредил.
— Ну!
— Я прожила в Москве три дня у дядюшки. Он зашел.
— Ну! — тормошила Варвара. — Не тяни так! Как вы объяснились?
— Очень просто. Он взял меня за руку, спросил: «Вы знаете, кого я люблю?» Я сказала: знаю!
— Ну!
— Потом спросил: «Будете моей женой?» Я сказала: буду!
— И все?
— Все.
Варвара расхохоталась. Потом стала обнимать и целовать сестру.
— Милая сестра моя! Чучело ты мое дорогое! Пень ты косматый мой!.. Ну, я рада, рада! Видишь, как я рада за тебя?
Тискала сестру, расплетала ей густые каштановые волосы, хохотала и плакала.
— Ну, иди спать, мой серенький зверек, трусливенький мой. Иди, а я посижу одна, подумаю о тебе.
Наташа покорно ушла, и в тот же момент лицо Варвары преобразилось. Что-то страшное было в нем: углы губ скорбно опустились, зубы скрипнули. Она беззвучно зарыдала, грохнулась на диван, судорожно вцепилась пальцами в подушку; плечи ее долго вздрагивали.
Поздно засидевшись накануне, Сила уже рано утром сходил посмотреть новую, только что выстроенную паровую мельницу. С юношескою легкостью поднимался по многочисленным лестницам и, по-видимому, остался недоволен.
Постройкой мельницы и всем имением с образцовым конным заводом ведал еще неопытный Константин, под надзором Кронида. Вся суть была в дельном и хозяйственном Крониде, но как же он-то не доглядел? Да и то сказать, Константин заносчив, самоуверен, чужих речей не слушает, все норовит своим умом решать. Из- за этого и с отцом отношения обостренные. Нет, чтобы совета попросить, все по-своему делает. А там, глядишь, и проруха. Дал ему на пробу имение, вел бы его по-старому, как исстари заведено, так нет: еще и мельница не готова, а уж по всей усадьбе электричество провел!
Конный завод сократить бы надо: какие от него барыши? Баловство одно. А он его расширил! В Москву на бега послал двух рысаков, производителя нового купил, когда и старый хорош.
Эх! изменились времена: не слушаются дети отцов! Дмитрий болен, а чем — не известно. Только у него и дела, что спит каждый день до обеда да микстуру глотает. Стихи пишет, на книгах лежит. Ничего не делает. А ведь парню двадцать пять лет! Женить бы надо, на богатой, конечно, а он сдуру на Елене, на сестре двоюродной, жениться хочет. Боится сказать отцу, но Силе и без того известно. У Елены нет ни шиша, сиротой в его же семье выросла.
Вчера Сила Гордеич дал свое согласие на брак Наташи, даже с женой не посоветовавшись. Этак-то лучше, чтобы не втемяшилось ей фордыбачить. Совет-то ее можно и нынче спросить, когда уже сказано Силой Гордеичем «быть по сему!».
После осмотра мельницы побрел не спеша по снежной тропинке на широкий двор усадьбы. В глубине двора виднелось длинное кирпичное здание конюшен конного завода. Обратил внимание на электрические провода, проведенные с мельницы не только в дом, но и в конюшни. Войдя через широкую калитку во двор, увидал, как кухарка выплеснула что-то с крыльца в снег. Кухарка была необычайной толщины, без кофты, с голой грудью и руками. Каждая рука была гораздо толще ноги Силы Гордеича. Он сердито сплюнул и отвернулся.
На дворе встретился кучер Василий, широкоплечий, атлетического сложения мужик с курчавой белокурой бородой и высокой грудью.
«Экие они все! — с невольной завистью подумал старик. — Один другого толще! А мы-то — кожа да кости!»
— Василий, отопри конюшню, да крикни конюхов и Кронида позови!
Василий отворил широкие ворота конюшни и бегом побежал в дом.
Сила Гордеич вошел под крышу конюшен, где по обе стороны длинного темноватого коридора были двери в каменные стоила лошадей. Сел на скамью и стал ждать. Больше года не наезжал из города в имение: хотел сделать опыт, как поведет дело сын. Теперь предстояло произвести ревизию.
Быстрыми шагами пришел Кронид. За ним шли два конюха с деловым выражением лиц. Один — молодой, в краснощекий; другой — пожилой, сутулый, когда снял шапку, низко кланяясь, обнаружил лысину во всю голову.
— Двухлеток хочу поглядеть, — сухо сказал Крониду Сила.
Кронид ничего не успел ответить, как оба конюха кинулись в длинный коридор конюшен.
— Справа начинайте! — крикнул вслед им Кронид.
Вывели под уздцы вороного жеребчика, двухлетнего стригуна. Взволнованно поводя агатовыми глазами, стуча стройными крутыми копытами по дощатому покатому полу, он плясал, думая, что ведут в отворенные ворота во двор, но молодой конюх осадил его умелой, сильной рукой. Жеребчик слегка осел на задние ноги, уперся передними и звучно фыркнул. В морозном воздухе пар из ноздрей коня выскочил двумя косыми лучами. Все засмеялись, кроме старого хозяина. Он сидел, запахнувшись в шубу, бритый, маленький, хилый, выглядывавший из енотового воротника, и напоминая а это время гоголевского Акакия Акакиевича. В сравнении с прекрасным, полным красоты и силы конем, метавшим искры из глаз, извергавшим пар из ноздрей, старичок казался ничтожеством. В тусклых старческих глазах и морщинистом желтом лице застыло скорбное бессилие.
— Уведите! — брюзжащим голосом сказал Сила и махнул рукой.
Вывели другого, потом третьего. Кронид объяснил родословную каждого, — от каких маток и производителей происходит это подрастающее поколение. Но хозяин слушал уныло и нетерпеливо. После вчерашней выпивки у него болела голова. Но Сила, скрывая нездоровье, бодрился.
— А ну их! Покажите эту… новую покупку-то!
Старик улыбнулся насмешливо.
Вывели гнедого рысака-великана. Это был громадный жеребец с лоснящейся темно-золотистой шерстью, с черным, волнистым хвостом до земли, длинною гривой и огромными добрыми глазами. Стоял спокойно, выгибая лебединую шею и пытаясь дружелюбно толкнуть мордою знакомого конюха.
— Шалишь! — улыбаясь, сказал ему конюх.
Кронид потрепал великолепного коня по крутой теплой шее. Жеребец не вздрогнул, не шарахнулся, только посмотрел на него умным взглядом черных блестящих глаз.
— Ну, брат, у тебя нервы — мое почтение! — смеялся Кронид. Р-р-р! Родненький! Родненький!..
Как кличка-то? — спросил Сила.
— «Родненький». Пятилеток от знаменитых производителей. Гигант, а нрав — как у теленка. Хороший производитель будет для дышловых, каретных лошадей.
Сила Гордеич, понимая толк в лошадях, с одного взгляда определил первоклассные достоинства новой лошади: широкая грудь, прямые, как струнки, передние ноги, крутые копыта, пропорциональность сложения, — сразу видна порода. Но старик и виду не показал, что лошадь ему понравилась. Сурово пожевав губами, он махнул рукой. Жеребца увели.
— А Железный жив еще?
— Жив. Только не выводим его: сами знаете — зверь, а не лошадь!
— Да ему уж, чай, лет двадцать?
— Двадцать два, — вставил свое слово пожилой конюх.
— Старик, а верхом на него так никто никогда и не садился. Запрягаем иногда для проездки: четверо конюхов держат, пока вожжи натянешь, а потом — ворота настежь, и уж тогда только держись: пятьдесят верст ровною рысью идет!
— Да что толку-то? — возразил Сила. — В производители — стар стал, а ездить на нем — кому жизнь не мила? Продать надо. Ну-ка, погляжу!
Старик встал, кряхтя и охая. Кронид и конюхи суетились.
Остановились в коридоре перед обитой железом дверью. Все стояли перед ней полукругом: в центре, позади всех, — Сила. Конюх отворил дверь настежь. В каменном стойле стоял белый, как снег, арабский конь необычайной красоты, прикованный к стене своей тюрьмы двумя толстыми цепями. Это и был Железный. От избытка энергии он весь дрожал налитыми мускулами, ходившими под атласной, серебристой кожей, переминаясь на пружинистых, легких ногах, которым, казалось, ничего не стоит отделиться от земли, взвиться «выше леса стоячего, ниже облака ходячего».
Заслышав шум, конь насторожился, поднял уши и, повернув небольшую, красивую голову, слегка заржал, скосил злые, огневые глаза.
— Вот это конь был бы, — с невольным восхищением сказал Сила, — если бы не характер! Характер-то у него железный. Так и не сломили, а теперь уж поздно. Это не теленок, не Родненький ваш!
Старик подумал, вздохнул.
— Жалко, а придется назначить в продажу. Кронид, скажи, чтобы вывели во двор! Погляжу.
— Опасно, Сила Гордеич. Позвать еще двоих придется.
Сила повернулся и вышел из конюшни во двор. Следом за ним шел Кронид.
Через несколько минут раздался топот, и из конюшенного здания вылетел Железный с четырьмя здоровыми мужиками, висевшими на длинных железных прутьях, прикрепленных к его узде, по два с каждой стороны. Красавец-конь, весь дрожа от гнева, пытался вырваться и встать на дыбы, но конюхи крепко держали за прутья, упираясь ногами в снег.
При свете утреннего зимнего солнца арабский жеребец казался серебряным. Густой волнистый хвост, слегка отделяясь от туловища, струился до земли, гладко расчесанная грива падала до сухих стройных колен, огромные глаза сверкали синим огнем. Железный не был так громаден, как Родненький, но казался крепче, изящнее, легче. Огненный темперамент чувствовался в каждом его движении. В гневе на державших его тюремщиков могучий конь крутился по двору, швыряя висевших на нем мужиков, тряс головой и гривой, испуская не ржание, а рев, звучавший металлическим звуком.
Сила Гордеич стоял в отдалении и любовался борьбой.
Вдруг лошадь круто, почти стоймя поднялась на дыбы, конюхи выпустили прутья, а Железный, сделав гигантский прыжок по воздуху, грянулся оземь, скребя копытами снег.
Кронид подбежал к нему, схватил за узду: морда коня оскалилась, белки глаз закатились под лоб. Железный простонал, как человек, содрогнулся всем телом и остался неподвижным. Кронид щупал сердце, припал ухом и, поднявшись на ноги, сказал с испугом:
— Разрыв сердца! Удар!
Все окружили павшего «производителя». Подошел Сила Гордеич.
— Вот тебе и Железный! — сказал он. — Значит, полная отставка!
Из конюшни донеслось ржание: заржал Родненький.
Сила Гордеич, крайне недовольный, вернулся в дом и, поднявшись наверх, вошел в комнату жены. Настасья Васильевна по обыкновению курила, большим мужским шагом расхаживая из угла в угол. Комната ее была небольшая, с изразцовым камином и низким потолком.
На полированном круглом столе лежали табак, папиросы и папиросные гильзы. Два низеньких окна выходили во двор.
— Видела? — рыкающим басом кратко спросил Сила Гордеич, садясь на маленький мягкий диван.
Старуха рассеянно посмотрела на мужа, оторвавшись от своих мыслей.
— Железный сейчас грохнулся на дворе!
— Какой Железный?
Сила Гордеич махнул рукой.
— Ничего не помнишь! Лошадь пала. Вывели ее из конюшни, а она грянулась, да и дух вон. Пропали деньги! Лошадь горячая, да и в годах была, застоялась. Ее бы проезжать почаще, а они, как зверя, в конюшне на цепи ее держали. Ну, и пропала. И все у них тут через пень и колоду идет. Черт знает, что делается, смотреть противно. Мельницу так выстроили, что лучше и не надо: только и остается спалить да страховку получить. Нечего сказать, хозяева!
Настасья Васильевна усмехнулась.
— Вот вы о чем! Ну, я в эти дела, сами знаете, не вмешиваюсь. Вот о дочери думаю: жених свататься приехал. Вечор Варвара мне рассказывала, а потом сама невеста пришла, да и бухнула: «Вы, говорит, как хотите, а я все равно за него пойду!» Как вам это нравится?
Старуха желчно засмеялась и, присев на стул, сильно затянулась папироской.
Сила Гордеич крякнул, уперся худыми руками в колени, покрутил головой.
— Вот то-то и оно! Ты помнишь пословицу: надо наказывать детей, когда они поперек лавочки укладываются, а не тогда, когда они и вдоль-то не улягутся! Перевоспитывать поздно. Ну, предположим, не дадим мы своего согласия, так ведь она сама говорит, что по-своему сделает. И сделает!.. Наташка — она только с виду тихоня, а чертей в ней напихано, я думаю, штук тридцать, никак не меньше.
Настасья Васильевна расхохоталась.
— Да ведь уж было дело, — продолжал Сила Гордеич, — с любимой твоей дочкой, Варварой-то: не послушала нас, сбежала самокруткой. И эта сбежит. Значит, приходится нам — полегче на поворотах! Что делать!
Сила Гордеич вздохнул и задумчиво пожевал губами.
— Слов нет, коли это была бы только дурь одна, я бы повернул по-своему: хочешь замуж выходить без нашего совета — сделай милость, выходи, только уж приданого не спрашивай, живи, как хочешь, как Варвара жила. Ну, а тут другой оборот выходит: человек занимает положение, известный художник, хорошо зарабатывает. Пощупал я его вчерась: ничего, парень-рубаха, без задних мыслей, насквозь видать. Этот не станет приданого спрашивать, как наш брат, купец. Капиталу, конечно, в руки не дадим: будет Наташа проценты получать — тысячи три в год — и ладно. А там увидим.
Настасья Васильевна помолчала, подумала, закурила новую папиросу, потом, вздохнув, сказала:
— Ну, как же вы решили?
— А так решил, что отказывать не следует. Не знаю, что ты на это скажешь, а по-моему — пускай с год поженихаются, со свадьбой повременят. Если ничего серьезного нет, так, может быть, и сами раздумают. Ежели сладится дело — пускай! Не силом выдали, сама себе мужа выбрала. Девке уж за двадцать перевалило, пора! За купца все равно не пойдет: уж сколько их сваталось! Выйдет в простом платье, вильнет хвостом, да и была такова. Сделала ты всех детей образованными, так пускай и выходит за такого же. А парень ничего, покладистый: она из него веревки вить будет.
— Не нашла она, что ли, себе покрасивее? Волосатый да худущий какой-то!
Сила Гордеич улыбнулся.
— Вот сказала! Да разве в красоте дело? Мало ли их, красивых-то молодцов, да что толку? Надо, чтобы голова была на плечах. Читала, чай, как его картины в газетах расхваливают? Я, положим, в картинах понимаю, как свинья в апельсинах, хе-хе! По мне — хоть их бы и не было вовсе, да ведь деньги дают люди. Стало быть, это — капитал!
Настасья Васильевна ядовито улыбнулась.
— А все-таки — и не дворянин, и не купец, а так — не нашего круга, художник какой-то. Нынче слава, а завтра — поминай как звали!
— Ну, завела волынку! Ты дело говори!
— Что говорить? Мое дело бабье. А только присмотреться надо, что за фигура.
— Я и говорю: согласие дать, денег не давать, а свадьбу отсрочить!
— Позови-ка его сюда, побеседовать.
Сила Гордеич встал, отворил дверь и вышел на лестницу: снизу слышались голоса и смех молодежи.
— Валерьян Иваныч, пожалуйте-ка сюда!
По лестнице послышались быстрые шаги, и в комнату вошел Валерьян; он улыбался беспечной улыбкой.
— Садитесь-ка! — с неожиданной галантностью сказал старик, жестом указывая кресло, улыбаясь официальной улыбкой, отчего бритое лицо его с тонкими, сухими чертами напомнило художнику классический облик Рейнекелиса.
Художник сел напротив хозяйки, сидевшей за круглым столом, с папиросой между пальцев длинной худощавой руки.
— Ну, я с вами прямо по делу буду говорить, — сказала, смеясь, старуха, думая про себя: «Не дворянин, конечно, но держится прилично. Говорят— талантливый. Так вот он, будущий зять! Странный выбор младшей, нелюбимой дочери! Везет же отродью ненавистного Силы: вся в него!»
— Жениться собираетесь? — спросила она, закуривая папироску.
Художник перестал улыбаться, слегка побледнел, тонкие пальцы его задрожали.
— Да, я имею честь просить руки вашей дочери, Натальи Силовны.
— Дело хорошее, но очень серьезное. От него часто зависит вся жизнь человека. Хорошо ли вы обдумали ваше намерение? Ведь с молодыми людьми всяко бывает: приглянется смазливое личико — и думают, что любовь, а потом глядишь — и ошибка!
Настасья Васильевна испытующе посмотрела на молодого человека.
— Нет! — возразил он спокойно и убежденно. — Я встречал и более красивых, чем Наталья Силовна, но ценю в ней не только красоту внешнюю, но грациозный ум и душу. Вы знаете, что мы уже пять лет знакомы, встречались в семье вашей старшей дочери, когда я еще беден и неизвестен был. Не явись у меня теперь успеха и некоторой обеспеченности, я бы и сейчас не решился сделать предложение вашей дочери, хотя знал, что она мне не отказала бы и пять лет назад. Но я не хотел связывать ее судьбу с судьбой голяка. Она воспитана в известном комфорте, а какую жизнь я мог предложить ей тогда, когда был начинающим художником без имени! И она тоже это понимала. Мы пять лет избегали друг друга, как враги, но, видно, судьбы не объедешь! Теперь я решился. Вы читали, что пишут в журналах о моих работах?
— Если бы не читала, то я бы с вами и разговаривать не стала, — высокомерно возразила Настасья Васильевна.
— Ну вот. Я и это знал, что не стали бы, а теперь, кажется, весьма благосклонно разговариваете? Смею заверить вас, что жизнь моей будущей жены обеспечена: материальная сторона меня теперь не затрудняет. Я не богач, но надеюсь, что проживем безбедно.
— Я слышал, вы продали вашу последнюю картину, которая на выставке была? — вмешался Сила Гордеич.
— Да, картина продана.
— За сколько, если не секрет?
— За семнадцать тысяч.
— Семнадцать тысяч?! за картину?!
Художник улыбнулся.
— Я, что называется, вошел в моду, мне хорошо платят. Да и работал над картиной полтора года!
— Ну, тогда это так: без труда, видно, ничего не дается.
Настасья Васильевна встала.
— Все-таки мой совет вам — подождать со свадьбой. Время терпит. Наташа эту зиму будет жить у сестры в столицах-то ваших, вот и приглядитесь поближе один к другому, а там видно будет.
Она взяла из угла бильярдный кий и, кивнув нареченному зятю, вышла со словами:
— Вы тут со стариком еще потолкуйте, а я по хозяйству пойду.
Едва она вышла, как Сила Гордеич, кивая на дверь, подмигнул художнику.
— И разговаривать бы, говорит, не стала! Хе-хе! Слышали? Чувствуете, что за фрукт моя супруга? Было время, когда вся власть в моем доме ей принадлежала. Тридцать лет мучаюсь с ней! С детьми тоже отношения навостренные, все через нее. Ну, да теперь, хоть и поздно, а я все по-своему повернул!
— Дети ваши любят ее, — возразил Валерьян. — Говорят, замечательный человек.
— Замечательный? — Сила Гордеич усмехнулся и затем, наклоняясь к собеседнику, сказал, понижая голос с таинственным видом: — Это — ведьма, Валерьян Иваныч! Истинно вам говорю: старая, злая ведьма!
Валерьян улыбнулся недоверчиво.
— Как же это так можно говорить о собственной супруге? Что вы, Сила Гордеич?!
— Истинная ведьма! — настойчиво продолжал старик. — Гордости и самомнения невпроворот. Умней себя никого не считает, а ведь за каждой малостью, ко мне же идет. Она только себя самое и любит, да еще тех, кто перед ней уничижается. Помню я, приехала сюда подруга ее погостить (еще в институте вместе учились) издалека откуда-то, небогатая женщина. Ну, только что приехала — и за чаем по старой памяти по-приятельски шутку ей какую-то сказала, самую невинную, и обижаться-то совсем не на что было! И что же? Молча встала, нос кверху — и шмыг в свою комнату! А оттуда распоряжение: немедленно заложить лошадей и отправить гостью обратно! Та туды-сюды, в слезы, объясниться хотела — и видеть не желает: чтобы и духу ее не было! Так и уехала навсегда со слезами.
Старик выразительно посмотрел на будущего зятя и, кивнув головой, закончил:
— Вот она какая, имейте это в виду!.. Варвары, старшей дочери моей, приятельницы вашей, тоже берегитесь: наперсницей при матери состоит и всякие каверзы подстраивает. Меня ненавидит за то, что все ее штучки насквозь вижу. До этого господина, с которым она сбежала, у нас еще другой был, такой же, если не хуже; тоже роман с ней завел. Ну, прогнал я его. Прошло года два — и попадись мне письмо от него к Варваре. Я, конечно, распечатал. Читаю: приходи, пишет он ей, ко мне в гостиницу! Ну, каково это было мне, отцу, читать-то? На «ты» пишет и в гостиницу зовет! Эх!..
Старик вздохнул.
— Что же вы в этом видите? — возразил Валерьян. — Вероятно, они были по тогдашнему нигилистическому обычаю в товарищеских отношениях — и больше ничего. Я семь лет знаю Варвару Силовну и мужа ее знал: все ее уважали. Напрасно вы это!
— Нет, не напрасно! Знаю я эти товарищеские отношения! Ведь и муж-то ее бывший уговорил ее на фиктивный брак, — для чего — и сейчас не пойму: идеи какие-то бредовые. А потом и оказалось, что фиктивный-то брак в настоящий обратился, и дети пошли. А она как оглянулась на мужа, вместо героя — пошляк перед нею, и ударилась во все тяжкие. Эх, идеалист вы, Валерьян Иваныч, не видите грязи-то жизненной, не верите в нее, а когда-нибудь придется же поверить! Что тут говорить? Варвара, конечно, не дура, но развратной жизни. Горько мне это, а — правда, ничего не поделаешь! Раз как-то диван в столовой отодвинули от стены, — никогда прежде этого не делали, сколько лет не отодвигали, — я и увидал там пачку писем старых; развернул, а это его письма к Варваре: за диван она их спрятала. Прочитал я их — и во всем убедился. Отдаю матери. Накось, говорю, почитай-ка! Она и ушла с ними в степь — летом дело-то было, — да целый день там и лежала в траве, читала. Вернулась оттуда — у нее и нос на квинту.
Поглядел я на нее и только головой покачал: то-то, мол!
В дверь постучали.
Вошла Наташа в коричневой меховой шубке с широкими, отороченными дорогим мехом, рукавами, в меховой шапочке. Смущенно остановилась у порога.
— С добрым утром, папа!
Сила Гордеич улыбнулся.
Любимая дочь всегда вызывала мягкие чувства в его зачерствелом, деловом сердце. Так уж издавна повелось в семье: любимицей матери была старшая дочь, любимым сыном — больной Митя, оба похожие на нее; а младших — Костю и Наташу — мать почти ненавидела за их сходство с отцом. Он знал это и чувствовал к младшей дочери совсем ему не свойственную затаенную нежность.
Но улыбка от привычки повелевать вышла сдержанной и бледной, а голос звучал привычными властными нотами.
— Ты что, коза, куда снарядилась?
— На салазках с горы кататься.
— И это дело! Хе-хе! Только смотри: люби кататься, люби и саночки возить!
— Саночки будет возить Валерьян Иваныч, — с простодушным видом отвечала дочь.
— Разве что он. Хе-хе! Вот и нашла на ком ездить!
— Валерьян Иваныч, я жду вас, а вы все не идете!
— Ну, идите, идите!.. Погуляйте! Только чур — к обеду не запаздывать!
Сила посмотрел им вслед, вздохнул и, сделавшись, как всегда, озабоченным, прошелся по комнате в хмурой задумчивости. Потом спустился вниз и, никем не замеченный, прошел черным ходом в контору имения.
Через несколько минут в опустевшую комнату вошла Настасья Васильевна с кием в руке, а следом за ней Варвара.
Старуха остановилась среди комнаты, опираясь на кий.
— Отец ушел? — тихо спросила она.
— Пошел в контору, я видела.
— Затвори-ка дверь покрепче!
Варвара выглянула за дверь, захлопнула и заперла ее на ключ.
— Никого нет?
— Никого, мамаша.
Варвара отвечала вполголоса, с обожанием смотря на мать.
— Ну, вот что: не по душе мне ее жених, да что поделаешь? Не мне с ним жить, а ей. Ежели с вами нахрапом, так вы еще хуже наперекор идете; да и отец уж решил дело. Я упрошу его, чтобы и ты поехала в Питер.
Варвара молча кивнула головой, напряженно смотря матери прямо в глаза.
— Наташа будет жить у тебя. Он, конечно, ежедневный гость. Не спускай с них глаз, следи, как бы, чего доброго, не поссорились промежду себя. Ведь уже просватали! Еще сраму не оберешься. Не вышло бы чего, не рассохлось бы. Ведь я же все-таки мать. Понимаешь?
Старуха погрузила пристальный взор в глаза преданной дочери. Прошла секунда напряженного молчания. Варвара, опустив глаза, прошептала:
— Понимаю.
— Ну, иди!
Старуха властно пристукнула посохом, провожая дочку до двери. В дверях еще раз сказала выразительно и с расстановкой:
— Блюди их! Блюди там… как зеницу ока… Не рассохлась бы свадьба-то!
Перед обедом в гостиной собралась почти вся семья.
Сила Гордеич наводил ревизию конторы, и Кронид пришел оттуда, как обваренный.
— С легким паром вас! — насмешливо сказала ему Варвара.
— И вам того же желаю, — отпарировал Кронид.
— Что, кого пропесочивали? — заикаясь, спросил Дмитрий.
— Всем досталось, а в общем-то, можно сказать, — в хорошем настроении.
— До визга еще не доходил? — поинтересовалась Варвара.
— Нет. Почертыхался малость — и только. В добром духе нынче.
— Ну, хорошо, что хоть до визгу не доходил.
— У него экзема опять появилась и желудочные боли: от этого и ругается.
— Совсем опаршивел папа! — вставила Варвара.
— Еще будет дело, погодите: еще наругается всласть!
— Ну, это само собой, — задумчиво пробормотал Митя.
— И безусловно справедливо, — говорил Кронид. — Знаете, что за хозяйка Настасья Васильевна? Гораздо лучше бы все шло, если бы она совсем не вмешивалась.
— Она исполняет свой долг, — иронически протянул Костя.
— Всю жизнь только и делала, что исполняла долг, а от этого все дела ее мертвы есть.
— Зато на папу наскакивает!
— Нет уж! — продолжал Кронид, расхаживая с веревочкой в худых, крючковатых пальцах. — Теперь он силу забрал. Вот когда жив был покойный брат его, тогда, действительно, он безусловно в загоне был: делами-то старший брат руководил; из-за нее и не женился, знал, что тогда развал в семье пойдет, на делах отзовется. Во всем ей тогда уступал. А Настасья-то Васильевна в те времена так с мужем великолепно обращалась, что даже со стороны жалко его становилось. От воспитания детей совершенно его отстранила. Только и было у нее слов: «не смейте!» да «не лезьте!» Пикнуть ему не давала. Зато уж и лютовал он, когда по смерти брата власть- то к нему перешла!
— А все-таки, — возразил Митя, — благодаря ей в нашем купеческом доме книги и журналы появились, мы образование получили, папа обынтеллигентился…
Он не договорил и схватился за живот с гримасой боли.
— Что, опять болит? — спросил брат.
— Совершенно нельзя мне водки пить. Доктор говорит — неврастения.
— А по-моему, от лекарств у тебя это: залечили с детства.
— Лечение — моя профессия, — с достоинством ответил Дмитрий, вынул из кармана пилюлю и проглотил.
— Болезнь у нас у всех фамильная, черновская.
— Медвежья! — ехидно добавила Варвара.
— Все — неврастеники, — продолжал Кронид. — Вся чертовщина семьи безусловно на этой почве происходит.
— И не дураки, и не бедные, а жизни нет у нас никакой. Денег много травится, и ничего не получаем взамен. Сколько уж раз я хотел уйти от отца, — начал Костя, — хоть в приказчики в какое-нибудь дело — не позволяет: перед людьми зазорно; а к своему делу не допускает.
— Эхма! — вздохнул заика, — не дали здоровья, да и денег не больно обрыбишься. Одно остается — водку пить!
— Будет вам ныть-то, — усмехнулся Кронид. — Никто не виноват, что вы сызмальства ни во что не вникали, а теперь безусловно ни за какое серьезное дело взяться не можете.
— Умница! — усмехнулся Костя. — А сам-то как живешь? Вроде старшего дворника двадцать лет ходишь из угла в угол.
— И во сне ногами сучишь, из песка веревки вьешь, — подхватил заика.
Все было засмеялись, но за дверью в коридоре вдруг раздался рыкающий голос Силы Гордеича:
— Мне-то какое дело? У меня — чтоб было!
Послышались его твердые, крепкие шаги.
— П-па-па и-и-дет! — нараспев протянул Костя.
— Па-па идет! — тоном ниже протянул Митя.
— Да, идет! — съехидничала Варвара.
Елена наклонилась к уху Дмитрия и озабоченно что- то ему сказала.
— Обязательно сегодня объяснюсь! — решительно отвечал заика. — Говорят, в духе нынче.
В комнату вошел Сила Гордеич и на момент остановился в дверях, слегка наклонив голову и озирая всех поверх дымчатых очков; взгляд его остановился на Константине.
— Костюшка! — властно рыкнул он.
— Что, папа?
— А то и папа, — зарычал старик с раздражением, — что занимаетесь вы тут псовой охотой. Дмитрий спит по цельному дню, а от имения одни убытки! Черт вас знает, что вы тут делаете? Куда ни поглядишь — везде ерунда идет. Новая мельница работает плохо, с фирмой судиться придется. А туды же — электричество завел, даже в конюшнях! Тьфу, что за форс? Мы жили попросту, без затей, трудом да потом по грошам копили, а вам, видно, отцовских денег не жалко?
— Вы, папа, не в курсе дела, — сдержанно ответил сын, вставая ему навстречу: — раз мы паровую мельницу пустили, то электрическое освещение идет от нее же, совершенно даром.
— То есть, как это даром? Чего стоят провода, арматура, да и мельница отдает силу, когда турбины и без того слабы оказались.
— Посмотрите цифры!
— Цифры! Не беспокойся, цифры-то я посмотрел. Цифры цифрами, а мне этот дух ваш не нравится. Форс, мотовство! Дай вам волю, так вы все растранжирите, все по ветру пустите. Оказывается, ты для конного завода нового производителя купил?
— Да, купил.
— Сколько дал?
— Семь тысяч.
Сила Гордеич выразительно засвистал, как бы пораженный ударом, и потом в дополнение к свисту протянул, вздыхая и ударяя себя по затылку:
— Э-хе-хе-хе-хе! Семь ты-сяч! За лошадь! Ты с ума спятил? Лошадники! Собачники! Новые дворяне! Да я бы давно весь этот и завод прекратил. Ничего окромя убытку! Вы думаете, у отца-то денег куры не клюют, что ли? Цены деньгам не знаете! Не знаете, как мы наживали-то. Наживали бережливостью да, нечего греха таить, скупостью! Кто сам капитал наживал, тот это понимает, а вы не наживали и не понимаете. Вы, пожалуй, думаете про себя то, что скряга у вас отец, скупой, мол. А мне что от денег? Какая радость? Только неприятности. Иной раз, кабы право мое было на то, взял бы их да в печку и кинул: пропадай! С собой в могилу все равно не возьмешь.
— Так делайте все сами, — в тон отцу крикнул Константин, — не поручайте никому! Хотел уйти от вас — не пускаете. Хочу делать что-нибудь — по рукам бьете. Что же остается? Лежать, как брат мой лежит? По-вашему, самое лучшее — ничего не делать, стричь купоны. Да ведь это старикам хорошо, а молодым работать хочется! Вечно вы риску боитесь, а без риску и денег не наживешь.
Константин был бледен, взволнован, глаза сверкали, сатанинская гордость сквозила в усмешке и во всей его упрямой позе, обнаруживая в этот момент внезапное сходство сына с отцом.
— Мы наживали, — повысил голос Сила, — а вот вы не наживете, нет! Воспитала вас мать-то не купцами, так теперь уж поздно. Во всякое дело надо сызмальства входить, а не эдак! Ну, как я вам с бухты-барахты большое дело дам? Конечно, вы его провалите! Ведь уже было дело, испытывал я вас: не бывать вам купцами! Мать, все мать виновата! Либеральничала, набивала вам головы черт знает чем. Ну, какой ты купец будешь, какой хозяин? Ты толстовец, землю мужикам хотел по дешевке продать. Да они умнее тебя оказались, уперлись и не купили. Конечно, земля мужику нужна, да ведь не нам эти дела переделывать! Поди, да и раздай все нищим, только наживи сначала. А я коммерсант, я своего задаром никому не отдам. Так вы и знайте! Зарубите себе на носу!
Голос Силы Гордеича, дойдя до предела, сорвался в визгливые ноты.
— Папа, вас мамаша зовет, — тихо сказала Варвара.
— Что там еще?
— Не знаю… Дело!
— Дело! Дело! Знаю я все ваши дела. Небось, ты все эти дела подстраиваешь? Знаю я тебя, либералка, социалистка! Доберусь когда-нибудь и до тебя!
Варвара ничего не ответила, только плоское бледное лицо ее с мужским лбом и большим подбородком окончательно окаменело. Ресницы, задрожав, опустились, но видно было, что за этими опущенными глазами и неподвижной маской бесстрастия скрывается напряженная ярость.
— Что вы, — вмешался Кронид, нервно теребя свою веревочку, — вы только что приехали, в имении целый год не были и, не разобравши дела, безусловно напрасно волнуетесь. Хотя бы насчет электричества: при мельнице оно обойдется дешевле керосина, безусловно лучше и безопаснее. А при покупке лошади я был, денег этих она стоит: ведь это — производитель!
— Да что мне в том, что производитель? — загремел Сила своим могучим голосом, с необъяснимой силой исходившим из его маленькой, приземистой фигуры. — Что мне в этом? Денег чужих не жалеете!
Он энергично плюнул и быстрыми шагами повернулся к выходу, но у двери его нагнал Митя, давно уже порывавшийся что-то сказать дрожавшими от заикания, побледневшими губами.
— Папа, вы всегда раз-драж-жаетесь, а мне б-бы нужно по делу с вами поговорить.
— По делу! По делу!.. А я-то не по делу, что ли, сейчас говорю? Черт вас побери и с делами-то с вашими!
Сила Гордеич остановился в дверях.
— Ну, что еще?
Митя долго заикался, вызывая у всех жалость и волнение за него. Елена зажала уши, уткнувшись в подушку дивана.
— Папа, успокойтесь ра… ради бога! Никак не выберу время… когда вы в настроении… а нужно… и… не могу отложить…
— Ну!
— Эх, папа! Вечный ад у нас, а как бы можно было хорошо жить-то нам всем!
Костя, напряженно следивший за братом, презрительно махнул рукой и отошел в сторону.
— Расчувствовался! — насмешливо кинул он из угла брату, сверкая глазами. — Поговори, поговори по душе! Эх, ты-ы!
— Ну, брат, ничего я у тебя не пойму, — развел руками Сила, — говори толком!
Губы заики задергались, он долго силился что-то выговорить и наконец выпалил с невольной экспрессией:
— Папа, я… же… жениться хочу!
Сила Гордеич изумленно поднял седые брови. В комнате наступила тяжкая, напряженная тишина.
— Жениться? — тихо переспросил старик с подозрительным спокойствием. — Ну что ж, коли хочешь жениться, то и женись. Твое дело. Ведь ты не совета моего спрашиваешь, не разрешения моего, не благословения, а только извещаешь меня о своем решении. Что ж, раз уж ты решил, то мне-то что тут делать, я-то тут при чем? Разве из любопытства только осмелюсь спросить: на ком?
— Папа! — умоляющим голосом продолжал заика, ясно понимая, что отец издевается, и чувствуя себя, как безнадежно утопающий, — папа!
— Ну? — Сила сдвинул брови.
— Я и прошу… разрешения… жениться… на Елене!
Сила сразу отпрянул от сына на несколько шагов и закричал:
— На ком? На ком? Не расслышал я что-то. Ушам своим не верю!
— На… Елене!
— На Елене?! Да ты с ума сошел! Ведь она сестра тебе! Да как же это можно? Да ведь это грех великий — кровосмешение! Кто же это тебе разрешит? Ведь за такие дела под суд отдают, по крайней мере в монастырь на покаяние. Опомнись! Не пойму я, в уме ли ты?
— Мы… любим друг друга, — совсем падая духом, бормотал Митя.
Сила Гордеич оглянул всех присутствующих молниеносным взглядом поверх очков. Все застыли, отвернувшись от этой нестерпимо тяжелой сцены. Варвара ломала руки. Елена в ужасе лежала вниз лицом.
— Чушь! Ерунда! Какая тут любовь? Просто, росли вместе, привыкли — вот и вся любовь.
Сила Гордеич сел в кресло, вынул платок и вытер вспотевшую шею. Лицо его посерело.
Дмитрий, худой, длинный, изможденный, стоял перед отцом в печальной и унылой позе. Старик откинулся к спинке кресла, уперся руками в мягкие локотники, потом наклонился вперед и прошептал низкой октавой:
— А ты знаешь… от близких-то родных… — остановился и тяжело прохрипел: — уроды родятся!
Тут он затрясся от беззвучного смеха, поднял голову и крикнул:
— Пока я жив, не будет этого!
Он вскочил с кресла и, обращаясь к присутствующим, добавил:
— Слышите вы, что говорит этот безумец? Жениться хочет на Елене, на двоюродной сестре! Что это такое? До чего я дожил! Уж если дети никуда не годятся, ни одного нет мне преемника, то думал я, надеялся, что хоть из внуков будет кто-нибудь со здоровой душой: для него живу теперь. О, господи! хоть бы в будущем поколении, хоть бы кто-нибудь из внучков моих мое дело продолжал бы, мою идею, которую никто из вас не понимает! Но где же он? От кого будет, когда тут грозит кровосмешение, вырождение, падение моего дома! Гибнет мой дом! Валится, валится! Что наживал, что собирал — все прахом пойдет!
Сила Гордеич упал в кресло. Голова бессильно свесилась на плечо, руки повисли, как плети: казалось, что старик умирает.
— Вон… с глаз… моих! — чуть слышно прохрипел он.
Варвара кинулась к нему почта с радостью, стала на колени, взяла за плечи.
— Успокойтесь, папаша! — сказала она, но голос у нее звучал притворно и холодно.
Сила открыл глаза, приподнял голову. Усилием воли преодолел припадок слабости и оттолкнул от себя дочь.
— Не верю! — с внезапным напряжением гудел он, задыхаясь. — Никому не верю! Все — чужие… все — враги!
Елена билась в истерике. Остальные сгрудились вокруг старика и заговорили все вместе.
Никто не видел, как в комнату вошла Настасья Васильевна — вся в черном, с бильярдным кием в руке, напоминавшим монашеский посох: что-то зловещее было во всей ее фигуре.
Валерьян и Наташа стояли у обрыва, на высоком, пологом берегу реки, покрытой глубоким затвердевшим снегом. Под гору с обрыва шла накатанная санная дорожка, по которой в праздники катались на салазках деревенские ребятишки. Но теперь, в зимний солнечный день, на реке никого не было, маячила только что отстроенная четырехэтажная паровая мельница, блестевшая под солнцем новенькими, гладко выструганными бревнами, тянулась широкая снежная улица с бревенчатыми солидными избами. За рекой до горизонта развернулась серебристая степь, обрамленная вдали горными отрогами, поросшими сосновым бором. Необыкновенная ширь степного зимнего пейзажа открывалась перед глазами.
Валерьян был в длинной шубе, надетой на один рукав, в высокой шапке с бобровым околышем, Наташа — в коричневой шубке.
Скатившись с горы несколько раз, снова забрались на кручу, глубоко дыша и смеясь от безграничного счастья. Смуглые щеки Наташи горели густым румянцем, на черных бровях и длинных ресницах застряли снежинки. Она лукаво улыбалась и тихонько, незаметно командовала своим женихом. Валерьян смотрел на нее с нескрываемым обожанием. Как большой прирученный зверь — угадывал ее желания, счастливый тем, что может служить ей.
Наташа никогда не была шумной или хохочущей, но ее веселье и счастье светились в тихой улыбке, сквозили в остроумных намеках, которые Валерьян, восприняв на лету, встречал веселым смехом.
Насколько она была нежна и утонченна, настолько он казался простым и первобытным в сравнении с ней. Говорил и хохотал громко, с силой взметнув салазки на бугор, взял ее за обе руки и, легко вытащив из-под кручи, поставил на вершине бугра.
— Какой простор! — шутливо сказала Наташа, махнув по воздуху широким меховым рукавом. — Есть картина такая, вы ее знаете, конечно?
— Еще бы! Старое полотно Репина. Да, здесь действительно простор, ширь. Посмотрите, какие горизонты! Так и хочется сделать что-то большое, подняться на крыльях или на ковре-самолете и пролететь вон там, над тем далеким лесом!
— Вы думаете картинами, художник потому что, — по-детски сказала Наташа. — Сейчас уже вам и ковер- самолет подавай, и, пожалуй, царь-девицу! А серый волк есть у вас, который служит верой и правдой?
Художник засмеялся.
— Серый волк, который верно служит вам, — это я сам! Ведь я дикий был, вольный, никому не подчинялся, любил свою голодную свободу, ненавидел тот мир, в котором нашел вас. Моими врагами были все ваши близкие. А вот случилось как-то, что вы пришли и помирили нас. И я склоняю перед вами свои передние лапы, и мое сердце хочет служить вам. Знаете, открылась мне какая- то другая, новая правда!
Наташа удивленно посмотрела на него.
— Вы в самом деле немного похожи на волка, и походка у вас — волчья.
— А видели вы настоящих, живых волков?
— Очень даже видела! У меня и сейчас есть волк, ручной, на дворе, в амбарушке живет.
— Что это еще за сказки?
— Совсем не сказки! Если хотите — пойдемте, покажу. Прошлой зимой мужик-охотник принес трех маленьких волчат: мать у них убили, а их забрали. Я и взяла из жалости. Сама кормила, играла с ними, любила их, и они меня любили. Такие забавные, совсем как собачата. вместе с собачьими щенками росли! Через полгода большими волками сделались, бегали по деревне вместе с собаками. Правда, овцами стали интересоваться: все просились в овечью закуту. Мальчишку одного укусили, мужики стали жаловаться. Тогда всех трех отвезли в лес. И что же? Двое-то ушли, а третий, самый мой любимый, — Белый Клык называется — в честь героя Джека Лондона, — воротился обратно. Живет и сейчас у нас. Только теперь из амбарушки его не выпускают.
— Любопытно! Покажите мне это чудо: прирученного волка.
— Пойдемте! Довольно кататься, я уже устала, а ведь после обеда всем нам на станцию ехать!
— Да, пора в Питер, Наташа. Там меня ждет моя работа, а после вас я ее люблю больше всего на свете!
Наташа покачала хорошенькой головкой.
— Вы не должны любить меня больше, чем художество. Если я вам помешаю — плохое будет счастье.
— Вы не можете мешать моей работе, Наташа. Одно ваше присутствие вдохновляет меня. Но покажите же мне вашего волка. Это хорошая тема.
Они повернулись и пошли к усадьбе.
Старый дом чернел на возвышенном месте, на берегу замерзшей извилистой реки. Дом царил над всей окружающей ширью, но казался сумрачным и унылым. Окружавшие его акации в серебряной снежной парче казались мертвыми тенями, неподвижно смотревшими в длинные венецианские окна, а широкий двор, обнесенный высокой кирпичной стеной, напоминал старинную крепость или тюрьму. Казалось, что строили этот дом суровые, мрачные люди, не знавшие веселья и счастья.
Наташа легкой походкой пошла впереди, помахивая рукавами своей шубки. Валерьян, запахнувшись в шубу и сдвинув шапку на затылок, вез за собой салазки. Они вошли во двор через широкую, большую калитку. Из сарая в это время вывезли на снег троечные сани, суетились работники, а Кронид в нагольном тулупе внакидку осматривал полозья. Увидев Наташу с женихом, везущим салазки, он засмеялся.
— Гы-гы! Наташа, ты бы села в салазки-то! Пущай Валерьян Иваныч тебя покатает.
— Уже накатались, — ответил Валерьян. — Теперь волка хотим посмотреть.
— Белого Клыка, — подтвердила Наташа. — Я уже три дня его не видела.
— Есть чего смотреть! Волк, так он волк и есть. Сколько волка ни корми, а он все в лес глядит. Вот уедете, так мы его отпустим. Без тебя кто за ним ходить будет? Боятся!
Кронид повернулся к Валерьяну.
— Вы бы, Валерьян Иваныч, если вас интересует, лучше бы наших гончих собак посмотрели: есть у них самый главный, пес-волкодав, ну, что за умница! На удивление! Случается, когда долго охоты нет, или все в город уедут, так он сам охоту на зайцев устраивает. Выбегут всей сворой в поле и по всем правилам облаву устраивают. Собаки затравят зайца и держат его. Тогда главный-то этот подойдет и кушает, а остальные собаки сидят кругом. Что останется — им отдаст. Такой уж порядок у них заведен: сами, без людей охотятся!
— Нет, вы нам сначала волка покажите, Наталия Силовна говорит, что очень уж любит его.
— Гы-гы! А кого ей тут было больше любить, в степи-то в нашей? От безлюдья и волка полюбишь. Василий, отвори амбарушку. Белого Клыка хотят посмотреть.
Василий отпер низенькую дверь, отворил ее настежь и, согнувшись, влез через высокий порог. Валерьян с любопытством заглянул в дверь и невольно отшатнулся, почти наткнувшись на громадного серого зверя, привязанного за ошейник с двух сторон. От неожиданного света и голосов людей волк ощетинился, припал к полу, раскорячив все четыре лапы и поджав хвост, как собака. Только длинная морда с зубами, как у пилы, широкая голова с характерными волчьими ушами и неповоротливая, могучая шея выдавали в нем обитателя лесов. Василий взял его за ошейник и, отвязав веревку, волоком потащил к порогу. Вид у зверя был жалкий и растерянный: по-видимому, он не знал, чего хотят от него люди, но из амбарушки выходить не хотел, упирался, мокрая серая шерсть дыбом стояла на хребте не от злости, а от страха и смущения. Не зарычал и не взвизгнул, как это сделала бы собака, не посмотрел на людей, только молча и часто дышал, приоткрыв длинную пасть с розовым длинным языком и с острыми зубами.
— Клык, — радостно сказала Наташа, — иди сюда, несчастный!
Волк поднял уши и, увидав из-за плеч работников, заслонявших дверь, свою госпожу, вырвался из рук Василия. Клубком мелькнула серая шерсть. Все невольно шарахнулись. Волк одним прыжком очутился у ног Наташи, ласкаясь, как собака. Потом в знак преданности совсем по-собачьему лег на спину, повиливая косматым хвостом.
Валерьян с изумлением смотрел на эту невероятную сцену. Яркое зимнее солнце освещало Наташу сзади, голубая тень от нее лежала на искрящемся морозном снегу: Валерьяну казалось, что от головы девушки излучался синий свет. Наташа наклонилась к покорному зверю и погладила его маленькой бледной рукой.
— Белый Клык, несчастный ты Клык!
Голос Наташи звучал материнским состраданием.
Потом она со смущенным лицом посмотрела на Валерьяна.
— Ну, видели моего воспитанника? Прощай, Белый Клык! Наташа опять наклонилась к волку. — Уезжаю от тебя, уезжаю далеко, а ты в лес ступай, к братьям твоим! Только назад не возвращайся, меня здесь не будет потому что!
— Ну, вот и попрощались с другом. Гы-гы! — засмеялся Кронид. — Оттащите его, ребята, обратно!
Он обернулся к Валерьяну.
— Ну, что, Валерьян Иваныч, видали чудеса? Вот так невеста у вас — укротительница! Смотрите, как бы и с вами того же не было! Гы-гы!
— Да что вы, — сказал Валерьян, снимая шапку и отирая пот со лба. — Никому бы не поверил, если б сам не видал. Наташа, вы или колдунья, или святая!
— Еще чего не скажете ли? — с лукавой улыбкой возразила Наташа. — Ох, уж эти мне художники! Еще, пожалуй, заживо икону нарисуете с меня.
— Гы-гы! — смеялся Кронид. — Вот она какая у нас! А вы и не знали? Впрочем, удивительного тут безусловно нет ничего: волка ежели щенком взять, приручить можно. Мяса ему никогда не давали, и крови еще не пробовал. Одно только странно: ведь его уже отвозили в лес, так нет, опять воротился, проклятый!
— Пожалуйте обедать! — закричала с черного крыльца толстая кухарка. — Папаша ждут и сердютца!
После обеда среди двора уже стояли двое запряженных саней. Большие ковровые — были запряжены тройкой серых лошадей, а маленькие санки — парой вороных, цугом: проселочная степная дорога бывает узкая в этих местах, снежная.
С парадного крыльца на двор вышли отъезжающие и провожающие. Сестра и братья Наташи отправлялись вместе с помолвленными в Петербург. Торопились к поезду на ближайшую станцию, в сорока верстах от имения. Валерьяну дали высокие — выше колен — валенки. Наташа тоже была в валенках и дубленом крестьянском тулупе поверх своей шубы.
Братья и Варвара, все закутанные, уселись в троечные сани, а в маленькие санки посадили Валерьяна рядом с Наташей. На козлах у них сидел широкоплечий, грудастый Василий.
Когда отворили ворота, на крыльцо вышли родители. Кронид суетился около саней, укутывая полстью ноги Наташи.
Сила Гордеич выглядел сумрачно и печально, кутаясь в старую енотовую шубу. Настасья Васильевна нервно курила папироску, держа ее в дрожащих пальцах. Голова старухи тряслась, лицо было сурово, как всегда.
— Ну, с богом! — сказал Сила, крякнув, махнул рукой и отвернулся.
Кучера натянули вожжи. Вперед двинулась тройка, а за ней легкие санки.
— Поезжайте на Кротовку! — кричал Кронид кучерам. — Оврагами не ездите!
Валерьян и Наташа, закутанные до глаз, мчались в вихре морозной пыли вслед убегающей тройке. Зимнее солнце снижалось к закату. Мороз крепчал. Когда выехали за село, в поле на ветру прохватывало таким железным холодком, что дышать было трудно. Лошади мчались, как бешеные. Василий, накрутив вожжи на рукавицы, откинулся назад всем корпусом, но не мог сдержать их необыкновенно быстрого бега. Тройка впереди скоро исчезла в тумане легкой метели. Черные кони, распустив по ветру хвосты и гривы, роняя клочья пены с удил, летели, как бы едва касаясь снега. Валерьян крепко держал Наташу, закутанную как узел, и с тревогой смотрел вперед, опасаясь, как бы Василий не вытряхнул их из саней. Видно было, что кони не слушаются удил. Василий разодрал им губы, и пена летела по ветру розовая, окрашенная кровью. На снегу под копытами тоже мелькала моментально замерзавшая кровь: передняя «засекла» ногу подковой.
Так летели они около часа, все ускоряя быстроту бега. Как на крыльях пролетела мимо них встречная деревня, до которой от имения считалось двадцать верст. Василий уже совсем висел на вожжах, а лошади, в крови и мыле, мчались как бы в ужасе, прижимая уши.
«Что такое, что с ними делается?» — тревожно думал Валерьян, из последних сил придерживая закоченелой рукой Наташу. Собрал весь свой голос, напряг грудь и закричал что-то Василию, сам не помня что. Василий не отвечал, только поворотил обледенелую бороду и мотнул головой. Валерьян всмотрелся по указанному направлению: везде была туманная, белая, как саван, снежная степь, но на горизонте мелькнули три темных силуэта. Сначала он не мог понять, что это такое, но силуэты приближались наперерез: они походили на животных. Может быть, это были зайцы, или собаки…
«Волки! — вдруг озарило его. — Так вот почему нельзя удержать лошадей!»
Вдруг дорога круто начала спускаться под гору к занесенной снегом реке. Со всего маху бешеной скачки их понесло вниз, окатило облаком снежной пыли, в которой на момент исчезло все: лошади и Василий, потом сильно тряхнуло, ударило, и Валерьян с Наташей легко вылетели в снег. Падая, он успел ухватить Наташины валенки, и они остались у него в руках.
С трудом поднявшись на ноги, он увидел Наташу в шерстяных чулках и тулупе, лежавшую на краю проруби. Он бросился к ней, но она уже сама поднялась и сказала спокойно:
— Помогите мне надеть валенки. Я не ушиблась, не пугайтесь!
Василий мчался на своих бешеных лошадях, тщетно стараясь повернуть их обратно.
Едва Валерьян успел обуть свою спутницу, как между ним и ею упало большим живым узлом что-то меховое, серое, пахнувшее шерстью, и на грудь Наташи бросился волк.
— Белый Клык! — радостно закричала Наташа.
Страшный зверь скакал около девушки и, наконец, лег у ее ног.
— Белый Клык! — со вздохом облегчения повторил Валерьян.
Он оглянулся по сторонам. Вдалеке, у перелеска, на снежном бугре виднелись два силуэта, очертаниями напоминавшие Белого Клыка.
Наталья Силовна, наконец, рассердилась. Она топнула на волка ногой и взмахнула рукавом.
— Пошел прочь, Белый Клык! Как ты смел за мной увязаться? Вот сидят твои братья! Марш! марш! Пошел!
Бросила в волка комом снега и указала на горизонт.
В это время издалека донесся протяжный, заунывный вой. Словно отвечая и повинуясь ему, волк медленно, боком, как бы нехотя, побежал в сторону своих воющих братьев и скоро скрылся из виду. Наконец подъехал Василий на укрощенных, взмыленных копях.
— Это был Белый Клык, — сказала ему Наташа.
— А! чтоб ему! — сердцем выругался Василий. — Лошадей-то как перепугал! Ну, садитесь, теперь доедем.
Наташа села в сани, и Валерьян, укутывая ее, заботливо и любовно заглядывал ей в глаза.
II
Сестры, по приезде в Петербург, поселились на Васильевском острове в маленькой квартирке из трех комнат. Жили очень скромно: Варвара продолжала свои занятия в консерватории, Наташа от нечего делать брала уроки на скрипке, но в сущности ничего не делала в ожидании предстоящей свадьбы. Валерьян бывал у них ежедневно. Являясь перед вечером, он или увозил Наташу кататься, или оба, захватив коньки, отправлялись на каток. Каток был любимым развлечением Наташи. Выросшая в деревне, она и здесь, в этом чудовищном гранитном городе, окутанном туманами и почти лишенным солнца, искала привычной для нее природы, стремясь как бы убежать от шума мирового города к тишине родных степей. Правда, в этих степях стоял мрачный дом ее отца, с тяжелым, гнетущим укладом жизни, из которого она стремилась вырваться, сама не зная куда, но только не в безумную сутолоку столицы.
Был разгар зимнего сезона. Валерьян старался развлекать свою невесту: часто привозил билеты в тот или другой театр на интересные спектакли с участием знаменитостей, но Наташа всегда под тем или иным предлогом отказывалась, и билеты пропадали. Однажды общими усилиями, с большим трудом удалось уговорить ее поехать в оперу своей компанией, с женихом, сестрой и братьями, жившими в гостинице и занятыми большею частью ездой на бега. Взяли закрытую ложу в Мариинском театре на спектакль с участием Шаляпина. Вид громадной толпы в переполненном колоссальном театре ужаснул Наташу, Она села в угол за занавеской ложи: казалось, что шум оперы действовал на нее подавляюще. Известный художник, появившийся в ложе рядом с таинственно прятавшейся красавицей, возбудил внимание и любопытство многих из публики. На ложу часто направлялись лорнеты и бинокли. Вид у Наташи был несчастный, испуганный. В первом же антракте она заявила, что у нее болит голова, и попросила Валерьяна проводить ее до извозчика. Сколько ни уговаривали ее, она упорно твердила, что должна ехать домой. Валерьян, бросив театр и компанию, поехал вместе с ней на квартиру, где головная боль тотчас же прошла.
Он не верил в эту боль, но никак не мог понять, почему Наташа так боится людской толпы, что даже убежала из театра, а ведь она так любила музыку. Скоро домой вернулась Варвара, не досидев до конца спектакля. Расстроенный художник уехал, не оставшись ужинать. Едва закрылась за ним дверь, как Варвара, упершись руками в бока и качая головой, рассмеялась.
— Ну, что ты наделала, пень ты косматый? Зачем огорчила жениха?
Наташа опустила голову.
— Не могу потому что. Все его знают, все на него смотрят — и на меня тоже! Позорище! Зачем он так знаменит?
Варвара качала головой.
— Разлюбезное ты чучело мое! Чем же плохо, что за известного человека выходишь? Да я бы на твоем месте вот куда поднялась! Всех бы под свои ноги подтоптала!
— Ведь то ты! — подобострастно ответила Наташа. — Я, когда с ним при людях, не знаю, куда и деваться. Страшно делается. Нет, уж лучше без него как-нибудь поедем в театр.
— За чем же дело стало?
Варвара обняла сестру, посадила на диван и ласково привлекла к себе.
— Глупышка ты еще, дичь степная! Ну, хочешь — поедем на музыку или концерт с братьями или с кем- нибудь из моих знакомых? Только смотри, как бы он не обиделся!
— А зачем ему обижаться? — наивно возразила Наташа.
Варвара засмеялась.
— И то правда! Если обидится, это не беда. Рано ему еще власть-то свою показывать! Мужчины — они всегда так: протяни им палец, так они готовы всю руку отхватить. Ты помучь его немножко, испытай, сильно ли тебя любит, а сама не поддавайся, чтобы не он командовал тобой, а ты им. Вот приедет как-нибудь один мой знакомый, доктор Зорин, — ты знаешь его, — возьмем да и поедем куда-нибудь втроем. Ведь пока еще ты свободна, не замужем, не обязана перед своим повелителем по одной половичке ходить.
Варвара дружелюбно пригладила буйные, пушистые волосы Наташи и продолжала:
— Я тебе вот что посоветую: ну, неприятно тебе рекламироваться невестой известного человека — и не надо. Я знаю, ему хочется тебя показывать всем, а ты на своем ставь, чтобы он немножко поплясал перед тобой. Пускай поревнует чуть-чуть: ничего, это полезно. Если любит по-настоящему, тогда, не беспокойся вытерпит все, будет по твоей дорожке ходить. А ты его на веревочке, на тоненькой ниточке за собой води.
На другой день к вечеру, как всегда, приехал Валерьян. Сестры встретили его весело. Варвара пела романсы, Наташа аккомпанировала. Голос у Варвары был большой, но пела она холодно, без искреннего чувства, которого не было у нее от природы.
Наташа играла на рояле очень хорошо. Чувствовался тонкий вкус, изящество исполнения, блестящая техника. Играла сонаты Бетховена, рапсодии Листа. В особенности удавалась ей своеобразная музыка Грига.
Кончив играть, она в шутку стала показывать фортепианные фокусы. Играла сквозь опущенный чехол рояля.
— Где она училась играть? — спросил Валерьян Варвару.
— Ее учили хорошие учителя. Надо бы ей в консерваторию поступить, но… — Варвара развела руками, — доктора не позволили: нервы у нее…
— Что вам больше понравилось? — обернулась из- за рояля Наташа.
— Конечно, Григ! Этакая сила, глубина! И как выразительно! Помните это место, где в разных тонах один и тот же аккорд красной нитью проходит? Будто в подземных гротах гномы работают, молоточками своими стучат.
Сестры переглянулись.
— У вас, оказывается, большое чутье: вы почувствовали эту вещь, хотя и не знаете ее. Угадали тему.
— Художник потому что! — подтвердила Наташа.
В передней зазвонил звонок.
— Ну, это, наверное, Зорин, — вставая, сказала Варвара: — я его звала сегодня.
Она пошла встречать гостя, а Наташа, по-видимому не обращая никакого внимания на приезд нового человека, открыла рояль и заиграла. Грянули блестящие, бравурные звуки арии из «Кармен». Никогда еще не играла она для Валерьяна бравурных, героических вещей, но теперь зажигающая, волнующая музыка куплетов тореадора жгучим каскадом наполнила комнаты. Струны рояля зазвучали необыкновенно певучим, полным, ярким, горячим и радостным восторгом, от которого невольно что-то загоралось в душе.
Наташа играла, не поворачивая головы, и, казалось, не видала вошедшего. Но Валерьян видел, как под этот бравурный приветственный марш в комнату входил, невольно подчиняясь ритму, красивый, бритый молодой человек, с бледным, чрезвычайно симпатичным лицом, статный, изящный, хорошо одетый. Невольная зависть шевельнулась в сердце жениха. Наташа как будто нарочно встретила этого интересного человека торжественной музыкой, какой никогда не встречала его, Валерьяна. И под эту гремящую, призывную музыку, симпатично улыбаясь, гость шел через всю длинную комнату, в глубине которой, спиной к нему, играла Наташа. Следом за ним с торжествующей улыбкой шла Варвара, странно бледная, в черном гладком платье, придававшем ей вид черной кошки.
Наташа оборвала музыку, обернулась.
Гость стоял перед ней, улыбаясь.
— Как вы прекрасно играете! — слегка наклоняясь к ней, сказал он приятным, нежным голосом.
Наташа вспыхнула и встала с растерянным, смущенным лицом.
— Вы не знакомы? — светским тоном спросила Варвара, показывая на Валерьяна. — Художник Семов, наш друг! А это — доктор Зорин, тоже восходящая звезда!
Зорин поклонился.
— Полноте, не смейтесь! Я знаю, что звезд с неба не хватаю. За честь считаю встретить у вас художника, известного всем и чтимого.
Гость, симпатично улыбаясь и обращаясь то к Валерьяну, то к сестрам, стал говорить всем троим комплименты. Начался легкий салонный разговор между Варварой и Зориным.
Наташа потупилась. Валерьян молчал.
— Отчего вы так печальны сегодня? — с беспечным видом спросила его Варвара.
— Оттого, что мне уезжать пора.
— Великолепно сказано! — восхитился светский гость. — Действительно, уезжать от вас никогда не хочется. Но я, к сожалению, тоже сейчас загрущу: заехал на минутку, сегодня «Кармен», моя любимая опера. Вы не собираетесь?
— Ах, какой вы!. — кокетничала Варвара. — Я не выхожу сегодня: горло болит. Вот разве сестра или Валерьян Иванович?
— Наталия Силовна, поедемте! — вдруг сказал Валерьян.
— Мне не хочется, — тихо ответила Наташа, опуская глаза.
— Ну, я вас прошу!
Наташа отрицательно покачала головой.
Гость улыбался своей замечательной, располагающей к нему улыбкой.
— Поедемте втроем, возьмем ложу!
— В ложу ни за что!
— Ага, сдается! — вскричала Варвара, хлопая в ладоши. — Браво! Просите еще: она ведь у нас принцесса!
— Тогда — в партер.
Наташа покачала головой.
— Куда же? На балкон разве?
— Если вы хотите, — краснея, прошептала Наташа.
— Отлично. Я никогда еще не бывал на балконе, рад исполнить каприз принцессы. Едемте!
Неожиданно для Валерьяна Наташа согласилась. Это уязвило его самолюбие: когда жених просил, она отказалась; попросил человек, которого она в первый раз видит, — поехала.
Варвара сочувственно проводила их до дверей.
Каприз взять места на балконе Валерьян отчасти понимал: балконная публика не будет наводить лорнеты, смущавшие Наташу. Но зачем этот доктор?
На балконе, как всегда, оказалось душно и тесно. В проходе стояла толпа. Взяли бинокль и сели так, что доктор был по одну сторону Валерьяна, Наташа — по другую.
В ожидании начала спектакля Наташа через Валерьяна разговаривала с Зориным, а будущий муж ее начал чувствовать себя лишним. Она поминутно требовала, чтобы он ухаживал за своим соседом, предложил бы ему бинокль, передал программу. Это начинало бесить Валерьяна. Что происходило на сцене, — не слыхал и не видел. В антракте Наташа осталась сидеть, разрешила обоим пойти в фойе. В курительной доктор очень мило болтал всякий вздор и почему-то понравился Валерьяну. В этом человеке было что-то необъяснимо обаятельное, влекущее к нему. Валерьян впервые злился на Наташу, на обожаемую, кроткую, застенчивую Наташу, поведения которой не мог понять. В нем закипало горькое, грустное, обидное чувство, похожее на ревность, но сознаться себе в этом он не хотел. Ведь тогда бы надо возненавидеть доктора, но доктор казался милым, славным светским болтунам. Перед началом второго акта Валерьян намеренно задержался в густой толпе, стоявшей в проходе, и так простоял все действие, оставив Наташу вдвоем с Зориным, испытывая горькое наслаждение в унижении самого себя. Казалось, что Наташа не любит его, увлекается красивым, изящным петербургским фатом, у которого такие светские манеры, такое уменье быть приятным собеседником, обаятельное даже для него, Валерьяна. Ну, что толку, что он известный художник, что любил Наташу столько лет и думал, что любим ею?
Валерьяну давно уже что-то казалось ненастоящим в отношениях Наташи к нему. Была какая-то преграда, какое-то расстояние между ними. Она словно очертила себя волшебным кругом, за который он не мог переступить. У них не было страстных ласк, жгучих поцелуев, кипения крови. Наташе казались неведомыми чувственные волнения тела. Она всегда была тиха и спокойна. Неизменно обращалась на «вы». Как-то не было возможности приблизиться к ней. Валерьян любил ее пламенно, но никогда не встречал ответного огня, не встречал и сопротивления. Она, как жертва, согласилась быть его женой, не испытывая к нему влечения. Похоже было, что за него идут замуж по расчету, без любви. Но какой же тут расчет, когда он бедняк в сравнении с ее отцом? Да и способна ли Наташа к каким бы то ни было расчетам? Конечно, нет! А между тем Валерьян все яснее чувствовал, что Наташа добровольно отдает ему свою жизнь без настоящей любви, о которой, быть может, еще и понятия не имеет, сама не сознавая, что делает. Но вот случайно, когда она уже объявлена невестой, подвернулся другой, более подходящий для нее, и ее сразу к нему потянуло.
Валерьян чувствовал несомненную непрочность своего жениховского положения; почти назначенная свадьба легко могла разладиться. Изящный доктор Зорин, если только захочет, сегодня же может занять его место, да и сам он, Валерьян, пойдет этому навстречу. Чувствовал себя как бы на краю пропасти, и этой пропастью казалась ему женитьба на девушке, которую он безрассудно любил. Слепым, бессознательным, но неотступным чутьем чувствовал, что в его любви не хватает искренней взаимности, что во всем этом скрыта от него какая-то тайна, угрожающая непоправимой бедой.
По окончании действия он тотчас же ушел в фойе, избегая встречи с невестой. Но его разыскал Зорин.
— Наталия Силовна домой собирается и вас ищет, — сказал он очень серьезно. — Ей нездоровится!
— Опять голова? — мрачно спросил Валерьян.
— Говорит, что глазам больно.
— У нее прекрасные глаза, — с прежней мрачностью возразил художник.
Зорин помолчал озабоченно, потом сказал докторским тоном:
— Да. А глаза… Редкий случай в медицине… Ей бы всю нервную систему надо переменить. Впрочем, пойдемте скорее, она ждет!
Валерьян не понял, всерьез или в шутку сказал доктор о глазах Наташи, но разговаривать было некогда. Они шли в густой толпе к выходу.
Наташа стояла уже одетой в давно знакомой коричневой шубке. Великолепные глаза ее были прекраснее, чем всегда, — выражением глубины, печали и обреченности. При взгляде на нее сердце Валерьяна облилось кровью от жалости.
— Проводите меня! — тихо сказала она. — Мне опять нездоровится.
— Ну, а я останусь до конца, — заявил доктор. — Вы просто утомились. Поезжайте, лягте в постель — и все пройдет!
Зорин вернулся обратно, но задержался на лестнице, улыбаясь и кивая им обоим. Когда они скрылись за дверью подъезда, доктор вздохнул, и красивое лицо его приняло озабоченное выражение.
Валерьян и Наташа ехали на извозчике молча. Ночь была морозная, дула метель.
У подъезда квартиры он помог невесте вылезть из саней, позвонил и сказал, протягивая руку:
— Прощайте!
— Разве не зайдете?
— Нет, поздно. Вам нужно поскорее лечь!
Когда дверь открылась, художник сел в сани, а Наташа медленно вошла в прихожую.
В столовой за самоваром сидела Варвара. Наташа почти упала на турецкий диван и лежала молча, с закрытыми глазами.
— А где жених?.. Налить тебе чаю? Есть хочешь?
Варвара говорила беспечным тоном, но украдкой наблюдала сестру.
— Поехал домой. Нездоровится мне. — Наташа сжала голову обеими руками. — Ну, зачем ты научила меня разыграть эту комедию? На нем лица нет!
— Ничего, — иронически возразила Варвара, — пройдет! Не умрет!
— А я — как закрою глаза, так и вижу его! — Наташа, откинув голову, бормотала с закрытыми глазами. — Вот он сейчас приехал, ходит по комнате. Я будто вижу его отсюда. Ах, как тяжело мне, Варя! Он может докончить с собой!
— Пустяки! — беспечно возразила Варвара. — Тебе с лимоном?
Наташа не отвечала. Вдруг она вскочила, выбежала из столовой, накинула шубу и шапку.
— Куда ты, что с тобой? — удивилась Варвара.
— К нему!
— Полно, глупости!
Наташа не ответила сестре, вырвалась из ее цепких рук и скрылась за дверью.
Как безумная, понеслась она на первом попавшемся извозчике, сказавши ему адрес художника.
Квартира Валерьяна состояла из большой мастерской, заставленной картинами, фигурами из гипса, и маленькой комнаты при ней.
Наташа толкнула дверь. Дверь оказалась незапертой.
Валерьян при слабом свете электрической лампочки стоял среди комнаты без блузы, в разорванной нижней рубашке, с исцарапанной до крови грудью. Лицо его было безумно.
— Наташа?! — прошептал он дрожащими губами. И вдруг, бросившись к ней, упал на колени, обнимая ее расстегнутую шубу. — Наташа! — рыдал он. — Наташа! я умереть хотел…
Она тоже встала на колени и, не снимая шубы, с материнским состраданием прижала его голову к своей груди, молча гладила его всклокоченные волосы, а слезы вдруг волной хлынули из ее синих глаз.
Могучий рев Иматры послышался тотчас же, как только поезд остановился в темный, почти беззвездный зимний вечер на маленькой, тихой станции около водопада.
Валерьян и Наташа в числе немногих пассажиров вышли из вагона и с величайшим любопытством озирались кругом.
На перроне слышался непонятный говор. Толпились финны в меховых куртках и шапках с наушниками, с большими висящими трубками в зубах. За фонарями станции в густой тьме горели тусклые огни поселка. Доносился ровный, густой шум водопада. В небе мерцали редкие звезды. Искрился чистый морозный снег. Все окружающее казалось необычным, странным, как сон, обещающий что-то новое, заманчивое.
Сели в высокие санки с бритым, скуластым финном на козлах и велели ехать в «Каскад», не зная, далеко это или близко.
Неказистая с виду, понурая лошаденка побежала неожиданно быстрою рысью. Грохот водопада становился яснее, проехали через мост над самой Иматрой. Он весь дрожал, а в морозной водяной пыли смутно мелькали пенистые, яростно мчавшиеся и с гулом падавшие куда-то тяжелые волны.
Наташа с невольным испугом прижалась к плечу своего спутника, а художник еще долго провожал глазами мелькавший в полутьме водопад.
Ярко освещенный электричеством, невдалеке от моста, на крутом берегу стоял высокий белый замок средневекового стиля, с башнями и полукруглыми окнами.
Извозчик остановился перед освещенным широким подъездом; это и был отель «Каскад». В тепло натопленном вестибюле их встретили люди в ливрее, отвели небольшой красивый номер с двумя кроватями, обставленный с невиданным для них, нерусским комфортом, Оставшись вдвоем, парочка долго стояла у большого квадратного окна, выходившего на Иматру. Шум ее доносился глухо. При отблеске огней смутно мелькали, как живые существа, белые космы стремительно мчавшихся волн.
Вдруг по этим волнам с моста ударил широкий луч электрического света, потом сменился голубым, зеленым, оранжевым.
Разноцветные лучи освещали несущийся пенный поток, который бесновался в гранитных, покрытых снегом, крутых берегах.
— Что это такое? — спросила Наташа.
— Это освещают водопад рефлектором для удовольствия туристов.
— Пойдем туда!
— А вы не устали?
— Нет, я уже отдохнула. Надо же посмотреть, ведь красиво!
Надели шубы, спустились вниз и по снежной гладкой дороге направились к мосту.
Художник чувствовал себя успокоенным. Наташа обращалась с ним доверчиво, с такой дружеской лаской, что, казалось, рассеялись его мучительные сомнения в ее любви.
Через неделю была назначена свадьба. И все же в их отношениях оставалось что-то странное, неясное. Казалось, что если бы Валерьян вдруг раздумал жениться и заявил об этом, Наташа приняла бы такое заявление молча и покорно, не вымолвив ни слова. Казалось, что в ее молчаливой, скрытной душе не было человеческих страстей и любила она не так, как любят обыкновенные женщины, а только сострадательно спускалась к его земной горячей любви из какого-то другого мира.
Они остановились на мосту у перил, с невольным ужасом глядя на Иматру во всей ее свирепой красоте. По другую сторону моста, между снежных берегов спокойно плыла черная небольшая река, а там, куда смотрели они, она с грохотом свергалась с невысокого, отвесного уступа и с потрясающим ревом неслась, вся кипящая и белая от пены, по заметному уклону все дальше вниз, как бы стремясь вырваться из гранитных берегов, покрытых до самых волн глубоким снегом. Под причудливым, ярким светом широкого дрожащего луча словно скакали черно-пегие бешеные кони с белыми косматыми гривами и ржали чудовищным ревом. Они мчались бесконечным неудержимым табуном, нагоняя друг друга, теснясь, вздымаясь на дыбы в ныряя в черную бездну. Потом снова выскакивали, со звоном обрушивались друг на друга и, мелькая волнистыми гривами, уносились в черную ночную даль. Не было им конца.
Не утихала дикая энергия стремительного бега. Словно первобытная лава скачущих центавров беспорядочной и тесной ордой низвергалась откуда-то, мчалась не известно куда и зачем, с ревом, с криками, звоном и тяжким топотом черных копыт и от этого топота сотрясался мост, дрожала земля, а отдаленное эхо соснового бора повторяло смягченным гулом шум бушующего водопада.
Вдруг белые волны словно окрасились кровью в в новом освещении помчались вперед ярко-кровавой рекой.
Наташа тихо вскрикнула и отвернулась.
— Пойдемте! — одними губами, беззвучно прошептала она, потянув его за рукав.
За грохотом водопада Валерьян не слыхал ее слов, но по испуганным, расширенным глазам и невольному движению руки понял, что она подавлена впечатлением.
Они молча сошли с моста, возвращаясь обратно. Как раз в это время лучи рефлектора погасли, ревущая Иматра мгновенно погрузилась в черную тьму.
— Что означает слово «Иматра»? — помолчав, спросила Наташа.
— Мачеха. Или, кажется, — теща! — засмеялся Валерьян. — А по-моему — это сама жизнь!
— У меня голова закружилась.
— Действительно, шумная музыка! Все-таки она прекрасна в ярости своей.
Придя в свою комнату, они долго сидели перед пылающим камином. Наташа сидела, обхватив колени и смотря на угасающие угли. Ее глаза были неподвижно устремлены на огонь, и в них отражались красные точки углей, медленно покрывавшихся пеплом. Она как будто отсутствовала, не замечая подле себя Валерьяна.
Он не решался прерывать ее молчания, удивленный позой и чуждым, застывшим лицом. Любимая девушка была теперь еще более непонятной. Казалось диким, что через неделю она станет его женой.
— Наташа!.. — словно выдохнул он дрожащим тихим голосом.
Она медленно повернула к нему лицо свое, которое показалось ему теперь особенно дорогим.
— Любите ли вы меня? Подумайте, спросите себя, пока не поздно! Через неделю наша свадьба, а между тем… — Голос его оборвался.
— Да, люблю, — просто ответила она.
— За что?
— За то, что вы меня любите. Вы не обманете, не измените. Вы столько лет меня любили! Вы единственный человек, который любит меня! Больше я никем не любима. Как же мне?..
Она, недоговорив, замолчала.
— А мне кажется, что вы по-детски любите, еще не знаете любви, не пробудились для нее. Кто знает, меня ли вы будете любить, когда любовь проснется? Ведь она, как цветок, может расцвести — или завянуть. Я что-то предчувствую, от чего-то страдаю, что-то между нами не то, не так…
Наташа с удивлением взглянула на него.
— Наташа! — вскричал он, ринувшись к ней с мучительным страданием в голосе и лице. — Откажитесь от меня! Я, должно быть, не стою любви.
Она, как и прежде, привлекла его голову к себе, с материнской нежностью покрывая его лоб и щеки мелкими, маленькими поцелуйчиками, гладила его волосы.
— Валечка! Валечка! Ну, что вы мучаетесь? Из-за чего терзаетесь? Супруга у вас будет любящая, верная…
Эти наивные детские поцелуи яснее слов сказали Валерьяну, что Наташе неведома страсть, что она — или ребенок, или не от мира сего.
Камин догорел и погас. В комнате было бы совсем темно, если бы в окно не светила взошедшая луна. При лунном свете лицо Наташи казалось призрачным.
Она ушла за разделявшую комнату на две половины плюшевую занавеску, где стояла ее кровать. Задернула занавес и легла в постель.
Валерьян долго не спал, тревожимый только что пережитой сценой, лунным светом и шумом водопада. Скоро он услышал ровное, спокойное дыхание заснувшей Наташи. Тяжелые, тревожные мысли не давали спать. Итак — свадьба решена. Он женится на обожаемой, горячо и давно любимой девушке, но не испытывает от этой мысли счастья. Какое-то необъяснимое, смутное предчувствие тяготило его. Чувствовал, что Наташа несчастна, но не мог понять — отчего. Наконец мысли его спутались, и он заснул.
Снился Валерьяну странный, грустный сон. Приснился знакомый, родной город на Волге, но город был полуразрушен войной. Слышался неумолкаемый гул пушечной канонады. Город брали штурмом. Валерьян бежал по улицам, отыскивая дом, в котором осталась Наташа: нужно спасти ее, вытащить, увезти из погибающего города. Он подходит к знакомому дому: двери и окна раскрыты настежь. Вбегает в обширные комнаты, но все они полны мертвых людей, лежащих один на другом. Увидал отца Наташи, братьев. Все были мертвы. Он ходил из комнаты в комнату, зная, что Наташа здесь, и наконец нашел ее: она лежала между скорченных трупов. Припал к ней, обнял, прижал к своей груди, приник устами к ее устам: она оживет, он это знает… «Проснись, Наташа, проснись же!» — кричит он и опять припадает к ней бесконечно долгим поцелуем: всю силу души, всю любовь, всю волю вкладывает он в этот поцелуй. Наташа открыла глаза и чуть слышно сказала: «Бегите отсюда! Война в этом городе, чума в этом доме!» Тут она снова упала, и голова ее бессильно повисла, как у мертвой птички. Пушки грохотали. Валерьян проснулся.
Шумела Иматра. В окно светила заря.
Валерьян сел на кровати, закурил папироску, нащупал ногами туфли, тихонько встал и подошел к окну. Сердце все еще бурно колотилось. Страшный сон стоял перед глазами. За занавеской слышалось тихое, ровное дыхание спящей. Валерьян долго смотрел на белый поток Иматры, уносившийся к далекому лесу. Сосновый бор стоял на горизонте, высокий с одного края и постепенно понижаясь к другому, похожий на гигантскую арфу с золотистыми соснами вместо струн. В лесу отдавался далеким аккордом гармоничный шум водопада.
Венчание было назначено в последнее воскресенье перед масленицей. Это событие совпало с получением Семовым высшей премии (поездка за границу) за его новую картину, выставленную на последней выставке в Петербурге.
Решено было, что молодые сейчас же после венчания отправятся в деревню, к родителям Наташи, а оттуда в свадебное путешествие.
— Поезжайте в Италию, в Неаполь! — говорила Семову Варвара. — Пусть она ахнет, когда увидит такую красоту; лазурное море, Везувий! По крайней мере, впечатление на всю жизнь останется. Кстати, используете казенную заграничную поездку.
— Прокачусь и я с вами! — заявил Митя. — Доктора давно меня за границу посылают, да одному ехать несподручно: языка не знаю. А тут Наташа выручит: по-французски смыслит малую толику.
Свадьбу собирались отпраздновать интимно и скромно: после венчания, по желанию Наташи, заехать всей компанией в фотографию, а оттуда в гостиницу, где их будет ждать свадебный ужин.
В это утро Валерьян ненадолго заехал повидать Наташу. В доме был обычный в таких случаях беспорядок: одевали к венцу невесту. Наташа стояла перед трюмо в белом подвенечном платье, портниха ползала у ее ног на коленях. Приехавшие к свадьбе Елена и Варвара убирали белыми цветами ее густые каштановые волосы.
В жизни Наташи совершалось событие, возлагавшее на Валерьяна серьезную ответственность: от него зависело сделать ее счастливой или несчастливой. Казалось, были все условия для счастливого брака: взаимная любовь, молодость, здоровье, красота, богатство и даже слава.
Чего же желать, за что опасаться? Молодой и талантливый художник в зените успеха женится на богатой красавице по любви!
А между тем при взгляде на торжественные приготовления сердце Валерьяна невольно сжималось от безотчетного чувства жалости и страха. Было страшно, что ему с такой трогательной доверчивостью ввернется чужая жизнь. Свою любовь он считал исключительной, а союз с Наташей роковым и неразрывным на всю жизнь. Жребий брошен, выбор сделан, впереди новая, еще не изведанная жизнь вдвоем. От прежних увлечений в душе остался горький осадок. Счастья взаимной любви не испытывал он прежде; будет ли теперь оно, это счастье, или судьба готовит ему новую и уже окончательную западню?
Он молча стоял у двери и пытливыми глазами смотрел на свою невесту. Заметив его взгляд, она ответила ему грациозной, шутливо-капризной гримаской.
Вмешалась Варвара.
— Ну, не надоедайте ей и не мешайте нам! Все ли готово у вас?
— Осталось только заехать к моему посажёному отцу.
— Вот и поезжайте! По правилу вы все должны быть в церкви раньше невесты.
Валерьян поехал к старику-художнику, своему учителю, у которого еще до сих пор висели его первые, юношеские работы. Старик жил один, давно разошедшись с женой и взрослыми детьми.
Застал у него знакомую «даму из общества», очень красивую. Старый учитель, весь седой, с длинной, густой гривой до плеч и живыми, насмешливыми глазами, встретил его весело.
— Ну, вот и жених! За мной?
— Да! Напомнить. Поедемте вместе в церковь.
— Неужели вы женитесь? — игриво спросила дама.
— Женюсь! — вскричал Валерьян, хватаясь за голову и бегая по комнате. — И радостно, и страшно!
— Конечно, страшно, — согласился старик. — И грустно: женитьба — это похороны таланта! Еду сегодня хоронить талант моего молодого друга.
— Не говорите так! Вы — известный мизантроп, — смеясь, возразила дама. — Не слушайте его! Женитесь, и если жена будет любить вас, вы дадите нам еще лучшие творения. Вспомните Рафаэля, который написал свою Мадонну с собственной жены!.. Ваша невеста красива?
— Очень.
— Поздравляю вас! Кстати, в такой радостный для вас день позвольте обратиться к вам с маленькой просьбой: пожертвуйте благотворительному базару какую- нибудь вашу вещицу!
Валерьян снял со стены небольшой этюд — свою старую, юношескую работу.
— Хотите?
— Буду благодарна, я в восторге! — залепетала дама, протягивая руки к картине.
Но художник спрятал ее за спину.
— Только не даром, но и не за деньги.
— За что же?
— За ваш поцелуй. Сейчас же, сию минуту — и картина ваша!
Дама смутилась. Старик засмеялся.
— Это мне нравится. Покупайте! Картина стоит того. Ведь это его последний свободный поцелуй. Через два часа он будет раб, умрет для свободы, погибнет для искусства.
— Но если мой муж узнает, он убьет меня!
— Как хотите. Тогда я не дам картины.
— Ну, была — не была! Целуйте, только давайте картину!
Валерьян, смеясь, протянул ей рисунок. Дама, взявшись одной рукой за картину, подставила губы, сидя в кресле, но в момент поцелуя быстро повернула голову, и художник еле успел коснуться губами ее губ.
— Это обман! Вы дали ненастоящий поцелуй!
— Но ведь картина маленькая. Довольно с вас! Ох, уж эти мужчины! В день свадьбы продал картину за поцелуй!
— Прекрасно! — смеялся старый художник. — Я понимаю такое настроение — перед прыжком в неизвестное, которое почти всегда оказывается печальным.
— Ах, господа, поймите хоть вы меня, потому что я сам себя не понимаю! Я женюсь, люблю и любим, и все- таки чувствую себя так, как будто с колокольни прыгнул и падаю вниз головой.
Валерьян говорил это шутливым тоном, но было заметно его тревожное, взбудораженное настроение, толкавшее его на странные, эксцентричные выходки.
В два часа он вместе с посажёным отцом приехал в церковь. Компания друзей и братья Наташи в парадных костюмах встретили их у входа.
На клиросе стоял хор. Подошел дьякон в облачении и басом предложил Валерьяну расписаться в книге. Друзья окружили жениха и, отпуская остроты, встали кучкой около колонны. Как всегда в таких случаях, откуда-то набралась толпа любопытных.
В широко раскрытые двери храма входила Наташа с открытой головой, в белом платье и белых цветах. Ее сопровождали Варвара и Елена. Начался обряд…
Опомнились молодые супруги уже в закрытой шестиместной карете, в которую битком набилась веселая, смешливая компания. Шумели, галдели, острили…
Весело мелькали пушистые снежинки. Зимний петербургский день уже смеркался. На улицах и в гостинице горели огни. Вся компания вошла в приготовленный отдельный кабинет из двух смежных комнат, с пианино в одной и накрытым столом в другой.
Все чувствовали себя отлично, даже посажёный отец, сидевший рядом с молодыми, не порицал более женитьбу художника.
Разглагольствовал известный трагик, оказавшийся самым веселым из всей компании. Композитор сел за пианино и с необыкновенным искусством заиграл бравурную арию.
— А ну-ка, сколько нас за столом? не тринадцать, надеюсь? — балагурил веселый трагик.
Вдруг в первую комнату, где играл пианист, вошел новый гость; это был доктор Зорин, которого Валерьян не звал на свадьбу, но позвала Варвара.
Появление доктора напомнило Валерьяну сцену в театре.
Поздно ночью разъехались по домам. Наташа уехала с сестрой, а Валерьян в свою холостую квартиру, как будто была не свадьба его, а прощальная пирушка с друзьями. Странная печаль охватила его, и не верилось, что он женился.
В его одинокой мастерской все оставалось по-прежнему: неоконченные эскизы и гипсовые фигуры мудрецов и богинь встретили своего творца и друга молчаливой знакомой толпой и, казалось, смотрели иронически…
III
Вечером в последний день масленицы все окна в имении Силы Гордеича были ярко освещены. Утром только что приехали из Петербурга молодожены. Из города по этому случаю ожидались гости.
Настасья Васильевна разговаривала в столовой с Варварой.
— Я ведь постылая дочь у отца, — криво усмехаясь, говорила Варвара. — Меня он наверно и в завещания наследства лишит.
— Ну, что написано в завещании, про то даже я ничего не знаю, один Кронид посвящен. Да, небось, в обиде и ты не останешься: не допущу я этого! Завещание он уже не один раз переделывал. Этого еще не доставало, чтобы после нас из-за наследства потасовка пошла!
— Жаль мне вас, мамаша. Всю-то жизнь вы мучаетесь. Замученный вы человек!
— Я исполняю свой долг. Вот хотя бы и Наташу взять: что от меня зависит — все сделаю для нее. Капитала при жизни отца она, конечно, не получит: будет получать проценты. Ну, а там уж как хотят, так и живут: сама себе муженька выбирала, не на кого пенять. Чтобы с домом Черновых породниться, надо что-нибудь иметь за собой. Думала я, не состоится эта свадьба. Ведь им год дали на размышление, а они через месяц окрутились!
— Ничего не вышло, мамаша: были у них недоразумения, да от этого только скорее обвенчались.
— Сухота одна мне с вами! Теперь вот новое сватовство начинается. У Блиновых-то два миллиона считается, единственная дочь! То-то бы хорошо Митю пристроить!
— А как же Елена-то, мамаша?
Старуха жестко засмеялась.
— Не понимаю, о чем ты говоришь. У Блиновой два миллиона, а у Елены что? Да и родство близкое: двоюродные ведь!
У двора глухо зазвенели бубенчики. Варвара подняла голову.
Вошла горничная Кати, хорошенькая, румяная, в белом переднике.
— Ряженые приехали на тройке…
— Ну, это, вероятно, свои. — Старуха встала, голова ее чуть заметно тряслась. — Я пойду распорядиться, а ты встреть их. Да братьев предупреди!
Властно кинула Кате.
— Самовар готов?
— Готов.
— Приготовь чай в столовой да закуски подавай! Поживей вы там поворачивайтесь, сама на кухню приду!.. Ох, не люблю я с гостями возжаться, да делать нечего, приходится! Шуму-то, небось, сколько будет! Скажи Косте, чтобы отца разбудили! Сам Блинов, наверное, приехал.
Настасья Васильевна вышла из комнаты.
В передней слышались голоса и смех приехавших гостей.
Варвара пошла в гостиную, где Митя и Костя играли в шахматы, Кронид в новом пиджаке и крахмальной рубашке ходил из угла в угол, заплетая свою веревочку, а бледная Елена в пышной прическе и лиловом гладком платье грустно сидела на диване.
— Гости приехали! — заявила Варвара.
— Слышим, слышим, — отозвались игроки.
— Эх, маненько игру не докончили!
— Костя, пойди папашу разбуди, мамаша велела!
В гостиную вошли четверо. Приземистый, широкоплечий старик с длинной седой бородой, с волосами в скобку, в сюртуке и высоких сапогах — купец старинного типа; молодой человек в мешковатом костюме и сам мешковатый, с маленькими черными усами, остриженный ежиком — купчик Федор Мельников, давно вздыхавший по Елене. Об этом было известно в семье Черновых. Федор знал, что Елена имеет чувства к своему двоюродному брату, и поэтому бывал у них редко, только по делам, но теперь почему-то приехал с Блиновым. За ними вошли две девушки в маскарадных костюмах и масках. Одна была в дорогом наряде русской боярышни, в кокошнике и светло-голубом атласном сарафане, другая — в ярком цыганском костюме. В первой все сразу узнали дочь Блинова, но цыганку не могли угадать.
Варвара с деланной улыбкой поплыла навстречу гостям и заговорила громко, нараспев:
— Милости просим, гости дорогие! Не забыли нас в деревенской глуши. Хорошо ли доехали? Озябли, чай?
— Как на крыльях летели к вам, — возразил старик, зорко озирая комнату: — на тройке и двух часов не ехали, гладкая дорога!
Боярышня шутливо поклонилась по-старинному в пояс Варваре и Мите, мрачно стоявшему в своей черной студенческой рубашке, подпоясанной узким кавказским ремешком.
— Здравствуйте, молодые хозяева, приютите нас! С дороги сбились.
— Милости просим, боярышня!
— Здравствуй, хозяйка! — смело низким альтом сказала другая маска. — Угости цыганку, цыганка тебе поворожит!
— Что уж мне ворожить? Ворожи кавалерам молодым да холостым!
В дверях появился Костя, усмехаясь и кланяясь.
— Дорогие гости, очаровательные маски! милости просим в столовую, обогреться с дороги.
С шутливой развязностью он предложил мнимой цыганке руку. Митя неуклюже и серьезно взял под руку боярышню, и все гуськом перешли в столовую, где уже кипел на длинном столе самовар, стояли вина и закуски.
— Как здравствуете, Варвара Силовна? Дома ли родители-то ваши? — говорил, присаживаясь к столу, старый купец.
— Благодарю вас, дома все: ждали вас!
— Дома! дома! — раздался гремучий бас Силы Гордеича: он стоял в дверях и, улыбаясь характерной для него лисьей улыбкой, смотрел на гостей поверх очков.
Блинов подошел к нему, раскрывая объятия.
— Кого я вижу! — рычал Сила, троекратно целуясь с приятелем. — Наконец-то!
— Здравствуй, здравствуй, Сила Гордеич, как здоров?
— Да все вашими молитвами, как шестами, подпираемся!
— А я гляжу тебя по всем комнатам: народу молодого много, только главного хозяина нету.
— Здесь я, не иголка, не пропаду! Ну вот, большое спасибо, что пожаловал! Чайку не угодно ли?
— Чайку можно и после. Пущай тут молодежь обзнакомится, а мы с тобой покалякаем покудова!
— И это можно. Пойдем-ка, друг!
Сила Гордеич увлек гостя в кабинет, плотно притворив двери за собой.
— Садись-ка, брат! Нам с тобой есть о чем поговорить!
— Ишо бы! — подтвердил гость, присаживаясь и приглаживая сивую длинную бороду. — Дело, сам знаешь, сурьезное. С тем и приехал, а то рази, стал бы я с молодежью путаться? Другое время бы нашел.
— Дело важное! — согласился, садясь рядом, Сила. — Семь раз примерь, один раз отрежь! Что ж, потолкуем. Да не выпить ли водочки сначала?
— Успеем: разговор-то будет недолгий!
Купец погладил колени, вздохнул, помолчал и сказал, понижая голос:
— Уж я решил, Сила Гордеич!
Сила посмотрел на него пытливо, поверх очков.
— Значит, по рукам?
Блинов протянул ему короткую, толстую, поросшую седыми волосами руку.
— По рукам! У нас — товар, у вас — купец, как говорится.
Сила Гордеич молча и торжественно пожал протянутую руку.
— Ну и слава богу! Век мы с тобой друзьями были, не грех и породниться. В час добрый!
Оба встали.
— Дай бог!
Друзья обнялись, троекратно поцеловались, потом опять сели.
— Значит, принципиально вопрос можно считать решенным, — совсем другим, более спокойным тоном сказал Сила. — Остается деловая сторона. — Он крякнул, пожевал губами. — Могу сообщить, что Дмитрий получает вот это имение!
— И мы не с пустыми руками дочь отдаем! — Гость тоже помолчал, сдвинув седые косматые брови, побарабанил пальцами. — Сто тысяч за ней… покудова… а там… Ведь одна она у нас! С собой в могилу денег все равно не возьмешь.
— Что верно, то верно. Конечно, оформим все это промежду себя.
— Само собой! В руки больших денег молодым людям давать не годится.
— Как можно? Ведь им еще жить хочется. Как раз и проживут! Я Дмитрию на имение документа выдавать не буду, а так — пускай живут.
Блинов искоса взглянул на Чернова.
— Гм! это самое лучшее. Вот именно, что им еще жить хочется. Я тоже капитала в руки не дам, а будет дочь получать ежемесячно, что полагается…
Сила насторожился, посмотрел на друга из-под очков и помолчал. Собираясь не давать своим детям ничего, кроме подачек по своему усмотрению, купцы опасались друг друга, ибо на свадьбу детей смотрели как на коммерческую сделку, в которой оба держали ухо востро.
— Как вы, так и мы! — неопределенно ответил Сила и затем перешел в благодушный тон. — Ну-с, сватушка, с окончанием такого дела не грех бы и выпить, пожалуй. Хе-хе! большое дело порешили; два капитала, две фирмы соединили узами родства и дружбы. Такое будет дело — золотое дно, одно слово! Пойдем-ка спрыснем нареченных, да и в картишки. Чего время терять?
— Хе-хе, правильно! Теперь и я выпью.
Два свата встали и, тяжело шагая, вышли в столовую, крепко затворив кабинет за собой.
В это время из-за портьеры другой двери, соединявшей кабинет с зимним садом, неслышно выскользнула Елена.
Бледная, взволнованная, ломая пальцы белых тонких рук, она некоторое время смотрела вслед ушедшим, потом, как птица в западне, закружилась по комнате; она металась по ней, то подходя к дверям, то возвращаясь. и наконец, грустно поникнув, села на диван.
Безвольного Митю просватали за богатую невесту, не считаясь с его чувствами и чувствами Елены. Не такой человек Митя, чтобы бороться, да и она бессильна. Для отцов на первом плане — деньги, а детей засасывает, ломает и тянет вниз это денежное болото — золотое дно.
Ей хотелось плакать, рвать на себе волосы, разодрать шелковое платье, упасть на ковер и биться головой о пол.
Ну, что с того, что она с детства привыкла считать Митю своим женихом, что оба они любят друг друга, а близкое родство не считают помехой? Их воспитывали в имении, вдали от посторонних людей, которых они привыкли дичиться, а детская привязанность друг к другу естественно перешла в любовь. Кого еще, кроме нее, мог полюбить ипохондрик Митя, больной, страдающий заиканием и, как все люди с физическими недостатками, самолюбивый, мнительный, никогда ни с кем не имевший возможности сблизиться, кроме нее. Племянница миллионера, она росла в его доме сиротой-бесприданницей, людей, как и вся семья Силы, не видала в этой золотой клетке. О ком же ей было мечтать, кроме своего двоюродного брата, которого она привыкла любить и жалеть за его беспомощность и одиночество?
Бедный Митя, что он может поделать против железной воли отца-деспота? Уйти вместе с Еленой, обвенчаться без его согласия — немыслимо: отец тогда не даст ему ни копейки, а зарабатывать Митя неспособен. Неспособна и она: так их всех воспитали. Ужас положения детей Силы в том, что все они должны смотреть в отцовский карман. К борьбе за существование никто из них не годится. За стенами этого дома шумит неизвестная, страшная для них жизнь, в которой они тотчас же погибнут, как выброшенные в реку слепые котята. Митю насильно женят, за Костей охотятся невесты, но что же делать Елене? Не сидеть же до старости на чужой шее? Пожалуй, прикажут выйти замуж, за кого найдут нужным. Так уж лучше за Федора Мельникова: он сегодня не спроста приехал, учуял, чем пахнет. Что ж, теперь ей все равно: Федя — так Федя! Может, так оно и лучше будет: он давно любит ее, а за Федора, пожалуй, и дядя не прочь выдать племянницу, стало быть, даст и приданое какое-нибудь. Да и любила ли она по-настоящему Митю? Пожалуй, что прав был дядя: росли вместе, привыкли, вот и вся любовь. Только жалела его всегда. А если жалела, то и теперь пожалеет: не уходить же ему от отца из-за нее на нужду и погибель, когда ему дают жену покрасивее, да еще с миллионами!
В столовой задвигали стульями, слышно, как все пошли в гостиную.
Вдруг в кабинет вошел Федя Мельников и остановился, притворяя за собою дверь.
— Елена Ивановна, вы здесь? Что с вами?
Елена улыбнулась.
— Ничего особенного.
— Как — ничего? — Федор подошел, сел на диван лицом к Елене, на почтительном от нее расстоянии. — Вы какие-то сегодня задумчивые: сидите одни и к гостям не идете. Не рады, что ль?
— Что вы, Федя! Я всегда рада вас видеть. А гости не ко мне приехали, я и сама-то здесь чужая.
— Вот тебе и раз! — Федор рассмеялся тонким, заливчатым смешком. — Почему чужая? и как это не ваши гости? Что касается меня, то ведь вы знаете из- за кого сюда езжу!
Елена потупилась.
— Нет, не знаю.
— Знаете, да только никакого внимания не обращаете. Все смеетесь, а мне не до смеху!
Федор вздохнул.
— Я не смеюсь, — серьезно сказала Елена.
— Эх, Елена Ивановна, простой я человек, необразованный, пренебрегаете вы мной! И о чувствах моих, — Федя ударил себя в грудь, — конечно, знаете, только никогда мне прямо не говорите, всегда уклоняетесь. Измучился я! — Большие мужицкие руки Федора дрожали, голос оборвался. — Сейчас у меня такое на душе: либо пан, либо пропал! Не могу больше, скажите мне прямо!.. — Он слегка придвинулся к Елене.
— Что вам сказать?
— Ну, скажите, чтобы я отвязался, исчез!
— Что вы, Федя!
— Измучился! Жизнь не мила! Провалиться мне, что ли, куда-нибудь? Елена Ивановна! я и ехать-то сюда не хотел, но пущай уж один конец! Все равно мне! Не мастер я говорить, но за вас, Елена Ивановна, жизнь отдам: то есть, ежели она вам нужна на что-нибудь — возьмите!
Елена молча смотрела на него глубоким, говорящим взглядом. Она не была красива, но большие серые, выразительные глаза в этот момент были прекрасны.
— Я согласна, Федя, — тихо сказала она.
Федор вскочил.
— Как?! Что?! — закричал он радостно. — Елена Ивановна! Господи! вы что-то сказали, или я с ума сошел?
— Я согласна быть вашей женой — внятно и раздельно, с застывшим лицом сказала Елена. — Так к передайте дяде!
Вскочила, быстро прошла через кабинет в столовую, оставив дверь открытой.
Федор стоял с разинутым ртом и растопыренными руками: у него словно отнялся язык. Кинулся за ней, но ее платье уже мелькало по лестнице наверх.
Из гостиной доносилось пение Варвары:
Гайда, тройка! Снег пушистый, Ночь морозная кругом!..— Елена Ивановна! — жалобно взывал на лестнице тонкий, срывающийся голос Федора, заглушаемый музыкой и пением Варвары…
Из гостиной молодежь перекочевала в обширную комнату зимнего сада. Доносились молодые голоса, пение и взрывы смеха.
В гостиной остались только старики.
Горничная Катя раздвинула ломберный стол, крытый зеленым сукном, положила нераспечатанную колоду карт, приготовляла мелки.
— Ну, карты на столе, пора и за дело! Э-хе-хе!
Блинов благодушно улыбался.
— А что ж время терять? В преферансик, что ли, по маленькой?
— Я только и умею, что в преферанс, — вздыхала Настасья Васильевна.
— И я тоже эту игру предпочитаю. Игра умственная, головным шарикам упражнение, не то, что стуколка, не дай бог азартная игра! А преферанс игра благородная, знай шарики работают! — Блинов постучал себя по лбу.
— Знаем мы эти шарики, — возразил Сила. — В прошлый раз разъехались перед заседанием на часок, а просидели до утра, заседание отменили, лошадей отослали: насилу через сутки жены по домам развезли!
— Всяко бывает. По совести говоря, я бы тыщу рублев дал ворожее, чтобы от карт отворотило, но не могу отстать. Тянет, хоть ты что!
— Азартные вы оба, а я этого вашего азарту совсем не понимаю: сыграю игру-две, и скучно станет. Только тогда и играю, когда гости соберутся.
— Какая ты картежница! — с пренебрежением возразил Сила. — Что с тобой играть, что с болваном — все одно! Астрономия у тебя в голове-то.
Настасья Васильевна насупилась.
— Да, астрономия — страсть моя. Когда посмотришь в трубу на звезды — вся наша жизнь пустяками кажется.
— Ну, не все же на небо смотреть, Настасья Васильевна, иногда и до нас, грешных, с облаков спуститесь.
— Я и сама грешница. Небо-то высоко, до звезд далеко. Ну, готово, что ли? — спросила она Катю.
— А четвертого-то партнера и нету! — рычал Сила. — Где же Федор?
— Они с Еленой Ивановной наверх пошли, — ответила Катя.
— Подь, позови его!
Сила Гордеич, Блинов и Настасья Васильевна сели за карточный стол.
Из зимнего сада, смеясь и галдя, вернулась вся компания: Варвара, барышни, Митя, Костя и Кронид.
— Что же будем петь, господа?
— Тройку!
Все запели разрозненным, нестройным хором:
Гайда, тройка! Снег пушистый…В дверях появился Федор с сияющим от счастливой улыбки лицом и заорал не в тон:
Ночь мор-роз-ная кругом!Все засмеялись.
— Замолчи ты! — закричал Костя. — Песню расстроил! Медведь на ухо тебе наступил!
— Федор! — зычно, делая вид, что сердится, крикнул из-за стола Сила: — где ты там пропадаешь? Сидим, ждем его, как путного, а он…
— Сила Гордеич! — с беспричинной радостью раскрывая объятия и смеясь, с возбужденным видом отвечал Федор, подходя к столу: — вот я, здесь! «Не брани меня, родная!» Ха-ха! В ударе я нынче, вроде как без вина пьян, ей-богу! Счастливый нынче день у меня! Берегись, душа, потоп будет!
Он сел на свое место и, сделав широкий жест, заявил:
— Играю сегодня без проигрыша!
Сила Гордеич засмеялся, взглянув поверх очков:
— Ну, это еще бабушка надвое сказала: либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет! Что-то уж больно весел ты. Не хватил ли за галстук? Сдавай-ка!
Блинов постучал себя по большому лысому лбу.
— Ну, шарики, работайте! Рра-ботай-те, шша-рри-ки!
Варвара заиграла вальс. Костя закружился с маской в цыганском костюме, Митя — с боярышней.
В длинные венецианские окна старинного дома смотрели ветки акаций, покрытых снегом, светила зимняя луна, освещавшая безмолвные снежные поля, печально уходившие в безграничную даль.
Блинов проигрывал, горячился, стучал себя по лбу костяшками пальцев и, замахиваясь картой, прежде чем бросить ее, кричал о шариках.
Везло Мельникову: на игорном столе уже лежала перед ним с пригоршню мелкого серебра.
Сила смеялся.
— Везет ему сегодня, как незаконнорожденному!
— Значит, в любви не везет, — шутила Настасья Васильевна.
— Не могу и этого сказать. Когда человеку везет, то уже везет во всем!
— Ой ли?
— Да уж верно!
— Ну, дай бог нашему теляти волка поймати!
— Я сам норовлю, как бы у чужого дяди овечку сманить.
— Ты, я вижу, молодец, да только на овец, а на доброго молодца сам овца! Ну-ка, сдавай, нечего зубы заговаривать!
— Эх, шарики, р-работайте! — волновался Блинов, держа карты веером.
Молодежь все время танцевала. Костюмированные гостьи не снимали масок. Костя танцевал с цыганкой.
В перерыве танцев она сказала, обмахиваясь веером:
— Жарко здесь. Пойдем в сад!
Комната зимнего сада, заставленная широкими пальмами, магнолиями и другими растениями, сверху освещалась матовым шаром, дававшим иллюзию лунного света.
— Очаровательная цыганка, не пора ли снять маску? — насмешливо спросил молодой человек.
— Ах, нет! Ни за что! — играя веером, жеманно смеялась маска.
— Сними, ведь жарко!
— Нет, нет!
— Но почему же?
— Который из вас Дмитрий?
— Ах, ты не знаешь даже, который из нас Дмитрий? Я Дмитрий! Я разговаривал с тобою раз пять по телефону.
Маска звонко засмеялась.
— Почему ты знаешь, что именно со мной разговаривал?
— Да по голосу! Твой чудный голос звучит в моем сердце.
— Ах, какой! — кокетливо воскликнула маска.
Костя был очень красив с раскрасневшимся, смуглым лицом, с черными густыми волосами и маленькими усиками.
— Ну, что же я тебе говорила?
— Гм! Да ведь мы много с тобой рассуждали, много раз! Почти что любовь закрутили.
— Ах, ха-ха! Ах ты, купчик-голубчик! Вот какой ты хорошенький! Ты теперь лучше говоришь, по телефону все заикался!
— Пустяки! Это телефон у нас такой, заикающийся. Сними же маску! Ведь ты обещала мне приехать на этот вечер с тем, чтобы открыть свое имя.
— Ой, страшно! Снять-то я сниму, только не сейчас. Я пить хочу. Угости лимонадом!
— Пожалуйста! Только для этого лучше в столовую пойти.
— Идем!
Едва они вышли, как из гостиной явилась и села на ту же скамейку новая пара: Митя с другой маской.
— Ну, угадайте! — кокетничала боярышня.
— Угадать не трудно, — заикаясь, ответил Митя. — Вы Аня Блинова!
Блинова сняла маску. У нее оказалось хорошенькое, миловидное личико с мягкими чертами и серыми глазами.
— Мы с вами знакомы немножко, — дружеским тоном сказала она.
— Да! встречались когда-то. Я вас по голосу сразу узнал.
— А вот цыганку эту ни за что не узнаете.
— Потому что, вероятно, и совсем ее не знаю.
— Нет, вы разговаривали с ней по телефону. Мне все известно.
Митя покраснел.
— Ах, вон что! Действительно, меня за последнее время интриговала по телефону какая-то незнакомка. Так это она?
— Она.
— Странно: интриговала меня, а ухаживает за моим братом!
Анна расхохоталась.
— Я думаю, что она перепутала: никогда не видала ни вас, ни вашего брата.
— Тем лучше.
— Почему?
— Потому что я другую люблю.
— Разве? — смущенно спросила девушка.
— Между прочим, кто она, эта цыганка?
— Спросите ее сами. Могу только сказать, что она дворянка из небогатой семьи, ищет себе богатого жениха.
— Ах, мой бедный брат!
— Нет, он не бедный, он богатый жених. Как раз то, что ей нужно.
— Насколько я знаю, брат и не думает о женитьбе.
— Вот это всего опаснее, когда не думают. Тут-то и попадают в ловушку. А я бы хотела видеть ту, о которой вы думаете.
— А вы думаете замуж выходить?
— Конечно. Выйти замуж — это значит освободиться от родительского гнета. Ведь мои родители еще потяжелее ваших! Если бы мне сделал предложение один человек, который мне нравится… выйду с удовольствием.
— А кто он?
— Много будете знать — скоро состаритесь!
Из гостиной послышался дружный смех игроков.
— Ну, шша-ри-ки, рра-ботайте! Вы-ручай-те! — азартно кричал Блинов.
— Ваша карта бита! Хи-хи-хи! — тонким смехом валился Федор.
— Вот тебе и шарики! — рычал Сила.
— Идемте танцевать! — сказала Анна, вставая.
Наверху, при лампе с красным абажуром, в ярко освещенной комнате художник писал портрет своей жены. В уголке молча сидела Елена.
— Кто там приехал? — спросила Наташа.
— Блинов с дочерью, Федя Мельников да еще какая-то таинственная незнакомка. На Костю насела. Обе ряженые, в масках.
Вошел Кронид.
— Бросайте ваше дело, Валерьян Иваныч! Там староста пришел с мужиками и бабами: хотят вам хлеб- соль поднести. Да и гостям безусловно надо показаться. Неловко же! Поздравлять вас приехали, а вы тут словно как спрятались.
— Как мужики-то узнали? — удивилась Наташа.
— Не беспокойся, вся деревня знает, без телефона. Это, конечно, делается не для вас, а для дяди.
Валерьян поморщился, складывая кисти и палитру.
— Не люблю я помпы!
— Что вам? — ухмыльнулся Кронид. — Выйдите к зим, скажите речь! Гы-гы!
— Никаких речей! — отмахнулся художник.
— Непременно надо мужиков принять, — сказала Наташа.
— Они в кухне ждут, я им сейчас скажу. Елена Ивановна, пойдемте и вы, — посмотрим.
Все четверо спустились вниз, в столовую. Кронид пошел на кухню и тотчас же вернулся. За ним, теснясь, вошло несколько мужиков, баб и девок. Впереди всех был степенный мужик средних лет в дубленом полушубке, с умным лицом. На деревянном резном блюде с вышитым полотенцем он держал серый хлеб с солью в деревянной солонке.
— Здравствуйте, дорогой наш гостюшка, Валерьян Иваныч! — певуче заговорил он, низко кланяясь. — Дозвольте нам, крестьянам здешней деревни, поздравить вас с приездом! Не обессудьте на нас! Хлебом живем, хлебом и подносим!
Мужик передал блюдо Валерьяну и еще раз низко поклонился.
Художник взял хлеб и покраснел, не зная, что делать.
— Благодарю вас! — пробормотал он.
— С приездом проздравляем! С приездом! — хором закричали остальные, улыбаясь и кивая головами.
Кронид взял у Семова хлеб, поставил на стол, вынул из буфета большой графин с водкой, штоф с наливкой, закуску и орехи на тарелке.
— Проздравляем и вас, Наталья Силовна, с приездом в родительское гнездо, — продолжал мужик, обращаясь к Наташе. — Дай бог вам счастья и всего лучшего!
Кронид налил чайный стакан водки и поднес ему. держа наготове закуску. Староста выпил единым духом, крякнул, возвратил стакан и сказал, кланяясь на обе стороны:
— Покорно благодарим на угощении! Валерьян Иваныч! Наталья Силовна! будьте здоровы!
Кронид стал обносить водкой, наливками и орехами всех остальных.
Валерьян, Наташа и Елена вошли в гостиную. Игроки все еще сидели за картами. Молодежь, собравшись в кружок, чему-то смеялась. Цыганка оказалась уже без маски.
— Вот, позвольте представить! — сказал Сила Блинову. — Мой зять!
Блинов встал и торжественно пожал руку Валерьяну.
— Очень рад познакомиться! Поздравляю вас и Наталью Силовну! Значит, все мы теперь породнились.
— Именно все, — подтвердил Федор. — Елена Ивановна, пожалуйте сюда!
Елена подошла.
— Сила Гордеич! — с внезапным волнением продолжал Мельников, вставая: — я прошу руки вашей племянницы Елены!
Митя вскочил с места.
— Елена! — пробормотал он побелевшими губами.
— Что ж, дело доброе, — благодушно ответил Сила, не замечая волнения Мити. — Я давно ждал. Елена, я надеюсь, ты уже дала свое согласие?
— Да, — опуская глаза, тихо прошептала она.
Ужас отобразился на помертвевшем лице Мити.
Елена быстро пошла к двери, но он нагнал ее, загородив дорогу. Губы его дрожали.
— Митя, не волнуйся! — звенящим голосом сказала Елена. — Все кончено. Так будет для всех нас лучше, милый мой.
Слезы текли по ее щекам.
Сила большими шагами подошел к сыну, крепко взял за руку, стиснул ее, как в железных тисках, зарокотал низким гулом:
— Дмитрий, не срами отца! Все уже решено и подписано.
Митя отшатнулся, вырывая руку.
— Папа, что вы делаете со мной?
Отец повелительно сдвинул седые брови.
— Молчи! После! Ты слышал, что сказала Елена?
Митя вырвался и, шатаясь, ринулся в дверь, больно ударившись плечом о косяк.
Елена выбежала в столовую, где Кронид все еще угощал мужиков и баб. Вслед за ней вышел сияющий Федор, выгреб из кармана полную горсть мелкого серебра, широко размахнулся и бросил в толпу.
IV
Поезд двигался к западу. Из окна вагона виднелись поля с быстро таявшим снегом, журчавшими снеговыми ручейками под теплыми лучами пригревавшего солнца. Конечной целью путешествия был Неаполь.
В Венеции они задержались на неделю. И хотя была холодная, хмурая погода, несколько портившая впечатление от этого фантастического города с каналами вместо улиц, тем не менее строгие старые дворцы и знаменитый дворец дожей произвели на них сильное впечатление.
Валерьян рассказывал Наташе и Мите историю замечательных картин Микеланджело и Леонардо. Он готов был остаться на целый месяц в этом удивительном городе, стоявшем на лоне моря, как великолепный памятник давно умершей жизни, но Наташа, с интересом слушавшая рассказы художника, плохо понимала достоинства потемневших картин. Ее больше радовали голуби на площади святого Марка и черные, легкие гондолы, скользившие по неподвижной глади Гранд-канала, с гондольерами в оригинальных костюмах, правившими гондолой стоя, одним веслом. Венеция была малолюдна, пустынна, тиха и почти безжизненна. Когда же проехались в гондоле по второстепенным, узким и грязным каналам, то увидали бедные кварталы Венеции, ее задворки с развешанным для просушки бельем и жизнь венецианской бедноты. Не верилось, что это и есть знаменитая Венеция, о которой до сих пор приходилось только читать и слышать. А тут еще холодная погода с облачным, серым, совсем не итальянским небом. Через несколько дней мокрая, сырая Венеция с ее облезлыми, почерневшими от времени, мрачными и, казалось, необитаемыми дворцами наскучила путешественникам, и они поехали дальше.
Но как же было проехать мимо Рима, «вечного города», о котором было столько читано и слыхано, не посмотреть Ватикан, собор святого Петра и, может быть, римского папу?
Рим оказался современным европейским городом, шумным, людным, но не таким уж громадным, каким, по описаниям, был он в древние времена. Тибр — не широкая, довольно обыкновенная река: куда ему до матушки-Волги.
Между узких улиц с заурядными современными домами, где по тротуарам бежала самая обыкновенная городская толпа, случайно увидели полуразвалившиеся колонны древнего римского Форума, но, задавленный стенами высоких домов, с кипевшей кругом современной уличной жизнью, Форум показался маленьким и жалким, чем-то лишним и мешающим. Бежавшие кругом люди не обращали на него никакого внимания. Видели развалины Колизея. Правда, это и теперь нечто громадное, но до такой степени разрушенное, грозившее обратиться в колоссальную груду мусора, что нужно иметь большое воображение, чтобы представить себе былую роскошь этого знаменитого здания во времена цезарей и Нерона. Человек, не знающий истории Рима, вероятно, посмотрел бы на Колизей довольно равнодушно и даже, пожалуй, с неудовольствием, как на неубранный мусор или труп, лишенный погребения. Развалины великого прошлого скорее вносили дисгармонию в звучавшую кругом новую, живую жизнь, и нужно было быть антикваром, историком или художником, как Валерьян, чтобы подолгу стоять перед этой картиной смерти и разрушения, воображая на ее месте давно ушедшую жизнь.
Видели Аппиеву дорогу, выстланную большими каменными плитами, между которыми, как символ неистребимости жизни, пробивалась зеленеющая травка. Подивились прочности этого сооружения, уцелевшего на продолжении тысячелетий и никому теперь не нужного. Побывали за городом, в катакомбах первых христиан. Впечатление осталось такое кладбищенское, что поскорее вернулись в город. Зато отдохнули душой в залах Ватикана и соборе Петра. Перед картиной страшного суда Микеланджело долго стояли, пораженные титанической силой, которой все еще дышало неувядающее творение гениального таланта. В соборе приковала внимание могучая статуя Моисея, металлический монумент Петра с мизинцем ноги, стертым поцелуями верующих. Да и самый храм — непревзойденное чудо зодчества — вместе с колоссальностью размеров оставил впечатление света, тепла, легкости благодаря изумительному устройству широкого, светлого купола.
Художник с увлечением рассказывал своим спутникам историю постройки собора гениальными людьми прошлого Италии, о статуе Моисея и печальной судьбе Микеланджело.
Слушая его, можно было подумать, что прежнюю Италию создавали и населяли титаны: какая история, какое искусство, какие были гении и герои!
Великое прошлое Италии до сих пор как бы заслоняет и подавляет Италию современную: полубожественный Леонардо и печальный Анджело остались жить в веках, но давно уже не имеют ни преемников, ни продолжателей.
По выходе из собора увидели громадную толпу, шумящую на площади, запрудившую собою прилегающие улицы и переулки. В толпе виднелись конные полицейские в касках с черными перьями: они наступали на толпу, но она свистала, смеялась, выла, бросала в них гнилыми фруктами.
Это была забастовка — обычное явление в обстановке «свободы», завоеванной рабочими европейских городов.
Подлинная, живая современная жизнь спугнула романтическое настроение туристов, и они уехали из Рима в этот же день.
В Неаполь приехали рано утром, когда еще город спал, а над морем всходило солнце.
Здесь было совсем тепло, как летом.
Остановились в мрачной старой гостинице на набережной. Когда отдохнули, переоделись и напились кофе, позвали гида и решили в его сопровождении пройтись по городу.
У гида было ярко выраженное мошенническое лицо, заросшее синей щетиной. По-русски он говорил только два слова: «все равно», которыми неизменно и невозмутимо отвечал на все вопросы, да и эти единственные слова звучали у него малопонятно: «соромоно». Тем не менее путники вручили ему свою судьбу, ибо не знали итальянского языка.
Вышли на набережную и, следуя за гидом, с любопытством смотрели по сторонам. Все в Неаполе показалось им удивительным. Море было такого же цвета, как и небо, а у берега походило на разведенную синьку. Оно тихо плескалось и сверкало, уходя в бесконечную даль, сливаясь там с таким же нежно-лазурным, безоблачным небом.
Город раскинулся амфитеатром по берегу полукруглого, как серп, Неаполитанского залива, а на одном конце серпа вдали стоял голубым шатром дымящийся Везувий.
С набережной видно было лодочную и пароходную пристань: множество лодок стояло у отлогого песчаного берега, дымил небольшой пароход.
Море чуть-чуть дышало, слабыми волнами набегая на мелкие камешки гравия, шуршало ими и плескало на лежавших около волн оборванных, загорелых людей — «лаццарони».
Гид повернул к пароходу, купил билеты и, не говоря ни слова, сделал своим хозяевам выразительный знак, чтобы они садились. Путники не успели опомниться, как неожиданно поплыли на пароходике к маленькому острову, который, как призрак, едва виднелся на горизонте. В утреннем тумане моря он казался прозрачным голубым кувшинам, лежащим на лазурных волнах.
— Куда мы едем? — спросил гида художник.
— Соромоно! — весело ответил гид и, махнув рукой в сторону острова, добавил: — Капри!
На переполненной палубе, прикрытой от солнца брезентовой кровлей, для увеселения публики ехали уличные певцы и музыканты: гитара, скрипка и мандолина. Кругом парохода шумело и пенилось лазурное море, а они играли, пели и представляли в лицах какую-то веселую музыкальную сцену. «Ямпа! ямпа!» то и дело припевали они, раскачиваясь, ударяя в струны и слегка приплясывая. Трое музыкантов являлись оркестром и хором одновременно, а перед ними на палубе выступали два актера-певца в потертых, грязных костюмах: один в картузе с прямым козырьком, другой в красном вязаном берете, свисавшем ему на плечо. Они изображали певучий комический диалог, причем тот, что был в берете, играл женскую роль. Он юлил выпяченным задом, строил рожи, иногда пел женским голосом и смешил публику. Его партнер — низенький, толстый баритон с ярко-красным, давно не бритым лицом — как бы возражал под звуки струнных инструментов, а тот, игравший, по-видимому, неверную жену, изгибался и комично врал. Наконец на последнюю, раскатистую ноту баритона он уже ничего не нашелся ответить и только в такт музыке вилял.
— Ямпа! ямпа! — с ужимками запел он женским голосом, а хор, терзая струны и делая свирепые лица, громко подхватил этот странный, бравурный припев.
Кругом звенели нежно-лазурные волны, пенились под винтом парохода. Неаполь был уже далеко позади, певцы, не умолкая, пели, а перед глазами, словно со дна моря, поднимался и вырастал скалистый высокий остров.
Часа через два пароход остановился в нескольких саженях от крутого берега, где туристов ожидала целая стая крохотных лодчонок; в каждой из них сидел гребец в матросской рубашке. Окружив пароход, лодочники подняли гвалт, — каждому хотелось поскорее получить пассажира. Лодки были так малы, что в них могло поместиться не больше двух или трех человек. Те, кто успел спуститься по трапу в лодку, ложились ничком на дно ее. Лодка подплывала близко к берегу, а затем исчезала в какой-то дыре, которой сначала никто было не заметил. Ее то и дело закрывало волнами: нужно было уметь проскочить в промежуток времени между приливом и отливом волны. В дыру, как пчела в улей, пролезла и исчезла сперва одна лодка, потом другая, третья, а остальные ждали их возвращения, качаясь на волнах. Лодки, как живые существа, то влезали в дыру, то вылезали.
Наконец дошла очередь и до молодоженов с их мрачным спутником. По примеру других они легли ничком, лодочник сильно ударил в весла, набежавшая волна толкнула лодку в корму, и в одно мгновение она проскочила куда-то. Когда они подняли головы, то увидели, что плывут по маленькому голубому озеру в высоком сталактитовом гроте. Вода в темноте светилась под веслами ярко-голубым фосфорическим светом, освещая сталактитовые своды и причудливые колонны, которые поддерживали этот маленький подземный коридор. Свет воды отражался на стенах и высоких сводах, и от этого они казались сделанными из яшмы или малахита. Путники осторожно заняли свои прежние места в лодке, медленно скользившей по голубому пламени воды. Гребец беззвучно погружал в нее свои весла, и с них, как алмазы, падали сверкающие искры.
Двое нагих, загорелых ребятишек купались между плавающих лодок, и тела их казались лиловыми в прозрачном, синем огне. Они плескались, как рыбы, и, выскакивая из воды, пронзительно кричали, протягивая s туристам сложенные ковшичком ладони:
— Синьоро! Лира, синьоро!
Они просили денег за свое купанье.
— Не правда ли, фантастичные краски? — сказал художник, бросая ребятишкам лиру, за которой они тотчас же нырнули.
— Словно детская сказка! — тихо воскликнула Наташа. — Гномы!
— Черти лиловые! — ухмыляясь в бороду, сказал Митя.
Лодочник повернул лодку обратно к едва заметной щели, в которую проникал дневной свет, и сделал знак, чтобы все легли.
Через момент яркий солнечный свет ослепил их; лазурное море, залитое солнцем, плескалось гибкой зыбью, покачивая пароход, терпеливо ожидавший возвращения туристов. Когда все они забрались на палубу, пароходишко хлопотливо побежал вдоль отвесного, высокого берега к маленькой уютной пристани. Толпа хлынула на берег и рассыпалась в разные стороны. У берега стояло несколько беленьких домиков; от них на высокую гору, зеленую от виноградников, спиралью поднималась шоссейная дорога, а на верху горы, на страшной высоте, белел крохотный, словно игрушечный, городок. Русские туристы не успели хорошенько осмотреться, как на них набросились обладатели оседланных ослов, давно уже с нетерпением ожидавшие туристов, как пауки в тенетах ожидают мух. Ослы имели чрезвычайно симпатичный, смиренный вид и были так заманчиво оседланы, что Наташа не выдержала искушения.
— Ах! какие ослики милые! Поедемте в город на ослах!
— Непременно! — подтвердил художник. Только зам, Наташа, я сам выберу самого смирного.
Он долго рассматривал ослов, и выбор его пал на серого ослика с белой отметиной на лбу, с таким кротким выражением агатовых глаз и нежно-розовых, словно бархатных, ноздрей, что Наташа принялась гладить осла, приговаривая:
— Ослик, миленький, добренький, не урони меня!
— Не осел, а просто хвостатый ангел, — шутил Митя, не изменяя мрачной мины.
— Да, у него такой вид, как будто его сейчас за добродетель возьмут живым на небо.
— Садитесь, Наташа! Уж я-то понимаю толк в ослах! — самоуверенно разглагольствовал Валерьян. — Это самый кроткий, самый умный, самый любимый мой осел. На других ослов не надеюсь, но на этого — как на каменную гору!
Длинному Мите пришлось так согнуть ноги, что, сидя на осле, он походил на большого кузнечика.
Поехали по каменистой дорожке в гору. Сзади каждого осла шел его хозяин и, держа осла за хвост, погонял его прутиком.
Ослу, на котором сидела Наташа, все это, по-видимому, давно уже надоело. Вероятно, он всю жизнь таскал на себе туристов, скрепя сердце позволяя хозяину тыкать себе палкой в хвост, но ослиное терпение лопнуло как раз в этот день и час, когда на осла посадили такую особу, которая никогда никому не внушала страха. Осел то и дело останавливался, не желая сдвинуться с места, а когда на него сыпались крики и удары его хозяина, он делал вид, что это не имеет к нему никакого отношения. Другие два осла, на которых ехали Валерьян и Митя, вели себя примерно, терпеливо и спокойно останавливались во время забастовок своего переднего товарища. Вдруг он начал брыкаться, скакать на одном месте, оборвал узду и упал на колени. Все это было им сделано злостно, с явной целью, чтобы наездница упала через его голову. Седло съехало на бок, и если бы хозяин осла вовремя не подхватил Наташу, она бы непременно упала. Валерьян и Митя соскочили с седел, в тревоге подбежали к Наташе.
— Ну, как хотите, а мы дальше не поедем! — сказала она, смущенно улыбаясь, и продолжала, обращаясь к ослу, который с прежним обманчивым смирением стоял на дороге, пока его хозяин поправлял съехавшее на бок седло: — А еще самый умный!
— Он чувствовал, кто на нем едет! — серьезно сказал брат.
— А я-то на него надеялся! — развел руками художник. — Вы не ушиблись, Наташа?
— Нет, только рассердилась!
— Оно и видно! Я думаю, придется сделать остановку.
Все это случилось напротив «траттории», маленького придорожного трактирчика с открытой террасой на втором этаже, прямо над морем.
Расплатившись с погонщиками ослов, компания поднялась на террасу и разместилась за столом. Спросили вина и устриц. Мужчины, аппетитно покрякивая, глотали устриц, запивая ароматным красным вином, но Наташа боялась даже таких безвредных созданий, как устрицы: она со страхом смотрела, как муж и брат глотали их живьем, и морщилась вместо них.
— Отчаянные! — сказала она, всплеснув руками.
Закажите мне что-нибудь, только не этих ужасных ракушек!
Внизу под балконом раздались звуки струн, и кто-то пел: «Ямпа! ямпа!»
Эта проклятая «ямпа», неумолкаемо звучащая в воздухе Неаполя, всюду преследовала туристов.
Музыка и пение гармонировали здесь с безоблачным небом, ярким солнцем и лазурными волнами.
— О, мио каро! о, каро мио! — запел вдруг невидимый певец, ударяя в поющие, вибрирующие струны. Это был истинный голос итальянца: жгучий, металлический, сильный тенор. В нем было столько палящего южного солнца, он словно обжигал каждым звуком, проникал в грудь, разливаясь по жилам.
Наташа облокотилась на перила и с любопытством взглянула вниз; закинув голову кверху, с мандолиной в руках, играл и пел уличный певец. Он был высокий, в широкополой шляпе, смуглый, с небольшими черными усами. Пел и улыбался. Из-под черных усов сверкали белые ровные зубы, а голос распускался и благоухал, как цветок, обращенный лепестками к солнцу.
Солнце закатывалось. Спускался весенний, странный, волшебный вечер на берегу Неаполитанского залива: голубой отблеск моря отражался в воздухе, и вечерний воздух казался густым голубым туманом. Фигуры людей, дома, камни, лодки и паруса над морем — все было голубое.
Вдали чуть виднелся Неаполь, освещенный вдоль берега двумя рядами брильянтовых огней, и сквозь голубую мглу было видно, как Везувий через каждую минуту показывал красный огненный язык темнеющему небу.
На самой вершине острова, словно ласточкино гнездо, прилепился крохотный беленький городок. Все в нем до смешного миниатюрно: узенькие, кривые улочки, которые можно обойти в десять минут, маленькая старая ратуша и вымощенная истертыми старыми плитами площадь не больше сцены Большого театра — все было как бы ненастоящее. От площади шла вниз отлогая тропинка, постепенно приводящая к берегу моря. Берег походил на застывшую ноздреватую морскую пену или на вычурное кружево, тонко вырезанное из камня, Этот как бы искусственно сделанный берег, с живописными скалами, арками, гротами и художественными очертаниями, казался одним сплошным изваянием. Лизали его ярко-голубые волны, прозрачные, блестящие, пронизанные теплым золотом солнечного света. Пряно и приторно становилось от кричащей яркости красок неба и моря, от роскошной вычурности и затейливости, театральной красивости всего окружающего.
Путешественники поселились в маленьком отельчике «Фаралион», стоявшем почти на вершине острова, при спуске вниз из городка. Хозяин отеля оказался немцем, а Наташа знала немецкий язык и в необходимых случаях объяснялась с ним за всех троих.
Они заняли наверху две комнаты с открытой верандой, откуда видны были весь остров и могучее море, голубым гигантским удавом свернувшееся вокруг.
По утрам художник работал на балконе: писал пейзаж, открывавшийся с высоты «Фаралиона».
На самом высоком месте острова, еще выше городка, над отвесным обрывом берега, видны были художественно-красивые развалины дворца императора Тиберия, когда-то жившего на Капри.
По вечерам, когда спадала жара, отправлялись гулять по острову, всякий раз в различном направлении, и наконец решили осмотреть вблизи живописные развалины.
Долго шли гуськом по каменистой тропинке, пока не подошли к ним близко. На высоте дул сильный теплый ветер. Приходилось придерживать шляпы рукой. На страшной, пустынной вершине, где ветер, должно быть, бушует вечно, печально стояли перед ними мрачные развалины, когда-то бывшие дворцом императора, увековечившего свое имя тем, что он был тираном и совершал преступления.
Ветер яростно выл и бился среди полуразрушенных, обвалившихся стен. В нескольких шагах над самым обрывом стояла католическая часовня с колоколом на столбе.
Валерьян подошел и дернул за веревку. Ветер на лету подхватил печальные медные звуки и унес их в море. Затем художник подошел к самому краю обрыва, отшатнулся назад и махнул рукой остальным, стоявшим в отдалении.
— Посмотрите, Наташа! — громко сказал он, крепко взяв ее под руку и заглушая вой ветра, свистевшего в ушах.
Под ногами их была бездна. Глубоко внизу синело море, так глубоко, что не доходил до слуха шум его, а морские волны казались мелкой рябью. Как мотыльки, летали внизу стаи белых птиц, а еще ниже белели паруса, и казались они меньше птичьих крыльев. Наташа побледнела и отшатнулась.
— Какой ужас! — прошептала она, — Пойдемте скорее назад! Тянет броситься в море!
— Больше не будем, — решил Валерьян. — Пойдемте, отдохнем на развалинах!
Сели на остатках фундамента за уцелевшей стеной, защищавшей от ветра.
Внутри была глубокая яма, засыпанная мусором и щебнем, с полуразрушенными сводами подвала. Площадь, занимаемая бывшим дворцом, была невелика, но, вероятно, большая часть его прежде состояла из террас, портиков и галерей на открытом воздухе.
— Когда-то была здесь роскошь, — со вздохом сказал Валерьян, раскрывая свой альбом и набрасывая рисунок, — происходили оргии, звенели арфы, плясали обнаженные красавицы, лилось вино… и кровь!
Когда они возвращались в городок, на площади обратили внимание на картинную фигуру итальянца в национальном рыбацком костюме: в полосатой фуфайке с открытой шеей и в красном вязаном берете, небрежно свешенном на плечо. Это был красавец с окладистой, черной бородой, чуть перевитой серебром седины. Скрестивши руки на груди, он держал в них четырех маленьких щенят. Шерсть на них была черная, с лоском, лапки и мордочки каштановые, и на каждом вместо ошейника — розовая ленточка. При виде столь умилительных щенят Наташа всплеснула руками. Итальянец заметил это и, показывая своих собак, начал что-то говорить. Не поняв у него ни слова, туристы все-таки догадались, что он предлагает купить их.
— Терьер! — многозначительно повторял он и показал, что у самого большого из них есть уже зубы.
— Ах, — сказала Наташа, — это очень редкая порода черных терьеров! Они очень умные, веселые и умеют ловить мышей.
— Шелли! — отозвался итальянец, поглаживая щенка.
— Шелли? — спросил Митя. — Как будто нехорошо звать собаку именем великого поэта?
— Это ничего! Ведь зовут же собак и лошадей именами героев.
— Кванто коста? — решительно спросил Валерьян.
Итальянец стал показывать на пальцах какую-то цифру: выходило не то двадцать пять, не то в пять раз более.
— Неужели сто двадцать пять лир за щенка? — удивился Митя. — Бросьте, да и куда возить вам с собою собаку?
— За такую породу и больше можно дать, — серьезно возразила Наташа.
— Но куда мы ее денем? Она свяжет нас! — раздумывал вслух художник.
— Повезем с собой в Россию, привезем в деревню и там подарим.
Видя, что Наташа очень хочет иметь итальянскую собаку, Валерьян вынул бумажку в сто лир и подал итальянцу.
К общему удивлению, рыбак сдал сдачи семьдесят пять лир. Всем показалось, что покупка сделана очень дешево.
Наташа взяла щенка на руки и прижала его к своей груди. Всей компанией возвратились в отель.
Поставив собаку на пол, присели около нее на корточки. Щенок был так еще мал, что едва ползал на своих коротеньких лапках. Уши его были умело обрезаны и хвост обрублен около самого корня.
— Назовем его Шелькой! — шепотом сказала Наташа, счастливо улыбаясь.
Все согласились. Шелька ползал, тыкаясь носом, и наконец начал тонко скулить.
— Он просит есть. Дадим ему молока!
Шелька с жадностью набросился на еду, вылакал полное блюдечко молока и залез в посуду передними лапами. Ему дали еще, и он лакал до тех пор, пока не раздулся, как пузырь. Лапы его окончательно разъехались, он беспомощно лежал на брюхе и стонал после еды еще более жалобно, чем до еды.
— Бедный Шелька! — сидя над ним, вздыхала Наташа. — Обожрался, несчастный! Куда бы его положить?
Она обвела глазами комнату, и взор ее упал на широкополую шляпу художника.
— Он будет жить в вашей шляпе! — решила она.
— А как же я ее потом буду носить? Ведь он опоганит ее.
Наташа изумилась.
— Как?! такая собака? эта невинная зверушка?
Мужчины засмеялись и не стали возражать. Шляпа была положена на пол в углу комнаты, и в ней расположился Шелька. Скоро он перестал стонать и заснул.
— Не правда ли, — сказала Наташа шепотом, — как похож он теперь на спящего льва?
— Совершеннейший лев! — лицемерно подтвердил Валерьян.
Вошел хозяин гостиницы и объяснил по-немецки, что сегодня в городе праздник: ежегодно в этот день празднуется основание городка. Действительно, с утра было что-то вроде крестного хода вокруг всего города. На колокольне ратуши звонили в колокола, залпом стреляли из ружей холостыми выстрелами. Жители городка, разодетые по-праздничному, ничего не делая, толпились на крохотной площади. В узеньких, как щели, уличках распевали бродячие певцы.
Под балконом «Фаралиона» раздались гулкие звуки гитары, вторившие флейте. Что-то странное было в этой музыке: казалось, что играют пьяные, что пальцы музыкантов плохо повинуются им. Потом кто-то запел дрожащим, шатающимся голосом, и в песне упоминалось имя Гарибальди.
Хозяин, показывая рукой в сторону пения, объяснил, что это поют старые гарибальдийцы только раз в год, в этот день.
Внизу, под окнами, играли и пели два высоких старика с длинными, седыми бородами. То странное, что было в их игре и пении, что напоминало пьяных, происходило от старости: пальцы не могли уже проворно бегать по струнам и флейте, но вид этих стариков был очень почтенный, внушительный. Это были герои, сподвижники Гарибальди, борцы за Италию. Казалось, что когда-то они были красавцами, эти старые великаны, и должно быть прежде хорошо владели не только струнами, но и мечом. Гитара была огромная, старая, флейта — времен Гарибальди; редко за них брались старики своими дрожащими, старыми руками, но ради торжественного дня взяли свои инструменты и вышли к людям пропеть свою старую боевую песню о подвигах Гарибальди. Казалось, что старые голоса пели: «Празднуйте, веселитесь, люди: Италия едина! Но помните Гарибальди! Помните Гарибальди и нас, последних гарибальдийцев, сражавшихся за свободу!»
Вечером принесли письмо на имя Дмитрия. Оно было написано корявым почерком.
— От папы! — сказал Дмитрий, торопливо просматривая корявые строки.
Наташа с тревогой взглянула на брата: худые щеки Дмитрия то бледнели, то краснели по мере чтения. Прочитав письмо, он протянул его сестре.
— Неприятно, черт побери-то! Не знаю, что и делать. Ехать придется!
— Случилось что-нибудь? — спросил Валерьян.
Митя вместо ответа встал, вынул из комода бутылку с коньяком и налил две рюмки.
— Выпьем, Валерьян Иваныч, на прощанье! Завтра уезжаю!
Наташа прочитала письмо.
— Елена вышла замуж! Ну что ж, ведь это было решено! Сломала себя из-за денег!
— Теперь мне все равно, — мрачно бормотал Митя, — а вот родитель требует приезда моего. Там уж, должно быть, без меня меня женили. Не все по любви женятся, женюсь-ка и я без любви!
На глазах его навернулись слезы, и руки дрожали, когда он снова наливал себе коньяку.
— Митя, не пей много! — с жалостью сказала Наташа.
— Ничего, легче будет! Одиноки мы все и никому-то не нужны нигде! Зачем сюда заехали — не известно. С какой стати мы здесь? Не обессудьте, напьюсь я сегодня!
— Да кто же тебя насильно принуждает жениться? Послал бы всех к черту! — горячился Валерьян.
— Судьба! — возразил Митя. — Папаша давит нас. Ну, довольно об этом! Решено: завтра еду и Шельку возьму с собой.
До поздней ночи сидели они на террасе. Город и весь остров горели разноцветными огнями. На черном фоне безлунной южной ночи то и дело с треском взлетали фейерверки. Золотыми цветами рассыпались они высоко над морем и гасли в черном бархатном небе. Из тьмы неслись веселые голоса, звучали аккорды гитар и трепетно дрожащие струны мандолины.
V
Сила Гордеич сидел на скамейке в саду своего дома. Дом его стоял на главной улице в ряду других купеческих и дворянских домов. Почти все купеческие дома в городе принадлежали прежде дворянам и помещикам, но помещики давно уже приходили в упадок, один за другим разорялись, запутывались в долгах, а дома и имения их за бесценок переходили в руки купечества. Некоторые, наиболее крупные дворянские фамилии еще держались, их особняки торчали тоненькой прослойкой между купеческими особняками; но обитатели дворянских домов жили замкнуто, нигде не показываясь и не играя никакой роли в городе и губернии. Купцы давно уже были владельцами многих дворянских хором в городе и родовых имений в уезде, верховодили в земстве, заседали в городской думе, хозяйничали в банках. Сила Гордеич директорствовал во Взаимном кредите и председательствовал в биржевом комитете. Имя его было окружено всеобщим почетом и уважением, не столько за миллионное состояние — были люди в городе и побогаче его, — сколько за то влиятельное положение, которое он занимал благодаря большому уму, энергии и деятельной натуре. Бывшую свою хлебную торговлю, которой он удачно нажил состояние, Сила Гордеич счел за лучшее прекратить. По его мнению, уже не те были времена: хлебное дело стало рискованным. Он крепко зажал свой миллион, почти не пуская его в оборот, продавал только тот хлеб, который давало имение.
Мечтой Силы Гордеича была выгодная скупка прогоравших дворянских имений. Это дело он считал своевременным, но проводил его с выдержкой, терпеливо выжидая выгодные случаи. Многие дворяне были у него долгу, как в тенетах, и он, как паук, все больше запутывал в них свои жертвы. В любое время Сила Гордеич мог оказаться владельцем нескольких больших имений— целого удельного княжества на Волге, но не спешил о этим делом, не подавал ко взысканиям по закладным, ждал, когда помещичьи усадьбы сами свалятся к нему в руки, как созревший плод.
Дворяне естественным путем шли к уничтожению, на смену им уже и теперь выдвигалось купечество. Этот неотвратимый жизненный процесс совершался на глазах Силы Гордеича, а себя и других ему подобных купцов он считал полезными для будущего России, настоящими добрыми хозяевами русской земли. Сила Гордеич готовил жестокую участь легкомысленным, беспомощным людям, заложившим ему свои имения, и не только не чувствовал угрызений совести, но и считал себя в праве ненавидеть этих безнадежно неделовых, бестолковых недальновидных людей.
Готовясь сделаться в будущем родоначальником крупнейших землевладельцев в России, он стоял теперь во главе коммерческого сословия в богатейшей части государства и в качестве банкира руководил коммерческой жизнью края. Этот маленький, с виду хилый старичок, ежедневно ездивший на старой лошадке в обществ венный банк, где объединились миллионы местного купечества, одним росчерком пера решал большие банковские дела, неизменно проводившие переход помещичьей земли в руки купечества и отчасти кулачества. Такова была жизненная задача этого человека. Революционное движение, издавна существовавшее в России, он ненавидел столько же, сколько и дворянское сословие, не думал, что, когда завершится процесс перехода земли к капиталистам и крестьянским обществам, тогда и революцию можно будет обойти, бросив кусок крестьянину. В своем имении он так и сделал: помог кучке мужиков выгодно купить землю в частную собственность, и богатеи относились к нему с несомненным уважением.
Вообще Сила Гордеич считался хорошим человеком, либеральным, нового образца купцом, равнодушным к религии и духовенству, но и ничего не имевшим против них, врагом дворянства, но другом капитала, желавшим политических свобод исключительно для его преуспеяния. Властный, честолюбивый, но не любивший ничего показного, ненавидевший роскошь и расточительство, он чувствовал превосходство своего природного ума над многими окружавшими его людьми. Основной мыслью его была мысль о соединении капитала с землевладением и таким образом выдвижение капиталистов на первое место в государстве. Банкирскую и биржевую деятельность он любил, уважал и искренно считал общественно-государственным делом.
Свою личную и семейную жизнь стремился согласовать и даже использовать сообразно общим своим взглядам. На сегодня назначена свадьба его сына с дочерью Блинова.
Блинов, подобно Силе Гордеичу, у всех на памяти превратился из ничтожества в миллионера. Пожилые люди еще помнили крикливую торговку на базаре, потом хозяйку магазина с красным товаром, на которой женился Блинов, ее приказчик. Дела быстро шли в гору, и теперь бывшая торговка превратилась в необыкновенной толщины купчиху, которую словно раздуло от спеси и чванства.
Купили бывший дворянский каменный дом-дворец с зеркальными окнами, двухсветным залом для балов и концертов, с высокими потолками, расписанными итальянскими художниками, с зимним садом и с примыкающим к дому огромным парком, выходившим на противоположную сторону квартала. В этом доме, созданном во времена крепостного права, когда-то жили «культурные» рабовладельцы, понимавшие толк в пышности и комфорте. В свое время тут шла широкая жизнь старого барства. Рабы давали средства на многолюдные балы и приемы, когда в двухсветном зале гремел крепостной оркестр и танцевала нарядная толпа в кринолинах и фижмах, в блестящих военных мундирах. Потом уезжали в столицы, делали карьеры, путешествовали по европейским странам, прожигали состояние и наконец, лишившись рабов, выродились и частью вымерли. Доконали их выходцы из «низов», бывшие мужики, торговцы, лавочники, трактирщики, а теперь первой и второй гильдии купцы, вроде Блинова с Черновым, пришедшие на смену старому дворянству.
Бывшая базарная торговка, поселившись в зеркальном дворце, оставалась прежней неграмотной бабой, но зазнавшейся от миллионов, напоминая старуху из сказки о рыбаке и рыбке. Бывший приказчик оставался все тем же длиннобородым мужиком, потребности его оставались прежними, дворец казался ненужным, а венецианские зеркала и художественная мебель ни к чему. На этой мебели сидели люди в нечищенном платье, в грубых сапогах и не знали, что им теперь делать. Блиновы никогда не собирали у себя гостей, да и гости были все такие же, как хозяева, разве только еще проще. «Ну их, гостей-то! — говаривала старуха Блинова. — Какой толк? Только насорят да полы натопчут!»
Сам Блинов находится у нее в подчинении, ибо капиталы принадлежат ей. Живут одиноко и скучно, в огромном безлюдном дворце, похожие больше на сторожей этого великолепия, чем на хозяев его.
Два дома Силы Гордеича оказались как раз рядом с дворцом Блиновых, оба старинные, дворянские, деревянной постройки. Один большой, с венецианскими окнами, с антресолями во втором этаже, другой — поменьше, по другую сторону решетчатых дугообразных железных ворот с висящим над ними, никогда не зажигающимся матовым шаром, Двор общий для обоих домов, широкий, с каменными службами в стиле стародворянской усадьбы; в глубине двора за деревянной изгородью дремлет обширный тенистый, сильно запущенный парк, смежный с парком Блиновых.
Когда сватовство состоялось, в заборе, разделявшем парки соседей, в знак предстоящих родственных отношений была сделана калитка для удобства сообщения.
«Ну, только вряд ли с Блиновой долго надружим: невыносимая баба!» До свадьбы сына Сила Гордеич малый дом, или «тот дом», как принято было его называть, сдавал квартирантам, но теперь дом заново отделали для «молодых». Мебель, зеркала и все убранство дома выписано из Москвы, из лучших магазинов, и уже месяц как с вокзала то и дело привозят запакованные ящики. Теперь все готово: в простенках между окон от пола до потолка стоят литые зеркала без рам, заключенные в тонкую резьбу, резные стулья из грушевого и сливового дерева, на которые страшно садиться толстым купцам и купчихам; поставлены зеркальные шкафы, никелевые кровати, развешаны ковры, гардины, стоит зеркальная горка для драгоценной посуды, где уже красуются подарки будущим супругам: массивный серебряный самовар, подстаканники, чаши, бокалы, кувшины — всякое серебро. В столовой над ореховым обеденным столом — художественная электрическая арматура.
На этот раз ввиду торжественности события Сила Гордеич не пожалел денег на обстановку дома. Это требуется для общественного мнения вследствие видного положения двух миллионеров в городе. Недаром он и купил сразу два смежных дома: для обоих своих сыновей. Одно нехорошо: имение Силы с тысячью десятин чернозема, с паровой мельницей и конным заводом отныне отдано во владение старшему сыну на правах первородства и по случаю выгодной женитьбы.
Но в этом обида для младшего, который до этого управлял имением, трудился, не вылезая из деревни. Теперь его приходится отстранить.
Старик огляделся кругом. Ворота растворены настежь: в доме ждут свадебный поезд. Прислушался. Нет! еще не слышно, чтобы ехали. Жара спала. От громадных старых деревьев, еще помнящих времена крепостного права и дворянских балов в этом саду и доме, падали длинные, прохладные тени. Ветви деревьев таинственно шелестели что-то многозначительное, мудрое, примиряющее — о жизни и судьбе людской.
Все проходит. Были дворяне, пожили, насладились жизнью. Теперь черед новых сильных людей, черед Черновых и Блиновых. Они сильные люди, иначе бы и не создали капитала. А дети? Взять хотя бы Дмитрия: больной, неприспособленный; дают ему Блинову, конечно, только потому, что он — Чернов. Покуда деньги есть, будут жить, как прежние дворяне жили. Вот только больших денег не надо в руки давать: тогда, может быть, приспособятся. Молодуха-то с характером, в мать, копейку зажмет. А дела по имению по-прежнему Кронид будет вести, собаку съел на этом.
У Блинова, кроме дочери, сын еще есть, Михайла. Никчемный человек. Образования совершенно никакого не дали. Он и вырос балбесом. Наследник миллионов, а компания ему — его же приказчики да шоферы. Только и делает, что на автомобиле пьяный катается. Намедни прямо из ворот на чужой забор наехал. Как напьется, отца лезет бить: зачем образования не дал? Вот каковы дети-то пошли! Какая будет смена старым купцам?
От этих тяжелых дум сухое, морщинистое лицо Силы становилось все мрачнее и печальнее. Вдруг зазвенели бубенчики. Сила встал и быстрыми, молодыми ногами пошел к подъезду. Там с лукошком в руках, в старинном штофном платье, с кружевной наколкой на волосах стояла Настасья Васильевна.
— Куда вы пропали? — укоризненно сказала она, передавая ему лукошко с насыпанными зернами хмеля. — Едут уж, встречать надо!
Во двор въехала коляска, запряженная парой вороных рысаков, за ними въехали другие экипажи с поезжанами свадьбы.
Из коляски вышли «молодые»: Дмитрий — во фраке и белом галстуке и Анна — в подвенечном наряде. Они приблизились к старикам и тут же, на крыльце, поклонились им в ноги.
Сила Гордеич всхлипнул, глубоко задышал и осыпал их двумя горстями хмеля по старинному народному обряду, которого придерживалось старое купечество.
Вечером в доме шел пир горой.
Парадный зал освещался сверху матовой электрической люстрой и отделялся от гостиной широкой аркой с двумя белыми колоннами с каждой стороны, а между колонн стояли на тумбах две гипсовые богини; как их звали, никто не знал и не интересовался: дом был куплен вместе с богинями.
В смежном зале, за аркой, за длинным столом во всю комнату, как бы ломившимся от всевозможных кушаний и бутылок, сидело человек пятьдесят гостей. В центре «молодые» и их родители: Сила с женой, длиннобородый Блинов с монументальной своей супругой и Мельников с Еленой.
Официальная часть пира миновала, ужин близился к концу. Громадный разварной осетр на серебряном блюде был наполовину съеден.
Прислуживали клубные лакеи в белых перчатках и фраках. Собравшиеся за столом гости представляли местные торговые фирмы, миллионные капиталы: собрались крупные хлеботорговцы, пароходчики, фабриканты, — все именитое купечество города. Была и молодежь из купеческого круга: два или три студента, дамы, барышни, и между ними Варвара, чувствовавшая себя чужой в этом обществе, так как давно отвыкла от него. Костя, с белым бантом шафера в петлице, беспрестанно подливавший гостям в рюмки, иронически улыбался. Сын Блинова, Михаил, молодой, еще безусый юноша в казакине синего сукна, с бледным, застенчивым лицом и кудрявой головой, мрачно молчал, смущенно улыбаясь в общем говоре веселой компании. Душой общества оказался хлеботорговец Кузин, молодецкая фигура в поддевке и о чуть заметной сединой в бороде; церковный староста, кутила и любитель певчих, был он «на третьем взводе» и ввертывал остроумные словечки, вызывавшие общий смех. Сын его, сидевший рядом с ним, плотный здоровяк лет тридцати, отличался от басистого отца только тем, что говорил вкрадчивым, сладким тенорком.
Выделялся из всего собрания купец-помещик и хлеботорговец Крюков своею богатырской наружностью и необычайною живостью темперамента; среднего роста, с небольшой окладистой бородой, весь выпуклый, словно сбитый на наковальне, он славился как силач и неспоимый пьяница.
Организатором пира, как всегда, был Кронид, имевший в этом деле долголетний опыт. В конце ужина, когда гости перешли на легкие вина и за столом все усиливался веселый говор вразнобой, Кронид встал, постучал вилкой по тарелке, требуя внимания, и сказал, поднимая в руке бокал шампанского:
— Безусловно пью здоровье молодых! Пусть их жизнь будет так же весела, искриста и приятна, как эта вино! Пусть будет она так же светла, как светятся эти огни, и пущай весь их жизненный путь сопровождает удача и счастье! Сегодня они отправляются в путешествие по родимой нашей реке: пусть дорога их жизни течет так же спокойно, как течет матушка-Волга! И пусть не сбиваются с этого пути их молодые резвые ножки!
— Топтать отцовские дорожки! — густым басом рявкнул старший Кузин.
— Пущай, — продолжал Кронид, — в жизненном плаваньи им сопутствует попутный ветер, пусть держатся они поближе к родным берегам и пусть помнят, что всех нас создала и возвеличила Волга! Вот она. здесь — волжская сила, именитое купечество наше! Волга на своих волнах взлелеяла отцов наших, и она же потребует к себе и детей их. Пью за молодость, за будущее наше, которое безусловно зависит от нас! Пусть дом Черновых стоит долго и твердо, и никакие бури не повалят его! Пью за новых детей Волги, за молодых!
— Горько! — закричали всей толпой именитые гости. — Подсластить надо Кронидову речь!
Все потянулись чокаться к «молодым». Анна первая повернула лицо к мужу для поцелуя. Митя смущенно и растерянно поцеловал ее. Потом они, переглянувшись между собой, встали из-за стола и, выйдя из комнаты, поднялись по внутренней лестнице наверх.
Наверху, в большом кабинете с низкими потолками Анна остановилась у стола и тотчас же стала снимать вуаль и искусственные цветы с головы. Дмитрий старательно, но неловко ей помогал.
— Не позвать ли Катю? — заикаясь, спросил он.
— Нет, Митя, не нужно. Сама переоденусь. Спать не стоит: скоро, чай, на пароход?
— Часа через два.
— У тебя все готово?
— Вещи уложены давно, вот только переодеться мне… Да не в этом дело!
— А в чем же?
— Никак папу изловить не могу. Деньги получить! Только заведешь разговор, а он отмахнется, или кто-нибудь помешает…
— Может, забыл?
— Забудет он! Так, комедию ломает. Чтобы до последнего момента довести и поменьше дать. Знаю я его тактику!
— Как же мы без денег-то поедем? Ведь на Кавказ ехать!
— Теребить придется. Тоже, родители называются, что твои, что мои!
— Обмишулили они нас, Митя!
— А что?
— Обвенчали, а денег, как и прежде, опять каждый раз проси да кланяйся!
— Такая у них привычка. Впрочем, я только сейчас переоденусь и опять пойду его ловить.
Он вошел в дверь соседней комнаты. Анна стала снимать с себя подвенечный наряд и вынула из шкафа дорожное платье. Фигурка у нее была небольшая, худенькая, но изящная. Оставшись в нижней юбке и корсете, с обнаженными руками и грудью, она лукаво оглянулась на дверь, ожидая, что муж догадается приотворить ее: хотелось, чтобы он вернулся, обнял и приласкал ее, но Мите ничего подобного и в голову не приходило. Она зевнула и стала одевать глухое суконное платье «бордо» с длинными рукавами.
Через несколько минут Митя постучал в дверь.
— Можно?
— Конечно!
Митя вошел в обычном, любимом своем костюме: в черной косоворотке, подпоясанной серебряным пояском. Высокий, с тонкой талией и широкими плечами, Митя в этом костюме, скрывавшем его худобу, казался красивее и походил на студента. Анна приняла томную позу; повернувшись к нему в профиль и как бы не глядя на него, ждала, что теперь он обнимет. Но Митя пошел к выходной двери, равнодушно оглянулся и, слегка улыбаясь, пошутил:
— Фу ты, ну ты! Подумаешь, принцесса какая! Приходи вниз, а я иду родителя ловить!
Снизу доносились звуки рояля и гул веселых голосов. Молодежь танцевала, а у стариков пошло разливанное море.
Митя спустился по лестнице. В зале кружились танцующие пары. Из-за стола все уже вышли, слышались голоса в саду, а в гостиной за круглым столом продолжала пить пьяная компания: Крюков, младший Кузин и молодой Блинов. Шел спор о физической силе.
— Бороться я ни с кем из вас не стану, — оживленно говорил то тому, то другому Крюков: — боюсь, как бы нечаянно не зашибить. А вот, если хотите, лягу на ковер: ложись на меня любой из вас, и я обязательно исподнизу вывернусь!
— Не вывернешься! — пьяно ухмыляясь, возразил Михаил Блинов. — Из моих рук не уйдешь!
Крюков быстро сбросил поддевку, оставшись в голубой косоворотке, лег на ковер вверх лицом, раскинув руки.
— Да будет вам! — тоненьким голоском тянул Кузин. — Завели волынку!
Блинов тоже снял поддевку и, покачиваясь, засучил рукава шелковой рубахи. Красивое, нежное лицо его, застенчивое в трезвом виде, имело теперь зверское выражение.
Митя махнул рукой и вышел. Отца нигде в комнатах не было: наверно, в саду, при фонарях в карты играет. Он вышел в сад. Прохладный предутренний ветерок шевелил ветвями старых деревьев, пахло акацией и свежей, сырой землей.
В ярко освещенной беседке за двумя карточными столами сидели картежники, но Силы и там не было. Молодежь прогуливалась по тенистым аллеям, слышался здоровый смех.
Странно как-то все вышло! Женился. Что за жена у него — он и сам хорошенько не знает. Ни любви, ни романа — ничего такого не было: женили на богатой, да и все тут. Сам он тоже считается богатым, то есть — отцы у них богатые, а у него пока в кармане денег ни копейки.
Одиноко прошла по аллее Варвара, мрачная и загадочная, как всегда. Знает он, что у нее на душе: всю жизнь прожила в нужде от богатого отца. Что толку, что отец богатый? Скряга, больших денег при своей жизни никому не даст. С голоду не уморит, а так — кланяйся за каждый грош!
Вдруг за поворотом аллеи он услышал рыкающий голос отца:
— Что за ералашь? Куда тебя отпустить?
— Куда угодно, — возразил молодой голос, в котором Митя узнал голос брата, — а только куда же мне деваться? Без деревни я жить не могу. Работал, запущенное имение на ноги поставил, завод и мельницу устроил, а вы все в приданое брату отдали! Куда же мне идти? С берега да в Волгу?
— Брось дурить! Старшему брату по закону так полагается. Ну, что же, что работал? Я тоже работал, и все заработанное берегу для детей. Для меня вы все равны. Придет время, женишься, будет и у тебя имение. Я даже одно имею в виду, скоро будет продаваться. Вот ты бы съездил, посмотрел, да и купил бы. Так нет! Все быком на отца глядишь.
Константин горько засмеялся.
— Но не могу же я, папа, только для того жениться, чтобы имение получить!
— Э, да мне черт с вами! Знаю я, есть одна бедная дворянка… хе-хе-хе!
— Фу, черт! — проворчал Дмитрий, останавливаясь. — Как тут подойдешь денег просить? Момент не подходящий!
Он вышел из-за аллеи, увидел отца и брата, сидящими на скамейке, и темную фигуру сестры, стоящую за кустом: Варвара подслушивала.
Заметив подходящего Митю, она медленно пошла в дом, и вскоре оттуда запел ее сильный грудной голос:
То не ветер ветку клонит, Не дубравушка шумит — То мое… Мое сердечко стонет!..Ворвался в ее пение бас старшего Кузина, и все затянули хором очень печальную песню, совсем не подходившую к веселому свадебному пиру:
Расступись, земля сырая!..Весь хмельной хор с звенящими женскими голосами дружно пел этот щемящий, похоронный напев.
Пение прервал неожиданный грохот, раздавшийся в доме, как пушечный выстрел: словно упала какая-то тяжесть.
Из сада бегом все побежали в комнаты. Побежал я Митя.
В зале около колонны лежала разбитая статуя, превращенная в груду мусора. В комнате стоял гвалт. Младший Кузин и Крюков держали за руки яростно рвавшегося Михаила Блинова.
— Задушу! — ревел он, отчаянно вырываясь и стараясь достать ногой стоявшего за колонной старика Блинова.
Купец был бледен и смотрел на сына злобным, сверкающим взглядом. Дамы убегали к выходу. Толстуха Блинова лежала на диване и, задыхаясь, стонала:
— Осрамил, родимые! Больной он у нас, припадочный!
— Больной? — кричал Михаил, упираясь в дверях, куда его с трудом проталкивали. — А кто виноват? Мы не знали ласки, не знали привета. Вы нас учили всех презирать, кто денег не имеет. Вам только деньги дороги, будьте вы прокляты с вашими деньгами! Изуродовали, изломали нас! Чучелом сделали меня, а сестру продали! Деньги к деньгам! А вот она и не любит его. Да и у него-то нет души. Ведь вам наплевать на душу! Не свадьба это, публичный дом!
Его наконец вытолкнули в коридор и куда-то потащили. Слышалась возня, пыхтение, топот тяжелых ног. Последние слова Михаила доносились уже издали:
— Милые родители! Проклинаю вас!
Гости стали разъезжаться по домам. Некоторые, приехавшие из имений, остались ночевать.
Светало.
Новобрачных провожали на пристань компанией в несколько экипажей. Долго спускались с гигантской горы, на которой красовался златоглавыми церквами старинный город. На Волге у пристани дымился розовый «Самолет», освещенный первыми лучами восходящего солнца. Все провожающие были нетрезвы. Но Сила Гордеич трезвее всех.
Только здесь Митя удосужился наконец попросить у него денег на дорогу.
Сила Гордеич удивленно поднял брови, улыбнулся всем известной лисьей улыбкой и всплеснул руками.
— Что же ты дома-то мне не напомнил? Ну, хорошо, что я случайно бумажник с собой захватил!
И он с видом любящего и доброго отца дал сыну триста рублей.
— Да ведь далеко едем, папа! — укоризненно возразил сын.
— Ну, что же? Доедете до места — телеграфируйте: вышлю.
Когда пароход отвалил, Сила Гордеич долго махал картузом сыну и невестке, стоявшим на палубе.
VI
Лаптевка — село степное, скучное, на открытом, ровном месте среди хлебов, лугов и пашен, на берегу небольшой, извилистой реки.
Дом Крюкова — бревенчатый, в два этажа, с тесовыми воротами, крытыми соломой сараем и навесами, выглядит серо, похож не на помещичий дом, а скорее на кулацкий. Крюкову уже тридцать пять, а он все еще холост и живет один, как медведь в берлоге.
К воротам подкатила бричка, запряженная парой серых черновских лошадей с широкоплечим Василием на козлах и хилым старичком в плоском картузике, дымчатых очках, сгорбленно сидевшим в рессорной бричке.
Ворота отворил сам Крюков в ситцевой рубахе навыпуск, в широких шароварах и высоких сапогах.
— Милости просим, Сила Гордеич! А я тут как тут, на дворе случился.
— Да не надо во двор-то! — замахал руками Сила. — Я — мимоездом: к своим в имение еду.
— Ну, как не надо? Самовар на столе, позавтракаем!
Сила махнул рукой и покорился: все равно не отделаешься, только лишние разговоры.
Он, кряхтя, вылез из коляски, и Крюков потряс своей медвежьей лапой его старческую руку со сведенными от давнишнего ревматизма пальцами. Вошли через крыльцо со двора в нижний этаж, состоявший из трех маленьких комнат. Из коридора шла узкая, крутая лестница наверх.
— Наверх пойдем! — проворно забегая вперед, кричал Крюков. — Внизу-то у меня черная половина.
Наверху были две парадные комнаты: большая, светлая столовая с длинным обеденным столом посредине, венские стулья вдоль потемневших бревенчатых стен, и маленькая гостиная рядом. На столе кипел самовар, стояли закуски.
— Давно я здесь не бывал, Василий Николаевич. Почернел у тебя дом-то, — сказал, присаживаясь, Сила. — Хоть бы шпалерами, что ли, оклеил.
— Еще отец строил! Мне — что?.. Жениться не собираюсь!
— А надо бы! Что живешь бобылем?
— Некогда, Сила Гордеич, совершенно времени нет! Разве как-нибудь между делом?
— Ну, чего слыхать?
— Да вот все разговоры: будет в России не то конституция, не то революция. Ежели только конституция, то это будет на руку нам, купцам. А вот ежели революция придет, о которой даже дочь ваша Варвара Силовна мечтает, вот тогда-то что? Перевернется русская земля, перейдет в другие руки. Потому из-за земли весь сыр-бор загорится, против помещиков все пойдет! А ведь и мы с вами — помещики!
Сила Гордеич сердито махнул рукой.
— Ну, понес ахинею! Либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет! Дворяне и без того зачахли, а мы не дураки, чтобы до революции дело доводить. Да к чему ты это все? — Сила Гордеич насмешливо улыбнулся.
— Я к примеру говорю. Коли двадцать лет про революцию говорят, и не только говорят, но и действуют, и заметьте — при всеобщем сочувствии: есть даже и купцы такие, на революцию деньги жертвуют, — значит, когда-нибудь да будет же она?
Сила Гордеич отмахнулся.
— Я так и знал, что заговоришь ты меня до полусмерти! Дай хоть чаю-то напиться!
— А водочки, Сила Гордеич, неужто не выпьем?
— Что ты?! С утра-то?! И думать не моги! Вот погляжу у тебя хозяйство твое, да и двину дальше… Завел ты о детях, разбередил меня, — продолжал, вздыхая, Сила. — Не знаю — как кто, а я на своих мало надеюсь. Если наследственного лишатся, своего не наживут. Разве что внуки, да это долга песня! Кстати, можешь поздравить: дочка моя Наташа уже годовалого сына имеет!
— Слыхом слыхал. Поздравляю! Никак уж года два после свадьбы-то прошло?
— Побольше.
— Где они теперь свое жительство имеют?
— В Петербурге. Как воротились тогда из-за границы, с тех пор и живут. Был я у них зимой, ничего, живут хорошо. — Сила Гордеич усмехнулся. — Вот зятя имею — известного художника; к лицу ли оно купцу? А все-таки я доволен. Главное для меня — внук, этакий большеголовый, глазастый, оригинальный какой-то, хе-хе-хе! Гляжу на него и думаю: что из тебя выйдет? Может, после нас, когда переменятся времена, на тебя вся надежда будет? Как знать! — Ведь от любимой дочери, Василий Николаевич. Вот и жду, не народится ли новый человек в нашей фамилии, чтобы не выродилась наша-то порода, как ты говоришь, хищных-то духом.
— Не хищных, а сильных!
— Ну, это все равно: кто хищен, тот и законы пишет.
— А пожалуй, что и так оно. Вот я — бобыль. Кажись, куда бы мне богатство? А хочу, Сила Гордеич, при капитале быть: вольготнее при нем. Про вас и говорить нечего: семя у вас сильное, детей много, и внуки пошли, всех надо определить. Я такого мнения, Сила Гордеич, что по нынешним временам от крупных имений надо воздерживаться, лучше заводить по мелочи, в разных уездах и даже в разных губерниях. Вот вы не любите, когда я про революцию будущую напоминаю, а ведь надо и об этом подумать: с мелкими землевладениями спокойнее будет! Я вот в разных уездах еще два хутора имею, и здесь недавно в трех верстах хуторок приспособил. Советую и вам эту систему. При вашей-то мощности и уме, Сила Гордеич, можно всю Волгу, как сетью, покрыть!
Сила рассмеялся.
— Хе-хе-хе! Выдумщик! Революцию какую-то сочинил! Люди — ни сном, ни духом, а он уж Волгу сетью ловить собирается. Хе-хе! Ну, ладно, иди, показывай, какой ты еще хутор завел!
Они встали из-за стола, спустились вниз за ворота.
— Доедем, что ли? — спросил Крюков.
— Ну, чего лошадей маять? Пройдемся!
Вышли на широкий степной бугор, возвышавшийся на берегу реки, которая, сверкая под солнцем, спиралью вилась по лугам. Над безграничной степью сияло торжественное утро. За рекою в высоких камышах и осоке крякали и плескались дикие утки. Вдали виднелись высокие ветлы с какими-то постройками около них.
Приятели стояли рядом на бугре — один в рубахе, богатырского вида, с широкой бородой, развевавшейся по ветру, другой — старый, хилый, сухой, как мумия, с крючковатым носом над седыми, коротко постриженными усами.
— Вот, — радостно крикнул Крюков, протягивая руку к ветлам, — новый-то мой хутор! Называется — «Беркутиное».
Из-за ветел в это время поднялись две большие птицы и, медленно взмахивая длинными крыльями, взмыли над рекой, потом плавными кругами проплыли близко от бугра, сверкая на солнце золотистым отблеском коричневых перьев.
— Беркуты! — сказал Крюков, следя за ними глазами. — Гнезда у них в этих местах.
Сила Гордеич с улыбкой посмотрел на стервятников.
— Ведь вот — хищники! Уничтожать бы надо! Между прочим жалко: гордая птица!
Крюков помолчал и, провожая взглядом удалявшихся хищников, добавил:
— Живучие они! Говорят, подолгу живут!
К позднему обеду Сила Гордеич подъезжал к Волчьему Логову.
Экипаж поравнялся с высокой четырехэтажной мельницей, стоявшей у плотины, на обрывистом берегу реки, поросшем густым тальником. На пригорке виднелся угрюмый дом Силы Гордеича, окруженный старыми акациями, с садом и высохшим бассейном.
От реки бежали ребятишки и бабы, а из ворот мельницы выскочило несколько парней с дубинами и кольями в руках.
При виде коляски они сняли картузы и поклонились хозяину. Сила Гордеич остановил лошадей.
— Что у вас тут такое?
— Да волк пробежал, Сила Гордеич! Из тальника выскочил средь бела дня. Не иначе — шальной! Логово, что ли, тут у него?
— Вон он, вон! — закричали другие, показывая пальцами по направлению к дому.
Серое пятно мелькнуло за изгородью сада и пропало из глаз.
— Что за чудеса! — поднял брови Сила Гордеич: — летом — волк? Неслыханно!
— Вроде как оборотень, — сказал, ухмыляясь, белобрысый парень в кумачовой рубахе.
Сила недовольно махнул рукой.
— Да не овчарка ли от пастухов сбежала? Что зря шумите!
— Нет, Сила Гордеич, — волк: мы близко видали.
Кучер тронул лошадей, и купец, пожав плечами, въехал в растворенные ворота усадьбы.
На крыльцо быстрыми шагами вышел Кронид.
Усмехаясь в рыжую бороду — клином вперед, — помог дяде вылезти из коляски.
— Что у вас тут за волк бегает?
Кронид рассмеялся.
— Гы-гы! Безусловно, волк! Мы все сидим на террасе, а он как махнет через перила да прямо к нам. Оказалось — Белый Клык. Повадился, окаянный, в усадьбу к обеду приходить. Как сядем обедать, он тут как тут! Накормят его — и опять драла в лес! Прямо — чудо.
— Да ведь народ пугается. Удавили бы, что ли.
— Я и хотел.
— Где же он?
— На балконе, кость грызет.
— Черт вас знает, что у вас тут всегда делается! С волками дружбу завели! Куда же мне-то? Я боюсь!
— Гы-гы! Да уж я распорядился: на цепь его по- прежнему посадят.
— И в дом не войду, покудова эту гадость не уберут! Лошадей еще перепугает.
— Василий, убери лошадей в конюшню, да отведите волка в амбарушку!
Василий распряг лошадей и ничего не сказал, только презрительно отвернулся.
На крыльцо вышел Дмитрий. Молча пожал руку отца, потом спросил:
— Хорошо ли доехали, папа?
— Доехал! Хе-хе! вот и я к вам.
Сила Гордеич юмористически ласково улыбнулся, пожимая руку сына, но неподвижное, мрачное лицо Дмитрия не отразило никакого чувства при встрече с отцом.
Кронид, наблюдавший обоих, молча усмехнулся. Ему невольно стало жаль старика: что за бесчувственный человек — Дмитрий! Никого не любит и не может любить, никаких чувств ни к кому не имеет, сам не замечает своей душевной сухости. Таков уж он от природы, да и Настасья Васильевна всех детей так воспитала: с детства осмеивались всякие чувства. Все и привыкли сдерживаться; скрытные дети у Силы!
Отчуждения детей Сила Гордеич как будто не замечал: его душа тоже давно покрылась слоем черствости, а только иногда, когда это было нужно из тактичности, или в подпитии, Сила Гордеич становился прежним самим собою — благодушным, душевным человеком, не переставая быть в то же время себе на уме. Дети всегда опасались отца, не верили в прочность его добродушия; стоило коснуться денег, как все кратковременное благодушие Силы словно ветром сдувало.
Дети невольно побаивались его, видя, как все кругом сгибалось перед этим волевым человеком, как он давил всех и в том числе их самих. По привычке давить — он задавил и собственную семью. Им казалось, что Сила Гордеич эгоистище и деспот, каких поискать! Дмитрий уважал его именно за эти качества, но всегда боялся, никогда не любил и не верил ему даже в добрые минуты откровенности за выпивкой.
Сила Гордеич в сопровождении сына вошел в дом через парадное крыльцо. Кронид, насмешливо улыбаясь, послушал, как они поднялись по лестнице наверх, в апартаменты Настасьи Васильевны. Татарское лицо его выражало добродушное лукавство при мысли, какую ругань, наверное, сейчас поднимет Сила Гордеич. Предвкушая шумную семейную сцену, Кронид гыгыкнул, потом вынул из кармана свою веревочку и глубокомысленно начал заплетать и расплетать ее.
На крыльцо вышел Константин. По его печальному лицу было видно, что он расстроен.
— Ну, что? — насмешливо спросил Кронид, пряча веревочку.
— Папа приехал! — в тон ему ответил Константин.
— Знаю, сейчас его встретил. Я не про то, а — как ты решил?
— Как решил? Уйду на все лето, а может, и совсем.
Кронид улыбнулся язвительно.
— Гы-гы! Где уж, чай, совсем-то? Свобода-то ведь только издали хороша, а с непривычки она — что темный лес. Побегаешь-побегаешь, а как подведет бока — небось, опять назад воротишься. Вон Варвара — бегала от отца, а что вышло? Нет, уж видно, воля-то не всякому впрок, а только тем, кто сызмальства ею дышит. Воспитали вас в золотой клетке, так теперь уж поздно улетать. Ничего не будет! Заклюют вас на воле-то!
Константин вызывающе улыбнулся, губы его задрожали.
— Будет тебе каркать-то, ворон старый! Каркаешь тут! Не меньше тебя я все это знаю!
Он повел плечами в чесучевой поддевке и тряхнул черными волосами.
— Безусловно зря бунтуешь насупротив отца, — хихикнул Кронид.
— Да уж решено. Чего еще подвызыкиваешь? Надоело мне на привязи быть.
С черного хода на двор вышла целая группа людей: толстая кухарка, две горничных, Варвара с детьми и жена Дмитрия.
Все они с любопытством смотрели, как Василий на веревке тащил волка в амбарушку.
Кронид тоже смотрел, подбоченившись и гыгыкая.
— Гы-гы! испортили волка воспитанием! Не может он теперь по-волчьему жить. Свои-то, видно, не принимают, а к людям привык. Живет с волками, а обедать к нам, как в ресторан, ходит. Нет уж, это не волк, а одно несчастье!
Константин отчужденно смотрел на всю сцену издали, задумчивый и грустный, прислонившись плечом к столбу.
Около Настасьи Васильевны вертелся черный терьер Шелька. Породистый пес сделался любимцем старухи и считал себя главным лицом в доме, сопровождая ее в путешествиях по хозяйству. Теперь она кормила собаку из рук маленькими кусочками печенья. Шелька с необычайной ловкостью ловил кусочки на лету, подскакивая на пружинистых, легких ногах.
Вдруг он насторожился, поднял уши и деловито побежал к двери: на лестнице послышались шаги.
— Шелька, на место! — строго сказала старуха.
Пес неохотно повиновался и лег у ее ног, чуть-чуть ворча, настороженно поднимая подрезанные уши.
В комнату вошли Сила Гордеич и Дмитрий.
Шелька вскочил, еще не решив, лаять или подождать: Дмитрия он любил и по ночам спал у его ног на кровати, никого не подпуская к нему утром, пока не проснется, но только что приехавшего старика видел в первый раз и, не решаясь залаять, слегка зарычала. Сила, по-смотрев на пса, выразительно сказал своим рыкающим голосом:
— Какая скверная собака!
— Р-р! — злобно ответил ему Шелька с дыбом поднявшейся шерстью на хребте.
— Вы не очень-то! — сказала старуха, протягивая мужу руку. — Он ведь понимает русский язык, даром что итальянец. Умный пес!
— Умней другого человека-то! — подтвердил Дмитрий.
Шелька продолжал рычать.
— Экую гадость завели! — шутливо сказал Сила.
— Р-р-р! — опять яростно отозвался Шелька. Шерсть его все еще стояла дыбом. Злющий пес готов был броситься на незнакомца, не подозревая, что он-то и есть главный хозяин дома.
Сила Горденч хотел подразнить собаку в шутку, но, встретив столь лютую злобу, сам начал злиться.
— Ну, ты! Смотри у меня, а то я как начну бить…
Настасья Васильевна засмеялась, затягиваясь папиросой.
— Этого еще недоставало! Да бросьте вы ссориться с собакой. Митя, уведи пса, — подерутся еще! Кстати, нам с отцом о делах поговорить надо.
Дмитрий встал и, подойдя к двери, поманил собаку.
— Пойдем! — дружески сказал он Шельке.
Пес охотно, пружинистой иноходью отправился за ним, и они вышли, оба не доверяющие шуткам и ласкам Силы Гордеича.
— Слышали новость? — дымя папироской, спросила Настасья Васильевна. — У Наташи к осени второй ребенок ожидается. Торопятся они с этим делом!
Сила Гордеич поднял брови.
— Нет, этого не знал. Беречь теперь ее надо! Вот бы им сюда приехать! До осени и прожить у своих!
— Где тут! Не хотят! Дачу сняли под Питером.
— Напрасно! На даче-то лучше, что ли, чем здесь?
— Ну, это как кому! Только ввиду такого дела мало ли что может случиться? Зовут меня погостить.
Сила опять вопросительно поднял брови.
— Не знаю, будет ли от вас на это разрешение, а только думаю, что надо бы на первое время побывать у них.
Сила Гордеич пожевал губами.
— Что ж, поезжай! Ничего не имею против. Это правильно, присмотреть не мешает.
— Только одна я не поеду: Варвару еще хочу взять с детьми, да и Костя просится поехать.
Сила крякнул и махнул рукой.
— Это зачем еще Варваре тащиться на чухонскую-то дачу? Уж чего бы лучше здесь!
— Вы все по себе судите, а ведь она еще не старуха, как я. Мне бы здесь век доживать — и то еду, а ей, небось, на людей поглядеть хочется. Обидно остаться будет, и тоска — одной. Осенью ребятишек в школу пора. Вот, коли благополучно разрешится Наташа, устрою их всех на зиму в Питере; у Наташи будут двое, да у разводки двое сирот, пускай вместе и живут там. Все равно, Варваре не житье здесь: отрезанный ломоть! А там как знать? На людях, может, опять замуж выйдет.
Сила Гордеич вскочил и с юношеской легкостью забегал по комнате. Настасья Васильевна закурила новую папиросу, спокойно следя за ним глазами.
— Я и слушать-то ничего не хочу про Варвару, — прорычал он наконец, остановившись перед женой в крепко стиснув руки за спиной. — Все, что угодно, только не это! Знаю я ее! Все ее штуки! Ты и ехать-то хочешь для нее, а не для Натальи. Не замечаешь, видно, что все твои желания она тебе в уши напевает. Вертит тобой, как хочет, а куда ей замуж, во второй раз, разводке в тридцать-то лет, да с парой детей? Кто ее возьмет? А если и найдется какой, так — из-за моих денег. А денег ей сто рублей в месяц, больше никогда не дам, — революцию-то разводить? Так она пускай и знает!
Старик опять прошелся по комнате в вновь остановился.
— Это одно. А другое — где Варвара, там и смута всегда, знаю я ее характер! Наташа-то все ей отдаст, последнюю рубашку: такой уж она человек «ни в мать, ни в отца, ни в прохожего молодца». Варвара-то, бывало, в детстве все игрушки у нее выманит.
Настасья Васильевна рассмеялась.
— Смейся, смейся! Не пришлось бы плакать потом. Я вперед знаю, что у них там будет. Наташа — как была куропаткой, такой и осталась. Муж у нее не деловой, одно слово — художник! Деньги-то и пойдут черт знает куда! Ты и знать-то ничего не будешь: так она вас всех обкрутит.
— Послушать вас, так хоть одна дочь у вас коммерсантка, вам на радость!
— Какая тут радость? Она только себя а любит, другие-то для нее — навоз и больше ничего!
— Не любите вы ее.
— А ты младшую не любишь. Разделили детей на любимчиков да на постылых, а это хуже всего! Мне что Варвара? Моя же кровь, как и другие дети, а только она сама врагом моим стала. Ты ничего не видишь, а мне ее наскрозь видать… Впрочем, делайте как знаете, а только я тебя предупреждаю: вляпает она всех вас в политику какую-нибудь! Время теперь тревожное, все ждут чего-то, сами не знают чего, вот и хочется Варваре фигуру из себя изобразить. Наташе-то от нее вместо пользы одно страдание будет. Запрячет ее Варвара на задний стол к музыкантам!
Сказавши так, Сила Гордеич мелкими, но твердыми шагами, с заложенными за спину руками вышел из комнаты, крепко захлопнув двери за собой. Слышно было, как он быстро, по-молодому спускался с лестницы.
Внизу послышался его рыкающий, гневный голос: кто-то, видно, подвернулся под сердитую руку.
Старуха осталась неподвижной, сидя в своем глубоком кожаном кресле. Лицо ее тоже было неподвижно, только голова чуть-чуть тряслась, да руки дрожали, когда она закуривала новую папиросу. Облокотись на свою длинную руку, она вздохнула и скорбно задумалась. Энергичный протест нисколько не удивил и не обескуражил ее. Настасья Васильевна была убеждена в своем превосходстве над мужем: пошумев, он уступит. Так всегда бывало. Она — единственный человек, которому уступает Сила Гордеич не по недостатку характера, а по какой-то непонятной слабости к ней. Должно быть любил ее когда-то, и воспоминание об этом чувстве обезоруживало его…
Сама же она никогда не любила и, состарившись, так и не узнала, что за любовь бывает на свете. Муж давно внушал ей презрение и отвращение. Других чувств у нее к нему не было. Вышла за него не то что по расчету, а как-то равнодушно. Отец ее был управляющим имением, но ничего не оставил единственной дочери, кроме большой библиотеки. Училась в институте, да так и осталась институткой до старости. Любила чтение, но читала беспорядочно, бестолково, упиваясь чтением так же, как курением табаку. В свое время занималась нигилизмом и народничеством, а мужиковатого, совсем еще тогда серого, но уже зашибавшего деньгу Силу вздумала «возвысить до себя». Так свысока она и до сих пор к нему относилась. Не любя мужа, всю свою энергию вложила в воспитание детей. Все они получили, правда, среднее образование: к высшему никто не оказался способным, у всех обнаружилась какая-то наследственная нервная болезнь. После первых родов Настасья Васильевна заболела горячкой и некоторое время была в психиатрической больнице; с тех пор в характере ее остались последствия болезни: глухота, странности, напоминавшие манию величия, мрачная замкнутость и отвращение к мужу. В младших детях определенно чувствовалась наследственность. Дмитрий страдал глухотой, заиканием, бессонницей, ипохондрией, равнодушием ко всему. Младший сын — неуравновешенный фантазер и неврастеник. Но страннее всех Наташа. Как бы наперекор всем свойствам эгоистов-родителей и суровой системе воспитания, как бы в отместку за все стяжательные чувства отца и матери, за их черствость и бессердечие, Наташа была олицетворением болезненного милосердия к людям. Сестру и братьев любила до самопожертвования. Мужа любила сострадательной любовью; да и любила ли по-настоящему? Может быть, и она, подобно матери, не была способна к живой, деятельной любви. Что-то во всей ее натуре было пониженное, даже в наружности, при выдающейся ее красоте и с виду цветущем здоровье, не было жизнерадостности, свойственной ее возрасту.
Здоровее всех Варвара, но у этой жизнь не удалась. Десять лет была несчастна в замужестве. Доходил до Настасьи Васильевны темный слух, что Варя тогда было другого нашла, подходящего, из крупных революционеров, красавца и писателя, видную роль игравшего. Обещался он на Варе жениться, а как только она мужа прогнала, взял да в одночасье и помер от неизвестной причины. Был слух, что будто помер не своею смертью, от какого-то отравления, а правда ли это, так и осталось тайной. Замяли дело. Варвара же к отцу воротилась.
Совсем лица на ней не было. Темное что-то с тех пор у нее на душе. Уж не она ли на душу грех взяла? Тот, может, только поиграть думал, да и спятился, а она — всерьез. Шутки плохи с Варварой при этаком характере. Ее не согнешь, да и не скоро сломишь. Родной отец — уж на что деспот в семье, а и тот не столько ненавидит ее, сколько боится. Она чего захочет — поставит на своем. И он вроде как на цепь в этом логове хочет ее посадить! Да куда! Все равно вырвется, опять убежит, либо удавится здесь же.
Глубокие раздумья старухи прервала Варвара. Настасья Васильевна не слыхала ее шагов и, только подняв голову, увидала дочь перед собой. Со своим плоским, татарским лицом и выдающимся большим подбородком она стояла перед матерью, неестественно улыбаясь тонкими, крепко сжатыми губами. Рядом с нею стояла ее дочурка лет десяти, с таким же фамильным подбородком и распущенными по спине рыжеватыми волосами.
— Задумались, мамаша? — прозвучал глубокий голос Варвары.
Старуха вздохнула, и вдруг глаза ее наполнились слезами.
— Да, все о вас всех думаю.
— А там, внизу, папа разбушевался. На Константина напал. Мы от греха сюда убежали. Что у вас тут вышло?
— Да ничего! Не хочет, чтобы ты со мной на дачу поехала. Ну, да пускай прокричится, обмякнет потом!
Варвара взяла девочку за руку, привлекла к себе и опустилась вместе с нею на диван. Тут они обнялись, склонивши голову друг к другу. Из глаз Варвары текли слезы, девочка тоже плакала, уткнувшись лицом в плечо матери. Всем казалось, что они жестоко и несправедливо обижены.
VII
Жизнь в Финляндии сразу же сложилась очень печально для художника: причиной была Варвара. До женитьбы Валерьян был очень дружен с ней. Она изображала тогда салонную львицу губернского города и первая отметила вниманием безвестного, начинающего художника, оценила еще не признанный талант и даже покровительствовала ему.
Теперь роли их переменились: Варвару везде принимали только как родственницу известного художника. Но таково было отношение посторонних. В своей же семье Валерьян и Наташа оказались на положении второстепенном: на первом — была Настасья Васильевна и Варвара в качестве ее наперсницы. Наташа всегда была у матери нелюбимой дочерью, тем более оказался нелюбимым ее простодушный муж, не замечавший женских интриг в собственной семье. Занятый своей работой, делами и общением со своими коллегами, он долго не чувствовал домашних уколов, не придавая им значения.
Валерьян не обращал внимания на высокомерный тон старухи и ядовитые словечки Варвары, с какими относились к нему родственницы, но его иногда раздражала невнимательность их к беременной Наташе: о ней все как будто забыли в доме; по этому поводу с Варварой у него происходили пререкания, но он все же не понимал, почему старая приятельница так изменилась к нему. Колкости ее создавали грустное настроение, он не мог успешно работать: начатая картина не удавалась, и это приводило художника в отчаяние. Случайно художественная экспедиция пригласила его в поездку на полгода, и он чуть было не уехал, но в последний момент отказался: перевернулось сердце при взгляде на беременную жену, ни одним словом не противоречившую его жестокому намерению. Он сам опомнился и не смог оставить ее в опасном положении на попечение странной матери и себялюбивой сестры.
Между тем приближалось время родов. Валерьян настоял, чтобы на дачу заблаговременно пригласили акушерку. Акушерка поселилась в верхнем этаже дачи вместе с роженицей.
В один предосенний день, в конце августа, с утра начались родовые схватки. Акушерка затворилась с Наташей наверху, а муж и вся семья собрались внизу в напряженном ожидании. К своему удивлению, Валерьян не замечал в себе волнения и страха за жену: рождение первого ребенка произошло благополучно в родильном доме.
Теперь наверху было тихо. Варвара на цыпочках пошла послушать у двери, но на лестнице ее встретила акушерка с довольным, спокойным лицом.
— Все благополучно! Разрешилась! Войдите!
Варвара поднялась вслед за ней и через несколько минут вернулась оживленная, с радостным видом.
— Слава богу, все хорошо! Девочка родилась! Такая хорошая! Ногами сучит, кулаки сосет!
Валерьян другого исхода не ждал и очень удивился, когда суровая теша молча заплакала, вытирая платком покрасневшие глаза. Внутри все у него дрожало от радости и оживления, но именно этот радостный вид раздражал тещу и Варвару.
Наконец разрешено было ему подняться наверх к роженице и новорожденной дочери. Он вошел в спальню в сопровождении теши и Варвары. Наташа полулежала на постели. Ее роскошные каштановые волосы ярко выделялись на белизне высоких подушек, прекрасное, нежно-смуглое лицо при появлении Валерьяна вспыхнуло и озарилось счастливой улыбкой, а глаза… Нет, Валерьян никогда еще не видал такого выражения Наташиных глаз: громадные, синие, цвета морской воды, с длинными черными ресницами, они были исключительно красивы всегда, но теперь в них сияло какое-то особенное, прекрасное выражение.
Акушерка развернула беленький узелочек и поднесла ей ребенка, тихо лежавшего в простынках. Наташа улыбнулась счастливой улыбкой, от которой у всех стало светло на душе. Валерьян со страхом и удивлением наклонился к ребенку: это было крохотное, красненькое, беспомощное существо с черными волосиками, уже заметными на голове, и хорошеньким личиком, напоминавшим Наташу. Валерьян почувствовал необычайный прилив нежности к маленькому живому узелку. Акушерка ловко завернула младенца и дала отцу подержать на руках. Валерьян неуклюже, с недоумением взял на руки драгоценный легкий узелок.
Ребенок спал. Валерьян с улыбкой посмотрел на это спящее личико, потом взглянул на жену и испугался, увидев, как глаза ее вдруг блеснули фосфорическим светом, словно глаза тигрицы: это Наташа боялась, как бы он не уронил ее сокровище. Он поскорее отдал его акушерке. Ребенок проснулся, открыл синенькие глазки, но не плакал и не кричал.
— Отчего она не плачет? — удивленно спросил счастливый отец. — Может быть, слабенькая?
— Отличнейший, здоровый ребенок! — деловито ответила акушерка. — Крепыш на двенадцать фунтов!
— Молчаливая, вся в мамашу! — иронически сказала Варвара. — И волосы будут густые, как у матери. Мы хотим сейчас вымыть голову особым составом, чтобы кудрявая была, а вы уходите пока, не ползайте тут под ногами!
— Я не червяк, чтобы ползать! — добродушно возразил Валерьян.
— Чувства-то у вас червячьи! — усмехнулась Варвара.
Почувствовав яд в этих словах, зять огорчился.
— Я на чердак от вас уйду, — сумрачно ответил он.
— Что ж, вам там хорошо будет! — подтвердила теща.
Валерьян, сам не зная, что ему теперь делать, с кем делиться не то радостью, не то обидой, спустился вниз и вышел на крыльцо. Насмешки Варвары отравляли ему каждую радость.
Дача стояла в еловом лесу, на пригорке. Вся местность кругом была песчаная; сквозь корявые, низкорослые ели виднелись песчаные бугры и прибрежные дюны, просвечивало бледное море. Выйдя на берег, он сел на песок и долго смотрел на бесцветное финское море. Вдоль песчаного берега виднелись однообразные здания дачного поселка, стоявшего на прибрежных песках; мелкорослый хвойный лес тоже вылезал из песков. Низкое, северное, по-осеннему светившееся солнце казалось бессильным согреть эту бездарную природу; казалось, что солнце светит изо всей мочи, но ничего путного из этого не выходит: не вызывает оно производительных, творческих сил из бесплодной почвы; кривые, узловатые березки свидетельствовали о бессилии солнца этой чужой, бедной страны. Да и весь однообразный, скучный поселок, лишенный красоты и фантазии, построенный на сыпучих песках, казался чем-то непрочным, временным: если подует буря, какая бывает иногда у настоящей природы, то от всей этой беспочвенной жизни ничего не останется.
А между тем буря надвигается откуда-то, где-то шумят ее отдаленные звуки, уже достигают до замкнувшегося в себе художника, строящего свое счастье на песках. Когда он брал Наташу в жены, то звал ее за собой в этот петербургский мир, где чудилась ему кипучая творческая жизнь. Наташа тоже верила в этот заманчивый мир, стремясь вырваться туда из «темного царства», в котором родилась и выросла без тепла и солнца любви, но за ней потянулись корни и водоросли глубокого «золотого дна», откуда извлек ее Валерьян. Что-то есть мертвое, холодное, болотное во всех ее родных. Солнце его любви оказывается бессильным против их холодного дыхания.
Он, отец двоих ее детей, уже связан с этим миром, откуда, как ему казалось, он вытащил Наташу, но водоросли все крепче и крепче обвивают его шаги.
Валерьян впервые почувствовал откровенное недоброжелательство в словах Варвары, но не угадывал, чем оно вызвано. Ведь он любил ее как друга, и Наташа ее любила; за что же холодная злоба, которую он чувствует с ее стороны в каждом слове, во всех мелочах совместной жизни? (А еще предстоит поселиться с нею в одной квартире в Петербурге на всю зиму!) Или ему так кажется? Может быть, это только пустячные домашние дрязги?
Послышались чьи-то шаги по песку. Валерьян обернулся. Перед ним стояла Варвара, высокая, в черном платье, с бледным, зловещим лицом. Тонкие губы ее дрожали, в серых глазах сверкали зеленые огоньки.
Некоторое время они смотрели друг на друга молча: Валерьян — с недоумением, Варвара — с дрожащими губами.
— Ненавижу! — вдруг сказала она вибрирующим от бешенства голосом. — И вас и вашего ребенка, всех ненавижу!
Что с вами? — бледнея, пролепетал художник.
— Я давно хотела вам сказать… Вы думаете, что тогда, прежде, когда вы увлекались, я любила вас? Никогда! Вы ненавистны мне! Не хочу быть родственницей знаменитости, нянькой его детей!.. Я сама…
Она не договорила, задохнулась. Мускулы ее бескровного лица задрожали, оно перекосилось от сдерживаемых рыданий. Варвара глубоко перевела дух, как бы чем-то захлебываясь, потом повернулась и быстро пошла прочь вдоль берега по рыхлому, сухому песку.
Валерьян с ужасом и болью, еще не совсем поняв, но всем существом почувствовав открывшийся провал, горестно и долго смотрел ей вслед.
Поселившись на зиму в Петербурге, на Песках, в большой и хорошей квартире, семья сразу и бесповоротно раскололась на две, чуждых одна другой половины.
Еще в самом начале совместной жизни двух семей Варвара стала просить Валерьяна передавать матери только двести рублей, а триста оставлять в распоряжении Наташи, чтобы не выпрашивать у матери каждый грош, как это заведено было в доме Черновых. Валерьян согласился, передавал деньги жене, а Наташа тотчас их отдавала в распоряжение любимой сестры. Семова мало интересовало, как она их расходует, но после установления такого порядка отношение тещи к зятю, и без того высокомерное, заметно ухудшилось. По купеческой привычке расценивать людей на деньги богатая теща стала явно третировать зятя, дающего «в дом» так мало. Варвара знала, что Настасья Васильевна не только сама учтет мнимую бедность или скупость зятя, но напишет мужу. Только Валерьян и Наташа не думали об этом. Когда им нужно было что-нибудь купить, они обращались за деньгами к Варваре, но не знали, что она, тотчас же передавая эти просьбы матери, брала для них деньги у нее. Маленькие финансовые операции Варвары имели, однако, двойную, обдуманную цель: распоряжаться деньгами и унизить Валерьяна в глазах родителей его жены. Если бы Валерьян имел время и желание подумать об отношениях к нему Варвары, то легко мог бы понять, что ею руководит не только затаенное чувство зависти к сестре, но и оскорбленное женское самолюбие. Теперь Варвара ненавидела их обоих более, чем сама думала. Ненавидела скрыто, под личиной родственных чувств, и никто из них не догадывался, что происходит в ее душе.
После сцены на даче, когда у Варвары вырвалось слово «ненавижу», Валерьян заподозрил, что она в прошлом имела на него какие-то виды, но так как это было давно и прошло незамеченным, то по свойственному всем мужчинам эгоизму он считал естественным забвение этих чувств, едва ли даже бывших. Отчасти жалел Варвару, искренне желая восстановления с нею прежних дружеских отношений. Но, живя теперь под одной кровлей, они часто начали сталкиваться, как враги. Все в доме шло кое-как: Наташе нездоровилось, а Варвара целыми днями и вечерами куда-то уходила, возобновляя и заводя знакомства, бывала с кем-то на концертах и в театрах, жила своей, обособленной жизнью. Вообще тон всему задавала Варвара.
По ее просьбе Валерьян начал устраивать у себя по субботам домашние вечеринки. Собирались художники, писатели, артисты, политические деятели. Варвара кичилась перед ними своими талантами, совершенно заслоняя скромную Наташу, уходившую от шумной толпы гостей в свою комнату. Смысл этих вечеров скоро стал понятен даже рассеянному художнику: Варвара искала себе жениха.
В числе гостей, собиравшихся к ним по субботам, чаще других стал появляться один интересный молодой человек, которого Варвара отрекомендовала как своего старого знакомого. Наташа тоже знала его еще студентом. К нему, по словам Варвары, имел в прошлом основание ревновать ее муж. Теперь они снова встретились.
Наружность и манеры невольно выделяли его. Гордо посаженной головой, большим лбом и энергичным профилем казался он похожим на Лассаля, хотя родом был с Волги, напоминая в то же время тип жителей волжских пристаней. Еще студентом уехал он в Германию, кончил там университет, потом работал простым рабочим на заводах. Теперь вследствие изменившихся политических настроений вернулся в Россию и что-то делал в рабочих организациях. Видно было, что Пирогов и здесь играл какую-то политическую роль.
На вечеринках он обращал на себя общее внимание, как блестящий оратор, наблюдательный, остроумный рассказчик и несомненно талантливый человек, по-видимому, видавший за границей всякие виды.
Вскоре Пирогов стал приходить запросто, ежедневным гостем, часто оставаясь обедать. Приходя, приносил Варваре единственную свежую розу на длинном стебле и вообще выглядел почти женихом.
Варвара недаром всегда тяготела к политике, или скорее — к ее сколько-нибудь заметным деятелям; будучи вполне буржуазной дамой и отнюдь не расположенная возиться с рабочими, она стремилась попасть в политические верхи, чтобы там найти себе спутника, могущего сделать заметную карьеру: сказывался наследственный склад ума ее дальновидного, расчетливого папаши. В эту зиму как раз происходили выборы в первую Государственную думу, и кто же знал, какие до сих пор безвестные люди могли попасть туда? В случае революции они могли приблизиться к настоящей власти, которой жаждала душа Варвары: прицепиться к удачнику было ее давнишней мечтой. Пирогов, рассуждая о предстоящей Государственной думе, часто шутил, что если б ему удалось попасть в депутаты, то после революции, которая несомненно скоро будет в России, ничего не желал бы более, как получить в свое распоряжение… Туркестан! Он бы чувствовал себя там совершенно самостоятельной властью.
Все, кроме Варвары, смеялись остротам этого веселого, красноречивого человека, которому — кто знает? — могла улыбнуться капризная фортуна в обстановке тех крайностей, какими была полна вся русская жизнь. Но Варвара не смеялась; она пронизывала своего поклонника глубоким, проницательным, без слов говорящим взглядом, и видно было, что провинциальная салонная львица что-то знает о честолюбивых планах Пирогова, что между ними существует какой-то таинственный уговор. Вскоре Пирогов внезапно уехал на Волгу, в тот город, откуда незримо протягивалась над всей семьей властная рука главы ее, Силы Гордеича Чернова.
Варвара почти каждый день получала от Пирогова письма, телеграммы и наконец открыла Наташе и матери свою сердечную тайну: Пирогов поехал баллотироваться в депутаты от их родного города, и Сила Гордеич оказал ему содействие. Если ее друг окажется победителем на выборах, пройдет в депутаты, тогда в награду за победу получит сердце и руку Варвары. Если же будет побежден на этом турнире, то не видать ему своей дамы, как ушей своих! Так он и условился с нею: победить или погибнуть! В этом романтическом настроении влюбленного рыцаря, выезжающего ломать копья во славу дамы сердца, Пирогов и отправился на Волгу.
Однажды после обычного получения одной из телеграмм Варвара убежала читать ее в свою комнату. Вся семья сочувственно сидела в гостиной и ждала ее возвращения с новостями о ходе отдаленной борьбы, так близко касавшейся интересов и чувств всей семьи.
Вдруг из Варвариной комнаты послышался дробный стук ее каблучков: Варвара, по-видимому, плясала, читая телеграмму; потом дверь быстро распахнулась, и в ней на момент остановилась Варвара, еще более бледная, чем всегда, с раскрытой телеграммой в руке.
Черные волосы ее растрепались, глаза сверкали. С несвойственной для нее живостью, как девочка, пробежала она через всю комнату мимо Валерьяна и Наташи прямо к матери, сидевшей на широком диване с дымящейся папиросой в руке.
Варвара упала подле нее и обняла мать, уткнувшись лицом в ее костлявое плечо.
— Ну, что там еще такое? Что случилось? — встрепенулась Настасья Васильевна; голова ее затряслась.
— Прошел в депутаты… единогласно, — глухо прошептала Варвара.
Она откровенно, радостно заплакала; потом тряхнула головой, встала и, сделавшись чрезвычайно похожей на мать, сказала с новым, гордым оттенком в голосе:
— Ну, теперь и я попробую депутатины!
Ноздри ее тонкого носа плотоядно сплющились, взгляд холодно скользнул в сторону Валерьяна и Наташи.
— Как я рада за тебя! — радостно лепетала Наташа. — Ну, а ты?
— Я?! — Варвара торжествующе засмеялась. — Вот теперь-то я уж всем покажу себя! Пришло мое время!
И совсем новой походкой вышла из комнаты.
В день выхода исторического манифеста, 17 октября 1905 г., Валерьян, захваченный общим тревожным настроением, очутился на улице: зловещий манифест царя вызвал всеобщую тревогу не только в столице, но и во всей стране, возвещая начало реакции; говорили, что скоро начнет действовать «Союз русского народа», организованный специально для черносотенных погромов, которые ожидались в Петербурге немедленно, вслед за манифестом. Многие боялись оставаться в квартирах, выезжали в предместья или по крайней мере в гостиницы, где надеялись чувствовать себя безопаснее.
Варвара испугалась, боясь нападения на квартиру художника из-за пребывания в ней Пирогова и, прибежав откуда-то с тревожными вестями, настояла, чтобы зять сейчас-же пошел в первоклассную гостиницу, на Морской, снять большой номер для всей семьи. Валерьян и Наташа не разделяли испуга Варвары, но для ее успокоения решили на несколько дней переехать в отель.
Валерьян шел по Невскому и размышлял о надвигавшихся событиях, становившихся все более тревожными.
Революция, собственно, началась с 9-го января, когда шествие рабочих к царю для мирных разговоров вызвало у перепуганного правительства панику и кровавую расправу с народом. Октябрьская Всероссийская стачка повергла правящие сферы в окончательную растерянность, а в массах вызвала необычайный подъем духа. Еще один такой удар — и, казалось, самодержавие будет свергнуто. Рабочие переживали настроение влюбленных: малограмотные люди вдруг обрели способность писать пламенные стихи о революции, с огромным успехом выступая с ними на митингах и публичных собраниях. Бесчисленные ораторы из рабочих, неумевшие прежде связать двух слов, произносили зажигательные речи.
Октябрьская стачка показала рабочим их собственную мощь, перед которой затрепетали их вековые угнетатели. Но нужно было окончательно сломить врага…
Валерьян хотел было повернуть на Морскую, но увидел, что к Казанскому собору двигается по Невскому толпа, человек в триста, с нестройным и невнятным пением, с развевающимся трехцветным знаменем и чем- то вроде большой иконы, несомой впереди толпы, идущей с «обнаженными головами». Толпа шла медленно и торжественно. Пели гимн. Валерьян поравнялся с толпой, когда она внезапно остановилась на углу около сквера Казанского собора. Впереди ее, два плохо одетых человека, несли не икону, как он думал, а большой портрет царя в простой дубовой раме. Лица толпы, наполовину состоявшей из оборванцев, дворников и лавочников, не оставляли сомнения в принадлежности ее к «Союзу русского народа».
Но из-за сквера навстречу шествию неожиданно появилась группа людей менее многочисленная, по виду состоящая из рабочих.
— Долой! — кричали встречные. Пение умолкло.
«Союзники» в замешательстве остановились, потом снова двинулись. Раздался выстрел.
Валерьян не успел ничего сообразить, как толпа, бросив портрет и знамя, брызнула в разные стороны, рассеявшись в одну минуту.
Рабочие, ругаясь, повернули за угол. На мостовой осталось несколько человек, пинавших изломанную раму с разорванным портретом царя.
Наконец, остался только один пожилой рабочий, долго и гневно топтавший трехцветное знамя с кусками изломанного древка.
На тротуаре собралось несколько прохожих, наблюдавших происшествие, но когда на мостовой остались только клочья и обломки, разошлись и они.
Валерьян, удивленный и обеспокоенный, поворотил на Морскую. Прерванное шествие с патриотическим гимном и царским портретом не предвещало ничего хорошего.
В этот же день вся семья с детьми переехала в гостиницу. Валерьян остался в квартире, продолжая работу над своей новой картиной, но работа плохо клеилась.
Прошло три дня. Семья Валерьяна мирно проживала в отеле, тревожное настроение в городе улеглось, и все беженцы понемногу возвратились по домам.
Зато из провинции шли слухи о кровавых расправах с трудовой учащейся молодежью и рабочими, о широких волнениях крестьян, усмиряемых военной силой.
Валерьян наконец убедился, что совершенно не в состоянии закончить свою новую большую картину, работая в Петербурге. Днем мешали посетители, приходившие не столько к нему, сколько к Варваре, сделавшейся невестой Пирогова, да и сам только что избранный депутат метался в хлопотах. В доме запахло смешанным запахом политики и сердечных дел. Часто являлись совершенно посторонние люди с просьбами к депутату, который только что не ночевал в квартире Валерьяна. По вечерам приходили какие-то люди, было шумно, говорили речи, а по субботам, во время открытых вечеров, и вовсе шел дым коромыслом. Собираясь замуж, Варвара думала, что делает блестящую партию, тем более, что депутат был молод, талантлив и питал надежды сделаться лидером.
Все это радовало Валерьяна и Наташу, обожавшую свою старшую сестру, но вносило столько шума и суеты, что у них буквально не оставалось места, где бы они могли отгородиться от шумной Варвариной карьеры, а сама она, почувствовав себя хозяйкой политического салона, взяла с ними новый, покровительственно-высокомерный тон.
Работа, начатая еще летом, не ладилась. Отдельные эскизы нужно было скомпоновать и наконец перенести на одно большое полотно. Но Валерьяну стало казаться, что эскизы не удались, что он не в силах слить их в одно стройное целое и всю работу нужно начинать сначала.
Кто-то из художников посоветовал ему для окончания картины уехать из Петербурга в Сестрорецк: это всего около часа езды по железной дороге, но зимой там полное безлюдье. Жить можно в хорошем отеле, куда только по воскресеньям приезжает публика. Художники и писатели часто пользуются зимним безлюдьем летнего курорта. Валерьян ухватился за эту мысль и в самый разгар зимнего сезона поселился в отеле Сестрорецка в полном одиночестве.
Работа быстро наладилась. Его охватило воодушевление, которое до этого почему-то долго не приходило. Причина упадка настроения, оказавшегося временным, представлялась ему в образе суетной и тщеславной Варвары. Он жалел, почему связался на эту зиму с родственниками жены, поселился с ними в большой квартире, в которой все же не оказалось угла для него. Жалел, почему не устроились более скромно и уединенно, когда весь этот шик и показная, публичная жизнь, необходимые Варваре, причиняли ему столько неприятностей, а для его кроткой и робкой подруги являлись только молчаливой жертвой эгоизму старшей сестры.
Целый месяц работал Валерьян и в этот срок закончил картину. Это было бы немыслимо, если бы не оказалось, что предварительные эскизы не так уже плохи, как он находил их в минуты отчаяния и сомнений. Здесь он продумал свою работу, и на картине эскизы неожиданно ожили, слились в одно целое. Трудная задача была разрешена, художник воспрянул духом.
Радостно встречал он каждое воскресенье приезд Наташи с их двухлетним сынишкой, бутузиком с большими синими глазами, в забавном вязаном беленьком костюмчике.
Картину свою художник пока не показывал Наташе, но по его веселому, бодрому виду она чувствовала, что работа идет хорошо. В эти счастливые дни он отдавал все время разговорам с женой, прогулкам и игре с маленьким сыном. Катались на лыжах и салазках, кувыркались в снегу. Наташа с удивлением смотрела, как простодушно веселились эти два ребенка: большой и маленький. За три года супружества Наташа привыкла видеть в своем муже не творца знаменитых картин, о которых она читала в журналах и газетах глубокомысленные и непонятные статьи, но простодушного, наивного человека с беспечной, ребяческой душой, который в обыкновенной, будничной жизни часто оказывался непрактичным, уступчивым и даже беспомощным. Глядя на его дурачества с ребенком, она почти не видела разницы между ними, часто думала, что знает и любит именно этого обыкновенного, доброго парня и совершенно не знает художника, живущего в нем. С удивлением встречала она каждую его новую картину, в которой открывалось зрению такое богатство красоты, что Наташа терялась и не знала, откуда все это бралось. Она невольно сравнивала его с доктором Зориным, давно не появлявшимся на их горизонте. У того такое содержательное лицо, столько чуткости в общении с женщинами, что, казалось, он мог читать ее мысли. Наташа вспыхивала при этом воспоминании — вот кому было бы к лицу иметь талант художника или поэта! Жаль, что он обыкновенный врач при его тонкой, аристократической натуре. Отчего Валерьян не таков? Отчего он многого не замечает ни кругом себя, ни в окружающих его людях, наделяя их собственными качествами, пребывая в облаках фантазии, постоянно ошибаясь и спотыкаясь на земле? Он весь мир видит в ложном освещении того теплого, ласкающего света, который светится в его детских близоруких глазах. Или, может быть, в этом-то и заключается талант? Может быть, таковы все талантливые люди? Тогда… Но на этом обрывались смутные мысли Наташи, и она сама не знала, что же именно следует за этим «тогда»…
Вспоминались ехидные насмешки Варвары: «Он, конечно, талантливый художник, но ужасный мещанин: сердится, когда забудут закрыть трубу в печке, и такой семейственный, что интересуется, где берут молоко для вашей маленькой Елены!»
Наташа не понимала, что значит в книжном смысле слово «мещанин». Знала только, что употребляется оно как брань, что мещанином быть нехорошо. Детей она и сама страстно любила, а Варвара о своих мало заботилась, была занята важными делами депутата. Наташа часто оставляла своего грудного ребенка, чтобы развлекать одиноких детей Варвары. Маленькую шестимесячную Елену Наташа не кормила грудью: доктора запретили ввиду слабости ее здоровья; а взять кормилицу она не захотела: по ее мнению, это значило отнять мать у какого-то другого ребенка. «Должно быть, эти мелкие чувства и есть мещанство, — думала она. — Другое дело — Варвара. До детей ли ей. У нее дела государственные!» Все-таки во время поездок к мужу Наташа поручала Варваре кормление дистиллированным молоком ее маленькой Елены.
В последний свой приезд Наташа сообщила новость: приехал Константин. Кажется, собирается жениться, есть невеста на примете, та самая, которая приезжала когда-то на масленице. Очень дружен с Пироговым. Оба ждут возвращения Валерьяна. Интересуются его новой картиной.
Валерьян отослал картину в студию, а сам вместе с Наташей возвратился в Петербург.
В дверях их встретили Пирогов и Костя. Они были знакомы еще со времени выборов и, пикируясь между собой, шутливо вспоминали «чествование» в доме Силы Гордеича.
— Если бы не он, не прошел бы я в депутаты! — признался Пирогов. — Покривил душой я немножко: обещал отстаивать в Думе интересы торгово-промышленного класса.
— А сам теперь громовые речи против этого класса говорит! — насмешливо заметил Костя. — Погодите, задаст вам за это дедушка! И дворян и купцов, как малых ребят, вокруг пальца обернул! Ну и было же у нас пьянство тогда!
— Да! — улыбаясь, подтвердил Пирогов. — Я вообще не пью, но тут перед заседанием так меня у дедушки напоили, что все перед глазами завертелось. В таком виде и поехал на собрание. Вышел говорить и чувствую: сейчас провалюсь! А как только это подумал, со страху и отрезвел. Потом на извозчике опять разобрало меня.
— Ха! — усмехнулся Костя. — Возил-возил извозчик его по городу, а седок ни папы, ни мамы не выговаривает!
— На Волге это со всяким может быть, — возразил Валерьян.
— Ну, где ваша картина?
— Отослал в академию.
— Удалось?
— Кажется.
— Поздравляем с появлением на свет вашей новой картины!
— Пусть она будет так же хороша, как ваша дочь! — смеясь, прибавил Пирогов.
Наташа пошла в детскую и долго не возвращалась. Вместо нее явилась Варвара с бледным, тревожным лицом.
— Ваша девочка захворала, — тихо сказала она Валерьяну. — Наташа зовет вас!
— Этакая-то здоровенная девчонка? — удивленно сказал художник. — Что с ней?
— Не знаю. Идите скорее!
В детской Наташа стояла на коленях перед кроваткой ребенка.
Девочку рвало. Только что выпитое молоко выливалось изо рта с необыкновенной силой.
— Я позову доктора, — хмуро сказала Варвара и пошла к телефону.
Приехал Зорин. Быстро прошел в детскую. Осмотрел ребенка.
— Все признаки отравления, — сурово промолвил он. — Где брали молоко?
Варвара смутилась.
— В молочной, как всегда!
— Напрасно! В петербургских молочных брать для ребенка рискованно.
Зорин попросил всех выйти из комнаты, кроме Валерьяна.
— Сейчас мы впрыснем ей камфару. Это — последнее средство! Вы будете помогать мне.
Доктор раскрыл свой ридикюль и что-то стал приготовлять.
Валерьян затрепетал. Его как громом поразило. Растерянно смотрел то на доктора, то на ребенка.
Зорин снял с девочки рубашонку. Ребенок лежал без чувств, голенький, хорошенький, с остановившимися большими, синими, как бы неживыми глазами. Валерьян наклонился над кроватью и стал притворно улыбаться, кивая головой, ободряя дочь, а сам чуть не плакал. Вдруг почудилось, что ребенок смотрит на него укоризненно, понимающими глазами. Казалось, глаза говорили: «Ну, что ты смеешься? Ведь я же умираю!» Валерьян смутился: ребенок продолжал смотреть на него серьезными, совсем не детскими глазами. Волосы зашевелились на голове его, комната поплыла, зашаталась, и вместе с нею поплыли перед ним синие неподвижные глаза. Доктор крепко схватил его за руку, сильно встряхнул и сказал:
— Возьмите себя в руки! Выпейте вот это! Нет, вы не годитесь в помощники!
Валерьян покорно выпил поднесенное ему лекарство. Руки его дрожали, зубы стучали.
— Теперь уходите и подождите в соседней комнате! Я позову вас.
Валерьян не помнил, сколько времени сидел он в своей комнате. Наконец пришла Наташа, молча села рядом и вдруг, как сломленная былинка, припала ему на плечо. Без слов и слез они обнялись в безмолвном отчаянии. Валерьян понял все.
Сидели так долго, ничего не говоря друг другу и представляя как бы живое изваяние человеческого горя. Наконец Валерьян, дрожа всем телом, взял Наташу за руку и почти насильно повлек за собой в комнату ребенка.
В детской комнате, у кровати стояла черная тень Настасьи Васильевны. Лицо ее было сурово.
— Там ей лучше будет! — загадочно сказала старуха. В кроватке лежал обнаженный мертвый ребенок…
Новая картина Валерьяна имела выдающийся успех на петербургской выставке: о ней много писали в прессе, говорила публика, и еще до закрытия выставки картина была продана за крупную сумму. Многие завидовали славе, деньгам и счастливой жизни художника. Кроме славы и денег, у него была необыкновенно красивая жена! Правда, она вела себя затворницей. Что-то болезненное и страдальческое было в ее содержательном лице и вечно грустных глазах. В особенности стало это заметно после неожиданной смерти ребенка. Эта смерть потрясла Валерьяна, надломила Наташу. Она похудела, в глазах к прежней грусти прибавилось тревожное выражение подстреленной птицы. Но, как это иногда бывает у красивых людей, — безмолвное душевное страдание сделало ее еще красивее. Наташа теперь более, чем когда-либо, до странности напоминала картину Мурильо, висевшую в ее комнате. Многие по неведению принимали за портрет Наташи этот образ итальянской мадонны; быть может, сходство происходило от гениальной проникновенности великого художника, так идеально изобразившего материнскую скорбь.
Валерьян прежде и лучше всех заметил это усилившееся не только внешнее, но и психологическое сходство и с тревогой следил за Наташей, таявшей от молчаливого, покорного страдания.
Смерть дочери Валерьян приписывал невнимательности Варвары, но иногда ему приходили в голову чудовищные мысли: не была ли эта преступная небрежность умышленной? Вспоминалась странная сцена с Варварой на берегу моря и загадочная смерть ее прежнего возлюбленного, для которого она прогнала мужа.
В своей жене Валерьян многого не понимал. Все ее странности, вроде боязни людей, не проходили, а заметно увеличивались. Казалось, была она создана лишь для того, чтобы жить под стеклянным колпаком уединенной семейной жизни. Много читала, а без посторонних замечательно хорошо играла на рояле; любила детей, и в их обществе сама становилась ребенком. После смерти дочери ни на минуту не расставалась с маленьким своим сыном, но и этого ей было мало: она еще любила детей Варвары. Видя, как мало занимается своими детьми Варвара, занятая новой любовью и политикой, как дети иногда плачут в ее отсутствии, Наташа вспоминала свое странно-сиротское детство, лишенное материнской любви. Теперь перед ее глазами Варвара так же забросила своих детей от нелюбимого мужа. Так когда-то росли заброшенными и дети Силы Гордеича.
Насколько Наташа мучилась переразвитием совести, чувством самопожертвования и собственной виновности перед людьми, настолько же Варвара одержима была беспричинной скрытой злобой к людям. Ее тайная ненависть к Валерьяну, которую она до сих пор наружно сдерживала, после того как она нашла себе выгодного жениха с перспективой известности и богатства в будущем, не только не умалилась, но как бы возросла и обнаружилась в полном объеме. Заранее торжествуя от предстоящей карьеры будущего супруга, Варвара более не сдерживалась и не пропускала ни одного случая, чтобы показать свое превосходство, пренебрежение и тайное злорадство.
К Наташе она теперь относилась покровительственно, а в качестве будущей подруги политического деятеля давала чувствовать, что сестра и муж сестры не могут быть посвящены в тайны руководящих политических кругов, куда, как казалось, попала она. Судя по простодушному и дружелюбному виду ее будущего супруга, действительно занявшего выдающееся положение в Государственной думе, Валерьян догадывался, что никаких особенных секретов не было, а просто Варвара возомнила о себе.
В таких тяжелых, гнетущих настроениях прожила эта семья всю зиму в Петербурге. Здоровье Наташи таяло; Валерьян почти не разговаривал с Варварой и тешей, находившимися как бы в заговоре против него. Костя хандрил, писал домой длинные письма, играл в тотализатор, целые дни пропадал на бегах.
Варвара редко бывала дома, отправляясь по вечерам куда-то с депутатом и возвращаясь лишь под утро.
Всеобщий надрыв и надлом, давно начавшийся, казалось, приближался к естественному концу; было ясно, что Варвара, выйдя замуж, порвет всякие отношения с родственниками. Костя уедет домой, а Валерьян и Наташа начнут наконец самостоятельную жизнь. Все неестественное сожительство этих людей, не выносивших друг друга, временно было устроено лишь только для того, чтобы выгодно выдать замуж Варвару: в этом и заключалась миссия матери, выбравшейся из имения на всю зиму в Петербург в первый и, вероятно, в последний раз в жизни. Старуха тоже томилась в четырех стенах столичной квартиры, вспоминая деревенское приволье, уставала от шума гостей и деловых посетителей, но по своему обычаю думала, что исполняет тяжелый долг, пристраивая незадачливую дочь, После пасхи собралась домой вместе с сыном, которого тоже надо было «устраивать».
Однажды в квартиру явилась незнакомая барышня в сопровождении одного из друзей Варвары. Валерьян, случайно вышедший в столовую, был представлен ей как родственник, а Варвара заявила, что барышне нужно дать приют на эту ночь. Из условного разговора он понял, что барышня совершила какой-то опасный поступок и теперь ее прячут от полиции. Девица была молоденькая, почти ребенок, похожая на курсистку или гимназистку, но держалась с таким видом, как будто ожидала похвал за что-то. Варвара поспешила подчеркнуть, что подвиг барышни держится в секрете именно от Валерьяна и его жены. Официальным хозяином квартиры считался Валерьян, в случае ареста неизвестной беглянки ответственность за ее сокрытие падала на него, а между тем ему дали понять, что не считают его заслуживающим доверия. Барышня благополучно ночевала и на другой день исчезла, но с этого дня Валерьян решил раз и навсегда порвать всякие отношения с Варварой. Было ясно, что и без того дело идет к разрыву.
Праздник пасхи встретили мрачно, печально. Варвара и Валерьян больше не разговаривали, а Наташу это угнетало.
На первый день праздника Варвара с утра ушла куда-то с женихом, а покинутые дети ее — мальчик и девочка — плакали от одиночества.
Наташа, чтобы развлечь детей, вздумала покатать их на пароходике по Неве, бабушка заперлась в своей комнате, а Валерьян, насупившись, просидел весь день один в пустой квартире. У него с утра болела голова, колотилось сердце.
К обеду вернулась Наташа с детьми, прозябшими на реке. День был сырой, холодный, ветреный.
— Мне нездоровится, — сказала она. — Такой холод, что мы все на пароходе около трубы грелись! Что- то мне дышать трудно, и голова болит.
Валерьян встревожился. Он сам едва держался на ногах от странной слабости и жара во всем теле, но тотчас же позвонил Зорину. По случаю праздника доктора не оказалось дома.
— Сходите сами к какому-нибудь врачу, — сказала Наташа. — Мне совсем плохо!
Валерьян, пересилив болезнь, оделся и через силу поплелся к ближайшему доктору, которого тоже не оказалось дома. Но прислуга попросила с полчаса подождать.
В пустой приемной не было никакой мебели, кроме стульев. От ходьбы Валерьян так ослаб, что не мог даже сидеть. С ужасом почувствовал, что и сам серьезно болен. Он лег на пол и так ждал, почти теряя сознание.
Вдруг раздался звонок. Больной поднялся с пола, прислуга открыла дверь, и вошел доктор.
— Помогите! — прошептал Валерьян прерывающимся голосом.
— Что с вами? Войдите в кабинет!
Валерьян, шатаясь, вошел вслед за доктором.
— Садитесь!
— Извините, доктор, но болен-то ведь не я, а моя жена. Не сможете ли вы поехать сейчас со мной?
Доктор взял его за руку и. пощупав пульс, сказал:
— Нет, вы больны! У вас наверно все сорок градусов, вам сейчас нужно в постели лежать, а вы ходите!
— Но, доктор, я даже не знал, что я болен. Я прибежал за вами: жена больна серьезно!
— Вы художник Семов? — спросил доктор.
— Да.
— Я вас знаю. Долгом почту сейчас помочь вашей жене и вам.
— Моя квартира всего за квартал от вашей.
— Тем лучше. Но пешком вы в таком состоянии не дойдете, возьмем извозчика!
Доктор захватил маленький чемоданчик, сунул в боковой карман какие-то инструменты и поспешно вышел из квартиры, поддерживая пациента.
Когда они приехали, Наташа лежала в постели. Варвара уже вернулась и сидела подле нее.
— Сейчас же разденьтесь и в постель! — скомандовал доктор. — А я пока займусь вашей супругой. Зачем вы допустили больного выходить из дома? — сурово спросил он Варвару. — Неужели нельзя было послать прислугу?
Варвара смутилась.
— Никого не было дома, — пролепетал Валерьян, — я и пошел. Немножко нездоровится.
— Немножко! — ворчал доктор. — Сорок градусов, может быть — тиф, а он ходит, как ни в чем не бывало! Покажите мне больную!
Через четверть часа он вошел к Валерьяну, смирно лежавшему под одеялом.
— У вашей жены плеврит в очень острой форме. Немедленно вон из Петербурга! Самое лучшее — в Крым. Ну, а теперь я вас исследую.
После всяких выстукиваний, выслушиваний и измерений температуры доктор успокоился.
— Опасного ничего. Просто гнилая петербургская лихорадка. Все-таки вам придется полежать недельки две. Но вашу жену немедленно отправляйте в Крым!
Через два дня Наташу повезли в Крым. Сопровождала ее Варвара. Через две недели Валерьян, оправившись после болезни, уехал вслед за ними. Дома остались только бабушка, Константин и дети.
Варвара вскоре вернулась, как раз к разгону Государственной думы. В числе бежавших депутатов эмигрировал и Пирогов. Варвара уехала вместе с ним.
Костя остался ликвидировать квартиру, а Настасья Васильевна с детьми спешно возвратилась в мрачное лоно дома Черновых.
Первого мая в ясное, светлое утро вышел Сила Гордеич из дому прогуляться на «Венец». Так назывался край высокой горы, где стоял его родной город. На Венце, над зеленым обрывом были врыты в землю старые скамейки для гуляющей публики; дома стояли в одну линию и глядели с горы на Волгу. На одну из скамеек сел Сила Гордеич, опираясь на вязовую палочку, загнутую клюкой.
Крутой откос горы был весь покрыт знаменитыми садами анисовых яблок, антоновки и хорошавки, которыми на всю Россию славился город. Промеж садов вилась разбитая ездой ухабистая шоссейная дорога — пятиверстный спуск с гигантской горы к Волге. Ниже, на берегу виднелись купеческие хлебные амбары и пристань — целый ряд пароходных конторок. Стоял тут на якоре и его собственный буксирный пароход «Редедя», за долги взятый: старье, а когда-то сильнейшим буксиром на всей Волге считался.
Сила Гордеич долго смотрел с горы вниз, где изумительно сверкала разлившаяся Волга под ярким весенним солнцем у подножия зеленой горы, возглавляемой белокаменным городом и пятью золотыми куполами старинного собора. Сила Гордеич смотрел, кряхтел и думал.
Небывалый разлив! Только что прошел ноздреватый, рыхлый камский лед — и пошло прибывать: чуть не по аршину в день! Все затопило, все поймы залило. Все островки и косы песчаные, луга, поля и перелески — все под водою очутилось, и разлилась матушка-Волга около старого, тихого города чуть не на тридцать верст. Как море, плещется она мутными желтыми волнами, пенится и хлещет в крутой зеленый берег, винтом винтится быстрина, и летит громадина без удержу куда-то в даль далекую, в море великое.
Вспомнил Сила Гордеич всю свою долгую жизнь, всю тяжелую, бедную молодость в родных приволжских местах. Вся жизнь прошла около Волги, и от юности до старости яркой лентой опоясывала эту жизнь Волга. Ярче всего вспоминались Силе волжские весенние разливы: перво-наперво пассажирские пароходы пойдут, этакие белые, как лебеди, двухтрубные великаны, густыми протяжными голосами сразу в две ноты поют, красными колесами желтые пенные бугры подымают, к каждому городу, к каждому богатому селу, где только пристань стоит, с праздничным видом заворачивают, чалки на конторки закидывают — и тут что только поднимается на берегу! Суетня, беготня, толкотня, суматоха! Торговки со всякой волжской снедью сидят, приготовились, зазывают краснощекие толстухи звонкими, певучими голосами: говор у волжского народа протяжный, круглый, песенный говор.
Крючники — оседланные люди — как муравьи, тащат рысью по мосткам тюки в три раза больше себя — и не видать за кладью людей. Пахнет новой рогожей, лыком, свежим тесом, дегтем да хлебом, — не разберешь! Всякую всячину в пароходное брюхо кидают. И нефть по деревянному желобу льется «ему» куда-то в ноздрю: ноздрей пьет! Крючники, известно, всегда с песней работают: без песни им невозможно, для работы она и поется. Одна песня у них, как у волка, — старая, вековечная бурлацкая:
Эх ты, матушка да Волга! Ты широкая и долга!..С реки доносились голоса невидимого хора.
Ладно эта песня у них выходила. С виду будто бы утешаются ребята, играют десятипудовыми тюками, со стороны-то незаметно, как у них спины трещат, руки и ноги дрожат от напряжения: трудная, чертова работа, знает ее Сила Гордеич!
Вдалеке, где синяя равнина широкой реки сливалась с горизонтом, показался дымок: сверху шел большой пассажирский пароход, быстро увеличиваясь в объеме. Через несколько минут к городу подплывала двухэтажная белая громада, сделала по реке полукруг, завернула и, подходя к пристани, затрубила двухголосым гулким ревом — «Меркурий» пришел.
На берегу, как мошкара, замельтешила чуть видная сверху толпа.
Сейчас на конторку слепой гармонист придет с певцом-мальчишкой. Давно их знает Сила Гордеич. У слепого лицо бритое, без бороды и усов, без возраста, безглазое да бесстрастное, застывшее лицо, как лицо судьбы, а мальчишка, веснушчатый, беловолосый крепыш, водит слепого за руку. На ремне у гармониста весит гармония, особенная какая-то — «саратовская», с серебряными ладами, с колокольчиками и полутонами. Нащупает скамью слепой и, как только пристанет пароход, так грянет, растянувши мехи, что сразу весь пароходный шум покроет, а мальчишка трубным, густым альтом затянет: «Роковой час настает». Всегда они каждый пароход этой песней встречают. И откуда такой голосина у мальчишки веснушчатого?.. Чистая пароходная публика столпится на верхней палубе, кидает слепому пятаки, а то и гривенники, а мальчишка знай заливается…
Так и пойдет пароход, зашумят колеса, а ей, публике-то, долго еще будет слышен гармонный гром да мальчишкин трубный голос. К следующему пароходу выйдут опять.
На пароходе, когда идет он серединой неоглядной реки, тоже, конечно, музыка есть: это что, если в первом классе барыни на рояле молотят, а ихние кавалеры жидкими голосами подпевают! Пустяковина это. Нет, в четвертом классе, где тюки горами лежат, и грязно, и тесно, и неуютно кругом, и Волга — вот она! — рядом плещется, там на бочке дегтярной гусляр сидит и на гуслях играет: попадаются еще изредка гусляры на Волге! Денег за игру не собирает: для себя играет и для всего простого народу, которым битком набит четвертый класс; слушай, кто хочет, хоть из первого класса чистый господин приди, — не остановится и внимания не обратит. Мужик он самый обыкновенный, лядащий, в лаптях, в старой кумачовой рубашке, в казинетовом пиджаке, и бороденка мочалкой у него; забирает корявыми, грязными, заскорузлыми ручищами, водит крючковатыми пальцами по жильным струнам, а ни разу не ошибется — чисто играет, да так забористо, что два мужика непременно выйдут на середину, плечами передергивают и пляской один другого перешибить норовят.
А то на корме вдруг простонародный хор запоет. Это — если жнецы, жнеи да косцы артелью на заработки едут, курские больше или тамбовские. Так поют, что вся чистая публика с верхнего этажа на них глядит…
Слушает волжские звуки Сила Гордеич, и вспоминается ему все, что слышал и видел он на Волге каждую весну за всю жизнь: бегут, поют пароходы бело-розовые с красными каймами на черных трубах, гусли звенят, гармонные лады ревом ревут, бурлацкая, крючническая песня плывет-разливается, волны вешние шумят, и вся приволжская жизнь певучими звуками полна. Сколько их! Перепутались, слились, друг друга покрывают, никто никого не слушает: а если со стороны посмотреть да послушать — хорошо выходит: засмотреться и заслушаться можно.
Расстилавшаяся внизу могучая река, великолепная в своем весеннем разливе, с плывущими там и сям барками, с целой гаммой красочных звуков, смягченно доносившихся издалека, навеяла Силе Гордеичу какое-то никогда прежде не свойственное ему нежно-грустное настроение: жаль кончающейся жизни, в которой было все, кроме личного счастья. С необычайной яркостью вспоминалась теперь вся его кипучая, полная энергии, разнообразная жизнь, посвященная одной непреклонной идее: созданию капитала. И с каким-то небывалым прежде, мягким и грустным сожалением вспоминал он ее.
Да, был он и крючником, был водоливом на барже, был пастухом овец. Но никогда не оставляла его мысль — из пастуха сделаться миллионером.
Ну, и что же? Ну и сделался. Откуда же это сожаление, как будто вся жизнь была ошибкой?
Волга плыла перед ним во всем своем весеннем, юном блеске, ликующая в сознании своей силы и очарования своего. Силе Гордеичу казалось, что никогда еще не видал он такой красоты, как будто в первый раз увидел родную реку. И внезапные, неожиданные, непонятные слезы выступили на его стариковских тусклых, печальных глазах.
Волжские разливы приносили ему золото, богатство. Но как знать — не придет ли такой разлив, который смоет все построенное им здание, унесет, размечет волнами? Вот пророчили революцию — и действительно, был девятьсот пятый год. Здание трещало, колебалось, но устояло. Пылали дворянские имения, а Волчье Логово уцелело: не потому, что мужики уважали Чернова, — в такое время уважение не поможет, — а просто он подогадливее других оказался: в ту зиму дал денег полицеймейстеру, купил триста пар валеных сапог — и триста солдат на его счет отправлены были охранять имение Силы Гордеича. Все и обошлось благополучно. Да что! Разве на этом окончится русский разлив? Вряд ли. Вода-то не убывает, а прибывает, и доберется же она когда-нибудь до устоев, на которых тысячу лет Россия стояла. Уже оползни поползли, не на чем стало укрепиться. Несется куда-то быстрина. Лиха беда от берега оторваться. Унесет всех нынешних хозяев жизни в такую прорву, что назад и не выберешься. Уж и так многое и многих унесло.
Дочь Варвара вышла было замуж за депутата, а теперь он не депутат, а эмигрант.
Жалко, опять промахнулась она с замужеством. Словно сама судьба издевается над ней, посылает вместо славы и богатства одни унижения да бедность. Но не покинула она своего депутата, разделяет с ним горькую судьбу. Пишет всегда сухо и сдержанно, без лишних жалоб, как и всегда писала; ну, да между строк видно, до какого бешенства ей деньги нужны. Все еще и за границей хочет роль играть. К братьям и сестре зависть ее разбирает; во всем, должно быть, отца винит. Чем же отец виноват? Не лезла бы в революцию!
Знает Сила Гордеич, зачем ей революция нужна: нс для идеи, конечно, — поди-ка, наплевать ей на мужиков, она их и не видала никогда, никакого интереса к ним не имела. Так, честолюбие одно: министрихой думала быть. Золотые горы снились, а дело-то повернулось иначе. Теперь только тем и живут, что им Сила высылает. Да то ли еще будет? Не к лучшему, а к худшему дело идет. Кому в конце концов попадут в руки капиталы Силы Гордеича? Не разлетелось бы все прахом? Чем тогда будет оправдано их многолетнее собирание?
Костя женился, своим хозяйством живет. Сам толстовец, а жену заядлую дворянку взял! В душе-то и получился сумбур, ходит хмурый да пасмурный. Эх, слабые дети у Силы Гордеича! Ни одного нет настоящего, который бы за себя постоял. Придет новая волна, и никто из детей не удержит в слабых руках наследственного капитала. Ненадежны его сыны, а о зятьях и говорить нечего: интеллигенты! Чем бы за знаменитостями гоняться, взять бы в зятья Крюкова: этот изо всякой революции сух выйдет! Так нет, в интеллигенцию полезли — и вышло дело швах!
Вот уже два года, как лечится Наташа в Крыму, а все, видно, не поправляется. Пишет, что был плеврит, а теперь катар легких оказался. А что такое катар, как не чахотка? Доктора-то никогда правды не скажут.
Глубокую задумчивость старика внезапно прервал знакомый, веселый голос: как из земли вырос перед ним Крюков, легок на помине.
— Сила Гордеич! А ведь я вас ищу, ей-богу! Кузин новую моторную лодку купил, всю нашу компанию собрал. Лодку, значит, испытать хотим, по Волге прокатиться. Кстати, первое мая нынче. Но только без вас никак невозможно! Послали меня за вами, а вы — тут! Хорош денек нынче! Едемте, Сила Гордеич, все уже на пристани ждут!
Крюков, шумливый, как всегда, в своей поддевке и красной рубахе, не говорил, а кричал, размахивал руками и по обычаю своему котлом кипел. Никогда не молчит этот шумный человек, не устает и не спит, должно быть, никогда! А уж как пристанет, ни за что не отвяжется, до смерти заговорит!
Сила Гордеич мрачно посмотрел на него поверх очков, махнул рукой и улыбнулся: любил за что-то Крюкова.
— Так я с вами, с пьяницами, и поехал! — шутливо зарычал он. — Нашли дурака! Знаю я вас: наберете всяких бутылок, напьетесь, а потом — тонуть. Слуга покорный!
Сила Гордеич встал со скамейки и поклонился. Потом сделал вид, что хочет уходить.
— Сила Гордеич! — взмолился Крюков, идя рядом с ним: — вот те крест, вот те истинный — ни капли не возьмем! С какой стати? Ни боже мой! Все как стеклышко будем. Прокатимся тихо, смирно, по-хорошему Боже избави, чтобы что, а — либо еще что, а не то что!
Сила Гордеич засмеялся болтовне Крюкова, но продолжал шагать к своим хоромам.
Это ободрило озорника. В знак своей честности он даже перекрестился.
— Вот те крест, ничего спиртного! Да неужто же будем пить? Как стеклышко!
— Знаю я ваше стеклышко! А жаль! Кабы не пьянство ваше, поехал бы. День-то нынче! Я все любовался.
— Господи! — закрестился опять Крюков.
— Ну, ладно, вот придем, велю дрожки заложить. Только ты смотри у меня, цыган! Чтобы ни-ни!
Когда пришли в дом и к подъезду поданы были дрожки, Сила Гордеич сказал, надевая пальто:
— Не верю я тебе. Не надо бы мне, старику, связываться с вами, да у меня сегодня настроение какое-то особенное.
Он пошел вперед, а Крюков, следя за ним глазами, выхватил из буфета бутылку с коньяком, с быстротой молнии спрятал ее в карман поддевки и, садясь в пролетку, продолжал свои бесконечные уверения. Сила Гордеич недоверчиво качал головой.
Вверх по Волге, против течения, разрезала и пенила встречные волны острогрудая моторная лодка; она прочно и глубоко сидела в воде: не ее поднимали волны, а она резала их пополам и, как хищная большая рыба, смело мчалась вперед, одолевая быстрое течение, разбивая желтогривые певучие волны. Мчалась она, словно затерявшись среди водного раздолья: чуть виден был на высокой зеленой горе златоглавый старый город, а другой, луговой берег чуть-чуть маячил на горизонте.
В лодке сидели не кто-нибудь, а именитое купечество города, человек восемь, — все имена, все фирмы, сильные волжские воротилы, и уже не старое поколение, а молодое: сошли со сцены старики — кто в могилу, кто на одр болезни. Только один Сила Гордеич не отстал от молодежи — да еще какую марку держал! Уже никак десятую рюмку пил. Разошелся так, как давно не расходился. Уже не сердился, что его обманули: откровенно на самой середине лодки стол поставили, белой скатертью накрытый, а из погребца и водку, и коньяк, и пиво, и всякую закусь вынули; столько там всего этого оказалось, словно собирались они плыть до Астрахани. Сам Белоусов, хозяин лучшего колониального магазина, за столом бутылки и закуски умеючи расставлял, в стаканы и рюмки всякое винное зелье с прибаутками и присказками разливал, зубы Силе Гордеичу заговаривал. На заглавном месте, у руля — Кузин, опасный на воде человек: только одного Крюкова переесть да перепить не может, а больше к нему никто не суйся — бочка бездонная и озорник. Еще на суше — так-сяк, а как на воду попал — пиши пропало: никто ему не указ! С виду таково сладко да вкрадчиво тенорком говорит, а на самом деле — как есть Чуркин-атаман! И отец его, что помер недавно от запоя, такой же был, царство ему небесное, заводила-мученик. Бывало, как закрутит, так уж недели на две без просыпу. Тот был церковный староста в соборе, и этот за свечным ящиком таково смиренно стоит.
Тот никогда своих обещаний не выполнял, и этому верить нельзя, а особенно среди Волги: тут он царь и бог. коли за галстук попадет.
Наблюдательно посматривает на него зоркий Сила Гордеич: как будто пока ничего, не дошел еще до точки; да и у самого от коньяка старая кровь по жилам заиграла, так вот и хочется сделать что-то и сказать что-нибудь всем на удивление, чтобы возрадовалась душа: «Эх ты, дескать, Волга-матушка! Уж никто, как ты, всех нас богачами поделала. Одарила ты нас, родимая, спасибо тебе и поклон земной, добрая, щедрая река!»
Скучной показалась Силе Гордеичу вся его мудрая, осторожная, беспокойная жизнь, захотелось чего-то яркого, красивого, но ничего по этой части, кроме разгула и пьянства, ему не было известно.
— Эх, наливай, что ли! — сказал он Крюкову и махнул рукой. — Да хоть бы песню спели.
Выпили уже, пожалуй, по пятнадцатой рюмке, а за песней дело не стало. Кузин, певун, завел сладким тенором:
Среди лесов дремучих Разбойнички идут И на руках могучих Товарища несут…А уж тут все хором подхватили.
Сила Гордеич, конечно, не пел: куда уж петь под семьдесят лет? Только слушал, улыбался и качал головой: ведь вот и разбойничья песня, а хорошая!
— Пароход навстречу! — закричал Кузин. — Ни за что не сворочу! Шире дорогу!
Дошел, стало быть, до точки.
Действительно, прямо на них валило двухэтажное чудище полугрузовой системы, с одним громадным колесом позади кормы; такие пароходы очень большую волну подымают.
Сметил, видно, капитан, или знакомый был, но пароход своротил направо, дал дорогу маленькой моторной лодке: догадались там, что едут на ней не простые люди, а волжские купцы загулявшие.
Ух, какие горы воды поднял за собой пароход! По сажени каждая волна, вся в золотисто-серебряной пене.
— Ходу! — крикнул разошедшийся Кузин и повернул лодку прямо на саженные волны.
В лодке все зароптали.
— Ну, зачем? Зачем?
— Утонуть-то не утонем, — ободрял всех Крюков, — да ведь вымочимся понапрасну.
— Уж и так намокли!
Сила Гордеич молча уцепился за края скамьи. «Ох, уж этот Кузин! Еще хуже Крюкова. И зачем только поехал? Ведь знает он их обычай: на тройке поедут пьяные — лошади разобьют, на лодке — обязательно тонуть начнут».
Лодка врезалась в водяной кипящий холм и, конечно, не поднялась на него, а разрезала его пополам. В лодку через головы всех со звоном бухнула сразу целая масса воды. Еще момент — и лодка врезалась во второй бугор: опять в нее хлопнулась с грохотом тяжелая, холодная волна.
Никто не двинулся, не крикнул: все словно замерли, облитые водопадом. Еще одна такая волна — и лодка, захлебнувшись, пошла бы на дно, но Кузин, отрезвев, успел свернуть в сторону от водяных холмов, оставленных могучим колесом парохода.
Поругали Кузина, но не очень: все были пьяны и не поняли миновавшей опасности. Не обратили внимания и на то, что, как заявил машинист, руль сломался. Черт с ним! Чини, коли сломался, а тут согреться да обсушиться надо: выпить-то есть!
И продолжали пить.
Незаметно наступила ночь, черная, весенняя, беззвездная. Волга стала тихой и недвижной, как зеркало. Берега, река и небо — все слилось в одну бархатную, теплую тьму. Мотор бездействовал. Казалось, что лодка остановилась и стоит посредине реки. Все чувствовали себя хорошо, коньяку и водки было еще много. Они галдели и, как все пьяные, говорили разом; каждому хотелось многое рассказать, а другие, не слушая, перебивали.
Сила Гордеич тоже был пьян и думал, что он повеселился, отдохнул душой от всех неприятностей, тяжелых мыслей и тревог своей жизни.
На самом же деле лодка не стояла на одном месте: быстрым весенним течением ее мчало бог весть куда.
Верхнее шоссе шло вдоль берега моря. Море как бы сопутствовало Силе Гордеичу, развернувшись бесконечной синей пеленой на несколько верст ниже дороги. Сила Гордеич с любопытством посматривал на эту густо-синюю яркую полосу. Она чуть-чуть шевелилась глубоко внизу, ниже скал, деревень, красивых дач и зеленых виноградников.
Татарин-извозчик изредка оборачивался и показывал кнутом на примечательные места и дачи.
Сила Гордеич сидел в пролетке согнувшись, маленький, в плоском картузике, опираясь на вязовую палочку, хмуро посматривая через дымчатые очки, иногда дремал, думал о больной дочери и зяте-художнике.
Где они поселились и какой дом выстроили — Сила толком не знал. Писали, что далеко от моря, в глуши, в долине какой-то. Вот и едет Сила Гордеич навестить родных.
Перевалили горный хребет и, проехав какое-то татарское село с мечетью, базаром и глинобитными кофейнями, свернули вправо, за околицу. Здесь пошла мягкая проселочная дорога. Перед глазами Силы Гордеича неожиданно предстала широкая, овального вида зеленая долина в несколько верст длиною, окаймленная голубыми горами, густо заросшими кудрявым лесом. Кругом была необыкновенная тишина. По краям долины, на склонах гор там и сям белели татарские деревушки, а по сторонам дороги зеленели всходы ржи и пшеницы. Кое-где попадались одинокие приземистые, ветвистые дубы. Похоже было немножко на приволжские поля, на отроги жигулевские. Сила Гордеич улыбнулся.
Стало легче на душе после крутых и скалистых гор, после громады пустынного моря, которое скрылось теперь позади, за перевалом; широкий простор долины ближе, приятнее его степному сердцу, да и жизнь здесь — настоящая деревенская, трудовая. Навстречу попадались татары с косами и граблями; татарчонок, ехавший шагом в телеге — «мажаре», запряженной парой белых волов с цветами на рогах, играл протяжный, жалобный мотив на самодельной дудке-жалейке.
Поперек долины, наискось, вилась малюсенькая извилистая речонка, вытекавшая от подножия гор в глубине равнины и уходившая в ущелье между зеленых, лесистых холмов. На выгоне паслось стадо коров, по оголенным склонам гор ползали овцы.
«Совсем как у нас!» — подумал Сила Гордеич, вспоминая свою пастушескую жизнь.
Дорога привела прямо к речке, которая, растекаясь в этом месте, струилась по камням прозрачным, мелким ручейком. Переправились вброд: по колено не было лошадям. Влево виднелось селеньице в одну улицу, с околицей, с деревянной церковкой, с приземистой каменной мечетью.
Здесь кончалась долина, упираясь в высокую, горбатую гору, покрытую лиственным лесом. У подножия горы был огорожен участок десятины в три, а у самого леса стоял двухэтажный дом из серого дикого камня. Окна были квадратные, саженного размера, наверху — крытый балкон с колоннами: этакая вилла! Удивился и неприятно поражен был Сила Гордеич: «Дворец выстроили! А зачем? Денег, чай, сколько ухлопано! Надо бы с маленького начинать, скромненько!»
От дома, стоявшего на пригорке около леса, выбежала навстречу большая рыжая собака, сенбернар, и густым, зычным лаем встретила коляску, шагом подъезжавшую к дому. С нижнего балкона, обвитого плющом, вышла Наташа с открытой головой, в белом платье, а за нею Валерьян с красной феской на голове, в каких-то широких штанах с кушаком: на татарина похож.
Коляска остановилась у террасы, и Сила Гордеич, улыбаясь своей лисьей улыбкой, с кряхтеньем вылез из экипажа. Собака громогласно гавкала на лошадей.
— Фальстаф, на место! — кричал на нее Валерьян.
Сила Гордеич пожал руку дочери и зятю, но не стал целоваться (целовался он только в пьяном виде, в трезвом же был всегда сдержан).
— Эх вы, колонизаторы! — сказал он, качая головой. — Ну что, в какую глушь забрались?
— Да ведь здесь хорошо, папа, — возразила дочь, волнуясь.
— Не бранитесь, дедушка, — говорил Валерьян, беря его под руку. — Пойдемте-ка в дом! Как раз к обеду приехали!
— Дом, дом! — рычал Сила, шагая между ними и поднимаясь на крыльцо террасы. — Экий домина сгрохали! Моты! Бить-то вас некому!
Зорко поглядел на дочь: ничего, с виду будто не очень похудела, а Валерьян загорел.
Через стеклянные двери вошли в столовую. Большой стол был уже накрыт для обеда. Комнату украшал громадный камин, сделанный из неотесанного камня розового цвета. Сила Гордеич высоко поднял брови.
— Это еще камин-то зачем? Каких, чай, денег стоило!
— Из местного камня, из нашей же горы ломали, совершенно бесплатно, а, между прочим, здешняя порода мягкого мрамора. Дешево и сердито!
— Ладно, заговаривай зубы! Хорошо-то оно хорошо, а тысяч пятнадцать, небось, ухлопали в дом? Будете ли тут жить — не известно, а сдавать некому. Ежели не сдавать и сами не будете жить, — значит, пропал капитал. Э-хе-хе!
Старик сел на диван, покрутил головой и опять сказал:
— Колонизаторы!
— А где внучонок-то? — вдруг спохватился Сила.
— В лесу, с нянькой гуляет, — сказала Наташа. — Сейчас позову: обедать пора.
Она вышла через стеклянную дверь на террасу. В квадратное окно столовой виднелась перед лесом небольшая поляна; лес поднимался в гору, и от этого деревья казались необычайно высокими. Между кустами вилась полузаросшая травою дорога.
— Ау! — послышался протяжный контральтовый голос Наташи, повторившийся эхом в зеленом кудрявом лесу.
— Ну, иди, Валерьян Иваныч, показывай дом-то! — примирительно сказал Сила Гордеич и добавил с усмешкой: — Строители! колонизаторы!
— А что ж, — возразил, улыбаясь, художник, — это — по моей части. Сам сочинил план дома и сам руководил постройкой. Полгода жил в шалаше около леса… Люблю строить, Сила Гордеич. Приятно жить в шалаше, когда знаешь, что строишь дворец, когда собственный рисунок превращается в реальность, когда из диких камней, глины и дерева создаешь что-то художественное. Таким реальным творчеством я в первый раз занялся и, несмотря на тысячу неприятностей и трудностей всяких, строил с наслаждением. Вот посмотрите: дикое лесное место! С сотворения мира не было здесь ноги человека, земли этой не касались плуг, топор и лопата. А теперь вырос, как по волшебству, прекрасный дом, земля обработана, посажены культурные деревья! Меня такая работа увлекает и радует.
По широкой витой дубовой лестнице, освещенной громадным окном с разноцветными стеклами, они поднялись во второй этаж. Там было две комнаты: в одной помещалась мастерская художника, в другой, поменьше, выходившей на балкон, стоял шкаф с книгами, вделанный в стену.
С балкона открывался широкий вид на всю долину с голубыми горами на горизонте. Солнце спускалось к горам. Из-за гор ветер доносил морской соленый запах, смешанный с запахом ржи и полевых цветов. В зеленом просторе долины кое-где яркими пятнами горели крупные красные маки, словно кровью обрызгивая изумруды хлебных полей.
В необыкновенной тишине ясно слышались отдаленные горловые звуки заунывной татарской песни невидимого восточного певца, скрип арбы, мелодичный звон колокольчиков пасущегося стада, чей-то далекий, но ясный разговор. Близкий лес шумел под теплым ветром.
— Здесь жили когда-то скифы, — продолжал Валерьян: — около деревни и кое-где в долине и посейчас стоят врытые в землю каменные «бабы» — скифские памятники, а от деревни через горный хребет есть доисторическая дорога, высеченная в скалах, проложенная еще во времена переселения народов. Именно здесь, через эту долину, выливались они из Азии в Европу. Татары пользуются этой дорогой для вьючного пути в Ялту: она втрое сокращает расстояние; поэтому ее чинят и поддерживают. Я часто хожу по ней на Южный берег. С вершины горы приходится спускаться по циклопической каменной лестнице; называется она по-татарски «Шайтан-мердивени» — Чертова лестница. Идешь и думаешь: вот тут много веков назад шли народы, а начиная с этой долины по крымским степям кочевали легендарные скифы.
Сила Гордеич слушал, смотрел через очки на долину и жевал сухими старческими губами.
— А какая разница? — возразил он. — Что скифы, что татары, что наша мордва и черемисы, которые и посейчас пенькам молятся и кобылятину едят, — по-моему, все одно.
Сила Гордеич помолчал.
— Мечтатель вы, фантазер. Валерьян Иваныч! А я вот практический человек: летом здесь, действительно, хорошо, красиво, привольно, ну, а зимой-то как? Ведь зимой здесь — сибирка? Как жить будете? Вы-то, чай, не скифы?
Валерьян засмеялся.
— А мне и зимой здесь нравится. Жил я тут всю зиму, когда дом строили. Выйдешь из дому — лес шумит и не чувствуешь одиночества. Лес — он живой, я лесной язык понимаю! Вечером камин, бывало, затопишь, Иван, мой слуга, придет с разговорами, в столовой лампа горит, собака у огня лежит и к ночному ветру прислушивается… Хорошо!
— Это какой Иван?
— Да из вашего села, по прозвищу Царевич.
— Знаю я этого Ивана. Молодой парень, от отца выделился, да и уехал. Из села Царевщины выходцы они.
— Ну, вот этот самый Иван Царевич с Волги и припер ко мне, да не один, а с женой вместе. Она — кухаркой у нас, а он — работником. Ничего, честные, работящие люди.
— Это хорошо, что своих взяли, из наших мест. Ужо поговорю с ними. Как же все-таки думаете жить здесь? Ведь зимой-то вам, думаю, в столице надо быть?
— Что ж, буду ездить. Вся эта затея — для Наташи: доктора из Крыма ее не отпускают, — все еще легкие не в порядке, да и не любит она городскую жизнь. Городских людей боится, а вот деревня, природа, дети да домашние животные — это ее мир!
— Что поделаешь? Выросла в степи! Все мы, видно, скифы, Валерьян Иваныч.
Старик засмеялся низким, грудным смехом.
— А летом, — продолжал художник, — я здесь работать буду. Хочу, чтобы этот дом не для одних нас существовал, хочу собирать здесь на летний отдых знакомых художников, чтобы для них летний приют здесь был. Будут писать, работать, вдохновляться. Вот и общество будет у нас. Создам здесь этакий культурный уголок.
— А из местных-то жителей никого, видно, нет знакомых?
— Есть и из местных. Вот рядом, в десяти минутах ходьбы, живет мой петербургский приятель; он мне и продал участок; отрезал от своего. У него тут хорошее хозяйство, сад и мельница. Есть еще за перевалом, верстах в десяти отсюда, на берегу моря — целая колония: артисты, писатели, художники; сообща купили землю, разбили на участки, и каждый себе домик построил. Все мои друзья и знакомцы. Вообще теперь в Крыму, действительно, идет колонизация! Этакая мелкая демократизация: всякий небогатый народ на землю потянулся. Даже актеры и художники — уж на что бездомный народ! — все стремятся свой клок земли иметь и хоть какой-нибудь угол. Есть здесь даже профессорский уголок…
— Это понятно: никто так не мечтает о земле, как те, у кого ее нет. Вот и вы тоже…
— Конечно! Ведь, в сущности, учредить Академию художеств в Петербурге, где и солнца-то почти нет никогда, — нелепость! По-настоящему академия для художников должна быть там, где много солнца и света, где, как здесь вот, такая красочная природа. Но что поделаешь? Придется каждую зиму все-таки являться в столицу.
— Есть ли с чем являться-то? Пожалуй, эта возня с больной женой да с постройкой отзывается на работе-то?
Валерьян вздохнул.
— Пожалуй, — согласился он. — За последнее время много было всяких треволнений, но я работал даже во время постройки, на воздухе. Хотите, покажу вам мои крымские работы?
— Пожалуйста! — Сила Гордеич улыбнулся, польщенный. — Ценитель я никакой, а все-таки хорошее от плохого наверно сумею отличить. Хе-хе!
Смеясь, они пошли в мастерскую художника.
После обеда Сила Гордеич обошел все шесть комнат дома и вместе с Валерьяном пожелал осмотреть участок. Начали сверху, с леса, откуда слышались удары топора.
— Это Иван лес чистит, — сказал Валерьян: — очень уж зарос густо.
Поднимаясь в гору, шли по узенькой лесной дорожке и выбрались на небольшую поляну.
Тогда из кустов вылез высокий молодой парень в ситцевой рубахе, с топором в руках, воткнул топор в дерево, снял рваный картуз и поклонился, откинув белокурые волосы.
— Здравствуйте, Сила Гордеич, с приездом вас!
Старик улыбнулся.
— Это ты, Иван?
— Я самый и есть. Помните, може, меня? Мы с отцом моим работали у вас, тоже по лесной части.
— Помню, помню. Я и не знал, что ты сюда переселился. Что же ты бросил родную-то деревню?
Парень осклабился. Одна рука у него полезла в затылок, другая — за пояс.
— На заработки отправился, Сила Гордеич. С отцом разделимшись. Не у чего стало жить, — в земле утеснение. Ну и того… прямо к Валерьян Иванычу: все- таки, как бы сказать, не к чужим людям. Около дома Черновых кормимся, Сила Гордеич!
Сила Гордеич проницательно посмотрел на парня: Иван Царевич стоял в прежней позе, с одной рукой за поясом, а другой — в затылке, и смущенно улыбался. Ему было едва ли двадцать лет. На верхней губе бледного, нервного лица с голубыми глазами чуть-чуть пробивался золотистый пушок.
— Ну, как? Лучше, что ли, здесь-то?
— Рыба ищет, где глыбже, а человек — где лучше, Сила Гордеич!
— Он правды ищет! — добродушно заметил Валерьян.
Сила Гордеич иронически усмехнулся.
— Правды? — протянул он, поднимая брови. — Вишь чего захотел! Что ж, ты ее с хлебом, что ли, есть будешь, правду-то?
Иван Царевич почесал в затылке.
— Раздери тому живот, кто неправдою живет, Сила Гордеич! — во все лицо улыбнулся он. — Нынче весь свет правду ищет, а она и не слышит!
Ты знаешь, — строго сказал Сила Гордеич. — правда-то, говорят, в тюрьме сидит, а неправда по свету гуляет?
Иван радостно улыбнулся.
— Истинную правду изволили сказать. Сила Гордеич. Я потому и к Валерьяну Иванычу прилепился, что правильные они, за правду стоят. Чтобы, значит, всем уравнение!
Сила Гордеич нахмурился.
Иван опять почесал в затылке, собираясь что-то прибавить, но вдруг, обращаясь к Валерьяну, сказал, понижая голос:
— А что я вам скажу, Валерьян Иваныч: татары говорили мне — в поселке-то у писателей гости были вчерась. Гы!
— Какие гости?
— Известно, какие! С обыском которые. Говорят, скоро и здесь будут. Ждите гостей, Валерьян Иваныч!
— Что же они ищут? — недовольно спросил старик.
— Да не иначе, как правды, Сила Гордеич! — Иван широко улыбнулся.
— Вот не было печали, так черти накачали! А я-то думал — тихо здесь!
— Последняя туча рассеянной бури, — сказал Валерьян: — все еще после пятого года отрыжка идет, Ну, я спокоен: за мной ничего политического нет!
Сила Гордеич покрутил головой.
— Вот вам и культурный скит! — зарычал он, подымая брови. — Эх вы, цивилизаторы!
— А про вас, Сила Гордеич, — продолжал Иван, — уж вся долина говорит, татары языком причмокивают: старшая хозяина приехала, деньги-меньги многа есть!
Иван опять почесал в затылке и, обращаясь к Валерьяну, заговорил деловито:
— Корову-то мы хорошую купили, Валерьян Иваныч. Теперь беспременно с лошадью будут набиваться. Сеит-Мемед жеребца продает, а Мустафа кобылу; того гляди, оба придут.
— Мне-то что? — ответил Валерьян. — Придут — так сам и гляди! Я в лошадях толку не знаю, вот разве Силу Гордеича спросим.
— Мое дело тоже сторона, — насторожившись, отозвался старик. — Вам, чай, не рысака покупать?
— Знамо, не рысака, — хозяйственно отозвался Иван. — Нам, Валерьян Иваныч, лошадь надо хрестьянску, спокойну, смирну, а жеребец — он для хозяйства не годится. Знаю я их: все умный, все хороший, да вдруг, с бухты-барахты, как зачнет озоровать! Одна склока с ними!
От дома послышался густой лай Фальстафа.
— Кто-то едет, — сказал Иван. — Пойду, погляжу.
Он взял топор и направился к дому.
— Вот оно, новое поколение мужиков! — сказал, глядя ему вслед, Сила Гордеич. — В пятом-то году, поди, мальчишкой был, а уж дух в нем новый. С отцами не уживаются. Не то что в земле утеснение, а взгляды изменились. Не хотят по-старому жить. Свободы хотят да правды какой-то.
Старик вздохнул и задумчиво стал чертить палочкой по земле.
— Эх, Россия!.. Что-то будет с ней через двадцать лет?
— Одна революция провалилась, теперь второй ждут, и так уверенно говорят, что только в сроке разногласие: одни ждут через пять лет, а другие — через двадцать пять. Но что она будет — в этом никто не сомневается!..
— А вы как думаете, Валерьян Иваныч?
— Я так думаю, что если ничего особенного не случится, ну, там войны какой-нибудь неудачной, — Россия лет сорок по-старому стоять будет, а больше как на сорок лет прежнего кафтана все равно не хватит: разлезается по швам.
Старик, шагая по тропинке рядом с Валерьяном, задумчиво жевал губами.
— Вот и вы, Валерьян Иваныч, как будто тоже второй революции желаете; а ведь ее не надо желать, — от нее ничего хорошего вам не будет: ведь при конституции-то мы, коммерсанты, вас, демократов, во как прижмем!.. — Сила сделал энергичный жест.
— Ну, значит, вам она на-руку?
Сила Гордеич вздохнул.
— Кабы умные да сильные люди наверху, обошлась бы Россия без революции. И работник ваш, Иван Царевич этот, на новые земли пошел бы тоже: вижу я, о полной свободе на своем клочке мечтает. Забрались в глушь такую, колонизаторы! Что он у вас делает-то?
— Все. И землю пашет, и в садоводстве смыслит. Работник отменный! Он не из корысти, а по идее какой- то мужицкой предан мне: думает, что я из тех, которые за народ стоят и новые порядки заведут.
Сила Гордеич усмехнулся.
— Вижу, вижу! Одного вы духа — и хозяин и работник. Ну, только смотрите, как бы к вам в самом деле полиция не пожаловала! Мой совет — ежели есть книжонки какие, припрячьте! У всех у вас сказки какие-то в головах. Художнику оно, может, так и надо, а ежели народ вместо правды в сказку верит, тут уж хорошего нечего ждать.
У крыльца стоял Иван и, прислонив козырьком ладонь к глазам, иронически смотрел на низ участка, к воротам.
Рано утром кто-то постучал в комнату Валерьяна.
— Валерьян Иваныч, вставайте! — послышался тихий шепот Ивана. — Гости пришли!
— Какие гости?
— Полиция!
Валерьян вскочил и выглянул в окно. Дом был окружен цепью солдат, вооруженных винтовками, а на парадное крыльцо взбирался пристав. Валерьян надел туфли, накинул халат и вышел в столовую.
Перед ним стоял солидный бородатый пристав. Он официально, слегка поклонился.
— Извините, что по долгу службы должен вас потревожить!
— В чем дело?
— Приказ от главноначальствуюшего города Ялты. Будьте добры расписаться!
Он вынул и положил на стол бумагу.
Валерьян прочел.
Это был приказ произвести обыск в доме художника Семова и объявление о выселении его из Крыма в трехдневный срок.
— Что за причина? — нахмурившись, спросил Валерьян.
— Не могу знать. Наше дело — служба. Разрешите сделать осмотр вашего дома.
— Пожалуйста, только у нас все еще спят. Присядьте немного, я разбужу жену и ее отца.
Пристав сел за стол.
— Почему вы так сильно вооружены и столько войска с вами?
— Так полагается. Случается, что вооруженное сопротивление оказывают.
— Да вы же знаете, что я художник и никакой политикой не занимаюсь.
— Знаю, но такой приказ… Так вы говорите, что а отец вашей супруги здесь?
— Да, вчера приехал погостить.
— А бывший депутат Пирогов, кажется, тоже в родстве с вами состоит?
— Да. Так неужели это и есть причина обыска и выселения меня из собственного дома?
— Очень может быть, — пробормотал пристав, раскладывая на столе бумаги. — Чем бы ни кончился обыск, но вы обязаны через три дня выехать отсюда. Распишитесь, пожалуйста!
Валерьян расписался и пошел будить Наташу. Но она уже встала. Наверху слышались шаги и старческий кашель Силы Гордеича.
Через несколько минут комната наполнилась людьми в военной форме, в шпорах, с тесаками и саблями у пояса. В доме началась возня. Загудел говор грубых голосов. Начался обыск. Валерьян и Наташа с расстроенными лицами следили, как разворачивали содержимое комода, письменного стола, сундуков и чемоданов. Пристав расположился в библиотеке и тщательно перелистывал каждую книгу. Сила Гордеич мрачно ходил из угла в угол, ни с кем не разговаривая.
Весело было только маленькому мальчику. Беспорядок в доме казался ему веселой шуткой.
— Папа, папа! — теребил мальчишка отца.
— Что тебе? — сурово спросил Валерьян.
Мальчик потянулся к уху отца и сказал потихоньку:
— Нельзя ли, чтобы эти люди к нам каждый день приходили?
— Зачем тебе?
— Они мне нравятся.
— Чем же они тебе понравились?
— А у них сабли! Скажи им, чтобы дали мне одну подержать!
Отец невольно улыбнулся.
— Сейчас нельзя. Ты видишь, как они заняты? Подожди, когда вырастешь, тогда ты сам возьмешь у них сабли.
Мальчик вздохнул и задумался.
— Ну-с, Валерьян Иваныч, как же теперь быть? — хмуро спросил Сила Гордеич, остановившись перед зятем, закинув руки за спину и смотря поверх очков.
— Придется мне уехать, а Наташа останется. Не навек же меня высылают? Поеду в Ялту к генералу, объяснюсь: ведь это же глупейшее недоразумение!
— Так-то оно так, но на здоровье Наташи это плохо отразится. По-моему, уезжайте уж оба или в Севастополь, или в Балаклаву. Что за напасть такая, в чем вас обвиняют?
— По-видимому, в родстве и дружбе с Пироговым.
Сила Гордеич плюнул и, кряхтя, полез наверх. На лестнице обернулся и зарычал:
— Черт бы побрал всю вашу политику и всю вашу затею! Ноги моей здесь больше не будет!
Сила Гордеич крепко хлопнул дверью.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Странное, дивное солнце в Давосе: кругом лежат глубокие, бездонные снега, сухие, как бы искусственные сугробы рассыпаются под ногами, словно сахарный песок, деревья стоят в инее, как в серебре, высокие полозья саней вязнут в снежной дороге. Стоит глубокая альпийская зима, а солнце печет, как летом. Над балконами больших каменных домов опущены холщевые занавесы, по улице люди ходят одетыми по-летнему: мужчины — без верхнего платья, в соломенных шляпах, дамы — во всем белом, под зонтиками; лица у всех бронзовые от загара.
Кругом торжественная, суровая тишина и громады девственно-чистого снега, сияющего под лучами яркого солнца. Небо нежно-синее, теплое, безоблачное, как на юге весной, и в этом удивительно прозрачном воздухе отчетливо и ясно вырезаются далекие чистые линии альпийских вершин.
Городок состоит почти из одной большой улицы, заставленной шикарными зданиями отелей, пансионов, санаториев и магазинов. Все дома обращены лицевой стороной к югу, с обязательными балконами вдоль каждого этажа: целые ярусы балконов с лежащими на них людьми. В этом и заключается все лечение в Давосе: дышать с утра до ночи абсолютно чистым, разреженным воздухом Альпийских гор на высоте тысячи двухсот метров над уровнем моря.
На первый взгляд Давос кажется городом умирающих: высоко в снежных горах копошатся они, почти отошедшие от земли и жизни земной. Земля осталась где-то глубоко внизу, а они, уже приговоренные к смерти, зацепились на пути в небеса, на последнем этапе, между землей и облаками, где уже веет безжизненной пустыней вечности. Неподвижными рядами лежат они на балконах, в меховых мешках, закрывающих все тело, кроме головы, молча впитывая целительный воздух и ликующие лучи давосского зимнего солнца. Лежат и вечером, после заката, когда альпийская ночь горит крупными, ясными звездами, а на балконах тихо теплятся разноцветные огни электрических лампочек у изголовья каждого больного.
Это настойчивое лежание днем и ночью в меховом мешке на балконах санаториев называется здесь по-немецки «лиге-кур».
Все страждущее население многочисленных санаториев, пансионов и отелей лежит в полной неподвижности, в глубоком молчании: в этой неподвижности и в молчании этом как бы чувствуется отчаянная решимость, последняя борьба за жизнь. «Будем лежать, — как будто сказали они себе. — Будем лежать, по капле собирая в себе силы, чтобы побороть ужасный недуг, лежать месяцы и годы, изо всех сил бороться со смертью лежанием, как велят доктора!».
Долина Давоса окружена со всех сторон высокими снежными горами, задерживающими ветры, покрытыми густым хвойным лесом. Большая разреженность горного воздуха и полное отсутствие ветра служат причиной необыкновенно сильного лучеиспускания. Из-за леса по откосу горы со дна пропасти поднимается железнодорожный поезд, на минуту задерживается у Давосского озера и затем торжественно подходит к небольшому вокзалу Давоса.
С этим поездом в Давос приехал Валерьян, привез для лечения Наташу. Они сели в парные сани на очень высоких полозьях и через несколько минут подъехали к большому отелю «Кургауз», против которого в садике играл в это время струнный оркестр. Оркестр исполнял что-то веселое, солнце смеялось в прозрачном голубом небе, сияя искрами на сугробах снега.
Устроившись в гостинице, Валерьян долго говорил жене, как здесь все удивительно, как красиво и как она быстро поправится в Давосе.
У Наташи в России врачи не признавали чахотки, но уже несколько лет лечили и никак не могли вылечить катар легких, находя неблагополучие в «верхушках». Кто-то из знакомых, бывавший в Давосе, посоветовал им этот курорт. «Верхушки — это начало чахотки, — говорили знакомые, — пока еще болезнь не зашла далеко, можно залечить ее в один год в Давосе». Художник бросил все свои дела и решил во что бы то ни стало вылечить жену: сам поехал проводить ее и устроить в лучший санаторий. Он поживет вместе с нею некоторое время, пока она привыкнет, а потом вернется к своей работе. Уверен, что к весне Наташа поправится.
Наташа слушала его, молча, улыбаясь печальной улыбкой.
С тех пор, как она заболела, художник не мог сосредоточиться ни на одной большой работе: начинал и не оканчивал, разбрасывался на мелкие вещи. Его известность стала понемногу тускнеть, имя все реже появлялось на столбцах газет, и давно уже отсутствовали работы на выставках. Все мысли его были сосредоточены на излечении жены, вся его энергия, все воодушевление уходили на разъезды по лечебницам и санаториям, на возню с докторами; всякое ухудшение болезни приводило его в крайнюю степень волнения.
Валерьян верил докторам, верил в быстрое исцеление Наташи, но шли месяцы и годы, а она все не поправлялась.
— Ты пока отдохни с дороги, — нежно и заботливо сказал он. — Я на минутку спущусь вниз: мне говорили, что в «Кургаузе» помещается русская библиотека. Не встретится ли кто-нибудь из русских? Надо разузнать насчет санатория!
Наташа чувствовала себя виноватой, что из-за ее болезни Валерьян не мог успешно работать: боялась, что если болезнь затянется, то он и вовсе забросит работу… Вся надежда была теперь на Давос, где, быть может, удастся освободить его от забот о ней: он уедет обратно в Россию и вернется к своему творчеству, она останется в этой чужой стране, будет на целый год заперта в давосской больнице… Ребенка оставили у родных, другой умер.
…Теперь и муж вынужден бросить ее. Она наружна улыбалась и шутила, когда Валерьян с воодушевлением утешал ее надеждами на чудеса Давоса, но когда дверь закрылась за ним, Наташа приникла к подушке дивана с глубоким и печальным вздохом. Ей не нравился Давос, а предстоящая одинокая жизнь в санатории заставляла ее сердце заранее содрогаться от страха и тоски.
Доктора и здесь будут лечить «верхушки», но никогда не поймут ее глубокой печали о покинутом ребенке и неизлечимой скорби о другом, умершем.
Прежде, до замужества, она часто думала о самоубийстве: невыносима была жизнь в могильном склепе, каким был для нее дом богатых родителей… Надеялась найти выход в замужестве, в семейных радостях. Может быть, так бы оно и было: муж хороший, любит ее; но смерть ребенка, затяжная болезнь и тревога за мужа, который вместо счастья нашел мучение и, быть может, свою гибель с ней, давно уже исковеркали ее жизнь.
Проводив мужа, Наташа долго и грустно стояла перед громадным окном, за которым виднелся узкий балкон, и смотрела через улицу на почти отвесную снежную гору, стеной отгородившую Давос от остального мира.
Давос лепился террасами по склону горы. Немного ниже, в долине, где уже не было построек, виднелся обширный каток, и там под звуки оркестра кружились конькобежцы. Наташа вспомнила, что в Давос приезжают не только больные, но и здоровые: для отдыха и зимнего спорта. С противоположного склона гор, покрытого глубоким снегом, как мухи в молоке, ползали на лыжах любители лыжного спорта: долго карабкается человек кверху до самой вершины, потом летит оттуда, как на крыльях, раскинув руки, и, скатившись вниз, непременно кувыркнется в мягкий пушистый снег, затем опять карабкается, и так без конца.
Валерьян спустился в нижний этаж и долго блуждал в шикарно отделанных залах, гостиных и кабинетах почти пустых в утренние часы, но библиотеки не нашел.
Он вышел на улицу и зашагал по тротуару, прислушиваясь, не раздастся ли русская речь, не попадется ли навстречу какая-нибудь несомненно русская физиономия. Но попадались только несомненные немцы с их закрученными кверху усами и бритые англичане в альпийских костюмах, в спортсменских вязаных фуфайках, в огромных башмаках на толстых подошвах, с лыжами или коньками в руках.
Валерьян прошел «Променад», единственную большую улицу в Давосе.
«Где же чахоточные?» — спрашивал он себя, всматриваясь в загорелые, румяные лица встречных. Он видел, как лежавшие на балконах больные люди вставали с коек и, франтовски одетые, выходили на Променад; утренний «лиге-кур» кончился. Они были все такие же бодрые, здоровые на вид, как и другие, которых он встречал на улице. Слышался веселый говор и смех. Но Валерьян нигде не услышал русского языка и не встретил ни одного русского, хотя и знал, что в Давосе существует русская колония. Может быть, они избегают говорить здесь на родном языке?
Возвратившись в «Кургауз», случайно попал в читальный зал, который был в то же время одной из комнат обширного ресторана. Посреди зала стоял длинный стол с европейскими и русскими газетами. За столом, углубившись в чтение, сидели два человека: один был элегантный, красивый, с «золотой» бородой, блондин, а другой — смуглый, бритый, худой, высокого роста и с таким морщинистым лицом, что невозможно было определить, молод он или стар. Читали они русские газеты, и поэтому художник заговорил с ними.
— Да, мы русские, — в один голос ответили они, вопросительно оглядев фигуру приезжего.
— Я только что из России, никого здесь не знаю и до сих лор не мог встретить здесь ни одного соотечественника.
— Странно! Русских здесь хоть отбавляй!
— До восьмисот человек приезжают каждую зиму, а многие безвыездно живут.
— Где вы изволили остановиться? — галантно спросил человек с золотой бородой.
— Пока здесь, но мне нужно устроить в санаторий жену. Посоветуйте, как бы это сделать! Есть в Давосе русский санаторий?
— Вот именно русского-то санатория и нет! Есть английский, немецкий, французский, есть, конечно, швейцарский, но чтобы русский — этого нет!
— Как же быть?..
— Устроиться можно. Я как раз заведую русским справочным бюро, и моя обязанность — помогать приезжим из России. Позвольте представиться: Абрамов, эмигрант!
— Галин! — отрекомендовался другой. — Тоже эмигрант, студент!
Валерьян пожал им руки, назвал себя.
— Семов? — удивились они. — Художник Семов?
— Да.
Собеседники, видимо, обрадовались.
— Очень приятно для нас и для всей здешней эмиграции… — взволнованно заговорил Абрамов. — Давайте сядемте за столик, поговорим… Жену вашу устроим в немецкий санаторий: это самый лучший. Галин! — обратился он к товарищу, — идите сейчас к доктору Шнеллеру, переговорите с ним.
Студент встал и вышел, слегка сгибаясь и раскачиваясь на длинных ногах.
Валерьян и Абрамов сели за ресторанный столик около зеркального окна и спросили кофе.
— Я двенадцать лет болен чахоткой, — начал Абрамов, — а здесь живу с девятьсот пятого года: доктора меня не отпускают отсюда, ну и приходится как-нибудь жить. Организовал это самое бюро, состою редактором здешней русской газетки «Давосский вестник». Не видали?
— Нет.
Редактор вынул из кармана свежий номер маленького листка на глянцевитой бумаге и подал художнику.
— Этот курортный листок издается на субсидию города, выходит раз в две недели. Надо же что-нибудь делать… Положение наше, знаете, эмигрантское… Нудная жизнь. Поживете — сами увидите. Вы надолго к нам?
— Побуду немножко, пока жена обживется, а потом, конечно, вернусь в Россию.
Абрамов с завистью посмотрел на приезжего.
— Счастливец вы! Можете вернуться в Россию, а ведь мы все — приговоренные: мне, например, и носа нельзя туда показать, вот и живем здесь, задыхаемся, как рыба на берегу.
Редактор давосской газеты провел рукой по своей густой золотой бороде и посмотрел на собеседника красивыми голубыми глазами. Кожа лица у него была нежная, фигура изящная. Вероятно, он нравился женщинам и сам любил их.
— Жизнь здесь скучная, неестественная, — продолжал он. — Русских много, и две трети из них — эмигрантская беднота: нужда вопиющая, средств никаких. В целях самопомощи существует «Русское общество», у которого тоже ничего нет: так, ходят по домам, собирают пожертвования деньгами, платьем, придут, вероятно, и к вам. Устраивают два раза в сезон благотворительные вечера и в результате дают человекам пяти — шести пособие не свыше ста франков в месяц в продолжение трех или четырех зимних месяцев. А число нуждающихся от этого все растет: слышат, что в Давосе дают пособия, — и едут в надежде «как-нибудь» устроиться, — ведь умирать-то не хочется. А из-за этих нищенских подачек кипят интриги, дрязги. Революция выбросила за границу множество элементов, не совсем доброкачественных, и вот эти-то элементы бросают тень на всех. Европейцы вообще относятся к русским с пренебрежением, обидным для нашего самолюбия. Что поделаешь?.. Одному бедняку-«эмигранту» дали пожертвованный хороший костюм, а он опять ходит в прежних лохмотьях. Другой живет в Давосе уже три года и все время ухищряется получать пособия, а теперь выписал совершенно здоровую жену и ей тоже выхлопотал стипендию. Между тем масса нуждающихся больных остается без всякой помощи.
Редактор пригладил бороду и усмехнулся.
— А то приехал один шикарный молодой человек, поселился в «Кургаузе», кутил, играл в карты, занимал деньги у всех, даже у лакеев, по счетам не платил, а потом положил кирпичей в пустой чемодан и без чемодана удрал из Швейцарии. Далеко не уехал: арестовали где-то в Италии. Конечно, это единицы, и не эмигранты, а просто жулики, но европейцы все ставят в счет эмигрантам, не любят русских: слишком уж бедны мы и безалаберны при этом.
Валерьян с интересом слушал красивого человека и возразил, что ведь не все эмигранты таковы, что в эмиграции живут крупные деятели, знаменитые революционеры…
Абрамов отпил кофе, покачал бородой и согласился.
— Ну, конечно, не все. Вот и я, например, ведь тоже бедняк-эмигрант, болен серьезно и давно, голодал здесь годы, но никогда не обращался за помощью к «Русскому обществу»: слишком уж это унизительно. Брался за работу, несимпатичную мне, занимался «коммерцией» и все-таки ухитрялся обойтись без общественной благотворительности. Живу, работаю, и даже можно сказать— устроился. Тут нужны не эти обидные подачки, а нужен русский дешевый санаторий. Я давно ношусь с этой мыслью и верю, что когда-нибудь она осуществится. Слишком больно видеть, как страдают здесь многие, Нужно поднять этот вопрос в России, в печати, привлечь к делу людей с именами, известных врачей, профессоров, писателей, общественных деятелей, изыскать средства. Я бы отдал такому делу все мое время, всю энергию, если бы можно было хоть начать его. Здесь нет иного общественного дела, а ведь есть люди, которые жить без него не могут. В Давосе задыхаемся от бездействия. Где-то есть жизнь, где-то люди борются, работают, живут, — мы не живем.
Абрамов долго говорил на эту тему — о создании санатория, о бедствиях эмиграции, о мечте создать за границей русский художественный журнал, причем намекнул, что при содействии Семова можно было бы и денег достать на это дело.
— Не торопитесь с отъездом, — сказал он просительно: — вам, как художнику, Давос даст новые впечатления, возбудит новые чувства и мысли. Может быть, даже вдохновитесь на новую картину… Я бы посоветовал вам пожить здесь, понаблюдать новую для вас жизнь. Интересные типы, великолепная природа, а если побываете в Женеве или на Ривьере, — вероятно встретитесь с большими людьми: там совсем не то, что в Давосе; здесь — мелочь, отработанный пар…
Валерьян с невольным сочувствием слушал этого живого, кипучего, энергичного человека, приговоренного к пожизненной добровольной ссылке в Давос.
В это время вернулся Галин и сообщил, что виделся с доктором: сегодня же художник с женой может переселиться в санаторий.
— Прекрасно! — сказал Абрамов, вставая. — Устраивайтесь, а вечерком соберемся у меня в редакции: ведь надо же отпраздновать ваш приезд.
Санаторий отличался от гостиницы только тишиной и строгим режимом. Доктор — серьезный немец — долго выстукивал и выслушивал грудь Наташи, определил у нее начало туберкулеза, о чем и заявил ей совершенно спокойно.
Когда они остались вдвоем, Наташа неожиданно заплакала, прижавшись головой к плечу Валерьяна. Лицо ее приняло жалкое, детское выражение. Это плачущее, беспомощное личико невозможно было видеть равнодушно. Сердце Валерьяна заныло от глубокого, жгучего сострадания.
— Одного ребенка отняла могила, — рыдала Наташа, — другого отняли люди… Ты уедешь… бросишь здесь… Я не поправлюсь, умру.
Валерьян прижал ее лицо, облитое слезами, бесконечно любимое, к своей груди, гладил ее золотистые густые волосы и утешал, как мог. Чувствовал, что и сам не может бросить ее здесь: ехать? куда? зачем?.. Работать? Вряд ли что выйдет из такой работы, когда разбита жизнь и семья, когда разлука с больной женой будет постоянной мукой, а ребенок отдан на попечение такого мертвого человека, как безумная мать Наташи. Жизнь разбилась, и ее восстановление зависит от того, выздоровеет ли Наташа. Но какое же лечение поможет, если она будет жить здесь в вечной тоске и слезах? А он? Разве возможно спокойное творчество в таком настроении? Придется бросить работу еще на год и остаться здесь, вместе с нею. Когда Наташа будет у него на глазах, можно хоть что-нибудь делать, в крайнем случае — издавать этот журнал, о котором говорил Абрамов. Да, наконец, уж пусть лучше пропадет еще один год (деньги пока еще есть), — лишь бы спасти ее от смерти, лишь бы она жива осталась…
— Не плачь же, не плачь! — утешал он ее, как ребенка. — Я уже решил: никуда не поеду, не покину тебя, буду работать здесь.
И начал рассказывать о художественном журнале и о том, что эмигрантская жизнь интересует его, как материал для будущих картин, что он сумеет работать здесь лучше, чем оставшись один в Петербурге, что, обжившись здесь, можно и ребенка выписать.
Личико Наташи просветлело. В мечтах и разговорах они просидели до звонка к общему ужину. Но Наташа по-прежнему боялась большого стечения людей.
Она ужаснулась, когда узнала, что за ужином в столовой собирается полтораста человек. Валерьян пошел просить, чтобы Наташе, как больной, ужин подали в комнату. Это было разрешено, но Валерьяна попросили спуститься в столовую.
После ужина Наташа обязана была лежать в меховом мешке на балконе при свете электрической лампочки. В одиннадцать двери санатория запирались. Над городом рано спустилась темная зимняя ночь, но весь Давос сиял от электрических огней, которыми вдруг осветились многоэтажные ярусы балконов…
Валерьян отыскал редакцию в небольшом, простеньком пансионе: редакция и «бюро» помещались в одной маленькой, тесной комнате — мансарде под чердаком третьего этажа, а в соседней комнатенке оказался и сам редактор, кипятивший что-то на керосинке. Приход художника встретили веселым смехом.
Кроме Абрамова и Галина, в редакции оказался высокий и худой человек в сером пиджачном костюме, с бледным, сурово-добродушным лицом, украшенным пушистыми, закрученными кверху усами. Он весь состоял только из крупных костей да бледной кожи и все-таки оставлял впечатление громадности.
«Если бы ему пополнеть, какой гигант был бы!» — невольно подумал художник.
— Евсей Тимофеев! — представился огромный человек хриповатым голосом. — Приват-доцент зоологии и эмигрант, конечно…
Абрамов поставил на стол четыре больших кружки темного мюнхенского пива и несколько бутербродов с ветчиной.
— В честь вашего приезда выпьем, — сказал он, поднимая кружку и чокаясь со всеми. — За Россию, за ее будущее, за наше возвращение!
— Эх! — задушевно воскликнул приват-доцент, отхлебнув из кружки и крепко стукнув ею о стол: — хоть бы помереть, да в России, а не здесь, среди европейских культурных отельщиков. Надоела эта жизнь эмигрантская, треугольная: куда ни кинь — все клин…
— Нет, Евсей, — возразил Абрамов, — если доживем до возвращения в Россию, то не умирать туда поедем, а бороться за новую жизнь…
Евсей помолчал и мрачно добавил:
— Вторая революция? Да! Если умирать, то уж лучше на баррикадах, черт возьми!..
— У вас героическая наружность, — сказал ему художник: — вы похожи на варяга или викинга, что-то северное, скандинавское…
Доцент засмеялся.
— Фантазия художника. Честь имею рекомендоваться: потомственный русский крестьянин Вологодской губернии, окончил Харьковский университет и оставлен при нем доцентом. Впрочем, вы чутьем что-то угадали: я, действительно, плавал по Ледовитому океану — участвовал в научной экспедиции, довольно неудачной.
— Как же вы в эмиграции оказались?
— Обыкновенно. Нашумели в пятом-то году, и пришлось убежать… Когда через границу переходили, на кордон наткнулся, ранен был в грудь. Одначе зажило, як на собаци… Живу теперь на Ривьере, в Виллафранке, наукой торгуем… Есть там, знаете, русская морская лаборатория… Да вот что-то гайка ослабла и кишка не действует: приехал сюда немножко починиться…
Разговор сразу разбился на две группы: Абрамов и Галин уже заспорили о России.
— Ну, пусть она некультурна, бедна, дика, — горячо возражал студент, — много там великого свинства, ужаса и рабства, но ведь все это утопает в страдании, а недостатки русских людей искупаются их беззащитностью. Ах, эти чеховские герои, мягкотелые русские люди! Насколько они все-таки выше душой всех этих здешних культурных мещан, для которых комфорт и деньги — все. Покажите европейцу настоящий русский рубль, и он побежит за вами, будет услужлив, вежлив, галантен.
И все за рубль. Ну, а когда нет рубля, тогда он и груб, и невежлив, и презирает вас. Ненавижу Европу!
— Ну, на чеховских героях далеко не уедешь, — качал Абрамов золотой бородой. — Мелкие герои… Жизнь создаст новых, настоящих, полную противоположность им. Насколько те были мягкотелы, настолько новые люди будут жесткими. Это будет — эпоха отмщения.
— Да откуда они явятся? Из эмиграции? Вряд ли. Новая интеллигенция?
Абрамов махнул рукой.
— Народ их даст. Выдвинется новый слой снизу, из тех пластов, которые еще не жили, но хотят жить…
— А вот мы спросим свежего человека, — вмешался Евсей. — Вы художник, следовательно человек беспристрастный и наблюдательный… Как живет интеллигенция больших городов? Что можно уловить нового в искусстве, литературе? Каковы там настроения?
Валерьян смутился.
— Право, мне трудно ответить на ваши вопросы. Я несколько посторонний человек для общественных настроений, многого в них не понимаю. Например, не понимаю успеха новых исканий в живописи и литературе. Знаете, что в них воспевается? — Худосочие, умирание, одним словом — декаданс. В моде песенки Вертинского: «Ваши пальцы пахнут ладаном» и так далее. Это нравится, этим увлекаются, почему-то принимают близко к сердцу. Модные художники рисуют не живых людей, а удавленников каких-то. Нравятся стихи и рассказы о смерти и безумии… Я другого направления. Мне нравится сильное тело, солнце и жизнь, но мое творчество и мне подобных ценится не интеллигенцией, не утонченными знатоками, а какими-то другими слоями публики, на которую принято смотреть сверху. То же и в музыке. У нас есть великие музыканты, их уважают, но ими не увлекаются, зато многих волнует музыкальный декаданс. В театре идет искание нового, ломка старого. Шаляпин первый сломал оперные ходули, но он сделал это органически, вследствие своей огромности, а сам принадлежит к старому искусству, появился на переломе, расчистил путь. Вообще в искусстве и литературе идейно происходит революция. Рядом с подлинным обновлением чувствуется умирание старого. Публике лож и партера по душе мучительные пьесы, изображающие разложение души, семьи, морали. Это почему-то нравится, это любят до психопатии… Одним словом, буржуй потерял своего старого, доброго бога, который всегда прощал его. Приближается сила, никого не прощающая, несущая отмщение…
— Ага! — сверкая глазами, вскричал студент: — корчится буржуазная публика. Это хорошо!
— Но с другой стороны, — продолжал художник, — когда попадаешь в провинцию, невольно ощущаешь рост жизни. Насколько я заметил, земля от помещиков переходит к купцам и крестьянам. Чувствуется органический и огромный процесс, происходящий в глубине страны. Жадный аппетит к жизни… Все кругом как будто трещит от пробудившихся желаний. Дети ссорятся с отцами в каждой русской семье, не только интеллигентской или буржуазной, но и в крестьянской: идет развал, но потому, что новые силы выпирают из-под земли… Странно, все чего-то ждут: одни — беды, другие — молочных рек с кисельными берегами. Любимые разговоры — грядущая революция.
— Это — добрые признаки, так сказать, — первый звонок, — задумчиво сказал Абрамов.
— Первый звонок уже был, — возразил доцент. — Вы хорошо подметили, почувствовали новые колебания почвы. До новой революции, конечно, еще далеко: еще нет расплавленной лавы. Настоящий гнев, настоящая ненависть копится у нас, и мы придем и вольем в Россию всю нашу годами скопленную силу великого гнева.
Он помолчал и добавил:
— Мы придем!
В комнате стало душно от табачного дыма, а может быть, и от последних слов эмигранта. В наступившем молчании студент тихонько мурлыкал куплет из старой студенческой песни:
Россия, Россия, жаль мне тебя! Бедная, горькая участь твоя…— Да, Россия, — со вздохом сказал Абрамов. — Отсюда, из чужбины, кажется она неизменно прекрасной, и все ей как бы прощаешь. Вспоминаются разговоры о русской жизни, литературе… опера, новые пьесы, собрания, лекции… кипучая жизнь… Или вдруг вспомнится Волга, волжские пароходы, Жигулевские горы, широкие степи, волжские и степные люди и молодость наша, погибшая там… Вспомнится крымское море, дикий берег, виноградники — и кажется, что опахнуло тебя теплым, бархатным южным ветерком… Представляется, что и природа-то там красивее, ласковее, чем в этой прославленной Европе…
— В стране отелей и отельщиков, всемирных лакеев… Эх! — взволнованно подхватил студент. — Вот приехал человек из родных краев, и повеяло прежним…
— А мы создадим новое! — возразил Абрамов.
В маленькой комнате немецкого пансиона в Швейцарии, на высоте тысячи метров, за тысячи верст от России Валерьяну странно было слушать глухие, надорванно-чахоточные, вечно спорящие голоса русских людей.
Он вышел на балкон. Давно уже царила мягкая беззвездная ночь. Весь Давос сиял маленькими разноцветными огнями: это на балконах все еще лежали больные, каждый со своим огоньком — вечерний «лиге-кур».
Вскоре один за другим огоньки начали гаснуть в черном океане тьмы. Было грустно среди глубоких снегов и холодных гор молчаливой, равнодушной чужбины.
II
К болезни Дмитрия Чернова вся семья так давно привыкла, что не обращала на нее никакого внимания, не знала, в чем именно она заключается, даже плохо верила в нее. Был он глуховат от рождения, громко надо было с ним говорить, почти так же, как с Анастасией Васильевной, — наследственная глухота. С детства же был он и заикой. Но ведь это что за болезнь! Заика, так он заика и есть: просто — физический недостаток. Правда, от этих недостатков образовался у него характер замкнутый и молчаливый: много читал, недурно сочинял эпиграммы на родных и знакомых, имел литературную жилку; может быть, при других обстоятельствах и талант какой- нибудь развился бы, но на папашиных хлебах, и в расчете на миллионное наследство не являлось в этом надобности, да и вообще не было смысла что-нибудь делать. Обломовщина передалась ему вместе с дворянскими имениями, которые отец с таким умом и трудом приобретал. Сила Чернов против своего желания сделал детей своих никчемными, не приспособленными ни к какому делу. Многие думали, и даже в шутку говорили, что неопределенная болезнь Дмитрия — одна отговорка для поездок в Москву, чтобы отдохнуть от родительского брюзжания; да Митя и сам шутил над собственной болезнью, называя езду к докторам своей профессией. Вставал поздно, часа в два, в три, едва поспевал к обеду, а ночью мучился бессонницей, только к утру засыпал. Отец смотрел на такой образ жизни как на крайнее проявление лености, находил, что безделье и лень — единственное название для странной болезни сына. Надеялся, что, женившись и получив отцовское имение, возьмется за ум, найдет работу. Но Дмитрий не изменился и после женитьбы. Имением по-прежнему управлял опытный Кронид, а Дмитрий спал, охраняемый верным псом своим Шелькой. Скучал отчаянно, наводя скуку и на жену, и только охота на зайцев и волков по пороше на некоторое время выводила его из состояния апатии.
Однажды заболели все передние зубы. И как-то странно заболели: стали шататься и выпадать, как у старика. Доктор без всякой боли для пациента вынул весь передний ряд зубов из нижней челюсти, и Дмитрий неожиданно обеззубел. Пришлось поехать в Москву к знаменитости. Там ему вставили искусственную челюсть с прекрасными белыми зубами. Он быстро освоился с новым своим физическим недостатком, даже научился языком вынимать челюсть и в шутку стращать ею жену. Когда отец попрекнул, недоумевая, почему у него выпали зубы, Дмитрий сдержанно ответил:
— Доктора говорят, что болезнь моя наследственная, папа.
Старик неожиданно смутился, смолк и ушел в кабинет. Там он долго ходил из угла в угол, вздыхал и думал: какая же могла быть наследственность, от кого? Сам он никогда никакими «секретными» болезнями не болел, под старость объявилась экзема на нервной почве — и только… Нервен он, это правда, но причина — вся его жизнь, постоянные волнения: небось, будешь нервным, когда и ночью-то не спится, среди ночи вскочишь — нет ли телеграммы с биржи; упадут цены иногда в одну ночь — и прощай капитал. Какая же наследственность у детей? Нервы, что ли?.. Но при чем тут зубы Дмитрия? Не иначе — от матери все: после горячки еще в молодых годах, с полгода не в себе была, вроде как не все дома, почти такой осталась на весь век — с причудами. Оглохла, да и душа как будто омертвела, бесчувственная стала. Дети пошли болезненные. А может, и у нее наследственность была. Как знать? Вот и вспомнишь народную мудрость: в деревнях исстари без любви женят, да зато сперва узнают подноготную, — не было ли в роду больных, припадочных, дураков, озорников или пьяниц. Значит, о наследственности там больше думают, чем у богатеев; гут на первом плане расчет: по расчету, конечно, и он Дмитрия женил Впрочем, что ж. Баба у него на вид здоровая и не дура. Константина на здоровенной девке женили, настоящая родильная машина, а это — главное: именно будущих здоровых внучков имел в виду Сила Гордеич, почему и махнул рукой, что из бедных дворян, без приданого взяли. Купил им прекрасное имение — по закладной or какого-то пройдохи-офицера, привольные места; а Константин тоже, говорят, нездоров.
С Наташей горе: который год больна! Впрочем, пишут, что поправляется, о ребенке скучает, спрашивает, не собирается ли кто за границу, так чтобы сына привезли. Вот какие дела! Разъехались все по белу свету, и остался он в этаком домище один-одинешенек с глухой своей старухой, Настасьей Васильевной. Только и развлечения, что служба в банке: приедешь — все там свои, все старые друзья, своя рука владыка, хоть поговорить есть с кем; а там, глядишь, в задних апартаментах за водочкой все заправилы соберутся, опохмеляются. Выпьешь да поговоришь — оно и легче: по крайней мере, хоть немножко забудешься от семейных дрязг.
Там люди о судьбах российского капитала думают, большие дела решают. Крюкова, например, везде нелегкая носит, никогда этот человек спокойно на месте не посидит, все нюхает, чем пахнет где: то он в Москве, то в Петербурге, а теперь в Берлин зачем-то отправился; везде у него дела да знакомства.
И, как всегда, легок на помине, ввалился в кабинет Крюков, в синей поддевке, в высоких сапогах.
— Здравствуйте, Сила Гордеич!
— Вот те на! Как снег на голову… А сказали, что ты в неметчину поехал…
— Как же, был и в неметчине, — засуетился Крюков, опрокинулся на широкий кожаный диван и звонко засмеялся. — В Берлине был, в Париже, в Ницце — за морем-окияном, где живут песиголовцы, везде меня носило…
— Что там у тебя? Дела, что ли, какие?..
— Есть, конечно, и делишки: суконную фабрику думаю на заграничный лад устроить. Да кстати женился, так жену с собой захватил…
Сила Гордеич опять поднял брови и головой покачал.
— Женился? Где, когда?
— Да у себя же, в Лаптевке. У нашего попа дочку взял. Отец и венчал.
— Да что же это ты, вроде как потихоньку?.. И на свадьбу никого не позвал.
Крюков засмеялся.
— Некогда, Сила Гордеич. Обкрутился, да и марш в дорогу!.. Мне в Лаптевку со стороны жену брать не рука: еще заскучает, а это своя, тутошняя: только из дома в дом перейти.
— Так. Ну, поздравляю… Давно пора тебе остепениться. Все, чай, меньше мыкаться-то будешь. Ну, что в Европе-то, много чего видал?
Крюков вздохнул.
— Много! Завел знакомства с крупными фирмами.
— Все немцы?
— И немцы, и евреи… Много кой-чего узнал через них.
— А что именно?
Крюков встал, оглянулся по сторонам, наклонился к Силе Гордеичу и, понизив голос, сказал ему в ухо:
— Война будет, Сила Гордеич!
Сила махнул рукой.
— Вечно ты всякие небылицы в лицах выдумываешь. Тут люди ни сном, ни чохом, а он…
Но Крюков, энергично и убедительно тряся головой, шептал на ухо:
— Ей-богу, не вру… У нас-то, конечно, никому невдомек, а за границей коммерсанты все знают и тихонько шушукаются: будет!.. Скоро ли — не известно, а будет неизбежно. Подготовка давно идет, промышленность всю на военный лад перестраивают… Будет война, и как только начнется, сейчас в России революция вспыхнет… Обязательно, говорят, вторая будет, почище первой…
Сила Гордеич покачал головой.
— Так-то оно так, а все-таки невероятно. Война! Гм! Легко сказать — Россию затронуть!.. А насчет революции — явные враки. Ежели война — народный подъем будет, патриотизм… Ошибутся немцы.
— А вы помните, Сила Гордеич, перед пятым-то годом все чего-то ждали и — дождались… Я вас предупреждал, и что же, ошибся? Почти что в точку все вышло. Нынче нельзя по старинке сиднем на деньгах сидеть. Приходится держать ухо востро.
Он ближе придвинулся к Силе Гордеичу и еще тише зашептал;
— Деньги надо в заграничный банк положить, во французский или американский, вернее будет. Конечно, не все, а частичку не мешает — на всякий случай.
Он пробежался по комнате, бухнулся на диван и заговорил громко:
— А еще, Сила Гордеич, посоветовал бы я вам самому за границу проехаться. Что, в самом деле? Расход для вас пустяковый, а в ваши годы отдых требуется… Хоть в конце жизни свет поглядеть… в Париже побывать, в Берлине. Сами во всем убедитесь… А там — на воды куда-нибудь… здоровья на двадцать лет прибавится…
Сила Гордеич пожевал губами.
— Я и сам давно собираюсь… от желудка и от нервов полечиться, да все дела. Э-хе-хе!
— Дело не волк, Сила Гордеич, — в лес не убежит. А с другой стороны, это дело поважнее других обернется. Верно вам говорю. И опять же за границей у вас теперь свои: две дочери, два зятя. Только черкните — встретят и проводят.
— Ты, что же, из Москвы сюда?
— Нет, из Лаптевки, да по имениям кой-куда заезжал.
— Неужто всем разблаговестил?
— Что вы, Сила Гордеич! Только вам, по дружбе… К чему загодя народ булгачить? Даже сыну вашему Константину — заезжал и к нему мимоездом — как есть ничего не сказал… Во грустях он у вас и даже как будто не совсем в духе…
— Ну, как он там живет? Имение-то я за глаза купил.
Крюков развел руками.
— Как сказать? Живет хорошо, усадьба — красота. Речка, пруд большой, лесу много; пахотная земля не вся хороша, есть суглинок, вообще — имение, можно сказать, расстроенное. Ну, а Костя хандрит через это.
— Денег, видно, не хватает.
— Гм!.. наверно.
Крюков вздохнул и засмеялся.
— Вот бы побывать у него, Сила Гордеич, наладить дело… Прямо говорю, не в своей тарелке парень…
Крюков повертел пальцами около лба.
Сила Гордеич озабоченно прошелся по комнате, нахмурившись и жуя губами. Крюков наблюдательно следил за ним. В первый раз он заметил, что походка у Силы Гордеича не такая легкая, как бывало, и голос, могучий прежде, звучал с хрипотцой: сдавать стал старик.
— Горе мне одно с детями моими! — со вздохом вымолвил Сила Гордеич.
— У кого его нет, Сила Гордеич?
— Больные все. У Дмитрия — пакость какая-то, у Наташи — чахотка, Варвара — несчастная, а Константин — такой человек, что сам себя до болезни доведет… — Сила махнул рукой. — Пойдем, закусим, что ли?
— С вами выпить, Сила Гордеич, я всегда готов, — оживился Крюков, вставая и следуя за хозяином в столовую.
— Ну, положим, что не со мной одним. Льешь, как на каменку, и — как с гуся вода! Счастливая натура!
— Бог грехам терпит, Сила Гордеич… А насчет заграницы вы подумайте… и насчет Кости — тоже… По- моему, вытащить его надо, проветрить на людях: сидит, как медведь в берлоге, да и киснет там…
— Подумаю, подумаю.
Имение Константина находилось в двадцати верстах от станции железной дороги. Занесенные снегом поля подходили к длинной, крутой горе, поросшей лесом и походившей на спящее чудовище. На верху горы прежде стоял помещичий дом, а теперь виднелась только сторожка: дом прежний владелец продал на слом. Константин временно жил у подножия горы, в бывшей конторе, длинном бревенчатом, одноэтажном здании, кое- как приспособленном для жилья.
Место было низкое, на берегу пруда. Маленькая речка летом загнивала, покрывалась тиной, кочками. Осенью Константин схватил лихорадку и с тех пор не мог от нее избавиться: два раза в неделю к вечеру начинался озноб, жар, больной лежал в забытьи и бредил. Ему представлялось тогда, что существуют два Константина: один живет и действует, а другой критикует его поступки, — приходит во время лихорадки, садится у изголовья и начинает спор.
Пробовал лечиться у земского врача, с которым успел подружиться. Врач давал порошки, а болезнь называл «раздвоением личности», советовал быть больше на людях и сам приезжал по вечерам — петь романсы под рояль; доктор пел, а Константин аккомпанировал.
Земский врач жил в ближайшем селе, был вдов и сам тосковал от одиночества, почему и повадился к пациенту. Жена Константина Зинаида Николаевна очень мало походила теперь на ту бойкую цыганочку, которая когда-то так нравилась ему: быстро располнела, ушла в хозяйство. Сама подобрала черно-пегую тройку и каракового иноходца для прогулок под седлом, держала себя помещицей и заставила мужа сделать визиты всем соседним землевладельцам. Но дворяне отнеслись холодно к «купеческому сынку», отца которого многие из них ненавидели. Силу Гордеича они потихоньку называли «ростовщиком»; да так это и было по отношению к ним. Поддерживать дворянские разговоры Константину было крайне тяжело: о нем было известно, что он «толстовец» и почти революционер.
На визиты нового землевладельца-недворянина никто сразу не ответил: отговаривались, что не хотят беспокоить больного.
Константин был, действительно, серьезно болен, хотя жене и не говорил о «раздвоении личности». Доктор тоже на все ее вопросы отшучивался, уверял, что к весне «малярия» пройдет, в особенности если переменить климат, съездить на какой-нибудь курорт.
До болезни Константин с жаром отдавался восстановлению имения, разоренного прежним помещиком: засеял сотни десятин (но урожай оказался плохой), завел жнейку и молотилку, поправил водяную мельницу, пустил в пруд карасей, устроил небольшой конный завод. Конечно, все это было не то, что в отцовском Волчьем Логове: не было денег на семитысячных производителей, конный завод казался жалким в сравнении с знаменитым черновским заводом, доставшимся Дмитрию. Константин надеялся постепенно восстановить обобранное имение, развить дело. Но дело шло плохо, и в этом он винил себя, свою неопытность и неумение. Потом как-то вдруг устал, охладел — может быть, сказалась болезнь; напала тоска, уныние, а в длинные зимние вечера одолевали безотрадные мысли.
Во время пароксизмов малярии голос двойника раздавался в ушах больного все более настойчиво, укоряя Константина в тщетности, ненужности всех его дел. Это было мучительно. Он похудел, осунулся и коротал зимние вечера в мрачном молчании.
Зинаида от скуки часто уезжала в гости к родителям, и тогда Константин оставался совершенно один в угрюмом старом доме в обществе кучера Сергея и старого пьяницы-повара, ночевавших на кухне.
В один из таких вечеров, когда Зинаиды не было дома, приехал доктор Василий Иванович. Это был мужчина богатырской наружности, обладавший густым, бархатным басом. Медицину знал плохо и не любил ее, зато страстно любил пение и имел замечательный голос. Если у Константина не было температуры, Василий Иванович пел подряд несколько часов, выливая в пении тоску своего одиночества. Любил поговорить о своем голосе и о том, что его еще студентом хотели принять на казенный счет в консерваторию, но он отказался, так как считал пение бесполезным делом. Все это Константин слышал много раз, но с удовольствием слушал красивое пение неудавшегося певца-доктора. На этот раз, как и всегда, начали они с любимого номера — с песни о Стеньке Разине, но Константин на втором куплете сбился с тона. Певец остановился и сказал своим приятным, маслянистым басом:
— Позвольте-ка ваш пульс, синьор!
— Ничего, продолжайте.
— Не ничего, а я все-таки доктор. Вид у вас сегодня неважный, руки дрожат, — пожалуй, есть температура.
Сосчитав пульс, доктор вздохнул и закрыл рояль.
— В постель! — кратко приказал он докторским тоном. — Сегодня у вас малярийный день оказался. Извольте слушаться! Ложитесь, а я около вас посижу, потолкуем, пока не заснете. Концерт отменяется.
Доктор проводил его в спальню, велел раздеться и лечь под одеяло, а сам сел напротив в глубокое кресло, поставив на стол зажженную лампу с зеленым абажуром.
— Нехорошо, — бормотал Константин. — Отца сегодня жду: послал к поезду Сергея, — писал старик, что приедет нынче…
— Вам серьезно полечиться надо, климат переменить, иначе «она» вас в лоск изведет. Мое-то лечение какое! Мелюс-скоблюс, углюс-толкус — и никакого толку-с! Малярия — цел не шуточное. Я тоже раз захватил ее на охоте, еще студентом: с тех пор и голос не тот. Вылечился тем, что на юг уехал…
Константин слушал с закрытыми глазами. По жилам уже струилась знакомая теплота, дышать становилось труднее, в ушах звенело: приближалось приятное, плывущее, уносящее куда-то туманное забытье. Голос доктора гудел гармонично, теплой, бархатной волной, постепенно затихая и доносясь как бы издалека.
«А ведь я засну, пожалуй, — подумал Константин. — Неловко будет перед Василием Иванычем: что-то рассказывает, а я спать хочу».
По всему телу прошел мороз, потом огонь, опять мороз… Голос доктора умолк, а Константина понесло, покачивая, в черную страшную мглу. Он сделал усилие над собой и тяжело открыл воспаленные глаза.
В кресле вместо Василия Иваныча сидел кто-то другой, смутно знакомый — молодой человек с бледным, землистым лицом, с черными усиками и сверкающими, впалыми глазами.
— Где доктор? — нисколько не удивившись, спросил Константин.
— Уехал, — также тихо ответил сидящий. — Ты заснул, он и уехал. Лучше я вместо него посижу. Давно не говорили.
— Галлюцинация! — прошептал Константин. — Сон! Всегда один и тот же сон.
Собеседник улыбнулся.
— И вовсе не галлюцинация, напрасно так думаешь: я часть тебя самого, пожалуй, даже лучшая часть, вроде как совесть, что ли. Доктор меня констатировал как раздвоение личности; следовательно, раз существуешь ты, существую и я, а ты говоришь — галлюцинация!
— Какая чепуха! — прошептал Константин. — Все это мне представляется: у меня жар, и голова болит. Почему же я разделился на две личности? — спросил он самого себя.
Но собеседник тотчас же ответил:
— …Самоистязание. Ты и заболел оттого, что не можешь с имением справиться.
— Справлялся же прежде.
Двойник усмехнулся.
— Прежде?! — Ха! Прежде-то, в Волчьем Логове, Кронид тебе помогал, а вот как остался один — и не можешь.
— Почему? — возмутился Константин.
— Да потому, что настоящим помещиком не хочешь быть. На новых идеях воспитан. Хотел мужикам землю за бесценок продать, а они на это не согласились, отказались покупать!
— Странно, зачем отказались?
— Не поверили тебе, опасались, как бы ты их не надул, надеются даром получить всю помещичью землю, а раз ты заблаговременно хотел от земли отказаться, значит или с ума сошел, или дело не чисто! Хе-хе! Вот в литературе все жалеют мужиков — дескать, какие несчастненькие! Пейзане! А на самом деле — жулье твои мужики! Знаю. Хе-хе! ведь ты себя «толстовцем» считаешь, а какой ты, с позволения сказать, толстовец? Одни слова. Женился на бедной дворянке. Да разве позволит она тебе эти глупости? Она и поймала-то тебя из-за денег, чтобы помещицей сделаться. Грош тебе цена без земли-то!
— Послушай! — вскипел Константин. — Зачем ты копаешься в этом? Это — мое… личное… Она любит меня.
— Хе-хе! Что ж, отдай имение народу, вот и увидишь, как она тебя любит. В сумасшедший дом засадит. Да и ты-то — по любви, что ли, женился? По-моему — больше из самолюбия, — почему она сначала не за тобой, а за твоим братом Дмитрием ухаживала? Вот и влопался. Цыганочка! цыганочка! А какая она цыганочка? Совсем мещаночка оказалась. Хочет в свое удовольствие помещицей жить. Тройку-то какую подобрала! За иноходцем тебя в степь к башкирам за двести верст посылала. А все из-за шику. По-моему, никакой и любви-то между вами нет. На твои идеи, поди-ка, наплевать ей. Ведь у нее какие запросы? Усы да брюки — больше ничего; а это, брат, на каждом шагу. Вот бросила тебя больного: где же чувство-то? Впрочем, что я! Она, конечно, по гроб будет верной женой… народит детей… родильная машина, — так, кажется, с первого взгляда определил ее почтеннейший родитель твой Сила Гордеич. Очень метко сказано. Прозорливый старец!
— Врешь ты! Дразнишь меня. Я по любви женился, она — поэтическая была.
— Поэтическая?! Хе-хе! А теперь почему же прозаическая стала?
— Ну что ж, — упавшим голосом прошептал Константин. — Во взглядах не сходимся мы, — это правда. Так ведь в случае чего — и расстаться можно.
— Хе-хе! Взгляды — одно, а характер твой — другое. Что уж, где уж. Коли женился, так ты, брат, не разженишься. Где тебе? Поздно. К лету, кажется, прибавления семейства ждете. Вот тут и разженивайся. Э-хе-хе, рыцарь печального образа!
— Оставь! — простонал Константин.
— По-моему, — продолжал, не слушая, собеседник, — песня твоя спета: толстовство побоку — и будешь делать то, что жена велит. Ведь и сам Толстой-то с женой-помещицей мучился, перед смертью только и сбежал. А с обыкновенными людьми гораздо проще бывает. Увлекаются хорошими словами, а как дойдет до дела, так и на попятный. Брат твой тоже философствовал, либеральничал, стихи писал, покуда на родительском иждивении баклуши бил. Все вы этак. Помнишь случай за выпивкой в имении. Митя Николая Угодника поматерно выругал, а в этот момент как раз икона Николы с гвоздя сорвалась и упала! Ведь простая случайность, а он побледнел, затрясся весь! По-моему — коли верить, так незачем и ругать! Так — мальчишество, хвастовство одно! Он, конечно, еще хуже тебя не сельский хозяин, но везет же лежебоку: у жены его два миллиона!
— Не завидую, — задыхаясь, шептал Константин.
— Ну, как не завидовать? Конечно, завидуешь. Дмитрий с расчетом, по-купечески поступил. Знаешь, он недавно Крюкову по-приятельски испорченную лошадь продал. Тот потом укорял: «Что же ты это, Митя, надул меня?» А Дмитрий смеется: «Чего же не глядел? Глядел бы!» Вот это правильно: не обманешь — не продашь. Крюков даже похвалил его потом; только не ожидал такой прыти, потому и не посмотрел хорошенько.
— Знаю про лошадь… так, подшутили над Крюковым.
— Шутки шутками, а в этом сказываются характеры.
Двойник помолчал, ехидно улыбнулся и продолжал совсем тихо:
— Сестру Наташу-то вы тоже, как больную лошадь, художнику с шеи скачали. Не ты персонально, а вообще все вы: ведь знали, что больная, березка-то и тогда надломлена была, совсем без приданого спровадили, — это от миллионов-то! И мучается с нею художник по санаториям да больницам. Что ж, «смотрел бы! Чего не смотрел?» Хе-хе! Вообще — больные-то вы больные, но пальца в рот не клади. Вот только Наташа: у этой совесть больная, да и у тебя тоже…
— А Варвара? — нерешительно возразил Константин. — Уж она-то — здоровый человек.
— Это старшая-то сестра твоя? Хе-хе! Вот сказал! Да она — леди Макбет. Кстати и наружностью на эту англичанку похожа, да и живет в Англии. Что и говорить — женщина с характером; только за ней, как полагается шекспировской героине, трагедия по пятам шествует: слушок-то насчет насильственной смерти любовника ее — помнишь? А ребеночка Наташина кто отравил?
— Лжешь! Клевещешь! Где доказательства?
— Доказательств нет, да и смысла как будто нет; но в том-то и смысл, что нет смысла. Может быть — случайность. Я ведь не утверждаю и не обвиняю никого, а все-таки… Ты знаешь, что когда Варвара в доме, родитель на крючок запирается на ночь, да еще сам же говорит: «Боюсь крысиной смертью помереть». Это он про нее: в случае чего — не дрогнет рука у Варвары.
— Да, она ненавидит отца, обижена им.
— Конечно, но все-таки, как ни верти, — ненормально. Какое тут здоровье! Нет ли и у нее этакой болезненной психики? Намедни писала матери: «У меня что-то волосы начали выпадать прядями, прямо, как страшный сон. Приеду к вам — лысая. Доктор говорит — малокровие мозга». Кстати, у Дмитрия недавно все передние зубы выпали, — это в двадцать-то семь лет! У Варвары — волосы, у Наташи — чахотка и переразвитие совести, у тебя — раздвоение личности: что бы все это значило?
— Не знаю, не знаю, не знаю, — скороговоркой пробормотал Константин.
— А я знаю! — хихикнул призрак и вдруг громко и строго крикнул: — Вы-рож-де-ние!
Константин вздрогнул. Мороз хлынул по спине к затылку, волосы зашевелились, сердце как бы остановилось в груди.
— Вырождение? — задыхаясь, шепотом спросил он. — Так вот оно что!
Да! Ты читал рассказы Эдгара По? Есть у него страшный рассказ «Падение дома Ашеров»: так вот — у вас очень похоже выходит! Только там вырождение может столетиями подготовлялось (аристократическое), а у вас купеческое: через два поколения все насмарку идет! Родители то сильные люди, всего в их жизни было много: много работали, много пережили, много пили, культуры никакой — первобытные люди, все силы и растратили на себя: у вас детей обнищание духа начинается! Я так полагаю, что никакое лечение не поможет, конченные вы люди, родились безжизненными! Родители не любили друг друга — деньги любили; все и ушло туда! Вся энергия в капитал превратилась, любовь в деньги вылилась, а потомству — шиш! Хе-хе! Вот говорят, что у гениальных людей дети всегда никчемные бывают! Конечно, Сила Гордеич не бог весть какой гений, а все-таки, по-моему, не совсем заурядный человек — на создание капитала все силы отдал, всю кровь сердца! Любит говорить, что он в жизни своей мухи не обидел — добрый старичок — какое там мухи — дочь родную до белого каления довел, да и остальных детей — и тебя в том числе, задавил, задергал — все из-за денег, которым поклонялся, как богу. А сколько дворян опутал да по миру пустил, сколько их на него плачутся!
— Ну и черт с ними, — вскричал Константин: — они тоже хороши! Вот это имение заложили ему, а сами все высосали: разорили землю, выпахали… дом украли, лес вырубили!.. Восстанавливай теперь, работай, после них.
— Согласен! Дворян не жалко, историческое недоразумение! Но ведь он до дворян капиталец приобрел: тоже, небось, огулка на руку не клал!
Да вот тебе пример: мельницу-то в Волчьем Логове при тебе строили, местные мужики сваи заколачивали, а почем рабочим платили?
— Мужикам полтинник в день, а бабам двугривенный!
— То-то и оно! Управитель Кронид говорил им, когда рядился: «все равно делать-то вам нечего!» — вот и гнули спины, да орали «Дубинушку» за двугривенный. Плакали да шли, а ты, толстовец, народолюб — тоже в этом участвовал.
— Мелочи! Мелочами меня донимаешь!
— Конечно, мелочи! Из мелочей и составляется капитал! «По грошам собирали!» — мамаша-то говаривала: «помощницей мужу была!» — верно! Хороший хозяин всегда мелочной человек! Одним словом, не без греха было! Тут уже на людские слезы нечего глядеть да умиляться! Жесткое сердце надо! Вот и родитель твой — от природы не плохой человек — душевный даже, когда выпьет, но за десятки лет наживания — поневоле зачерствеешь — такое дело: взявшись за гуж — не говори, что не дюж!
— Ну, к чему ты все это говоришь мне, мучаешь, изводишь?
— Да все к тому, что капитал — палка о двух концах: слезы-то людские отзываются, кровь-то чужая, что в деньгах заключается, вопиет, так сказать. Вот вы, например, дети капиталиста, а сами капиталистами быть не можете. Крышка вам! Малокровие мозга, раздвоение личности… зубы… волосы… чахотка… заживо гниете. Все это вам — за капитал.
Двойник засмеялся скверным, ядовитым смехом.
— Замолчишь ли ты? Убью! — в бешенстве закричал Константин.
— Хи-хи-хи! То есть как это меня убьешь, когда я-то и есть — ты? Себя убьешь?
— Себя убью.
Константин кричал, но не слышал своего голоса. Ему захотелось ударить, вытолкать непрошенного гостя, но двойник сам встал, беззвучно поплыл по воздуху и медленно исчез в темном зимнем окне. Некоторое время тень стояла за окном в ночной тьме, видная по пояс, и наконец исчезла совсем.
В кресле сидел сам Константин в поддевке и сапогах. Выгоревшая лампа под зеленым абажуром коптила и медленно гасла. Пахло гарью.
Константин встал, дрожащими руками вынул из ящика стола револьвер, приставил дуло к виску и нажал собачку. Осечка.
— Глупо! — со злостью сказал он, стиснул зубы и сильно ударил себя рукояткой в висок. — Трус! Подлый трус!
В окно снаружи кто-то сильно застучал. Константин вздрогнул так, что подпрыгнул на месте: за окном смутно колебалась неясная тень. По щеке медленно текла кровь, но он не чувствовал ее. Дико, страшно завыл.
— Господи Иисусе Христе, сын божий, помилуй нас?! — прозвучал чуть слышный голос.
— Аминь! Кто там? — трясясь всем телом, не своим голосом спросил, заикаясь, Константин.
— Кучер Сергей! — радостно крикнул голос. — С полчаса стучимся, Константин Силыч. Сила Гордеич приехали!
Едва держась на ногах, Константин открыл парадную дверь, воротился обратно, сделал несколько шагов в зал и упал без сознания.
Очнулся от чьего-то прикосновения. Сила Гордеич. ползая на коленях, приподнимал его голову, прижимал ее к своей груди и плакал. Пальцы и лоб старика были выпачканы кровью, которая широкой струей все еще текла из раны на виске Константина.
III
Зима в Давосе промелькнула быстро. Кончились яркие, солнечные дни; горная весна сказалась туманами, мокрой вьюгой и бурным таянием глубокого снега. С гор с ревом бежали гремучие, пенящиеся водопады. Зимний лечебный сезон всегда заканчивался в марте. Большинство больных уезжало из Давоса, спускаясь с гор в приморские курорты. Приват-доцент Евсей уехал в Виллафранку работать в лаборатории. Абрамов и Галин — пожизненные давосцы — сделались приятелями Валерьяна, составляя ему постоянную компанию; по нескольку раз в день встречались в читальном зале «Кургауза», где они пили свою кружку пива…
Едва только сбежали с гор весенние воды, как Наташа стала нервничать и тяготиться суровым режимом санатория, почти тюремным режимом, необходимым для лечения, но надоевшим ей до ненависти и отвращения. Благодаря усиленному питанию и лечению давосским воздухом она превратилась в румяную толстушку, так что даже утратила прежнюю стройность фигуры. Ей казалось, что она уже совсем здорова, но суровый доктор не считал лечение законченным и не отпускал ее из Давоса. Единственное, что он по ее усиленной просьбе разрешил ей, — это переехать на лето в загородный отель на берегу Давосского озера в сосновом лесу.
В первый же день после переезда погода совсем испортилась: шел крупный, мокрый снег, — нередкое явление в Альпийских горах летом, дул сырой ветер, горы заволокло непроницаемым туманом. Весь день они просидели в комнате в скучном и печальном настроении.
Наташа молча склонилась над шитьем, а Валерьян сидел за пианино и, не умея играть, одним пальцем подбирал печальный мотив, в унисон струнам напевая вполголоса:
Еду ль я ночью по улице темной, Бури ль заслушаюсь в пасмурный день, Друг беззащитный, больной и бездомный. Вдруг промелькнет предо мной твоя тень.Ветер шумел в горах. За окном косо падал снег большими сырыми хлопьями. В холодной комнате топился камин, и уже серым пеплом покрылись уголья.
Валерьян и сам не знал, почему ему вспомнилась эта грустная песня: она выражала его настроение, навеянное печальными, безотчетными мыслями, унылой, вьюгой, сознанием одиночества и заброшенности на чужбине.
Всю эту зиму работалось плохо: не было необходимого подъема настроения, одолевали тоска по России, уныние и сомнение в своих художественных работах. Написал несколько горных эскизов — и сам чувствовал, что не любит, не понимает чужой природы. Написал небольшую картину по воспоминаниям — и с горечью сознавал, что ему не хватает России. Абрамов хлопотал от его имени о журнале, но пока еще ничего не выходило.
Недовольство собой и неудовлетворенность неудачной работой усиливал печальный, тоскующий вид Наташи. Наружно она поправилась, но тоскливое выражение глаз углубилось настолько, что он не мог видеть их без боли. Мысли о покинутом в России ребенке и об умершей маленькой девочке стали у нее навязчивыми, болезненными. Впервые Валерьян видел такую острую тоску матери о детях, могущую свести с ума или довести до самоубийства. Наташа рвалась из ненавистного Давоса к покинутому единственному ребенку, готовая заплатить за это жизнью. Но она не могла решиться на отъезд, подчиняясь решению мужа довести лечение до конца. писала родителям, чтобы ей привезли сына, которому теперь было лет шесть; но Сила Гордеич ответил неопределенно, что ехать за границу некому — все заняты или больны, и что не ему же самому ехать! Часто без видимой причины глаза ее наполнялись слезами, и тогда она, чтобы скрыть их, убегала из комнаты. Наташа видела тоску Валерьяна, упадок его творчества, недовольство неудачной работой, самим собой и всей их расстроенной жизнью. Денежные дела тоже пошатнулись: все получения были исчерпаны, а неудачных работ своих он не хотел посылать, чтобы совсем не уронить свое потускневшее имя; и это более всего угнетало его. Угрожал мрачный призрак бедности и забвения; всему причиной казалась болезнь Наташи, оторванность от родины. Думал, что придется оставить Наташу и поехать устраивать денежные дела.
Наташа молча слушала его тоскливое пение, без слов чувствуя уныние художника.
Помнишь ли день, как, больной и голодный, Я унывал, выбивался из сил? В комнате нашей, пустой и холодной, Пар от дыханья волнами ходил…Валерьян продолжал напевать про себя, низко на клонившись к непослушным клавишам, ошибаясь и снова повторяя ноющий мотив.
Помнишь ли ветра унылые звуки, Капли дождя, полумрак, полутьму? Плакал твой сын, и холодные руки Ты согревала дыханьем ему…Она все ниже склонялась к шитью. Ей хотелось броситься к нему, остановить рыдающую песню и заплакать на его груди, закричать, чтобы он не терзал ее душу напоминанием о ребенке, что это она, только она виновата во всем надрыве их жизни, что она готова умереть, лишь бы он воскрес для своего творчества…
Но Валерьян, охваченный тоской, продолжал петь, ни разу не взглянув на нее и не зная, что она чувствует его настроение.
Он не смолкал… и пронзительно-звонок Был его крик. Становилось темней. Вдоволь поплакал и умер ребенок…Наташа встала и быстро выбежала за дверь в коридор. Валерьян не обратил на это внимания и продолжал упиваться грустной песней. Он не сразу подбирал нужные звуки, но его приятный баритон, незаметно для него, невольно трогал искренней грустью.
Пел он долго, повторяясь и задумчиво возвращаясь к словам о мертвом ребенке. Ждал возвращения Наташи, но она не воротилась. Тогда он, удивленный, встревожился, закрыл пианино и пошел узнать, что могло задержать ее в холодном коридоре; пошел пожурить, что она не бережет себя.
Наташа стояла, прижавшись головой к дощатой стене коридора, и горько, беззвучно рыдала, вздрагивая всем телом. Крупные слезы катились по щекам ее.
— Ребенок… мой… — дрожащим, прерывающимся голосом шептала она сквозь рыдания. — Ребенок…
Вся фигура ее выражала надломленность, как тогда, когда они оба плакали, обнявшись, у постели маленькой мертвой Елены.
Только тут Валерьян понял, какую наболевшую рану бередил он, что материнское горе, удар судьбы, пронзивший ее душу, навсегда оставили там глубокую, незаживающую скорбь. И снова, как тогда, они обнялись без слов, одинокие, гонимые судьбой, которая словно играла их жизнью, издеваясь над их жалким сопротивлением ее предначертаниям. Валерьян увел жену в комнату, усадил в кресло, опустился к ее ногам.
Вдруг на лестнице послышались шаги и чей-то густой, разряжающийся, с настоящим волжским акцентом бас, в котором им обоим почудилось что-то знакомое.
Валерьян вскочил и бросился к двери, но она уже отворилась, и в комнату вбежал тепло закутанный бутуз, без шапки, с круглой, большой головой и сияющими синими глазами.
— Мама! — закричал он и бросился в объятия Наташи.
Она задохнулась, все лицо ее задрожало, глаза остановились. Молча прижала сына к груди, и из глаз покатились новые слезы — слезы восторга и радости.
Сила Гордеич, сгорбленный и постаревший, в сером весеннем пальто и каскетке на стриженой седой голове, остановился у порога и молча улыбался знакомой хитрой улыбкой, озирая комнату пронзительным взором поверх дымчатых очков.
— Что, не ждали? — прогудел он, снимая пальто и уклоняясь от помощи Валерьяна. — Ведь я же писал, что приеду.
Он поздоровался с дочерью и зятем с обычной сдержанностью, как будто ничего особенного не случилось, но видно было, что в душе старик взволнован.
Наташа улыбалась, краснела и крепко прижимала сына к груди, словно боялась, что у нее отнимут его.
— А ну-ка, дай посмотреть на тебя! — шутливо говорил Сила дочери. — Эк тебя раскормили-то здесь, — и добавил с неожиданной лаской в голосе: — Даже смотреть противно.
Валерьян радостно и суетливо бегал по комнате.
— Поправилась, — сказал он. — Вот что делает Давос! Еще только одну зиму здесь прожить — и будет здорова.
Наташа укоризненно посмотрела на мужа.
— Еще одну зиму?! — протянул Сила Гордеич. — Эх-хе-хе! Вижу: раскормить-то ее раскормили, а в глазах все равно жизни-то нет.
— Это не от болезни, — возразил Валерьян: — вот по бутузу своему стосковалась.
Потрепал сына по румяной щечке, пощекотал.
Мальчишка смеялся, мотая головой, и властно расположился на коленях матери.
— Как вы доехали?.. И как это хорошо вздумали!.. Почему не телеграфировали? Встретил бы, — волновался Валерьян.
— Да так уж… вдруг решил… Ну и надоел мне этот разбойник! Всю дорогу спать не давал: только заснешь в вагоне после обеда, а он пальцами глаза мне ковыряет: «Дедушка, не спи, мне ску-ушно». Хе-хе! Ленька, любишь меня? — обратился он к внуку.
— Нет! — искренно ответил Ленька.
Сила Гордеич юмористически поднял брови.
— Отчего?
— Да я вообще стариков не люблю.
— Ах ты, дипломат!.. Это уж черновское, — подмигнул он Наташе. — А помнишь, как я тебя в вагоне нахлопал?
— А я тебя нахлопал, — по-приятельски улыбаясь, возразил Ленька. — Ты — меня, а я — тебя.
— Высунулся из окна и машет картузиком. Я говорю: «Эй, Ленька, не вздумай бросить картуз». Он сейчас же и бросил. Вот без картуза теперь. Я ему и всыпал по мягкому-то месту.
— А я тебе всыпал! — бойко возразил внук, нисколько не боясь сурового деда.
— Ах ты, р-разбойник! — смеялся Сила Гордеич и добавил: — Совсем не в мать он характером-то. В отца, видно…
— И слава богу, — улыбалась Наташа, снова обнимая сына. — Где он тебя нахлопал?
— Вот здесь. Да не больно было. Я ему сам…
— Миленький ты! — Наташа страстно целовала ребенка.
— Вы надолго сюда? — спрашивал Валерьян.
— С недельку пробуду. Обещалась подъехать Варвара с мужем, проводят меня до Парижа…
— Ах, как хорошо! — обрадовалась Наташа. — Давно я Варю не видела.
Сила Гордеич вздохнул.
— Разбрелись вы все у меня, кто куда: братья твои в деревне сидят, тоже и их редко вижу… Мудреное какое-то нездоровье у них. Весной хотят на Ривьеру ехать, деньгами сорить. Жили бы по-нашему, попросту, без затей — так никаких бы этих Давосов и Ривьер не спонадобилось.
— Я тоже на Ривьеру поеду, — заявила Наташа: — с братьями повидаться.
— Ну, это — как еще доктора тебе скажут.
— Надоели…
— Мало ли что!
— На Ривьеру отпустят, взбунтоваться если…
— Вот ты какая стала! Ну, это потом видно будет.
Сила пожевал губами, вздохнул и покачал головой.
— Не по тому пути жизнь пошла, — обратился он к Валерьяну. — В деревне хулиганство да пьянство несусветное, не знай с какой радости. Наш брат, коммерсант, что-то карман поджимает, и — нехорошо говорят… Вроде того, что перед пятым годом было, только хуже…
— Конституции, что ли, хотят? — улыбнулся художник.
— А черт их знает, чего они все хотят! — с раздражением рыкнул Сила Гордеич. — Самим не ведомо, чего им надо. Ваша братия, интеллигенция, все по книгам рассуждает, а мы жизнь видим…
— Вот и вздумал Европу поглядеть… не для вояжу, конечно: дела есть! — Сила стал прощаться.
В Давос приехали Пироговы, вызванные Силой Гордеичем из Лондона для родственного свидания и совместной поездки в Париж.
В тот же день старик пригласил обеих дочерей с их мужьями, отобедать вместе в ресторане «Кургауза».
Валерьян с Наташей спустились из комнаты Силы Гордеича в маленькую столовую, где в назначенный час никого, кроме них, не было.
Через несколько минут пришли Пироговы. В дверях показалась Варвара в черном гладком платье, в гладкой прическе, похудевшая и постаревшая, с походкой театральной герцогини, с лорнеткой и вопросительной улыбкой на тонких губах: лицо ее выражало готовность разыграть родственную встречу. За ней вошел Пирогов, все такой же, как и прежде, с неподвижным, бритым лицом, с достоинством и непринужденностью знаменитого человека.
Разговор сразу разбился на две группы. Пирогов с деланной английской флегматичностью рассказывал Силе Гордеичу и Валерьяну об Англии и англичанах.
Сестры сидели отдельно на диванчике в уголке в разговаривали вполголоса.
— Понимаешь, — смеясь и играя лорнеткой, говорила Варвара, — все наши английские друзья думают, что русский депутат сэр Пирогоф — богатый человек, миссис Пирогоф — урожденная русская графиня, дочь графа Чернофф, помещица и миллионерша. Отец наш — миллионер, это, конечно, правда; но чтобы дочь миллионера жила, так сказать, по-пролетарски, это в их головах не укладывается. А между тем папа высылает только сто рублей в месяц, и это — главный наш фонд. Зато мы приняты в высшем английском свете, очень приятно и любопытно, но приходится, попросту говоря, врать и разыгрывать какую-то рискованную роль. Пирогов, разумеется, — известное имя, но ведь он теперь только эмигрант… Если не скрывать нашу бедность, все эти английские деятели и на порог бы не пустили бедняка-эмигранта, будь он хоть тысячу раз знаменит: они ни за что не поймут и даже не поверят, что русский студент из крестьян каким-то чудом прошел в депутаты Государственной думы. Бываем в таком чопорном обществе, какого ты себе и представить не можешь. Но к себе никого не приглашаем и даже адреса настоящего не даем: если бы только знали великосветские друзья русского депутата, в какой дыре живет он со своей графиней!
Наташа молча слушала, опуская глаза.
— Я там больше с англичанами, чем с эмигрантами, — разглагольствовал Пирогов. — Ведь наши везде в собственном соку варятся, европейцы сторонятся их… Чтобы быть принятым в английской семье, нужно что- нибудь особое. Мне помогло депутатское звание. Там думают: если депутат, так, само собой разумеется, денежный человек. Ну, мы их и оставляем в этом приятном заблуждении, — пускай.
— Фасон держите, — подсказал Сила Гордеич, беззвучно смеясь.
— Всю неделю работаешь где-нибудь на заводе, а потом — фрак, манишка, и уже мы — на званом вечере. Кругом роскошь, затянутое общество, известные имена. Знаете, я начинаю ценить английскую аристократию: там чувствуются традиции, порода лучших, умнейших и красивейших людей нации. Английская аристократия нисколько не вырождается, она все еще мозг страны. Такую аристократию невольно приходится ценить и с ней считаться, хотя я и работаю теперь неофициально в рабочей партии.
Сила Гордеич слушал с тактичной, умной улыбкой. Видно было, что ему, ненавистнику русской аристократии, лестно отношение английской к его дочери и зятю.
— К сожалению, — отозвался Валерьян, — о русской аристократии нельзя сказать, чтобы она была породой лучших, умнейших и красивейших людей нации. Может, это было когда-нибудь, но теперь тип русского дворянина всем известен: брюхо толстое, ноги тонкие, лоб атлета.
Пирогов и Сила засмеялись. В особенности долго смеялся последний. Посыпались остроты; зятья не давали друг другу спуску, состязаясь в остроумии.
За обедом Пирогов вспомнил о тех временах, когда он еще студентом впервые эмигрировал за границу.
— Понимаете, очутился я без языка, без денег, без знакомств в Париже. Жили мы тогда вдвоем с одним скульптором — в Латинском квартале, на чердаке. У двоих — одна шляпа, один костюм. Когда одному надо идти, другой сидит дома. Великолепно жилось. Скульптор лепил маленькие статуэтки, а я носил по улицам Парижа их продавать на этакой, знаете, доске с ремнем через плечо. Ничего, покупали бойко: скульптор-то хороший был, знаменитостью стал теперь. Я усиленно изучал язык, выучился, стал работать в газете.
— Значит, вы французским языком владеете? — спросил Сила Гордеич.
— Как природный француз. Париж знаю, как самого себя. Да, потом перекочевал в Берлин; немецкий-то язык я и прежде знал, поступил в университет. Заделался этаким заядлым немецким буршем: пиво пил, на рапирах дрался. А на заводе по химии работал. С рабочими был, как свой… Потом — в Англию. И уже здесь основался. Люблю эту страну. Отшлифовался так, что многие меня и сейчас за настоящего англичанина считают. Выучился боксу, могу пить все ихние напитки: дайте мне сейчас джину — выпью, сода-виски (дегтем пахнет!) — выпью!
— И ничего? — юмористически поднял брови Сила.
— Ни-че-го!
— Отшлифовался, нечего сказать! Хе-хе-хе!
Рассказав несколько забавных случаев из своей жизни, Пирогов незаметно перешел к серьезным рассуждениям о европейской политике. Здесь он сел на своего конька. Этот незаурядный человек легко захватил внимание слушателей. Привыкнув выступать то на рабочих митингах, то в аристократических салонах и обладая блестящим даром слова, он искренно и, может быть, преувеличенно верил в себя и свои силы, верил, что так кратко мелькнувшая звезда его снова засияет в те дни, когда придет вторая революция. Пирогов не причислял себя ни к одной из русских политических фракций, думал, что революция принесет парламентский строй, подобный английскому. Все его политические симпатии принадлежали английской рабочей партии. Ее лояльность казалась ему идеалом будущего строя в России.
Сила Гордеич насквозь видел этого ловкого краснобая, который и соврет — недорого возьмет. Давно учел авантюризм его натуры, способность сделать при удаче политическую карьеру, но не верил в его устойчивость Ведь обманул же когда-то Пирогов Силу Гордеича, баллотируясь в Думу. Обещал отстаивать интересы торгово-промышленного класса, а как проскочил в депутаты, запел другое. Как на такого человека положиться? Будет выгодно — пойдет с социалистами, или как их там еще называют? Отчасти из таких соображений Сила Гордеич не давал Варваре более ста рублей в месяц: боялся, как бы от его денег не перепало на революцию, а повторения ее Сила Гордеич совсем не хотел. Опасался он и теперь, как бы знаменитый зять не вздумал просить у него денег, причем твердо решил отказать. Проедутся с Варварой на его счет по Европе — и то хорошо. По купеческой привычке расценивал Пирогова не как депутата, а как бедняка.
Когда после обеда все пошли в комнаты наверх, Пирогов удержал Валерьяна за рукав.
— Пойдем в курилку, покурим.
Усевшись в плетеные кресла, они вынули трубки.
— Знаешь, Валерьянушка, что я тебе скажу? — совсем другим, задушевным тоном начал Пирогов. — Ты не удивляйся, что я так много о моих друзьях-аристократах говорил и себя хвалил: это для дедушки, — честолюбивый старик. Лестно ему, что я и в эмиграции — все-таки Пирогов.
Он затянулся из коротенькой трубки, выпустил дым и, помолчав, продолжал:
— Придется мне взять у него взаймы немножко, так, пустяки какие-нибудь, тысченки три. Так вот: как ты думаешь — даст ли? Неужели решится отказать — Пирогову?
Валерьян неопределенно развел руками.
— Не знаю, — пробормотал он, запинаясь. — Мне лично никогда не приходилось иметь с ним денежных дел. Я бы не сказал, что он скуп, но тут психология богатого человека: попросить у него денег без гарантии отдать — значит почти оскорбить его. Деньги — больное место для таких людей…
Во время этого разговора в комнату вошли давосские друзья Валерьяна: Абрамов и Евсей. Валерьян представил их Пирогову.
— Мы к вам по делу. — сказал Абрамов. — Есть у вас время поговорить?
Они уселись с деловым видом, держа шляпы на коленях.
— Очень приятно, что случай свел нас, — сказал Евсей Пирогову.
Бывший депутат с важным видом наклонил голову с английским пробором и улыбнулся.
— Дело в том, — продолжал Абрамов, — что мы наконец получили субсидию для открытия русского журнала с условием, чтобы во главе журнала стояло ваше имя, Валерьян Иваныч. Вот мы и пришли к вам просить принять редакторство художественного отдела.
— А вас, — обратился зоолог к Пирогову, — будем просить давать статьи по отделу европейской политики. Ваше имя очень ценится в политической литературе.
— Просим вас обоих, — заговорил опять Абрамов, — пожаловать сегодня вечером на редакционное собрание. Соберемся здесь же, в «Кургаузе». Передайте приглашение и вашему тестю: может быть, он заинтересуется нашими начинаниями…
Организаторы журнала тотчас же встали и ушли. Депутат и художник, оставшись одни, переглянулись.
— Ну, что, Валерьянушка, возьмешь журнал?
— Обязательно! Ведь они моим именем получили субсидию, хлопотали с моего согласия. Присылай и ты статьи.
Пирогов печально улыбнулся. При посторонних у него был важный, высокомерный вид, но теперь перед Валерьяном сидел грустный, измученный эмигрант.
— Откровенно скажу тебе, но только между нами, Валерьянушка: иметь постоянный заработок, хотя бы на сто, на двести франков в месяц — в моем положении это якорь спасения. Мы ведь на занятые гроши приехали сюда, в надежде, что тесть поддержит; но если он откажет, положение будет трудное. Только тебе одному по секрету, по душе говорю: живем мы с Варварой в бесконечной, неизбывной эмигрантской нужде. В Лондоне, как ты уже знаешь, я выдаю себя за состоятельного человека, каким у них полагается быть всякому члену парламента, но по этой же причине я не могу обращаться с просьбами о заработке. Пишу в Россию корреспонденции, получаю гроши, а часто ничего не получаю. Вот как живет бывший депутат Государственной думы Пирогов! Ты еще не знаешь, что значит быть эмигрантом: это — проклятие, жена вся извелась… изозлилась… Отец, само собой, не сочувствует ни революции, ни эмиграции… Ведь только поэтому он и жесток с нею. Я это понимаю, но что же будешь делать? Выхода нет. Даже эти несчастные сто рублей, которые она получает, для нас являются богатством. Я революционер-эмигрант. Какого же сочувствия можно ожидать от купца, от банкира, когда мы революцию против них подготовляем? Остается — взять нахрапом, нахалом, мертвой хваткой, хоть раз, но хороший куш.
— Не даст! — со вздохом возразил Валерьян.
— Добром не даст — так Варвара вытянет у него из глотки, не слезами, так хитростью, все равно. Я понимаю, что это отчаянье, бред затравленного зверя, но что делать? Что делать, Валерьянушка?
Голос Пирогова дрогнул. Он протянул руку художнику и, крепко пожимая ее, прошептал:
— Дай хоть ты мне в твоем журнале какую ни на есть работишку… Вот как подошло!
Пирогов взял себя за горло.
В комнате Пироговых Варвара и Наташа встретили их смехом.
— Куда вы запропастились? — спросила Наташа. — Здесь столько народу было!
— И все просители, — саркастически прибавила Варвара. — Все хотят выпросить денег у нашего отца взаймы, без отдачи. Целая депутация была от «Русского общества». Весь эмигрантский Давос зашевелился: богатый буржуй приехал! Говорят, что если у него зятья такие знаменитые и, конечно, идейные люди, значит, и он не может не сочувствовать эмиграции. Ха-ха!
Вошел Сила Гордеич.
— Хотел заснуть после обеда, — добродушно гудел он, — нет, никак не засну. Воздух здесь, что ли, такой, — на нервы действует?
— Папа! — брякнула вдруг Наташа, не поднимая опущенных глаз. — Дайте мне полтораста рублей.
Сила поднял брови.
— Зачем тебе? Ведь Кронид, надеюсь, аккуратно высылает.
— Мне нужно.
— А у меня и денег-то с собой нет никаких. — Сила Гордеич с сожалением развел руками. — Все в Париж через банк перевел, оставил только на дорогу. Если уж очень нужно, телеграфируй Крониду — переведет.
Он подозрительно и вместе проницательно посмотрел поверх очков на обеих дочерей.
Варвара зло усмехнулась.
— Да она не для себя — с благотворительной целью. Эмигранты тут приходили просить: пронюхали, что у вас деньги есть.
Сила Гордеич вскочил.
— Эмигранты! Ну, уж для кого-кого, а для эмигрантов у меня денег нет! Эмигранты! Ха-ха! Это которые революцию хотят сделать, что ли? Ну, нет! Я, правда, добр, в моей жизни мухи не обидел, но этих — своими бы руками повесил, а не то, чтобы им денег давать. Да и нет у меня ничего: все по простоте моей в долг роздал. На своих кровных не хватает. Уж не говоря о том, что все больны, всех надо лечить… Ты у меня эти штуки брось! — строго сказал он Наташе. — Думал, что здесь, у своих, отдохну душой, хоть на время забудусь. Так нет! Кажется, на край света убеги — и там за карман схватят.
Валерьян, чтобы замять неприятный разговор, начал говорить о журнале и передал приглашение на редакционное собрание.
— Что ж, придти послушать можно: все-таки коммерческое дело. Погляжу, что вы там затеяли. Не пришлось бы, Валерьян Иваныч, своих докладывать? Будьте осторожней!
Вечером в гостиной «Кургауза» состоялось редакционное собрание. Кроме Абрамова и Евсея, пришел еще длинный, смуглый студент. Семова сопровождали Пирогов и Сила Гордеич.
Абрамов произнес вступительное слово.
— Пока у нас имеется оборотный капитал в три тысячи франков. Этого, разумеется, мало, но для начала хватит. Очень важно участие в журнале таких известных русских имен, как художник Семов и депутат Пирогов. Редакция обращается к ним с просьбой дать журналу не только свои имена, но и принять в нем активное участие. Валерьян Иваныч живет здесь, в нем мы уверены, но вас, уважаемый товарищ Пирогов, мы просили бы для первого номера дать нам статью. Может быть, успеете здесь написать.
Пирогов принял напыщенно-высокомерный вид. Медленно цедя слова сквозь зубы, он отвечал свысока:
— Э… э… гм!.. гм!.. Я, конечно, весьма сочувствую и сделаю с моей стороны все возможное, чтобы поддержать ваши начинания, но редакция должна помнить, что я — Пирогов. Я завален другими, более важными и ответственными делами, общеполитического и государственного масштаба. Повторяю, я очень занят, но, может быть, мои обязанности перед рабочей партией в Англии все-таки позволят мне уделить внимание вашему маленькому, но симпатичному журналу. Весьма возможно, что я смогу… э… э… уделить часть моего до-ро-го-го времени и поддержать дело, во главе которого стоит мой друг. В настоящее время я даже в дороге занят серьезной статьей для большого английского журнала, но через месяц постараюсь прислать…
Валерьян был поражен внезапным перерождением Пирогова, всего два часа назад робко просившего у него «какой-нибудь работишки в журнале».
Сила Гордеич слушал эти речи с непроницаемым видом.
— Мы очень благодарны вам, — в тон Пирогову отвечал Абрамов: — ваше имя украсило бы не только наш скромный, начинающий журнал, но и всякий другой. Мы приглашаем вас к регулярному участию в журнале, а пока будем ожидать, что вы уделите нам часть вашего дорогого времени. — Тут Абрамов тонко, ядовито улыбнулся. — К сожалению, средства наши пока маленькие, наша задача — расширить их, заинтересовать журналом и других русских людей, — Абрамов искоса взглянул в сторону Силы Гордеича, — имеющих возможность оказать материальную поддержку аполитичному, беспартийному, чисто художественному журналу.
Абрамов говорил долго, но Сила Гордеич не дослушал его речь до конца. На него вдруг напал припадок старческого, продолжительного кашля. Он старался сдержать и заглушить кашель носовым платком, однако ему стало неловко нарушать собрание: встал и, продолжая кашлять, на цыпочках вышел в коридор. Оттуда еще долго доносился мучительный, затяжной кашель «Добрый» старичок вынужден был удалиться в свою комнату, откуда так и не вернулся.
IV
Дмитрий и Анна выехали за границу по совету врачей, безнадежно лечивших Дмитрия. Прописали ему путешествие, смену климата и впечатлений и, наконец, санаторное лечение на Ривьере. Дмитрий не обратил бы внимания на эту болтовню докторов и продолжал бы лежать до скончания своего века, если бы за эту мысль не ухватилась Анна, которой улыбалась заграница, тем более, что в доме ее родителей назревала драма между отцом и сыном. Пьянство и скандалы Михаила стали походить на припадки сумасшествия, и поэтому Анна и Дмитрий очень редко бывали в доме Блиновых; дружба двух породнившихся купеческих домов давно прекратилась, а в доме Черновых просто перестали интересоваться Блиновыми. Вульгарная старуха была всегда невыносима, старик болел, а вечно пьяный Михаил скандалил. Обе семьи, поженив Дмитрия и Анну, оформив это коммерческое дело, как бы умыли руки и не находили причин поддерживать не только родство, но и знакомство. Дмитрий никогда не бывал у тестя, Анна заходила к родителям редко и всегда наталкивалась на тяжелые сцены. Михаил несколько раз допивался до галлюцинаций, был в психиатрической лечебнице, но по выходе оттуда запил еще безобразнее. В пьяном виде Михаил грозился убить отца.
Был слух, что Михаил формально лишен наследства, а отец хлопочет о заключении сына в сумасшедший дом.
Анна боялась сделаться свидетельницей какой-нибудь уголовщины и отчасти поэтому убедила мужа поехать за границу. Родителей своих она не любила, а брата ненавидела.
Отправив багаж в Ниццу, они поехали налегке. Решив совершить путешествие по Швейцарии, они по предписанию врачей хотели часть пути пройти пешком.
Погода стояла великолепная. Было тихое апрельское утро. В вагоне оказалось просторно. Поезд то и дело останавливался на маленьких станциях, не более как на две, на три минуты. Пассажиры постоянно менялись. Поезд шел извилистым коридором узкой долины между зеленеющих невысоких гор, из-за которых вдалеке серебрились зубцы вечных снеговых вершин, стоявших торжественной толпой. На склонах гор зеленели пастбища, паслись стада овец и коров, позванивавших колокольцами; виднелись высоко над долиной хижины пастухов, и часто встречались деревни с готической церковкой.
Дмитрий на каждой станции выходил из вагона на перрон — снять кодаком какую-нибудь интересную фигуру: он любил фотографировать. Но Анна тревожно следила за ним с площадки вагона, боясь, как бы он по глухоте своей не остался.
На одной стоянке Митя заинтересовался необыкновенной фигурой красавца-старика в оперном костюме: в широкополой зеленой шляпе с орлиным пером, в распахнутой коротенькой куртке, открывавшей обнаженную высокую грудь, украшенную большой медалью на серебряной цепи, в узких зеленых штанах до колен и в башмаках с серебряными пряжками. За плечами висел короткий зеленый плащ. Голые до колен ноги старика были стройные, точеные; лицо с почтенной седой бородой поражало тонкостью очертаний; красивые гордые глаза выражали ум и достоинство. Встречные почтительно расступались перед ним и кланялись, а он шел, как театральный король, едва кивая головой на все стороны и чуть-чуть улыбаясь.
Дмитрий с аппаратом наготове последовал за ним в буфет маленькой станции, но едва щелкнул кодаком, как почувствовал позади себя какое-то движение, — оглянулся и обомлел от страха: мимо станции уже довольно быстро мелькали вагоны отходившего поезда. Кинулся на перрон, но выход оказался загороженным высокой проволочной сеткой. Опомнился Дмитрий на площадке вагона: как он туда успел вскочить, подлез ли под изгородь или повалил ее, — он и сам впоследствии не мог вспомнить. Анна сидела в купе и плакала, когда он неожиданно перед ней появился.
— Митя!.. Я думала — ты… погиб. Хотела слезть на другой станции. Отберу кодак!
— А все-таки я снял старика. Какая странная фигура! — серьезно размышлял вслух Дмитрий. — Мне кажется, это — тиролец в национальном костюме… И какой важный! Все ему кланяются.
— А у нас бы смеялись, — возразила, сердясь, Анна: — нарядился, как попугай. Как я волновалась! Разозлилась так, что даже теперь не могу успокоиться.
Анна вынула зеркальце и пудру, стала пудрить покрасневший нос.
— Замечательный старик!
— Совсем меня это не интересует… Больше я не позволю тебе выходить из вагона… Ведь лечиться едешь, а тут от одного страху заболеть можно. Ну, что бы ты стал делать, если бы остался? Языка никакого не знаешь, ничего не слышишь, да и по-русски-то заикаешься…
— Сел бы в следующий поезд, а то — пешком. Ведь мне предписано пешком ходить, — отшучивался Дмитрий.
Анна отвернулась, показывая вид, что все еще сердится.
Поезд выскочил из горного ущелья в долину и остановился на берегу широкого, как море, озера. Отдаленный плоский берег чуть-чуть виднелся на горизонте. У пристани дымился маленький пароход дачного типа. Все пассажиры высыпали из вагонов, переходя на открытую палубу парохода. Перешли туда и Митя с Анной. Багаж их заключался в дорожном брезентовом мешке за спиной Дмитрия.
Над озером сгущались дождевые облака, дул ветер, темно-синие волны серебрились белыми гребнями. Через несколько минут пароход отошел. Плыл он около часа и наконец пристал к маленькому городку, занимавшему перешеек между этим озером и другим, узким и длинным, похожим на судоходную реку, где уже ожидал туристов довольно большой пароход с каютами, верхней палубой и красными лопастями колес. Все путешественники перешли через городок и вскоре заняли палубу парохода.
Озеро, напоминавшее широкую реку и заключенное между высоких и крутых гор, густо поросших кудрявым лиственным лесом, уходило вдаль. Пароход быстро отчалил и, звучно лопоча колесами, побежал серединой замечательно тихого голубого озера. Здесь начиналась система знаменитых итальянских озер Лаго-ди-Комо и Лаго-Маджиоре, считающихся чудом природы, куда стекаются туристы со всего мира.
Волжане нисколько не были поражены красотой Лаго-ди-Комо. Зеленые горы, почти отвесно высившиеся с обеих сторон, подернулись прозрачным теплым туманом; царила необычайная тишина: горы не пропускали ветра. В окружающем безмолвии чувствовалось ласково-задумчивое, нежно-грустное настроение.
— Как тут красиво! — сказала Анна.
— По-моему, ничего особенного: на Жигули похоже, только там лучше — везде жизнь, города-то наши какие! Златоглавые! А пароходы ходят — не чета этой старой калоше…
— Ах, Митя, здесь уж потому лучше, что жизнь другая: нет родителей наших, нет моего несчастного брата, нет ругани, сплетен, скандалов, — все там, далеко, на «милой родине» осталось.
— Разве что так, — улыбнулся Дмитрий и, помолчав, сказал: — С Волги, бывало, посмотришь на наш город — красота, величие. На высоченной горе стоит над рекой, лучше которой в мире нет. Кажется — какие люди-то должны жить там! А на самом деле серенькая, скучная жизнь, однообразие, одиночество всеобщее. Мразь, грязь, свара, злость. Без уюта, некрасиво, холодно, скучно живут у нас, и никто не замечает, не ценит того, например, что Волга хороша, что Жигули лучше Лаго-Маджиоре. Вот и мы — поехали сюда отдохнуть от некрасивой жизни, только и всего. Я и болен-то от нее, от жизни нескладной.
Дмитрий вздохнул. Тени нескладной жизни как бы сопровождали их здесь, в путешествии по прекрасной чужбине.
— Отцы нам портят жизнь, — после долгого молчания изрек Митя. — С такими деньгами как бы можно жить хорошо!
Пароход звучно барабанил колесами, поднимая голубые волны. Горы все гуще заволакивались белым туманом. Стал накрапывать мелкий теплый дождь. Вся природа кругом как бы дышала задумчивой грустью. Публика перешла в каюты, палуба быстро опустела.
Ночью приехали в Люцерн. Дождь прекратился. На перроне при свете электричества все блестело, омытое дождем. По случаю ненастья все туристы спустились с гор, и гостиницы оказались переполненными. В таких случаях хозяева частных квартир в Швейцарии несут общественную повинность — выходят на вокзал встречать и забирать к себе застигнутых непогодой. Дмитрий и Анна достались провожатому-мальчику, который заговорил с ними по-немецки, приглашая следовать за ним.
Довольно долго шли по тротуарам небольшого, чистенького городка. Наконец мальчик ввел их в подъезд двухэтажного каменного дома и, поднявшись во второй этаж, позвонил. Двери открыл плотный мужчина с темной бородой, — по-видимому, сам хозяин квартиры. В столовой высился дубовый резной буфет с такою же мебелью. Большая немецкая семья с несколькими детьми школьного возраста окружила туристов, приветливо улыбаясь и пытаясь разговаривать по-немецки. Кое-как отвечала Анна. Хозяйка, пожилая, но еще румяная, опрятно одетая немка, предложила кофе, а хозяин распорядился принести в столовую кровать из другой комнаты. Прислуга при участии всей семьи приволокла широкую двуспальную кровать, поставив ее посредине комнаты.
Хозяин с добродушным и весело-хитрым видом потирал руки, что-то говорил Анне. Она поняла и перевела мужу, что вся семья хочет сделать из их визита сюрприз старшему сыну, который скоро придет и еще ничего не знает. Все они улыбались, предвкушая, как он удивится. Поглядывали на путников, на дверь и ждали. В передней зазвонил звонок, вся семья с ликующими лицами торжественно выстроилась у притворенных дверей. Вошел розовый юноша и, увидя кровать и гостей, остановился в простодушном недоумении. Семья аплодировала. Русские гости с интересом наблюдали этот домашний быт немцев, казавшийся им сентиментальным и немножко смешным.
Семья была, по-видимому, среднего достатка, благополучная. Хозяин по внешности походил на небогатого коммерсанта, вероятно, имел какой-нибудь магазин или контору. Акцент Анны заинтересовал всю семью. Кто они такие? Откуда едут? из Франции? из Италии? из Англии? Нет, русские? Все пришли в изумление. Отец обвел всех торжественным взглядом и начал что- то говорить: они еще никогда не видели русских и никак не ожидали, что русские похожи на культурных людей. Русские туристы совсем не похожи на то, что известно в Европе о людях этой холодной страны, где круглый год много снега. Вероятно, они бояре, аристократы? Помещики? Ах, это понятно: молодые русские помещики, владельцы необъятных русских степей… Они хотят пройти пешком через Альпы? Это можно. Много туристов едут и идут пешком через Альпы. Дождь кончился, завтра будет отличная погода. Нужно доехать отсюда до маленького городка Туна, а там пешком через мост… Страшно ли? Хе-хе! Нисколько. Отличная шоссейная дорога, можно идти без калош, в одних башмаках. Но теперь пусть они поскорее лягут спать, чтобы завтра встать в семь часов к поезду.
Разговор на немецком языке действовал на Анну утомительно, у нее заметно слипались глаза. Вся семья пожелала гостям «гуте нахт» и деликатно оставила их вдвоем, плотно затворив двери столовой.
Утром, еще до семи часов, путники были на ногах. Все в доме спали… Чтобы не будить хозяев, не стали умываться, вытерли лицо одеколоном, положили на стол три франка и на цыпочках вышли из квартиры.
После вчерашнего дождя свежее, тихое утро обещало солнечный день. Вокзал оказался недалеко. Поезд стоял наготове, и путники забрались в вагон по русской привычке за четверть часа до отхода: кроме них, никого не было в вагоне.
— На этот раз у меня даже бессонницы не было, — сказал Дмитрий: — путешествие в самом деле хорошо действует на нервы. А ты — выспалась?
— Я спала крепко, только сон нехороший видела, уж теперь и не помню что.
За минуту до отхода в вагон хлынула откуда-то взявшаяся толпа, и он сразу оказался переполненным. Поезд пошел. Из окна видно было голубое тихое озеро и крутые зеленые горы, окружавшие его. Скоро озеро исчезло за поворотом.
В Тун приехали скоро, едва только солнце обогрело. Отсюда начинался перевал через Альпы, вдали виднелась грандиозная панорама снежных вершин.
Городок оказался крохотным, меньше иной деревни, занимая маленькую, ровную площадку у подножия зеленых гор, стоя как на ладони, напоминая что-то искусственное, как театральная декорация. Старинные готические домики с крутыми кровлями, крытыми черепицей, старая готическая церковь. На узких, неправильных, игрушечных улицах царствовали безлюдье и тишина: городок был так мал, что в нем не было даже извозчиков, казался случайным остатком средневековой жизни, которая словно еще не умерла в этой горной глуши. Навстречу попались две женщины в костюмах Маргариты и Марты. Путники шли серединой шоссе и, миновав городок, невольно оглянулись.
— Какой уголок прелестный! — сказала Анна. — Наверно, люди тут живут счастливо и любят до гроба.
— «В Туне жил король…» — козлиным баском запел Дмитрий.
Через четверть часа дорога уперлась в отвесную скалу и, огибая ее влево, повела в пролом между двумя горами, где и терялась за нависшими громадами скал. У подъема при дороге, прислонясь к скале, стоял маленький одноэтажный домик с верандой и беленькими столиками на веранде. Над входом была вывеска с готической надписью.
— Чертов мост! — удивленно перевела Анна.
На гладкой, отвесной, как стена, скале был нарисован черной краской гигантский черт, величиной в несколько сажен, с рогами, хвостом, с высунутым красным языком и красными глазами. Когтистой лапой он показывал на кабачок и как бы приглашал выпить и отдохнуть. Внизу зияла глубокая пропасть, на дне шумел поток.
— Так это есть знаменитый Чертов мост? — разочарованно спросила Анна. — Но где же он? Я не вижу никакого моста.
Дмитрий поднял голову кверху, к страшным вершинам, возносившимся к небу.
— Моста и тогда не было: Суворов переходил вот через эту чертову щель, где, видишь, бежит вода. Не было ни шоссе, ни кабака.
Дорога шла между отвесных гор все выше. Казалось, что весь путь через Альпы будет походить на это грозное ущелье, напоминавшее вход в дантовский ад, но, взобравшись на вершину горы, они увидели расстилавшийся перед ними обширный, ровный зеленый луг, куда вела все та же дорога; скалы остались внизу. Ровное зеленое поле на вершине горного хребта постепенно повышалось. Вдали белела колокольня горной деревушки.
По дороге, впереди и позади них, двигались разрозненные фигуры туристов с альпийскими мешками за спиной, в кожаных гетрах, с длинными палками в руках, иногда проезжали экипажи.
Солнечная погода быстро изменилась. Небо заволоклось дождевыми облаками, стал накрапывать дождь. Пришлось вынуть из котомки плащи. Вместо дождя пошел снег крупными, пушистыми хлопьями и тут же таял на дороге. Пыльное шоссе покрылось жидкой, хотя и неглубокой грязью.
Невдалеке, при дороге, сквозь пелену падавшего снега завиднелось небольшое здание. Лишь бы как-нибудь до него добраться: там они попросят приюта и переждут снег. Может, какой-нибудь случайный экипаж попадется.
Здание оказалось придорожным отелем, или скорее— маленьким кабачком, состоящим всего из двух комнат: в одной помещалась буфет-столовая, битком набитая туристами, а другая, приспособленная для ночевки, была уже занята.
С трудом получили два стула за общим столом. Спросили кофе. В окно было видно, как гуськом шли туристы в альпийских башмаках на толстых подошвах. Некоторые продолжали свой путь, не останавливаясь и не обращая внимания на падающий снег, другие заходили в отель передохнуть и переждать. Народу в комнате все прибавлялось.
Из общего говора Анна поняла, что снега бояться нечего: он скоро пройдет; а ночевать все равно негде. Анна натерла ногу, которая так болела, что о ходьбе нечего было и думать. Решили сидеть и ждать, не попадется ли попутный экипаж.
Экипажи проезжали мимо довольно часто, но все были с пассажирами и, не останавливаясь, двигались дальше. Так сидели они часа два. Кругом все побелело от свежевыпавшего снега. Вдруг подъехал и остановился большой экипаж без пассажиров, запряженный парой прекрасных вороных лошадей.
Анна вступила в переговоры с кучером: он возвращался домой в долину Роны и согласился довезти их до ближайшей станции железной дороги всего только за двадцать франков; это было дешево, но и такую сумму никто из туристов не хотел тратить.
Только что отъехали, как в природе опять произошла феерическая перемена: дождя, вьюги, снега — как не бывало, засияло жаркое солнце, с гор побежали ручьи от быстро таявшего снега. Это напоминало русскую весну.
Картина была поражающая: над горами, покрытыми, как серебром, только что выпавшим ослепительно-чистым снегом, царило прозрачно-синее небо, кругом величавой толпой стояли конусы как бы сахарных голов, вдали и вверху над горизонтом возносился к небесам грандиозный горный хребет, как бы вылитый из серебра.
Ехали долго, дорога начала спускаться с перевала. Совсем близко проехали мимо грандиозного глетчера, похожего на хвост бобра, из-под которого вытекал маленький ручей, внизу обращавшийся в глубокую реку. Начались опять бирюза, изумруд и бархат ласковых гор, сады и виноградники…
— Спроси кучера, как называется этот бобровый хвост?
— Роннен-глетчер, — послышался ответ.
— Он говорит, что отсюда вытекает Рона.
Анна спросила еще что-то, указывая на ледяного мертвеца.
— Монблан, — равнодушно ответил кучер.
Черные, взмыленные кони быстро уносили их в цветущую долину, но Монблан все еще плыл за ними, тяготя, как привидение.
V
Михаил Блинов жил отдельно от родителей, во дворе роскошного отцовского дома, в хибарке, предназначенной для кучера и работников, с маленькими окнами, низким потолком, оклеенным газетной бумагой. В ней было мрачно, грязно, неприбрано. Вся обстановка странным образом навевала мысли о преступлении и самоубийстве. Солнце редко заглядывало в никогда не мытые окна, как бы стыдясь мерзости и запустения, царивших в этом логовище. Старая железная кровать, занимавшая большую часть комнаты, оставалась всегда неубранной, у окна печально стояли некрашенный стол и два хромых, продавленных стула; по углам висела паутина, на полу были грязь, плевки и окурки, но главное, что прежде всего бросалось в глаза, — это обилие пустых бутылок; они были различной величины — большие, маленькие, из-под пива и водки, нестройной толпой стояли на подоконниках, как любопытные зрители унылой жизни наследника миллионного состояния. Бутылки попадались на столе, на стульях, в углах, нескромно выглядывали из-под кровати.
На ней лежал Михаил. Молодой человек был очень красив, с густыми, спутанными, вьющимися волосами медного цвета, но с бледным, изможденным лицом.
Проснулся он в мрачном настроении, в голове сидело что-то тяжелое, огромное и давящее. Михаил называл это состояние «медведем».
Тяжесть «медведя» причиняла страдания не только голове, но и душе Михаила. Он чувствовал равнодушие ко всему на свете и положительное отвращение к жизни. Тяготило беспричинное ощущение страха, почти ужаса не известно перед чем. Казалось, что вот-вот должно совершиться с ним что-то страшное. Чувствовал, что уже совершил какое-то преступление, и вместе с тем сознавал, что ничего подобного не было. Михаил по опыту знал, что беспричинное ощущение страха, равнодушие и отвращение ко всему проистекали от многодневного мрачного и грязного пьянства. Его мучил тонкий, но неумолкающий голос, раздававшийся в душе, укоряющий, требующий, яростный, настойчивый и властный. Он, этот голос, укорял Михаила за всю его жизнь, за все, что он сделал и чего не сделал, за всю бесполезность и бесплодность его существования, за мрачное одиночество сердца, за ненормальную жизнь. Он давно махнул рукой на эту жизнь, но тем не менее какое-то глухое сожаление, раскаяние и мрачное сознание непоправимости сочились в нем тонким ядом, медленной отравой.
Михаил долго лежал на грязной, измятой постели, в которой заснул вчера, не раздеваясь и только сбросив поддевку: она лежала теперь на полу. Тупо смотрел перед собой тусклыми, бессмысленными глазами и по временам, тяжело вздыхая, стонал.
Наконец он встал, одернул косоворотку и нетвердой походкой прошелся по комнате. В то время как в голове ощущалась тяжесть, в теле была слабость, легкость, как будто оно не имело никакого веса.
Воздух в лачуге приобрел специфический спиртной запах. Грязь и неприглядность полутемной конуры казались ему теперь особенно отвратительными, как и сам он себе, как и все на свете.
Чувство страха, боязни самого себя и своего одиночества возбудило у него настоятельное желание выйти на улицу, видеть по крайней мере прохожих, слышать уличный шум.
Он пошарил в карманах, надел поддевку и картуз, увидел на столе недопитую бутылку водки, с отвращением выпил глоток без закуски. Потом, как вор, крадучись, вышел из хибарки и шмыгнул в калитку.
Улица несколько оживила его. Солнце не то всходило, не то закатывалось: Михаил не мог сразу определить, но потом догадался, что проспал целый день. Наступал вечер.
Сквозь шум экипажей откуда-то доносились веселые и грустные звуки хриплой шарманки.
«Медведь», смягчаясь, медленно выходил из его головы. Знакомые улицы предстали в новом свете, словно он давно нс был в этом городе или смотрел на него с каланчи. Звуки города доносились как бы издалека и баюкали его. Отрывки неясных мыслей медленно ползли в голове, и он сам не знал, о чем думал.
Назойливо лезла в голову строчка из песни или стихотворения: «И прошедшего не жаль». Михаил силился вспомнить — откуда это, но так и не вспомнил.
В таком настроении он бродил по улицам, безучастно глядя на встречных людей, на проезжавшие экипажи, бессознательно ища, с кем бы встретиться. Чувство страха и ужаса перед чем-то, что должно было совершиться, не оставляло его, тяжкое предчувствие тяготило душу.
Зачем он пьет? Ведь нет в этом никакого удовольствия. Так. У отца два миллиона, а он остался полуграмотным парнем и почти до тридцати лет живет, ничего не делая. Зачем что-то делать, когда — два миллиона? Отец презирает его, считая выродком. Михаил ненавидит отца до омерзения, видеть его равнодушно не может: так и хочется схватить за бороду и ударить об пол, а потом топтать каблуками. Из-за отца, из-за скупости и черствости его озлобился Михаил, пьет горькую. Нарочно поселился в дворницкой и водит компанию с самыми последними людьми, чтобы досадить отцу. Хуже пса дворового живет Михаил. Дошел до него слух, что отец в завещании лишил его наследства, а за пьянство собирается в сумасшедший дом запереть. Что ж, заплатит деньги — и запрут на всю жизнь. А там и на самом деде с ума сойдешь.
Волосы зашевелились на голове, дрожь пробежала по телу.
— Куда деваться? — прошептал он, сжимая кулаки, и замер у двери подвального притона «Италия».
Слышались пьяные голоса, рев гармоники и пляска. Михаил, толкнув дверь, спустился по каменной лестнице.
В густом тумане от табачного дыма и винных испарений двигались и галдели какие-то фигуры. Рыжий парень с серьгой в ухе оглушительно играл на большой гармони. На спинке промятого дивана перед группой гостей сидела смуглая девка, крепкая, коренастая, похожая на цыганку, с растрепанной черной косой, перекинутой на высокую грудь, и, раскрывая объятия, очень хорошо пела под гармонь густым, низким голосом:
Не вздыхай-ка, душа Маша, Не вздыхай-кась тижало. Если друга тебе жалко, — Забывать надо его.Свирельный голос ее выделялся из общего гама, заунывно-надрывно звенел и вдруг опускался на низкие, баритональные ноты.
Гармонист, наклонив ухо к гармони, пустил зазвонистый перебор. Серебряные лады словно говорили вслед за певицей:
Я тогда его забуду, Когда скроются глаза, Уста кровью запекутся, Мил не станет целовать…Высокая, худая женщина, с бельмом на глазу, яростно ругала плюгавенького пьяного человека в потертом фраке, с алкоголическим лицом.
— Ты рази муж мне? Какой ты муж? Что ты мне приносишь из клуба? Только слава, что лакей, а ты просто опоец, пьяница! Только морду мочишь. А кто детей кормит и тебя вместе с ними? Я, воровка, кормлю вас всех. Негодяй ты!
— Ты мне душу-то… — бормотал клубный лакей, бия себя в крахмальную грязную сорочку обоими кулаками, — душу ты мне… всю…
— Наплевать мне на твою душу! — с необычайной энергией вскричала женщина, сверкая бельмом. Это бельмо придавало ее правильному, когда-то красивому лицу зловещий вид.
— Ты мне всю душу…
Белы руки разоймутся, Перестанут обнимать… —рыдало густое контральто.
При входе Михаила певица соскочила с дивана и подбежала к нему.
— Миша! зачем пришел? Не твоя компания… Тут всякое ворье собралось. Ха-ха! — Она потащила его за руку к столу. — Садись, гость будешь!
— Мы не воры, — смеясь, говорили пьющие за столом, — мы по Волге-матушке рыболовы.
— По ярманкам ездим, красным товаром торгуем.
— Он сам купец, — возразила девица. — Это Блинов, свой магазин в пассаже. У отца-то — миллиёны. Вот это кто!
— У отца! — хмуро сказал Михаил. Не у меня.
— Мещане мы. Выпей, купец, с нами, с мещанами.
Девица налила чайный стакан водки и поднесла Михаилу:
— Пей!
Михаил отодвинул стакан с отвращением.
— Водки не могу. Пива бы мне… Душа пересохла— Тоска.
— У вас тоска? — вежливо вмешался человек, похожий на монгола, с узкими щелками глаз и черной жесткой шерстью длинных волос, — купеческая? Знаю. Купцы часто пьют от тоски… У вас она своя, особенная, — от совести. P-рекомендуюсь: по призванию я есть писатель-самоучка, а по профессии — музыкант, в публичных домах на цимбале играю. Выпьем!..
— Сочинитель! — с хохотом закричала девка. — А я вот судомойкой была, теперь кшица уличная, в платочке хожу… Есть из нашей сестры шикарные, в шляпках ходят, а я — платочница. Что с того? Всякой шикарной нос утру!.. Вот они — руки — смотрите: швы да шрамы! Любовник из ревности зарезать хотел, а я не далась… отбилась.
— Зарезать? — серьезно спросил Михаил.
— Ножом. Из голенища вынул. Забыть его не могу: любил меня, даром что я — кшица. Ненавижу шикарных!.. Вот она, поглядите!
На диване, в компании «рыболовов» сидела девушка в гладком сером платье с матово-бледным, красивым, почти интеллигентным лицом, до такой степени пьяная, что поминутно икала. Голова не держалась прямо, язык заплетался, большие серые глаза «с поволокой» посоловели. Вряд ли она сознавала и видела что-либо.
— Оставьте!.. Ик! Выпила я.
Кшица жестоко и зло измывалась над подругой:
— Шикарная! В шляпке ходишь, содержателя имеешь… а нализалась — как свинья. Ни папы, ни мамы не выговариваешь. Сусло у тебя в жилах, — не кровь. А я вот, простая кшица, пью и не пьянею, петь и плясать могу. Эй, гармонист, валяй русскую!..
Гармонист грянул плясовую.
Кшица схватила со стола раскрытый складной нож и, перебрасывая его из руки в руку, по-мужски пустилась в присядку, вскидывая из-под короткой юбки сильные, мускулистые ноги в черных чулках.
Гармонь захлебывалась.
Девка плясала с чрезвычайной энергией, как бы бросая вызов «шикарной». Пьяные галдели за столом. Цимбалист подсел поближе к Михаилу.
— Вы замечаете, что даже здесь, в подонках жизни, нет равенства: существуют высшие и низшие, шикарные и кшицы… Как она жалка, эта шикарная! Все условно в мире. — Он строго поднял палец кверху и, сдвинув брови, повторил: — Все условно. Вы согласны со мной? Низшие часто бывают сильнее и ярче высших. В них больше жизни.
Он отпил несколько глотков пива, крепко поставил стакан.
— Вот и вы, например: богатый человек, во дворце живете, казалось бы — счастливая жизнь… Ах, как мы все завидуем вам!.. Но зачем же вы здесь, среди нас?
Объелись счастьем, на черный хлеб, на капусту потянуло?
— Скучно!.. — хмуро сказал Михаил.
Собеседник засмеялся.
— Скучно?! Развлечений ищете? Но почему же вас, шикарных, тянет именно сюда, как убийцу на место преступления?.. Извините, это я так, для сравнения… Сестрица ваша с супругом в Италию поехали, а вы — сюда… Кстати, учреждение сие тоже называется «Италия». Хе-хе-хе!
Гармонь рявкнула и умолкла.
Кшица, вся красная, упала на стул, тяжело дыша от пляски. «Писатель» с поклоном поднес ей стакан пива. Она выпила с жадностью. «Шикарная» заснула, свесив голову на локотник дивана, как изломанная кукла.
Финский нож, брошенный на стол, упал на тарелку перед Михаилом. Он взял его, вдвинул лезвие в рукоятку и бессознательно опустил в карман.
— Вы где получили образование? — продолжал цимбалист.
— Нигде, — мрачно пробурчал Михаил. — Тоже самоучка.
— Неужели? При таких капиталах? Очень даже странно. А меня выгнали из школы именно за то, что хорошо учился. Это не удивительно со стороны начальства, но интеллигенция наша скверно относится к самоучкам из народа. Отец мой спился, мать умерла с голоду, сестра — проститутка. А я лез к обожаемой интеллигенции, настроен был героически, за честь бы почел, если бы мне тогда дали возможность умереть — за народ. Накипело у меня вот здесь! Понимаете? Начали тогда меня развивать. Слышу — народ, мол, готов к революции и ждет только мановения. Давно это было. А я — только что из деревни. Говорю им: неверно это, никакой готовности не заметно. Началась рознь: они меня — учить, а я им — возражать! Если бы не возражал, то и место бы хорошее по протекции получил и с образованными барышнями под ручку бы гулял, но возражениями свою карьеру погубил. Я сам из народа и знаю: самые для него непонятные и чужие люди — это интеллигенция: слова хорошие, а дела те же, что у господ. Они — гения отвергли, гения — то есть меня. В журналы посылал стихи — не приняли.
Михаил сначала с интересом слушал, потом писатель надоел ему. В комнате стоял гам от общего говора. «Откуда такой привязался?» — с неприязнью думал Михаил.
Отца я зарезал, Мать свою убил… —во все горло пела кшица, хохоча и кривляясь.
Малую сестренку В море утопил.Писатель, возвысив голос, стал говорить нараспев.
— Хотелось придти в ваше высшее общество и сказать: «Вот пришел я из мрака жизни в светлый ваш мир, дайте и мне место за вашим столом». И ответят они: «Здесь место для добрых и чистых, а в глазах твоих злоба, платье в грязи, темное лицо у тебя. Ступай туда, где мучаются грешники, подобные тебе!» И скажу я им: «Вижу, что вы — действительно добрые, потому что не вы обижены, и вы действительно чистые, ибо грязь не касалась вас; лица ваши светлые, глаза не знали слез. А я пришел оттуда, где не всходит заря и не светит солнце. Сердце мое озлоблено от обид, и лицо потемнело от мрака. В цепях была душа моя, выпили цепи кровь из меня, и не было цветов на пути моем. Как же теперь могу я быть добрым с вами? Примите же меня не выдуманным и не сочиненным, таким, каким вы сами сделали меня. Настало время выслушать вам горькие песни мои, принять на светлые лица ваши удары мои. Забыли вы о страданиях людских, но я озлоблю вас, добрые, чистые, бесстыдные, безжалостные себялюбцы!»
— Из книжки жарит. Ловко как! — похвалила кшица.
— Светлый мир? — криво усмехнулся Михаил. — Это ты про нас?
Писатель кивнул головой.
— Про всех счастливых.
— Счастливых? — переспросил Михаил. — Это мыто счастливые?
Кшица обняла Михаила.
— Чем же ты несчастлив, Миша?
Он медленно снял ее руку с плеча и, помолчав, ответил, тяжело дыша и ни на кого не глядя:
— Отца родного ненавижу.
— За что?
— В сумасшедший дом собирается меня посадить.
— А ты пришей его! Чего старому в зубы глядеть? — шутливо сказал кто-то.
Все засмеялись.
— Где ему? Купеческий сынок! Антиллигент!
Кшица села к Михаилу на колени, крепко обвилась руками вокруг его шеи и, целуя, вдруг больно укусила его в губы. Михаил схватил ее за горло, но не мог оторвать от себя. В это время чьи-то руки обшаривали его карманы. Кшица с хохотом выбежала на улицу. Михаил бросился за ней. Вдогонку ему кричали: «Держи его!» Слышался топот бегущих людей…
Сердце Михаила колотилось. Он вскрикнул и проснулся.
Яркая луна светила в тусклые окна. Михаил по- прежнему лежал в своей хибарке, на кровати, в сапогах и поддевке. Под щекой у него был нож, коловший его, когда он спал. Сон оказался действительностью: Михаил вспомнил, что нечто подобное было несколько дней назад, во время его пьянства, а теперь приснилось во сне.
Луна так ярко светила, что в комнате было светло, как днем.
В дверь тихо постучали. Михаил вздрогнул и, подойдя к двери, прислушался. Чувство страха снова охватило его. Стук повторился.
— Кто там?
— Отопри! — послышался сердитый голос старика Блинова. — Что заперся? Ужинать пора!
Михаил отпер. В комнату вошел отец в широком суконном пиджаке, опираясь на толстую палку. За ним вошло несколько незнакомых людей. Михаил побледнел.
— Что?.. Зачем?.. — прошептал он.
Отец что-то ответил, но так тихо, что Михаил не понял.
— Белая горячка! — как будто издали дошел голос отца, — С ножом бегал. В больницу тебя.
— В сумасшедший дом? — спросил Михаил. — Знаю. A это кто?
— За тобой! — опять чуть слышно сказал старик.
Люди, пришедшие с отцом, были похожи на дворников, а позади всех стоял человек в белом балахоне.
Михаил, вытянув руки вперед, молча пятился от них в угол, с вытаращенными белыми глазами и сам белый. Люди переминались, тихо переговаривались. Михаил дрожал всем телом. Ему казалось, что продолжается страшный сон.
Чьи-то сильные руки схватили его сзади. Он закричал дико, хрипло, на губах появилась пена. С необычайной силой Михаил стряхнул с плеч навалившихся на него людей, так что они посыпались на пол, опрокидывая стол и стулья.
Михаил присел на корточки и вдруг кошкой прыгнул к отцу, схватил его левой рукой за бороду, а кулаком правой изо всей силы ударил в грудь. Старик грохнулся и захрипел. Руки и ноги его странно задергались. От силы собственного удара Михаил потерял равновесие; казалось, что пол качается. Упал навзничь, ударившись затылком о кровать. Люди снова, пыхтя и топая ногами, навалились на него. Тут Михаил вспомнил о ноже: когда ударил отца, нож был зажат у него в кулаке, а теперь ножа не было.
Михаила вязали веревками на полу. Он с удивлением смотрел на неподвижное тело отца и мучительно желал проснуться от страшных сновидений, давно уже преследовавших его.
VI
Лазурная морская даль горит под солнцем, а по ней, то появляясь, то исчезая, мелькают белые гривы волн, напоминающие как бы живые существа, которые то выскакивают на поверхность моря, то снова погружаются в бездну. Море звучит величаво: кажется, что откуда-то издалека разносятся по его безграничной пустыне аккорды исполинской арфы. В далекой глубине этой призрачной музыки чудится безотрадно-печальное пение, сладостно-волшебный рыдающий голос, поющий о великой тоске.
Бескрайное море прозрачно, залито весенним солнцем и чуть-чуть колышется. Залив образуется между маленьким зеленым полуостровом Сен-Жен, с белым маяком на конце, выдающимся в море, с другой стороны — мысом, где на берегу стоит бывшая итальянская тюрьма — мрачное средневековое здание. К заливу по склону горы, до самых волн, спускается крохотный городок Виллафранка.
Это рыбацкий поселок, с целым рядом кабачков специально для солдат и матросов, которыми по временам наводняется Виллафранка, когда на рейде стоит корабль или с гор спускается батальон.
Вдали, в нескольких верстах, белеет Ницца, а за полуостровом начинаются виллы и санатории, виден высокий берег княжества Монако.
Там идет иная жизнь: жизнь блестящей французской Ривьеры. Жизнь богатых, нарядных, «отдыхающих», играющих в рулетку. Отголоски этой неестественной жизни доносятся сюда: ежеминутно мчатся поезда, вагоны трамвая, автомобили. Эта жизнь проносится мимо Виллафранки, как нечто чуждое ее тишине и бедности.
С моря Виллафранка очень красива: она словно высечена уступами и террасами в крутой горе. Старые, грязные, прокоптелые здания тесно громоздятся одно над другим: плоские кровли нижних домов служат улицами для верхних.
Улицы узкие, как щели, неправильные, кривые, темные, иногда имеющие вид туннелей, так как над ними устроены своды, а на сводах опять дома.
Есть в этом гнезде своеобразная живописность: от него веет романтизмом старой Италии. Говорят, что начало ему положили пираты. Это они построили мрачное здание с темными кривыми переходами и маленькими, словно потайными, дверями.
На набережной, выложенной большими каменными плитами, изъеденными временем и волнами, ширина которой пять шагов, в ряду кабачков и кофеен стоит маленький, в два этажа, отельчик «Золотой дом» с двумя столиками на набережной.
В каменные плиты, поросшие влажным зеленым мхом, плещут ярко-лазурные волны. В бухте качаются рыбацкие лодки, а на рейде стоит французский броненосец, черный, стройный, словно вылитый из цельной стали.
Валерьян проснулся в маленькой комнате, наверху «Золотого дома», и некоторое время лежал без движения.
Сквозь притворенные решетчатые зеленые ставни пробивается золотое солнце, слышится плеск моря о каменные плиты, голоса проходящих мимо людей и веселый лай хозяйкиной болонки.
Он встает и открывает окно: в комнату врывается волна золотого света, море плещется в нескольких шагах от крыльца, и тут же разостланы для просушки тонкие и частые рыбацкие сети. У берега на своем месте стоит «бото» — утлый челн, взятый им на прокат у старого рыбака.
Хлынули нежные краски моря, хрустальный воздух неба и трепетные звуки мандолины: это играет по нотам одинокая хозяйка соседнего кабачка в тщетном ожидании клиентов.
Вдали белеет дворец бельгийского короля, обнесенный зубчатой стеной. Король выбрал самое красивое место на полуострове: видно, не лишен был вкуса этот буржуа с длинной бородой, который хорошо играл на бирже, плохо заботился о подданных и был не в ладах со своими дочерьми.
Художник оделся в легкий летний костюм, взял шляпу и спустился по лестнице, рассеянно напевая.
Сел у дверей за одним из столов, закурил дешевую сигару. Потом взглянул вверх, на окно Наташи: ставень закрыт, значит — еще не проснулась. Антонио, единственный лакей отеля, принес утренний кофе. Это старый итальянец, еле передвигающий ноги, но во фраке и с нафабренными черной краской усами. Объясняется с Валерьяном, как с глухонемым, — мелкими выразительными жестами. По набережной бегает Ленька, гоняя палочкой обруч, и звонко хохочет; вместе с ним с лаем бегает лохматая болонка.
Валерьян следит за ними глазами, курит и думает. Кончена давосская жизнь. Наташе разрешили спуститься с гор и провести весну на Ривьере. Но она, конечно, думает, мечтает совсем увильнуть от возвращения в Давос. Журнал в Давосе влачит жалкое существование и вряд ли дотянет до осени; дивиденды грошовые. Из России обещали выслать пятьсот рублей — в последний раз: требуют прибытия лично для распутывания запутанных денежных дел. Придется поехать, как только вышлют деньги.
Ленька бросил обруч и залез к нему на колени. Он раскраснелся, глаза блестят и смеются. Наклоняется к уху:
— Поедем на лодке, покуда мамка спит.
— Пожалуй. Только куда бы нам съездить — на отлогий бережок или к дяде Евсею?
Решили ехать к Евсею, в лабораторию, которая существует теперь в здании прежней тюрьмы. Там занимается наукой их общий друг Евсей.
Сели в «бото», отчалили, опасливо поглядывая на закрытое окно: Наташа боится отпускать Леньку в море.
Мальчик схватился за весла, гребет стоя, опираясь ногой о скамейку. Отцу предоставил руль, а сам улыбается от счастья. Они отъехали далеко, когда открылось окно, а в нем появилась Ленькина мама, всплеснувшая руками.
Валерьян правил против ветра; лодка то высоко взбиралась на гребень волны, то быстро скользила вниз.
Через полчаса они осторожно причалили к маленькому молу угрюмого здания с двумя рядами продолговатых окон, привязали «бото» и через калитку железных ворот вошли во двор, поросший травой. За стеной двора виднелся маленький садик. Спустились в нижний этаж, в пустой продолговатый сарай с истертым каменным полом. Когда-то здесь томились закованные в цепи узники, а теперь здание уступлено вод русскую морскую лабораторию.
В полуподвальной комнате, находящейся ниже уровня моря, устроен аквариум: в одной стене ее в особых помещениях за толстыми стеклами плавают жители моря. Именно по этой причине Ленька любит ездить «к дяде Евсею».
— Пойдем смотреть осьминогов! — говорит он отцу.
Их живет двое в одном помещении, каждый в своем углу, в темной норе. Там они лежат, неподвижные и серые, подобные серым камням. Свет к ним попадает откуда-то сверху. Один спрут свернулся комком в своей темной, унылой пещере и смотрит двумя неподвижными, злыми глазами. Пещера устроена внизу большого, ноздреватого камня, верх которого возвышается над водой. Вдруг оттуда спускается в воду маленький, совсем еще глупый крабик. Осьминог увидел его, зашевелился, выполз и стал расправлять свои змеевидные щупальцы. Краб спрятался за уступ камня, чудовище начинает шарить по камню своими гибкими лапами, не находит здесь краба и от злости принимает фиолетовый цвет. Краб выбежал на верх камня, в безопасное место, и там, встретившись с другим таким же маленьким крабом, долго стоит, шевеля клешнями и усиками, словно рассказывает о том, что он испытал. Вероятно, они толковали о чудовище, пожирающем крабов, может быть, даже совещались о низвержении строя, существующего в их владениях.
Ленька захлопал в ладоши.
— Браво! Чуть-чуть не сожрал его проклятый осьминог.
— Все равно съест, — возражает отец.
— Для чего же тут живут крабы?
— Для осьминогов: их кормят крабами. Сколько ни бегает краб, а в конце концов осьминог его съест.
— Я бы прогнал осьминога палкой… растоптал бы ногой.
— Зачем?.. Ведь и люди так же, как эти крабы, бегают от судьбы… Впрочем, это, брат, — философия.
Дверь из соседней комнаты отворяется, и в ней показывается огромная, худая фигура Евсея в вечном сером костюме.
— А, гости! — улыбаясь в белокурые усы, хрипло говорит он. Широким жестом длинной руки манит их к себе.
Гости поднялись по каменным ступеням в светлую комнату, расположенную над морем; в высокие окна видно, как в них заглядывают гребни пенистых волн.
В комнате длинный стол с непонятными приборами, стеклянный шкаф и продавленный диван. В смежной комнате, за дверью слышатся голоса: там занимаются студенты, приехавшие из России на практические занятия в лаборатории.
— Время к завтраку! — говорит Валерьян, вынимая часы. — Поедем к нам на лодке.
— Подождите немножко. — Евсей убирает что-то со стола в шкаф. — Сейчас у нас кончится.
Гости сели на диван. Евсей у стола набивает табаком свою коротенькую трубку.
— Эх, ты, жизнь треугольная! — говорит он тоном вступления.
— А что?
— Да фрака нет, Жду свой старый фрак из России — и все нет.
— А на кой черт тебе фрак?
— А разве я не говорил, что я тоже, как все здешние профессора, приглашен на ежегодный обед к монакскому князю?
— Нет, не говорил.
— Ну вот, приглашен. Если получу фрак — поеду. Там, брат, все во фраках будут. Да дело, видишь ли. в том, что за меня хлопочут у этого неограниченного монарха: можно заделаться придворным зоологом.
— Не верится мне что-то.
— Да я и сам мало верю в успех; уж сколько раз так срывалось! Как узнают, что русский эмигрант, так и — атанде. Но чем черт не шутит и чего не выдумает наш брат, мастеровой? Ведь я здесь занимаюсь, так сказать, из любви к науке: разве что настрочу научную статейку — вот и весь заработок на табак.
Леньке неинтересно слушать. Он залез к Евсею на колени, уселся поудобнее и погладил пальцами его усатое лицо.
— Ску-чно! — капризно затянул он. — Расскажи что-нибудь.
— Гм! что же я тебе расскажу?
— Ну, сказку.
— Гм! сказку? Легко сказать!
Евсей, подобно всем бродячим, бессемейным людям, не помнит ни одной детской сказки, но не хочет ударить лицом в грязь.
Он покрутил ус, помолчал.
— Ба! расскажу тебе про Ледовитый океан. Хочешь?
— Хочу.
— Гм!
Раскурил трубку и начал, выпуская дым в сторону:
— Вот, знаешь ли, отправились мы на север, в научную экспедицию. Запрягли в сани много собак, взяли провизии, оделись в оленьи шубы мехом вверх — знаешь, как у шоферов, — надели шапки с наушниками, меховые сапоги: там холодно, брат, везде снег, и даже море около берега на много верст замерзло, а по морю агромаднейшие льдины плавают — с гору каждая льдина. Поехали по льду. Ехали-ехали, вдруг — глядим — лед оторвало от берега и понесло в открытое море. Испугались мы, а ничего не попишешь: унесло! Плывем по Ледовитому океану на льдине. Кругом волны — как холмы, океан мечется, будто седой, взбешенный старик.
Евсей развел руки, сделал страшное лицо, изображая взбешенный океан.
— Кидается этакими водяными громадами, только гуд идет. Моржи играют и на нас поглядывают: лысые такие, усы у них вниз, с головы-то на людей похожи.
— На тебя? — дружески вставляет Ленька.
— Отчасти… Морж — он вот такой, большой! У него- клыки есть, случается — схватит клыками за лодку с охотниками и лодку перевернет.
Евсей отклоняется от рассказа, сам увлекаясь описанием моржа. Ленька смотрит ему в лицо и внимательно слушает.
— Ну-с, носило нас таким манером целый день и ночь, и еще много дней и ночей. Прошло три недели, а нас все носит по океану… А океан очень большой, много больше вот этого моря, и холодный при этом, потому что там лета не бывает, а всегда зима: одним словом — очень ледовитый океан. Съели мы всю провизию, съели всех собак…
— Собак не едят! — возражает Ленька.
— Едят, брат, в некоторых случаях… Ну вот, съели собак. Осталось немного мяса. А нас было восемнадцать человек. Голодные все и страсть как озябли. Видим, скоро всем нам с голоду помирать придется. А был у нас старший, набольший, вроде начальника. Вот он и говорит: «Метнемте жребий — кому помереть, кому жить оставаться. Нужно, — говорит, — только шестерых оставить, а остальные пускай сами себя из ружья убьют».
— Зачем?
— Чудак! Да ведь шестерым-то надольше провизии хватит. Ну вот, тут я и сказал: «Братцы! коли помирать, так уж лучше всем вместе, а не этак. Нехорошо этак. Может быть, еще не все пропало, как-нибудь выкрутимся из беды». Меня все послушали. Действительно, в этот же день переменился ветер, и нас неожиданно к берегу прибило, да прямо к человечьему жилью. Все мы спаслись и остались живы, только многие простудились и захворали. Я тоже грудь тогда застудил и сейчас все еще немножко кашляю, но в общем зажило, як на собаци. Теперь у теплого моря из кулька в рогожку поправляюсь…
Евсей выколотил погасшую трубку и, набивая ее вновь, закончил так:
— Жизнь, брат Ленька, играет человеком: человек норовит ускользнуть, а она его ловит; поймает — и кончена игра. Жизнь, брат, — она треугольная: куда ни кинь, все клин.
Валерьян, внимательно слушавший, при последней фразе расхохотался, но на мальчика этот кусочек жизни, рассказанный вместо сказки, произвел неожиданно сильное впечатление. Он гладил руку Евсея и внимательно рассматривал его усатое, большое, исхудалое лицо.
В соседней комнате сразу поднялся шум, говор, смех, шарканье ног и хлопанье дверей: студенты кончили занятие.
Вышли прежним путем к молу, сели в лодку и отчалили. Теперь уже Валерьян сидел на веслах. Евсей правил, а мальчик чинно сидел на лавочке, лицом к Евсею: он все еще был под впечатлением рассказа и по-новому, с интересом и удивлением, рассматривал сидевшую против него огромную фигуру.
Наташа сидела на каменной скамье на берегу залива, против дверей «Золотого дома».
С тревогой посматривала вдаль на морские волны и перечитывала только что полученное письмо.
«Мы опять в Лондоне, — писала Варвара. — Наконец-таки возвратились в нашу „старую, добрую“ Англию. Но возвратились, как я и ожидала, — ни с чем.
С родителем расстались в Париже, откуда он отправился восвояси. Представь себе — положил в Лионский банк двести тысяч, а нам не дал ни гроша, — только на дорогу. До сих пор не могу придти в себя от омерзения к собственному родителю. Плюшкин! Иудушка! Ростовщик! Кажется, у Гоголя есть фантастический рассказ о портрете ростовщика с глазами дьявола — так это он. Посоветуй твоему мужу взять эту тему. Но, вероятно, и ему противно будет изображать отвратительную физию скряги, продавшего деньгам свою душу, если только она когда-нибудь была у него. Ну, что тут особенного — помочь хоть немного дочери-эмигрантке? Ведь мы живем, как нищие. Но если бы ты видела, как он испугался за свою мошну, как затрясся от омерзительной злости! Все пошло к черту, весь Париж со всеми его достопримечательностями, до которых ему, конечно, — как до прошлогоднего снега. И ни капли чувства к родным детям, перекалеченным им из-за гнусной скаредности, больным, беспомощным, не приспособленным к жизни благодаря его бессердечию и бездушию!
Знаешь ли ты, что он почти все свои деньги роздал в рост, под заклад ему дворянских имений? О, как рада и буду, если грянет революция (ведь грянет же она когда-нибудь!) и у него отнимут все эти имения, дома и единственного его бога — деньги! Пусть ни мне, ни всем нам ничего не достанется — что мы теряем? Все равно я всю жизнь прожила в нужде и бедности, ты тоже ни гроша в приданое не получила. Как голодные собаки, униженно получаем грошовые подачки, лишь бы с голоду не умереть. А ведь все нас считают богатыми!
О, если бы революция сделала его нищим, собирающим милостыню, какое было бы в этом справедливое отмщение судьбы за нас и за всех, кого он разорил и обидел! Прости меня, но такого отца я бы, кажется, собственными руками задушила. Никогда еще не ненавидела его так, как после этой поездки. Он всласть наиздевался над нами… Если бы дело было только во мне одной — наплевать, не привыкать стать… Но он унизил человека, которого я люблю и уважаю, которого знает весь мир. Этого я никогда не забуду и не прощу… Ведь ему ничего не стоило вышвырнуть какую-нибудь тысячу, но он отказал грубо, как пощечину дал. О, я отомщу ему за это, за всю мою изломанную жизнь, лишь бы представился случай! Не удастся отомстить мне — отомстит сама судьба за его служение дьяволу денег, отомстит, к сожалению, быть может, нашей гибелью и гибелью наших детей до десятого колена… Тьфу, как мерзко на душе…
Я больна: развивается ревматизм от прекрасного климата „старой, доброй“ Англии…»
Последние строки этого яростного рычания были размазаны кляксами.
Жаль было озлобленную Варвару, но ведь и Наташино положение не лучше: Валерьян совсем выбился из- сил, не может работать, денежные дела расстроены, зовут в Россию… Ах, если бы и ей поехать вместе с ним! Но без разрешения докторов ее туда не пустят ни муж, ни родные… Как только уехала из Давоса — опять похудела. Поведут к докторам — и так без конца. А в семье давнишний разлад, все больны, братья тоже сюда едут, всем нужно денег…
Наташа не могла разобраться в нудной канители отцовской семьи, знала только одно, — что, выходя замуж, надеялась обойтись без помощи отца, но ее болезнь как-то вышибла Валерьяна из колеи, и он не зарабатывает теперь прежних больших гонораров. Жил здесь для нее до тех пор, пока были деньги. Теперь денег нет… Братья поженились и как-то отдалились от нее. Жен их она совсем не знает. От Мити была недавно открытка: едут с женой в Ниццу…
Наташа склонила голову на руки. Глаза ее затуманились слезами, словно дождь шел над морем.
Кто-то подъехал к «Золотому дому» на извозчике. Наташа подняла голову и ахнула: из экипажа вылезал длинный Митя, Анна выскочила раньше и кивала ей головой, улыбаясь…
Наташа пошла им навстречу. По обычаям черновской семьи родственная встреча произошла безо всякой чувствительности.
— Хотим немножко пожить с вами, а потом куда- нибудь в санаторий, — говорила Анна. — Ждите еще другую пару: недели через две Костя приедет с Зинаидой.
Дмитрий был по-прежнему худ, молчалив и с виду мрачен. Наташа любила брата, была искренне рада его приезду. Анну она едва знала, плохо помнила… Приходилось знакомиться ближе… Повела их наверх, где только одна комната оставалась свободной.
— А где же твое семейство? — озираясь, спросил Дмитрий.
Наташа показала в окно: из лодки вылезали на берег Валерьян, Евсей и Ленька.
Дмитрий из окна помахал им шляпой.
Через десять минут все они сидели внизу, в столовой, за завтраком.
Больше всех говорил Евсей.
— Я, собственно, живу в «Эдене», — объяснил он приезжим, — но там кормят так, что в рот ничего не возьмешь: поковыряешь вилкой и уходишь голодный…
— Как же вы живете в таком отеле? — поддерживала разговор Анна.
— А ничего, обтерпелся. Ко всему ведь животное, человеком именуемое, привыкает. Зимой и весной здесь еще с полгоря: иностранец, какой ни на есть, водится, отельщики торгуют и пансион держат. А вот летом — прямо жутко: тишина мертвая, эскадры нет, батальон уходит в горы, кабатчицы плачут и стонут: отели закрываются, остается местная публика и ждет нового прилета. Это нечто вроде зоологической спячки, только не на зиму, а на лето. Одним словом, жизнь наступает треугольная. Прошлым летом я так-то и остался один во всей Виллафранке. «Эден» закрылся, я переселился в лабораторию. Пока были кой-какие франки, питался яйцами и молоком. Потом франки прекратились. Дошло дело до того, что хоть в петлю: ниоткуда ни сантима, да и задолжал кругом. И стало мне весьма огорчительно. С голодухи, что ли, открылось кровохарканье, температура 39, гайка ослабла, кишка не действует. Свалился, лежу один в пустой лаборатории, напиться подать некому, губы запеклись, нет ни души кругом: околевай, как собака.
Евсей рассказывал все это совершенно спокойно, обращаясь главным образом к Анне и запивая завтрак дешевым, дрянным вином, какое пили они обыкновенно с Валерьяном.
Дмитрий спросил себе бургундского и, плохо слушая рассказы Евсея, пил один, никому не предлагая из своей бутылки: ему не приходило в голову, что ученый и художник пьют дешевое вино из-за безденежья.
Сидя за одним столом с приезжими и дружелюбно с ними разговаривая, они чувствовали себя пролетариями в обществе беспечных буржуа.
Евсей все чаше и выразительнее поглядывал на осанистую бутылку Дмитрия, переводя недоумевающий взгляд на Валерьяна.
В самом деле, Евсей и Валерьян служат науке и искусству, их имена известны в мире наук и искусств, между тем они пьют дрянное вино, а за одним столом с ними, как в насмешку, сидит безвестный скромный буржуа и тянет бургундское… у него амврозия, а у них — уксус. Где же справедливость в этом мире? Почему Дмитрию не приходит в голову хотя бы раз подсластить их кислую чашу?
Удовольствие на лице Мити, покрякивание и простодушные похвалы бургундскому — все это падало горечью в чашу испытаний ученого и художника, сидевших в Виллафранке без денег.
— Ах, как это несправедливо! — с равнодушным участием отозвалась Анна на рассказ Евсея.
— Да, мадам, на свете нет справедливости. Я зоолог и в мире людей вижу такую же зоологическую борьбу, как и в мире зверей.
— Ну и что же, вы все-таки поправились? Кто-нибудь помог вам?
— Конечно! — вдохновенно воскликнул Евсей. — Отвалялся! Зажило, як на собаци. Встал на ноги и задумал одно дело: стал торговать наукой. Чего не выдумает наш брат, мастеровой? Стал я заготовлять у моря всякие препараты, материалы и продавать их сухопутным ученым: из водяных-то ведь только один я тут остался. Как раз приехал старый приятель, московский профессор. «Ты, говорит, водяной, что ли, теперь?» — Водяной, мол. Ну, и выручил меня: сделал заказ, аванс дал.
«Водяной» набил трубку табаком, аппетитно ее раскурил и переменил тему разговора.
— Сегодня с двух часов на полуострове около маяка будет авиация, — обратился он к Анне и Дмитрию. — Вам, как приезжим, да и тебе, Валерьян, и вам, Наталья Силовна, — всем советую посмотреть. Давно здесь авиации не было. Из Ниццы прилетят аэропланы, обогнут маяк и полетят обратно. К маяку соберется толпа; будут петь уличные певцы, играть музыканты… Не упускайте случая! Давайте разделимся на две группы: мы с Валерьяном перемахнем через залив на лодке, а так как лодка мала и Наталья Силовна боится за Леньку, то все остальные жарьте трамваем. Сбор назначим в ресторане у маяка.
План Евсея был единогласно принят, и по окончании завтрака Валерьян с зоологом сели в «бото».
На середине залива их неожиданно задержало приключение: лодка зацепилась рулем за рыбацкие сети, и они долго кружились на месте, пока не выпростали руль. Поэтому, когда поднялись к маяку, там уже оказалась густая толпа зевак, а на условленном месте компании они не застали. Толпа сновала взад и вперед по лужайке, усыпала изгороди, тропинки, уступы скал. Ходили продавцы прохладительных напитков, торговцы раковинами, открытками, безделушками, было много мальчишек; в разных местах слышались музыка и пение.
Под тягучий аккомпанемент фисгармонии звучал прелестный женский голос: певица пела арию Джильды из «Риголетто». Пела она с большим искусством, чувствовалась школа, голос лился просто, свободно и плавно. Фисгармония с той же простотой и вкусом давала всю сложную музыку оркестра. Замечательно пели эти неведомые, скрытые за густой толпой уличные артисты.
Евсей послушал и сказал:
— Мне кажется, я где-то уже слышал эту певицу.
Они протолкались сквозь густую, плотную, пеструю толпу, залитую щедрым, ликующим солнцем, поближе к пению.
За клавишами старой, маленькой фисгармонии, приспособленной к тому, чтобы ее носить за спиной, на складной скамейке сидел и играл слепой старик, бедно, грязно одетый. Рядом с ним, лицом к толпе, стояла и пела худая старуха в черном, бедном, запыленном платье, в дешевой соломенной шляпке, с истомленным, бледным лицом. На этом усталом лице слишком ясно запечатлелись черты давнишней бедности, горя, нужды. Она была стара, но к ее голосу, казалось, еще не посмело прикоснуться время.
— Так и есть, это они! — воскликнул Евсей. — Я их знаю, этих стариков; мне рассказывали их биографию. Это, видишь ли, бывшие знаменитости: она была когда- то примадонной королевского театра, а он — дирижером. Потом пришла старость, дирижер ослеп, у нее спал голос; оба сошли со сцены и вот — конец их. Целая драма перед тобой — жизнь треугольная.
Слепой чуть касался худыми пальцами знакомых клавишей, подчеркивая и оттеняя каждый звук ее голоса, каждое проникновенное слово, — все, чему была отдана его жизнь. Вероятно, ему казалось, что он сидит в оркестре королевского театра, сопровождая дивное пение, а она поет перед залитым огнями театром.
Конечно, в молодости ее голос был еще лучше, но кто знает, пела ли она тогда с таким глубоким драматизмом, как теперь? Может быть, в ее памяти вставало все ее блестящее прошлое, огромная слава, шумная жизнь, оценку которым она могла сделать только теперь.
Когда певица умолкла и стала обходить слушателей с тарелкой для добровольных даяний, в другом конце толпы раздались звуки арфы, запел другой женский голос: молодая девушка, в ярком, кричащем наряде и сама ярко-красивая, смуглая, с черными, огневыми глазами, пела сильно и страстно. Голос ее — густое контральто — на низких нотах переходил как бы в баритон. В ней было мало женственности, но много южной страсти. Позади ее спокойно стоял небритый мужчина и аккомпанировал на плохой уличной арфе.
— Это — испанка! — сказал Евсей. — Я ее тоже знаю.
Едва умолкла испанка, как где-то в другом месте снова зазвучали струны: в толпе виднелся высокий, молодой красавец— смуглый юноша с черными усиками, весело улыбающийся, в картузе с прямым козырьком, ухарски сдвинутым на затылок, и, аккомпанируя себе на звучной, гулкой гитаре, артистически, неподражаемо свистел соловьем. Его белые ровные зубы сверкали, на здоровом, пышащем румянцем, смуглом лице было написано беззаботное веселье, и соловьиными руладами неслась его развеселая песня. На самых высоких нотах он вдруг заливался канарейкой, на средних — подражал соловью, а на нижних — крякал селезнем.
Все это под гулкие аккорды металлических струн выходило у него великолепно, а беззаботная улыбка вызывала такие же улыбки у толпы.
Это был, несомненно, итальянец. Подражание птицам оказалось только прелюдией к настоящему пению: обратив на себя внимание слушателей, он вдруг запел звучным баритональным тенором.
От Ниццы по морю приближалось несколько миноносцев, следовавших гуськом один за другим, а над ними высоко в небе чуть виднелось прозрачное насекомое.
Все певцы и музыканты умолкли. Взоры толпы обратились туда. Евсей, посмотрев из-под ладони в даль блестящего моря, воскликнул:
— Стрекоза! Французский аэроплан впереди всех, возьмет первый приз.
Стрекоза быстро увеличивалась в объеме, и уже слышно стало в воздухе ее ровное жужжание. Вслед за ней показалось еще несколько летящих насекомых иной формы, а под ними, внизу, по лазурному шелку моря ползли друг за другом пять или шесть черных миноносцев. Жужжание насекомых превратилось наконец в мощный гул, и к маяку с неожиданной быстротой подлетел дракон на распростертых крыльях. Около зеленой головы его, напоминавшей голову кузнечика, сидел неподвижно человек в жокейском картузике.
Дракон снизился, круто завернул к маяку, так, что одно крыло опустилось ниже другого, и, как птица, обогнул его над головами толпы.
Лица всех были подняты к небу. Мелькали шапки и поднятые руки, которыми махала ревущая толпа.
— Браво! — с восторгом выла она.
Француз был неподвижен, сидел в напряженной, согнутой позе. Толпе были видны только его голова и плечи. Почти никто не рассмотрел лица.
Авиатор умчался, как демон, опускаясь к морю, а внизу, на море, миноносцы заворачивали обратно, чтобы поспеть за ним.
Высоко под облаками появилась крохотная четырехугольная клетка и, все увеличиваясь, стала опускаться над маяком. Послышалось жужжание мотора.
— Это наш, — объяснил Валерьяну зоолог: — русский аэроплан. Летит известный пилот. Знаю я его — простой рабочий, из машинистов, но отчаянная башка. Всегда на высоту берет: во время ветра никто из авиаторов не решается брать на высоту, только один он поднимается в облака. Из бахвальства поднимается, чтобы удаль свою показать. Когда-нибудь сломит шею.
Русский, следом за французом, круто и низко обогнул маяк, пролетая почти над самыми головами толпы, так, что все увидели его скуластое лицо и большие, сильные руки. На оглушительные крики толпы нашел время сделать «ручкой».
— Знай наших! — гордо сказал вслед ему Евсей. — Возьмет второй приз, а может быть, еще и стрекозу обгонит, разбойник.
Пилот по своему обычаю опять взмыл на необычайную высоту, его клеткообразный аэроплан сказочно превратился в комарика, едва заметного в облаках.
Началось волнующее состязание между комаром и стрекозой, летевшей низко над морем, как чайка, распластав неподвижно крылья. Казалось, что вот-вот она заденет крылом за серебряный гребень волны.
Вдруг что-то случилось. Высокий белый столб воды взметнулся над стрекозой. Миноносцы, следовавшие за ней, в беспорядке обгоняя друг друга, оставляя за собой хвосты черного дыма, бросились вперед и сбились в кучу, как мухи. Стрекоза тонула. Четырехугольная клетка, похожая на прозрачное насекомое, высоко в небе хищно промчалась над ней и скрылась из виду.
В публике началось волнение. Замелькали бинокли.
Но вот через две минуты над миноносцами в воздухе опять взмыла стрекоза и помчалась вслед за комаром, уже спускавшимся к Ницце. Между тем к маяку приближался новый аэроплан, за ним на некотором расстоянии плыли в небе и другие.
Полет продолжался.
— А ведь наш возьмет первый приз! — торжествовал Евсей. — Не догнать его теперь французу. Наши, брат, везде теперь европейцам нос утирают.
— Как быстро развивается авиация! — заметил Валерьян.
— Да, и все для войны: к войне готовятся. Будет каша когда-нибудь… Неспроста упражняются.
— Пойдем, поищем наших! — прервал его Валерьян.
— А и впрямь поищем, — лукаво прищуриваясь и нащупывая сантимы в жилетном кармане, ответил Евсей. — Пойдем в садик ресторана: чует мое сердце, что твой свояк опять бургундское пьет.
Евсей наконец получил старый фрак из России, и весьма кстати: как раз на этот день был назначен парадный обед у князя монакского.
В «Золотом доме» зоолог появился вечером, когда уже совсем стемнело и компания сидела в столовой за ужином. На нем был потертый, измятый фрак, a сам Евсей походил в этом костюме на утомленного трактирного официанта; вид у него был жалкий, измученный. Сразу было видно, что карьера придворного зоолога прошла мимо Евсея.
— Сорвалось? — кратко спросил художник.
— Полное фиаско, — прошептал Евсей, почти без чувств опускаясь на стул. — Куда ни кинь — все клин…
Валерьян молча налил ему полный стакан вина, — не бургундского: бургундское пил Митя. Освежившись вином, Евсей немного приободрился, но ненадолго: слишком уж мрачен и жалок был его вид. Он расправил растрепанные белокурые усы и глубоко перевел дух.
— Сначала все шло хорошо, — тихим, слабым голосом начал он. — Хлопотали за меня влиятельные лица. Но как только обнаружилось, что я беглый, — крышка! И так везде — и давно уж. Эх, жизнь треугольная!
Все молчали. Наташа с тревогой и болью на лице смотрела на несчастного зоолога. Дмитрий и Анна недоумевали.
Все поведение и вид Евсея выражали тихое, сдержанное отчаяние, которое, казалось, вот-вот вырвется наружу. Он мрачно посмотрел на Митино бургундское и вдруг ни с того, ни с сего разразился неудержимой тирадой:
— Жрать нечего! — мрачно воскликнул Евсей при общем молчании. — Да. Я, не стыдясь, откровенно говорю: мне нечего жрать. Ведь вот все видят, что я прилично одет — и воротничок на мне, и галстук, и даже — ха-ха! — фр-рак, черт его побери-то! Я — приват- доцент зоологии, занимаюсь наукой, студенты относятся ко мне с почтением, профессора со мной в дружбе; но никто не знает, что мне нечего жрать. Нечего! И нет никаких надежд ни на что. Семь лет мотаюсь за границей. Сначала помогали из России, теперь — бросили. Был избран профессором в Харьковский университет — и пропадаю здесь, как собака. Черт бы побрал совсем эту культурную Европу! Хоть бы выбраться как-нибудь в Россию! Легче опять в ссылку пойти, чем голодать в этой шикарной Ривьере, провалиться бы ей, ни дна ей, ни покрышки! Хоть бы поколеть, да в России, а не на чужбине, где ничье сердце не тронется, хоть ты сдохни совсем. Здесь живут только богатые, от-ды-ха-ющие от ничегонеделания, презирающие эмигрантов, как нищих, как отбросы нашей страны, как отработанный пар. Мещане, буржуа, которым наплевать, что мы гибнем.
Евсей говорил звенящим голосом, ни на кого не глядя. Губы и лицо его дергались. Всем тяжело было смотреть на него, но никто не перебивал его речь.
— А наши-то, — желчно продолжал он, машинально глотнув вина. — Там, в России! Кто поможет, кто захочет спасти тех, которые когда-то боролись и жертвовали собой? Кто услышит нас? Иные притаились, струсили, да и забыли нас, а кто помнит — сам страдает. Не буржуи же помогут! Они торжествуют, они злорадствуют… Но погодите! Мы еще придем, мы вернемся. Не все, но кто выдержит эту муку, тот вернется… Я верю, верю, убежден… Будет великое отмщение, и тогда пусть не жалуются на нашу жестокость. Всем, кто теперь там обжирается, торжествует, властвует, нет прощения и не будет…
Тут лицо Евсея исказилось: он делал отчаянные усилия, чтобы не разрыдаться, и не мог, схватил со стола салфетку, закрыл ею лицо и заплакал навзрыд: этот большой могучий человек, не раз в своей жизни смотревший смерти в глаза, сердился за свои неуместные слезы, но не имел сил сдержать их: нервы его натянулись до предела еще, должно быть, на злополучном обеде у монакского князя, а теперь сразу ослабли…
Все растерялись.
Потом, пересилив себя, Евсей решительно поднялся, чтобы идти домой. Валерьян пошел проводить его.
Над заливом ярко светила луна. Море уснуло и сквозь сон бормотало что-то прибрежным камням, словно ожившим от лунного света и грезившим о чем-то своем, безмолвном и таинственном.
Виллафранка, погруженная в собственные тени, казалась волшебным видением. Чутко спали черные арки и старые, причудливые здания, амфитеатром нагроможденные одно на другое. Где-то в кабаке светился огонек, и оттуда ясно доносились дрожащие, нежно-певучие, хватающие за сердце грустные трели мандолины.
Евсей остановился.
— Зайдем? — вопросительно сказал он Валерьяну.
Они вошли под темную арку и по каменной лестнице поднялись в верхнюю улицу, узкую, как туннель. Тусклый фонарь горел над входом грязного кабачка. Он был полон солдат местного гарнизона. Все они сидели за маленькими столиками по двое, по трое, пили пиво и буднично коротали вечер: играли в домино, в карты, некоторые писали письма. Разговаривали вполголоса.
Пиво разносили две молодые, красивые девушки- итальянки. В глубине комнаты — стойка с буфетом, на стойке мандолина. В соседнюю комнату, в которой тоже виднелись солдаты, вела лестница в несколько ступеней.
Русские сели в уголок, за свободный стол. К ним тотчас же подошла одна из девушек — высокая, тонкая, с римским профилем. Евсей поздоровался с ней за руку, заговорил по-французски и представил художника. Она, улыбаясь, протянула руку Валерьяну. Рука была большая, сильная, шероховатая от кухонной работы.
— Грог америкен! — сказал Евсей кельнерше.
— Ого! — удивился художник.
— Ничего, давай, брат, выпьем сегодня горячительного. чтобы в голову ударило, а иначе я не засну: совсем нервы не слушаются. Тяжелый у меня сегодня день: подкузьмил монакский князь, а главное — от жены из России плохое письмо получил.
— Что с ней?
Евсей махнул рукой.
— Э! Лучше не спрашивай.
Он закрыл глаза ладонью и тихо уронил, вздыхая:
— Помирает. Чахотка у нее.
Итальянка принесла два бокала, кипяток в кувшинчике и большой штоф американской марки с густой темно-вишневой жидкостью. Треть бокалов она наполнила из штофа, а остальное долила кипятком.
Они стали пить этот горячий и крепкий напиток маленькими глотками, и тотчас же по жилам заструилась огненная теплота. Лица их зарумянились, повеселели.
— Скоро в России настанут лучшие времена, — мечтательно говорил Евсей: — реакция должна дойти до своего предела, начнется революция. Вот тогда-то, коли доживем, встретимся мы с тобой. Ты когда уезжаешь?
— Как только деньги получу.
— С женой?
— Неизвестно. Если отпустят доктора. Не отпустят — один поеду: денежные дела плохи.
— Знаю Но ведь у тебя тесть — купец богатый, у него бы занял?
Валерьян усмехнулся.
— Он дает ей, сколько нужно на лечение, а я с ним денежных дел не имею… Не хочу одолжаться.
— Это, положим, хорошо. Да ведь ты, если вернешься, сразу кучу денег заработаешь…
Евсей допил, грог, спросил еще и, вздохнув, сказал:
— А старик-то у вас оригинальный, не купеческого типа, на Победоносцева похож… Государственный ум. Хе-хе!
— Да, с ним поговорить интересно, если только денег не просить.
— Хе-хе! А все-таки — буржуйная родня у тебя. Дмитрий в свое время почище тятеньки будет. Вот жена у тебя — действительно, не от мира сего. И в кого только уродилась такая!
— В купеческих семьях это бывает, — отмщение родителям: Алеша Карамазов в юбке.
— Верно! Странная русская жизнь, странные русские люди. Поглядишь — купец какой-нибудь всю жизнь деньги копит, а под конец в монастырь уйдет и все деньги попам завещает… Ваш, впрочем, не таков, но что- нибудь да отмочит. Капитал и земля должны принадлежать государству, а капиталистов в будущем совсем не надо, — неожиданно подытожил Евсей.
— Ничего не имею против, — иронически согласился художник. — Неприятный народ в личной жизни: ни себе, ни людям. Ты не представляешь себе, какая у них всегда драма в семье.
— Желал бы я им мою драму испытать, — желчно воскликнул Евсей. — Ну, по третьей, что ли? Больше трех порций грогу не дадут: подумают, что мы самоубийцы… А я бы и по четвертой выпил.
Итальянка получила новый заказ, а Евсей впал в задушевность.
— Поедешь в Россию — в Харьков на денек заверни, зайди к матери моей, — я тебе адрес дам. Милейшая старушенция. Простая крестьянка, но сочувствует нашим идеям, понимает. Какой тебе будет почет, когда ты произнесешь ей мое имя! Да она не будет знать, где тебя посадить, чем тебя ублаготворить. Только ты ей ничего не говори о моей треугольной жизни — ни-ни! Ты ври ей. Ведь ты художник, фантазии не занимать стать. Великолепно можешь наврать ей что-нибудь хорошее про меня. Будешь врать?
— Буду! — покорно сказал Валерьян.
— На днях в лаборатории эмигрантский вечер будет. Придешь?
— Приду, конечно.
Головы их слегка затуманились, на душе стало тепло и бодро. Валерьян уже чувствовал себя одной ногой в милой России и плохо слушал Евсея. Как сквозь туман доносился до сознания длинный рассказ друга о жизни а ссылке, о девятьсот пятом годе, о бегстве через границу, когда в него стреляли солдаты…
А солдаты в кабаке продолжали игру в кости и карты. Итальянка бренчала на мандолине. Один из молодых солдат встал в позу и запел веселую песенку. Голос у него был небольшой, и пел он, как поют на открытой сцепе: жестикулируя, обращаясь к слушателям и поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Песенка была грациозна и, по-видимому, легкомысленна. Кончив, он поклонился, и весь кабак ему аплодировал.
Тотчас же встал другой. Этот был постарше, с воинственным лицом и закрученными кверху широкими усами. Он пел военную песню, похожую на сигналы солдатского рожка, играющего утреннюю или вечернюю зорю. Ему тоже аплодировали.
Кабак оживился. Один за другим выступали новые певцы. Все они умели недурно петь, и каждый во время пения становился в позу. У всех были бравурные, красивые жесты, в которых чувствовалось что-то национально-французское, сказывалась привычка жить в толпе и с толпой, обращаясь к ней с картинным жестом певца или оратора — все равно.
— Вот, — сказал зоолог, — тема тебе для картины: французские солдаты. С каким достоинством держатся! И оказывается, все умеют петь, а между тем ведь это — только простые рядовые!
В кабак вошел и весело остановился на пороге красивый, небольшой солдатик бравого вида, с живым, выразительным лицом, с фуражкой на затылке.
Он изобразил на лице комический вопросительный знак и на момент застыл в разудалой позе. При его появлении раздались дружные аплодисменты: очевидно, это был общий любимец, «душа общества». Он тут же, около двери, запел хорошим тенором, с теми же плавными, красивыми жестами, как и все они, что-то любимое, заветное. У всех засверкали глаза, а лица обратились к певцу. А он уже стоял в глубине комнаты на возвышении, обратил его в эстраду и пел оттуда бравурную, воодушевляющую песню. Солдаты не выдержали и дружно подхватили припев.
Певец закончил эффектной нотой и красивым жестом руки, которая кстати обвилась вокруг талии проходившей мимо итальяночки. Она рассмеялась — общий любимец нравился и ей. Но в следующий момент он уже забыл о ней, проходя в другую комнату, где тоже был встречен аплодисментами.
— Как все это непохоже на неуклюжую и мрачную русскую жизнь! Все у нас там — свара, злоба, ненависть всеобщая. Нигде в мире, ни в одной стране нет такой классовой борьбы и ненависти, как у нас, в России. Ведь мужики и дворяне — это классы, до ожесточения взаимно ненавидящие один другой. Уж какая там свобода, какой свет, какой воздух? Ночь! Одна сплошная ночь незакатная.
— Все эти славные парни и наши мужики в солдатских шинелях будут когда-нибудь пушечным мясом для разрешения международных вопросов.
Евсей встал во фраке и белом галстуке и обратился к солдатам с речью. Говорил долго, с пафосом, непонятным для Валерьяна, не знавшего французского языка.
Валерьян поехал в лабораторию не к началу эмигрантского вечера, а гораздо позднее.
Подойдя к воротам угрюмого здания, он был приятно удивлен: небольшой садик бывшей тюрьмы освещался разноцветными бумажными фонарями, во всех окнах горели огни, и слышен был гул многолюдного собрания.
В дверях его уже поджидал Евсей в своем неизменном сером костюме и о махровым цветком распорядителя в петлице. Вид у него был трогательно-самодовольный.
— Каково? — спросил он, подхватывая художника под руку. — Иллюминацию видел? Это я изобрел. Сам со студентами фонари клеил и сам развешивал в саду. Все моих рук дело. А стены — посмотри на стены!
Стены аквариума убраны были гирляндами морских водорослей. Необычайно длинный, как манеж, каменный сарай с черным сводчатым потолком и истертым каменным полом, переполненный публикой, освещался большими стенными лампами. Толпа почти вплотную наполняла сарай. Кроме приехавших из России, для занятий в лаборатории студентов и студенток, главную массу составляли политические эмигранты — беглецы из России и Сибири, деятели первой революции, претерпевшие ссылку, тайгу, русские тюрьмы, сибирскую каторгу. Странным казалось, что вечер бывших обитателей тюрьмы происходил тоже в бывшей тюрьме.
С подмостков, размахивая руками, что-то выкрикивал какой-то человек. Стоявшие близко к нему отвечали иногда густым гулом одобрения, но задние, которым плохо было слышно, шумели, двигались, разговаривали, входя в смежные комнаты и возвращаясь оттуда.
— А что, Владимир, будет сегодня? — спросил Евсея кто-то из проходивших в толпе.
— Обязательно! Специально приехал с вечерним поездом.
— Хорошо. Послушаем.
— Вот это — оратор! — обернулся к Валерьяну зоолог. — Слышал я его еще в пятом году в Петербурге, в Харькове и в Крыму. Везде фурор производил. Только выйдет, поднимет руку, скажет: «Граждане!» — и готово дело. И ведь странность какая: ничего нового-то как будто и не говорит, то же самое скажет, что все партийцы говорят, а совсем другой коленкор выходит.
— Голос у него такой, — заметил человек, стоявший рядом.
— Не голос, а сила в нем особая и логика, — возразил другой.
— Говорил он раз в Ялте, на митинге в парке, — продолжал Евсей, — а внизу, под горой, почти за полверсты, мы стояли на крыше и слушали: слышно было каждое слово. А ведь и голос-то у него только во время речи является. Так, на улице, его, бывало, встретишь — маленький, худенький, плечи подняты, руки в карманах, а выйдет говорить — высокий сделается, голос гремит.
— Как есть Мефистофель! — с улыбкой засмеялся сосед.
— Было тогда у нас в Харькове шествие по улице с флагами. И мы несли его впереди на стуле, надо всей толпой. А он, миляга, без шапки, в блузе, распоясанный, сидит и высоко держит наше знамя. А народ поет. Так, веришь, если бы он тогда сказал: «Идите и умирайте!» — пошли бы и умерли. Вот какая душа в человеке!
— Не в душе дело. Волевой человек!
— Неистовый.
— Его не собьешь: твердокаменный.
На эстраде показалась новая фигура, одним своим появлением вызвавшая добродушные улыбки.
— Это кузнец Федор, — заговорили в толпе. — Федора выпустили.
Федор был неуклюж, коренаст, в рабочей блузе, загорелый, с длинными, свешенными вниз «хохлацкими» усами.
— Да здравствует революция! — сказал он густо, но спокойно, как привычную поговорку. — Не ждите, братцы, — начал он с южнорусским акцентом, сильным и резким басом, — че ждите, чтобы я сказал вам что-нибудь красноречиво, как предыдущий оратор: нет, я — рабочий, кузнец и красно балакать не умею. Только скажу: я из тех сознательных рабочих, которых в России начальство нагайками да пулями угощает. Мы сознательные, а нас, сознательных, девятого января у царского дворца картечью встречали… Мы сознательные, а нас на Ленских приисках…
— Остроумный кузнец, — улыбаясь, сказал Евсею художник. — У него бессознательный юмор.
— Вот и говорят, братцы, не только у нас, на родине, а даже и здешние, европейские люди, будто никак нельзя без того, чтобы нас не давить, потому — так уже на свете все зроблено, як лестница або пирамида: наверху— министры, буржуи, дворяне и всякое начальство, а в самом-то низу, значит, — мы. Оттого нас все и давют. Нам, рабочим, одно только остается: колы у нас на плечах та бисова пирамида, то мы визьмемо да из-под низу-то зараз посунемся — воны уси и посыплются.
Толпа густо засмеялась. Раздались аплодисменты и крики «браво».
Когда все утихло, кузнец с прежней серьезностью, расставив ноги циркулем, сказал:
— Усё.
И, пожелав доброго здоровья революции, стал спускаться с подмостков.
Толпа затихла. Тщедушная, маленькая фигура человека в поношенном костюме появилась на эстраде. Лица у всех сияли. По сараю прошел густой, сдержанный гул:
— Вот он! Вот!.. Вышел!.. Владимир!..
Владимир был еще сравнительно молод, но очень худ и бледен. Коротко остриженные каштановые волосы торчали вихрами на круглой голове с большим, выпуклым лбом и голубоватыми глазами, смотревшими пронзительно.
С легким полупоклоном он протянул вперед дрожавшую бледную руку, потом сразу поднял ее и выпрямился так, что, казалось, сделался выше.
В зале наступила тишина.
— Товарищи!.. — раскатился вдруг гремучий, страстный голос, отчетливо прозвучавший по всему громадному зданию.
Толпа сразу замерла и так застыла, что Валерьяну стало слышно глубокое, хрипящее дыхание чахоточного Евсея, стоявшего рядом и не спускавшего глаз с выпрямившейся фигуры Владимира. В привычном, коротком слове все вдруг почувствовали необыкновенную властность, убежденность, стремительную напряженность всех душевных сил этого человека: казалось, что он произнес страстную клятву.
— Товарищи, — повторил он в новом тоне, тише, но глубже, с непередаваемой выразительностью и жаром, — близко время великой русской революции, за которой последует потрясение всего мира. Я не буду говорить о признаках ее близости: признаки эти вы скоро почувствуете сами. Я буду говорить о том, что предстоит нам делать, когда начнется революция. Она не должна застать нас неготовыми. У нас должны быть твердые, ясные тезисы, и они уже есть.
Он снова поднял руку и, как будто все еще вырастая на глазах у всех, обводя толпу горящим взглядом, стал бросать ей отрывистые, повелительные, жаркие слова:
— Вот наши тезисы: захват власти пролетариатом… захват фабрик и заводов… захват банков… арест капиталистов…
Каждое из этих слов, взлетая в воздух, разряжалось, словно обжигая всех.
— Диктатура пролетариата… — гремел жгучий, клокотавший голос, — уничтожение частной собственности… социальная революция…
Эти слова казались раскаленно-взрывчатыми: они жгли, оглушали толпу, казались громовыми.
— Вот тезисы.
Рыжевато-каштановая голова с широким, выпуклым лбом как бы горела, полная кипящих, взрывчатых мыслей. Взрывами разряжался голос, стальные синие глаза то загорались, то гасли. Валерьяну казалось, что толпой завладел безумец, фанатик грандиозной фантазии. Художник видел, как огнем жгучих слов накалялась и заряжалась толпа, жаждавшая верить в осуществление тезисов. Она сама тянулась навстречу очарованию в несомненном самогипнозе. Вспомнились ходячие, известные стихи: «Если к правде святой мир дороги найти не сумеет, — честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!»
Перечислив тезисы, оратор вернулся к началу и заговорил о каждом из них отдельно. И опять взрывами взлетали отрывистые, волнующие, ошеломляющие слова.
— Для торжества социальной революции в России потребуются жертвы… Но это немного в сравнении с величием задачи. Капиталистический строй ненавистен всему миру, всем, кроме самих капиталистов… Он не может существовать вечно… должен погибнуть. В прошлом человечества много раз погибал устарелый строй… заменялся новым… Погибнет и отживающее, дряхлеющее царство капитала… его заменит социализм. К этому идет история, и нет тех сил, которые могли бы остановить ее. История — за нас!
Валерьян слушал и смотрел на оратора с тревогой и изумлением. Это был пафос пророка, фанатика, безумца или — кто знает? — быть может, гения, который уже и теперь покоряет и зажигает толпу.
До сих пор он думал, что русские революционеры хотят: одни — только конституции, другие — республики, но теперь впервые услышал страстную, исступленную речь о социальной мировой революции. Тщедушный человек покоряющим голосом, полным несокрушимого убеждения и пламенной веры, рисовал вдохновенными, горячими словами невероятную, фантастическую, притягательную картину. Все слушали с жадностью. Валерьян видел, как стоявший рядом с ним Евсей как бы глотал на лету слова Владимира, как вся толпа была загипнотизирована пронзительными, горящими глазами оратора, его не допускающим сомнения голосом. Когда он кончил, зал долго грохотал аплодисментами, стонал от криков. Протестовала и негодовала лишь незначительная часть публики, некоторые пожимали плечами, язвительно улыбались.
На смену ему вышел пожилой человек, по-европейски, элегантно одетый, с лысеющим лбом и сильной проседью в подстриженной острой бородке. Жидкие аплодисменты встретили его. Зал еще не успокоился под впечатлением только что слышанного. Когда шум затих, новый оратор начал говорить, но его плохо слушали. Говорил спокойно, уверенно, с видом опытного бойца.
— Ну, опять начнет разбирать по косточкам, — рычали в задних рядах, — живого места не оставит.
— Что же, известно, что победить его невозможно: вооружен всегда — как черт…
— Конечно, — эрудиция. Но нам дорого наше настроение. Лучше бы сегодня не выходить ему…
— Я утверждаю, — доносились сквозь гул собрания отдельные фразы оратора, — я убежден, как социалист и марксист, что перестроить общество на социальной основе можно, но — увы! — не во всякое данное время. Социалистический строй предполагает два непременных условия: первое — высокую степень развития техники и второе — весьма высокий уровень сознательности в трудящемся населении страны. Там, где отсутствуют эти два необходимых условия, не может быть и речи об организации социалистического способа производства.
— Слышали! Старо! Довольно! — волновались слушатели.
— Наши разногласия — во взглядах на ближайшие судьбы капитализма… Вредно обманываться упованиями на его дряхлость: европейский капитал еще достаточно силен, и до известного момента русская революция вынуждена будет идти с ними в контакте… Мировая буржуазия…
— Долой буржуазию! — взревела толпа: самое это слово вдруг обожгло ее, как раскаленным железом. — Да здравствует революция!
— Товарищи, — напрягая тонкий голос, взывал к толпе старый оратор, — можете меня не слушать, но не можете заставить мыслить иначе. Во имя революции, которая мне так же дорога, как и вам, заклинаю вас: бойтесь преждевременной социальной революции. Несвоевременно захватив власть, рабочий класс не совершит социальной революции.
— Совершит! A-а! А-а!
Невообразимый гам заглушил его голос.
— Эти тезисы — теоретическая отвлеченность… бред… безумие…
Казалось, что будет рукопашная схватка.
— Ну, началось! — сказал Евсей, беря художника под руку. — Больше слушать нечего. Пойдем в буфет.
— Я лучше в сад пойду, — возразил Валерьян.
— Только не удери совсем. Скандал сейчас кончится безо всяких результатов.
— Всегда у вас так бывает?
— Всегда. Дело привычное…
— Но кто же из них прав?
— А уж это мать-революция рассудит. Кто победит на баррикадах, тот и будет прав. Ведь победителей не судят.
Валерьян долго сидел в садике на скамейке. Эмигрантская грызня взволновала его. Там, «в глубине России», — великая тишина, а здесь уже делят шкуру неубитого медведя. Как взвыли они от одного только слова «буржуазия»! Какая ненависть и вместе — какая вера! Странно и ново, что о будущей революции здесь говорят, как о деле давно решенном… готовы к ней. А он-то думал, что они здесь только бьются с нуждой, как зоолог Евсей. Нет, они тут делают что-то. Что же будет с Россией?
Лунный столб серебряной чешуей, бесконечно дробясь и сверкая, плыл по тихому, едва дышавшему морю. Художник засмотрелся на огненные блики, словно без конца выплывавшие с морского дна. Они поминутно гасли, но тотчас же сменялись новыми огнями. Редкие звезды, окружая прозрачную круглую луну, алмазными брызгами горели в глубоком зеленоватом небе.
Недоуменная тоска охватила душу Валерьяна.
Когда он вернулся в зал, там уже не было прежней толпы: она растеклась по всем комнатам; в зале стояло несколько больших столов с бутылками и кружками пива. Сидящие за столом люди галдели, спорили, смеялись.
За небольшим столиком сидел Евсей в компании нескольких человек, он представил им подошедшего художника, потом пододвинул стул и бокал с темно-красным напитком.
— Ну, как вам понравились речи? — спросил кто-то Валерьяна.
— Удивлен, — признался художник. — Неужели в самом деле возможен социализм в России? Можно ли быть уверенным, что русская революция вызовет революцию во всем мире?
— Мы верим, — твердо сказал тот.
— Верить можно и в чох и в сон, — язвительно вмешался рыженький, крючковатый человек ехидной наружности. — В политике нужна не вера, а расчет, учет и умение угадывать события… Предвидеть нужно.
— Товарищи! — воскликнул Евсей, поднимая кружку, — я поднимаю тост за светлое будущее революционной России.
Какой-то человек встал с кружкой в руке и запел недурным, простонародным, русским тенорком:
Славное море, священный Байкал! Славный корабль — омулевая бочка…Песню тотчас же подхватили за другими столами. Она ширилась и росла от все новых, вливающихся в нее голосов. Для бывших ссыльных и каторжан это была родная, любимая песня, будившая в чих романтику воспоминаний о тюрьмах, цепях, побегах и революционных приключениях.
Долго я звонкие цепи носил, Долго бродил по горам Акатуя… Старый товарищ бежать пособи-ил…Песня вразброд перекатывалась под старинными закоптелыми сводами средневекового здания, переливаясь из одной комнаты в другую.
В раскрытые узкие, длинные окна, в растворенные настежь полукруглые тюремные двери было видно безграничное море, тихо плескавшееся под светом заходящей красной луны и мерцающих далеких звезд.
Ленька, пригорюнившись, как старичок, сидел на набережной против «Золотого дома» и, подперев ручонками подбородок, смотрел в лазурную морскую даль. Утро было прелестное. Чуть-чуть дышавшее море нежно и незаметно сливалось с хрустальным небом. В другое время Ленька носился бы по набережной, гоняя обруч или играя с хозяйской Собачонкой, но теперь почему-то скучал. Заслышав шаги, обернулся и тотчас же улыбнулся, не меняя задумчивой позы: по набережной шел Евсей в своем вечном сером костюме. Ленька любил Евсея, а после рассказов о Ледовитом океане считал его героем.
Евсей сел рядом на каменную тумбу и, набивая трубку, спросил:
— Что ты такой печальный, Ленюха?
— Так. Думаю, — вздохнул ребенок.
— Думаешь? Раненько! О чем же?
— Обо всем: зачем я родился? Зачем мы здесь?
— Человек родится для счастья, как птица для полета, Леня. Живете вы здесь потому, что мама твоя больна.
— Это я знаю, что больна, а зачем мы все-таки живем здесь, а не в России? — упрямо допытывался Ленька. — Отчего мама больна? Когда она выздоровеет?
— Об этом знают доктора. Отец дома?
— Нет, он с мамой к доктору поехал… И дядя Митя и дяди-Митина жена — все уехали. Доктор маму постукает молоточком и отпустит в Россию. Мы в Россию сегодня уезжаем: папа деньги получил и чемодан приготовил.
— Вот как! Прекрасно! Радоваться надо, а ты сидишь и думаешь.
— Скучно мне… оставили одного… Папка злой сегодня. Маму медведицей назвал за то, что она людей боится. Разве медведица боится людей?
— Всяко бывает, Леня. Я одну медведицу знал, так она очень даже людей любила. Хочешь, расскажу тебе про медведицу Эсерку.
Ленькина рожица расплылась с солнечную улыбку. Он ближе подвинулся к Евсею.
— Интересно?
— Очень.
Евсей раскурил трубку, выпустил дым и, как все хорошие рассказчики, выдержал паузу.
Из кабачка доносились трепещущие звуки мандолины, сливавшиеся с тихой музыкой моря.
— Вот видишь ли, жил я однажды в ссылке, в Сибири, в глухой деревушке, на берегу реки Лены. Глушь страшная, кругом лес еловый да кедровый, — «тайга» называется, а в лесу медведей — сколько угодно. И подарили мне охотники маленькую живую медведицу, — щеночка медвежьего. Товарищи мои были все ссыльные, партийные люди. «Определили» и медведицу в партию: Эсеркой назвали. Так ее все и привыкли звать. Жили мы всей компанией в деревенской мужиковой избе. Эсерку я очень любил, кормил овсянкой, молоком, ягодами; а кедровые орехи как любила — страсть! Так и щелкает, бывало, только шелуха летит. Играл с ней, всяким штукам выучил: и как баба за водой идет, как ребятишки горох воруют — все знала. Ночью спала рядом со мной на полу. Вся деревня к ней привыкла: кличут ее, бывало, как собачонку, и каждый погладит, поласкает, кусочек даст. Выросла, брат, эта самая Эсерка в один год — пребольшущая медведица. Но никто ее не боялся, и никого она не трогала, — ручная стала. Жила на дворе под навесом, на сеновал залезет или по двору гуляет. Косолапая такая, пятки у нее, как у человека; наука поэтому стопоходящими медведей называет. Неуклюжая, но, брат, ловкая была: на дерево или на столб залезть — это ей раз плюнуть. Бороться очень любила — русско-швейцарской борьбой. Всякий, кто, бывало, зайдет к нам, непременно с ней в обнимку бороться свяжется. Силища у нее, конечно, медвежья была, только хитростью и клали ее — ножку подставляли, и тогда от нее поскорее удирали: сердилась, когда не ее верх был. А так — добрая. Меня любила— как родного брата. И вот представь, вышло от начальства распоряжение — перевести нас всех на жительство в уездный город на Лене, не больно далеко от деревни. Была нам от этого большая радость: все-таки, хоть и паршивый, а городишко, — ведь в деревне жизнь треугольная. Но как Эсерку с собой довезти? Решили потихоньку взять ее на пароход. Одели деревенской бабой— в сарафан, в кофту, платок на голову повязали, на морду пониже спустили. Когда шли по мосткам на пароход всей партией, ее в середину затолкали; она и прошла рядом со мной, как баба. А на пароходе матросов угостили, они ее в трюм спрятали. Вечером приехали в город и опять таким же манером в бабьем платье на берег вывели. Посадил я Эсерку рядом с собой на извозчика, морду ей платком повязал. Извозчик впотьмах и не заметил, кого везет. Покуда ехали по грязной дороге, все было хорошо, а как выехали на бревенчатую мостовую, задребезжала пролетка по горбылям, затрясло нас, — Эсерка испугалась, да и рявкнула по- медвежьи. У лошади хвост — елкой, извозчик обмер, пролетка в канаву, лошадь с одними передками на горизонте, мы с извозчиком в луже, а Эсерка — на фонарном столбе.
Ленька засмеялся весело. Евсей, довольный, выколотил трубку и снова набил ее. Волны лениво лизали камни набережной у ног собеседников. Пахло вкусным запахом моря, одноцветного с небом. Кругом было столько приторно-нежной красоты. Рассказ Евсея о севере, тайге и ссылке казался Леньке сказкой. Он погладил Евсеево лицо пальцами, дернул за рукав.
— Дальше, дальше!
Опять заиграли что-то печальное на мандолине.
Евсей продолжал:
— Ну, тут народ сбежался. Явилась полиция. В часть! Разобрали дело и присудили Эсерку пристрелить из ружья. Самому мне это сделать приказали. Отвел я ее на глухой берег. Обнял, поцеловал в морду и говорю: «Прости, Эсерка, не моя вина!» Нацелился в ухо; она думает, что я с ней играю, мурлычет этак ласково, дружелюбно. Выстрелил и убил ее наповал. Потом упал на нее и так-то плакал, коровой ревел.
Евсей увлекся рассказом, вспоминая прошлое, и не заметил мрачности своих воспоминаний; ему казалось, что рассказ его забавен, но Ленька, потрясенный неожиданным концом рассказа, молча вскочил с камня, добежал до крыльца «Золотого дома» и спрятался за ствол дерева. Евсей удивился странной выходке ребенка, подошел к нему и погладил по стриженой круглой голове. Ленька, прижимаясь лицом к дереву, горько и беззвучно плакал о несчастной медведице.
К «Золотому дому» подъехал парный экипаж, и из него вылезли Валерьян с Наташей, Митя и Анна.
— Ба! — весело сказал Евсей. — Мне все известно. В отъезд собираетесь?
— Сейчас же после завтрака, — озабоченно отвечал Валерьян, — еду в Россию с Ленькой. Наташу врачи не отпускают, оставили здесь еще на год…
Губы Наташи дрогнули. Она хотела что-то сказать, но только рукой махнула.
— Конечно, на первом плане должно быть ее здоровье, — деловито сказала Анна. — С ребенком какое леченье!
Ленька стоял за деревом и смотрел оттуда большими синими глазами.
Наташа подошла к нему, подняла на руки и молча прижала сына к груди. Ленька обвил ее шею ручонками, хныкая.
— Не плачь, — сказала она с неожиданной твердостью. — С папой поедешь, а мне нельзя. Пойдем! — и увела его в комнату.
На пороге появился Антонио, знаками приглашая всех в столовую.
За завтраком почти никто не ел, разговор не вязался.
— Я поеду вас провожать до Вентимильи, — заявил Евсей. — Избавлю от таможенных хлопот. Проводил бы и до Вены, будь у меня франков побольше.
— За это спасибо. Трудно ехать без языка, да и на душе словно камень лежит: сам не знаю, хорошо ли делаю, что оставляю ее здесь… Какое-то скверное предчувствие. Ведь, если бы она была как все, но я знаю, что Наташа изведется от тоски, никакого толку от лечения не получится, а с другой стороны — как докторов не слушать? Вся ответственность на мне будет. Вот сижу и думаю: не послать ли к черту весь их консилиум и уехать всем вместе?.. Наташа, — вдруг вскрикнул он с надрывом, — уедем! Больно мне оставлять тебя.
— Вы с ума сошли, — возразила Анна. — Только расстроите ее напоследок.
— Не дело, — подтвердил, заикаясь, Дмитрий. — Ведь она не одна остается. Пока мы с ней побудем, а потом Костя подъедет.
— Не надо нервничать. По-моему, если лечиться, так уж лечиться, — успокаивал Евсей. — Лето проведет она с родными, да и я наведываться буду. Зачем ты сбиваешь с толку женщину? Многие здесь годами без родных живут. Ну, поскучает немножко, а уехать, не долечившись, — потом начинай сначала, где голова торчала. Куда ни кинь — все клин.
— Валечка, — сдержанно вмешалась Наташа, — успокойтесь и не бойтесь за меня. Я уже решила. Поезжайте!.. Отвезите Леню к бабушке, а сами направляйтесь в Петербург. Вам нужно серьезно работать, все остальное — пустяки. Вы на целые годы забросили из-за меня работу. Так нельзя. Не бесконечно же я буду лечиться! Ведь только еще год, один последний год — и я буду навсегда здорова.
— Но ребенок? Хоть бы ребенка оставили.
— Вот именно ребенка-то доктора и требуют удалить, — возразила Анна.
— Лучше всего бы и вам здесь остаться! — посоветовал Митя.
— Я не могу не ехать! — в отчаяньи вскричал Валерьян. — А она — если поедет, опять заболеет. Останется — с ума будет сходить… Поймите же, что мы жить друг без друга не можем. Вот чего не учитывают доктора. У меня здесь, в груди, какое-то тяжелое предчувствие. Кажется, будто кто-то шепчет: не надо ее оставлять, оставишь — потеряешь. Кто знает? Может, доктора в своих интересах говорят, чтобы только деньги вытягивать. О, я знаю этих европейских ремесленников! Бездушный народ!
И, глядя на Наташу глазами, полными слез, стал умолять ее:
— Поедем! Через год можно ведь опять в Давос…
При упоминании о Давосе Наташа содрогнулась:
— Нет, — твердо сказала она, покачав головой, — я решила.
На момент в лице и голосе Наташи мелькнул оттенок упрямства, напоминавший ее властную мать.
Долго спорили, наконец Валерьян выдохся и печально умолк.
Вошел Антонио и ловкими, мелкими жестами объяснил, что экипаж готов.
В коляску сели Валерьян с Ленькой. Напротив, на передней скамейке, поместился Евсей.
— Скорее! — сказала Наташа. — На вокзал провожать не поеду.
— Дальние проводы — лишние слезы, — подтвердил Евсей. — Не волнуйтесь, доставлю ваших путешественников в лучшем виде, в Вентимильи сам посажу в беспересадочный поезд.
Валерьян в последний раз поцеловал жену, наклонившись с коляски. Наташа обняла Леньку. Он беспечно вертел стриженой головой в соломенной шляпенке, довольный предстоявшей поездкой на лошадях.
У Наташи было очень серьезное, как бы застывшее лицо, но ни слезинки не выкатилось из глаз.
Экипаж тронулся шагом. Дмитрий и Анна остались у крыльца, Наташа пошла рядом по тротуару. От «Золотого дома» нужно было ехать узкой набережной, выходившей на шоссе.
— Да поезжайте же скорее! — повторила она нетерпеливо, остановившись на тротуаре.
Извозчик пустил лошадей тихой рысью. Валерьян и Ленька, обернувшись, помахали ей шляпами.
Наташа побежала за экипажем, и тогда слезы покатились градом по щекам ее.
Когда коляска скрылась за поворотом, Валерьян в тревоге и отчаяньи еще раз оглянулся, но никого не видно было на ровном, как скатерть, шоссе.
VII
Возвратясь из-за границы в Петербург, Валерьян с жаром принялся за работу. Между тем для художников реалистической школы, к которой примыкал Валерьян, наступало трудное время: за годы его отсутствия выросло еще прежде начавшееся течение в искусстве, совершенно отвергавшее реализм, и это течение сделалось модным, отвечавшим новым настроениям публики — «ценителей» искусства и покупателей картин. Теперь художники писали призрачные, истощенные, болезненно-зеленые тела искривленных женщин с грифом скрипки взамен головы или черепным оскалом вместо улыбки. В живопись вошел призрак умирания, вырождения, бреда, безумия: это вызывало недоуменный интерес к новой, загадочной школе.
В моде были странные настроения мрачных, болезненных предчувствий; высшая часть образованного класса, для которого в сущности только и существовало такое «аристократическое» искусство, требовала от художников, музыкантов, писателей новых мотивов, близких ей. Не известно было — спрос ли породил предложение, или художники чутьем угадали настроение упадочничества, к которому пришло фешенебельное общество, но художественные выставки и репродукции иллюстрированных журналов в момент возвращения Валерьяна были заполнены загадочными, непонятными, бредовыми произведениями молодых художников, как бы возненавидевших жизнь и возлюбивших смерть.
Успех этих неприятных, умышленно несимметричных произведений, поднимавших бунт против реализма в живописи, показывал, что новые художники отражают нечто действительно существующее в настроениях общества, что они, как барометр, означают близость резкой перемены в погоде.
Рядом с ними реалистическая школа художников казалась хотя еще сильной, но устаревшей, не отвечавшей настроениям приближающейся новой эпохи. Солнце, тепло, жизнь и радость красок прежних художников уже не совпадали с настроениями уныния и страха; как бы в предсмертной тоске метались души людей, потерявших спокойный аппетит к жизни: от новых картин веяло запахом увядания, тления.
Широкая публика не понимала этих произведений, пресса издевалась, но все невольно занимались тем новым и зловещим, что так быстро появилось на горизонте искусства. Отвратительные, неживые образы, тайно соответствовавшие внутренней гнилости, которую чувствовало до этих пор жизнерадостное образованное общество, но скрывало ее, как секретную болезнь. Никому не хотелось оглянуться на искусство вчерашнего дня, чем еще так недавно увлекались и наслаждались.
Эти новые настроения сказывались не только в искусстве и литературе, но и в повседневной жизни. Никогда еще в столице не было такого снобизма и обилия кутящей публики. Всюду деятельно работал новый вид богатых кабаков, где рекой лилось шампанское, танцевали танго, звучали томительно-грустные или бесшабашно-прощальные романсы и «песенки Пьеро». Расплодились театры фарса с полным обнажением женского тела и совершенно скабрезным содержанием. Нравы упали катастрофически: интеллигентные дамы и барышни напивались допьяна, отдавались случайно, кому попало, и даже занимались проституцией — не от нужды, а за наряды, за красивую шляпку, за перо на шляпке. С вершин недавнего идеализма жизнь внезапно покатилась вниз, в примитивную, пошлую плоскость. Казалось, что все лихорадочно спешат в самой грубой форме насладиться жизнью в последний раз, как бы перед надвигающейся катастрофой, как будто все утехи и радости должны были скоро прекратиться.
Атмосфера предчувствий успешно поддерживалась искусством и литературой. На серьезной сцене шли «пьесы настроений», символически изображавшие людей пониженной психики. В литературе было то же, что происходило в кабаре и фарсе: царила «половая проблема», заслонившая собою все остальное.
Разгул беспричинного отчаяния, чувствовавшийся в лихорадочном темпе мирового города, можно было определить известным изречением: «Хоть день — да наш!» или: «После нас — хоть потоп!»
Валерьян редко появлялся на пирушках художественной богемы, где преобладала молодежь, начинавшая свысока смотреть на «стариков». Выставив мелкие, хотя и мастерски написанные эскизы, он значительно уронил и без того потускневшее свое имя. От него долго ждали — с чем он выступит в такое переходное время, а художник отделался красивыми пустячками, повторением пройденного. Это развязало языки и перья газетных обозревателей. На Валерьяна перестали надеяться, а ревнивые молодые соперники стремились затушевать, похоронить, заслонить его собою, развенчать даже прежний заслуженный успех. По поводу его новых работ вспоминали старые, недоумевая, почему они когда-то нравились; теперь не находили ничего особенного даже в лучших, нашумевших произведениях Валерьяна, а то, что он выставил, считали возвратом назад, оговариваясь, что если это не закат таланта, то во всяком случае временная усталость.
Упадок душевных сил чувствовал и сам художник.
Его преследовал мучительный, страдальческий образ Наташи, ее огромные, печальные глаза, полные почти неестественной, страдальческой красоты. Написав ряд незначительных вещей «для денег», он работал теперь по памяти над ее портретом, но не хотел его ни выставлять, ни показывать кому-либо: писал «для себя», упивался собственными страданиями.
На холсте ее лицо и головку он оставил едва очерченными, чуть коснувшись кистью, но всю силу мастерства и вдохновения вложил в изображение глаз. Эти глаза все еще оставались загадкой для него: их сложное и таинственно-глубокое выражение непонятно было ему; с полотна смотрел «нездешний» печальный взор, «не от мира сего». Казалось, что глаза смотрят не с портрета, а откуда-то из неведомо далекой страны. С каждым сеансом он усложнял их выражение, добиваясь понять и выразить все, что в них было загадочного и столько лет непонятного для него.
Часами стоял он перед мольбертом в запертой на ключ мастерской и мучительно смотрел в созданные им необыкновенной красоты и силы глаза. Он сам не знал, что они выражают и чего с таким упорством доискивается в них.
Но не мог угадать художник самого главного и простого, таинственной пеленой лежавшего на этих прекрасных глазах, не мог найти даже названия неуловимому их свойству и часто, в отчаяньи склонившись на колени перед своим незаконченным и им самим не разгаданным созданием, терзался и плакал.
Ранней весной он, подавленный внешним неуспехом и внутренне опустошенный, уехал в Крым, чтобы уединиться в глухом углу природы, в забытом и заброшенном своем доме. Художник потерял себя и тот путь в жизни, которым шел до этих пор. Ему казалось, что он уже не напишет ничего хорошего, что изболевшая душа его надолго, и быть может навсегда, умерла для искусства. Являлась мысль о самоубийстве, но останавливал грустный, укоризненный образ Наташи; все зависело от нее: если она вернется здоровой, тогда он воспрянет духом.
В Севастополе оставил багаж на хранение и с альпийским мешком за спиной, в плаще, гетрах и с палкой в руке дошел до знакомой харчевни, стоявшей на шоссе южного берега около горной расселины, где была ему известна вьючная дорога «Шайтан-мердвень», или «Чертова лестница»; этим путем можно было пробраться в долину, пройдя ущельем всего только семь верст.
В теплую весеннюю ночь слез около харчевни. Против нее у подножия горы терялась в кустах знакомая тропинка. Было темно, но он хорошо помнил дорогу. Между двух отвесных гор виднелась расселина, напоминавшая седло: здесь тысячелетия назад, еще во время переселения народов, вырублена в скалах знаменитая историческая «Чертова лестница». Вероятно, это был естественный путь, прорытый дождевой водой в доисторические времена, но его использовали, вырубили огромные ступени, а татары издавна чинили и поддерживали для своих надобностей путь великого переселения. Путеводным признаком всегда служила одинокая сосна, росшая на неприступной скале и видная издалека. Валерьян безошибочно попал на «Шайтан-мердвень» и долго поднимался по высоким ступеням при помощи своей альпийской палки. Сосна сначала была высоко над головой, потом наравне с ним, наконец оказалась внизу, а до вершины еще было далеко. После часа трудного пути, тяжело дыша и обливаясь потом, путник выкарабкался на гребень горы, очутившись на небольшой каменной площадке. Здесь он сел, чтобы перевести дух. В темном небе горели крупные звезды. Кругом стоял вековой буковый лес, узкая тропинка шла между высоких деревьев, спускаясь медленным, едва заметным уклоном.
Валерьян взглянул вниз: пройденный путь казался пропастью, на дне которой едва белело шоссе, харчевня со своим огоньком походила на игрушку, а еще ниже при свете ярких звезд лежало беззвучное ночное море. Он вынул из мешка недопитую бутылку красного вина, выпил все, съел кусок хлеба и прилег на гладком камне, еще теплом после жаркого дня. Сердце его тяжело билось, во всем теле была усталость. Долго смотрел на звезды и вдруг заснул.
Ему снилось, что он взбирается на высокую гору, с трудом одолевает каменистые ступени, забрался на самый верх, оглянулся и сам удивился: когда это он успел подняться на такую высоту? Из пещеры вышла необыкновенная красивая девушка в серебряном платье невиданного покроя, но ему показалось, что он знал ее прежде. — Я давно уже люблю тебя! — сказал он красавице, — и давно ищу по всей земле! — Я жду тебя! — тихо ответила девушка. — Идем!
Они вошли в отверстие под горой и оказались в большой сталактитовой пещере, освещенной алмазами, которыми были осыпаны низкие своды, как звездами. Там сидел старик в алмазном венке на седой голове и вслух считал золотые монеты, бросая их горстями из мешка в открытый сундук.
— Миллион! — смеясь крикнул он, закрывая, крышку, в то время, когда девушка ввела художника в пещеру. Алмазы падали и катились, отрываясь от венка, но на их место выступали новые.
— Это слезы! — сказала девушка: человеческие слезы: освободи меня отсюда!
За спиной старика стояли еще две девушки: одна в золотом платье, другая в бриллиантовом.
— Вот мой жених! — сказала девушка, подводя к старику Валерьяна.
— Знаю! Он высоко летит! может еще и не тебя возьмет!
— У меня их три… — обратился он к пришельцу, — берите любую, но только с условием… отдать ей всю душу: души у них нет!
— Я люблю серебряную! — сказал Валерьян.
Старик засмеялся.
— Убил бобра! Ну, ступайте, только выше поднимайтесь…
Валерьян взял девушку за руку, вышел из пещеры. Какая-то сила подняла их, и они полетели, обнявшись. Внизу стоял старик и, хохоча, кричал:
— Душу-то, душу потерял!..
Валерьян испугался и вдруг почувствовал, что с девушкой падает вниз, а внизу чуть виднеется море. Сердце его сжималось, как в железных тисках. «Это смерть! — подумал он во сне, — нужно сделать усилие и проснуться, а иначе умру!» Напрягая всю силу воли, чтобы задержать в себе жизнь, выпустил девушку из рук и медленно стал опускаться все ближе к земле. Старик виднелся на прежнем месте и продолжал хохотать так страшно, что у Валерьяна волосы зашевелились на голове.
— Ты уже умер! доносился голос старика, душу отдал! душу потерял!..
Валерьян проснулся. Он лежал на скале, на самом краю ее, над пропастью. Необычайно яркая луна освещала лес, горные скалы и беззвучное море у подножия гор. Из леса доносился истерический клохчущий хохот: это кричал филин.
Художнику казалось, что никогда еще он не видал такой яркой лунной ночи: светло, как днем, от деревьев простирались черные тени, каждый лист видно, и такая тишина, что посеребренный лунным светом лес стоял как зачарованный.
Валерьян пошел по знакомой дороге. Она заметно спускалась все ниже и наконец привела к узкой, глубокой ложбине между отвесных скал. По дну ложбины бежал ручей, иногда свергавшийся по уступам мелодичным водопадом. Тропинка шла над краем обрыва, а над головой высились причудливые скалы, покрытые толстыми ветвистыми деревьями.
Луна становилась все бледней и прозрачней, потянуло холодком; близилось утро.
Появился нежно-матовый просвет между двух конусообразных гор, снизу доверху заросших кудрявым лиственным лесом, и вдруг за поворотом открылась широкая, зеленая, ласковая долина. Она вся застилалась густым, как вата, тяжелым туманом, из которого высовывалась голубая голова тонкого минарета мечети. Вдали, на пригорке, у подножия зеленой лесистой горы краснела черепичная кровля серого каменного дома с крытым балконом в верхнем этаже и двумя стройными пирамидальными тополями, доросшими до кровли за время скитаний Валерьяна.
Он остановился на спуске горы и долго смотрел на свое одинокое, давно покинутое жилище.
Туман лежал низко на земле, расстилаясь белыми волнами, и вся овальная долина казалась призрачным озером, затопившим чуть заметные деревни на пригорках по краям ее. Кое-где виднелись татарские кладбища и высокие скифские камни, стоймя врытые в землю, — могилы древних скифских богатырей.
По этой дороге, которую только что прошел он, тысячелетия назад шли миллионные толпы переселявшихся народов, в поисках призрачного счастья, устилавших могилами таинственный путь свой. Быть может, здесь же будет и его могила — неудавшегося художника, слава которого мелькнула и погасла так быстро: что мог, он отдал искусству и — скромно отошел в забвенье. Талант его преждевременно угас. Почему? Что случилось с ним? Исчерпался материал? Нет. Появилось новое течение в живописи? Какие пустяки! Валерьян погиб из-за женщины, которую любил и хотел спасти от смерти. Для любимой пожертвовал он своим талантом, успехом, карьерой, добровольно бросил кисть и палитру, ибо в душе не осталось более места для вдохновения. Все силы, все чувства отнял у искусства и потратил на любовь к ней, на борьбу за ее жизнь.
Правильно ли он поступил? Конечно, неправильно. Жестоко и нечестно поступил с собой. С самой первой встречи с Наташей, связавши свою судьбу с ее судьбой, он встал на этот могильный путь. Она родилась в «темном царстве», враждебном ему.
Валерьян — выходец из мира труда и бедности, у него — наследственно сильные руки, созданные для молота и плуга, но получившие в дар от судьбы кисть и палитру. Его путь — свободный и трудный под открытым небом живой жизни, посылающей не только лучи славы, но и грозу неудач. А она — оранжерейный цветок, тянувшийся к солнцу и неспособный к жизни вне оранжереи: не освободил он ее, а оторвал от корня. Вот в чем была ошибка.
Живое лицо Наташи, фантастический портрет и какой-то им виденный сон слились в его воображении в яркий и страшный образ. Она — такая хрупкая, прекрасная болезненной красотой умирания, а он — художник ярких красок и сильных тел — полнокровный талант: как, в сущности, не схожи они друг с другом! Вспомнилось, как на их свадьбе старый друг-художник, бывший учитель его, шутливо декламировал, глядя на «молодых»:
В одну телегу впрячь не можно Коня — и трепетную лань.Валерьян медленно спускался с гор в безлюдную, словно вымершую долину. Из-за зеленых вершин поднималось солнце.
Туман редел и клочьями полз по лугам, как ранней весной тающий снег на полях. Все кругом казалось призрачным, принимало изменчивые, фантастические очертания: в горы поднимались полчища вооруженных людей в серебряных шлемах, с копьями и алебардами на плечах, беззвучно во весь опор летели воины на белых конях, тянулись бесконечной вереницей арбы, запряженные большими белыми быками, — словно все еще шли тени давно ушедших народов. Чудилось, что вместе с туманом могут растаять белые сакли деревни с голубой церковкой и тонким минаретом, а фантастическая вилла художника с колоннами и черепичной кровлей исчезнет, как мираж, как случайная игра света и теней в нежных лучах жемчужного крымского утра.
Весной Валерьян стоял на перроне севастопольского вокзала в тесной толпе встречающих, искал глазами Наташу. Прошли последние пассажиры, толпа стала редеть, а ее не было.
Вдруг за спиной его раздался знакомый, глубокий голос:
— Куда смотришь, чертушка?
Валерьян обернулся: перед ним стояла Наташа в дорожном костюме, похудевшая, загорелая.
Он кинулся к ней в чрезвычайном волнении.
— С каким поездом ты приехала?
— Часом раньше.
Она улыбнулась, но в глазах, странно изменившихся, слегка вышедших из орбит, было что-то новое, напряженное.
Дорогой с несвойственным ей оживлением Наташа рассказывала, что всю ночь не спала в поезде, под утро только заснула и видела его во сне.
За городом, в широкой крымской степи дул теплый южный ветер, бархатный и ласкающий, но Наташа всю дорогу закрывала лицо муфтой.
— Что с тобой?
— Мне больно от ветра, он царапает мне щеки.
— Не понимаю: такой приятный, теплый ветерок!
— Но этот ветерок сдирает мне кожу с лица, — раздраженно возразила Наташа. — Такое мученье! Надо поднять верх.
Подняли верх экипажа, закрылись кожаным фартуком, как от дождя, хотя был теплый, солнечный день.
Валерьян никак не мог понять, что такое с Наташей, спрашивал тревожно:
— Здорова ли ты?
— Совершенно здорова, но у меня зубная боль по всему телу, зуд в коже…
— Давно?
— Нет, вот только в дороге стала чувствовать. Да пустяки: пройдет! От чахотки я совсем вылечилась… вот разве карманная. Как ваши дела, Валечка?
Валерьян стал говорить о своих работах, но Наташа плохо слушала, закрываясь от ветра.
К обеду приехали в долину. Фальстаф, завидев экипаж издалека, бросился встречать хозяйку к нижним воротам участка.
Сели обедать на террасе, густо обвитой плющом.
Подавая обед, жена Ивана участливо спросила:
— Поправились, Наталья Силовна?
— Поправилась, Паша.
— Ну, слава те, господи. А что это у вас с глазами-то?
Иван кашлянул и строго посмотрел на жену.
— С дороги, видно, — перебил он Пашу. — Вам отдохнуть надо, Наталья Силовна.
Заговорил о хозяйстве, сколько чего посадил и посеял.
После обеда Валерьян принудил жену лечь наверху отдохнуть, сам проводил ее и затворил дверь за нею. Его тревожило, что глаза Наташи странно изменились, выкатились из орбит, и это придавало им трагическое выражение. А что значит зуд в коже по всему телу? Даже легкий ветерок причиняет ей боль. Не заболела ли в дороге? Часа через два он тихонько заглянул в ее комнату.
Наташа сидела за столом перед маленьким зеркальцем и внимательно рассматривала свое отражение.
— Отдохнула?
— Нет. И не ложилась: не хочется спать, кожа зудит, да что-то горло припухло. Вот здесь, внизу, около ямочки, как будто душит меня кто…
Валерьян внимательно осмотрел ее шею и не нашел никакой опухоли.
— А вот здесь, видите?
— Может быть, и припухло немножко, не знаю. Кажется, что это у тебя и прежде было…
Наташа помолчала, видимо волнуясь и собираясь что-то сказать.
— Вероятно, ерунда. Дело не в этом… С пустяками пристаю… Смешная я! Ведь я очень смешная и жалкая? Скажите правду!
Голос Наташи звучал странным волнением.
— Ничуть ты не смешная.
— Но отчего же все надо мной смеются?
— Никто не смеется.
— Нет, смеются. Когда ехала сюда, в вагоне соседи потихоньку шептались обо мне и смеялись. Кондуктора тоже подглядывали за мной, качали головами и хихикали. А, пассажиры все были в заговоре против меня. Пересела в другое купе, и там то же самое. Все от меня сторонились, говорили шепотом, взглядывали украдкой и смеялись. Потом всю дорогу следили за мной неизвестные люди… Я очень боялась их.
Наташа говорила бессвязно, прерывающимся, взволнованным голосом, не поднимая своих огромных, выпуклых глаз и дрожащими руками ощупывая горло.
Валерьян затрепетал. Что-то жуткое почудилось ему.
— Голубушка, да ведь это тебе примерещилось!
— Не понимаете вы меня, Валечка, — раздраженным тоном сказала она, словно и не Наташа это была, а какая-то новая, чужая женщина. — Разве вы не замечаете, что и здесь надо мной потихоньку смеются Иван и Паша? Отойдут в сторону, смотрят на меня и смеются.
«Мания преследования», — подумал Валерьян.
Художник не помнил, что он потом говорил и делал. Наташа дико смотрела на него своими теперь страшными глазами: из этих безумных глаз текли медленные, крупные слезы.
Он весь дрожал от ужаса, в голосе звенели рыдания. Клятвенно убеждал Наташу, что никто ее не преследует, что Иван и Паша любят ее: он их сейчас позовет, и они подтвердят, что никогда не смеялись над ней. Выскочил на лестницу и закричал таким раздирающим душу голосом, что казалось — случился пожар или он сошел с ума.
Прибежал Иван, и оба убедились, что у Наташи — бред. Иван лучше Валерьяна успокоил Наташу, заболевшую новой странной болезнью, уговорил лечь в постель и должен был успокаивать хозяина.
— Доктора надо. Доктора сию же минуту! — с безумным возбуждением шептал Валерьян Ивану. — Голубчик, скачи за доктором!
— Не надо доктора, — спокойно возразил Иван: — к доктору ехать десять верст; покудова приедет, ночь будет. Тут, Валерьян Иваныч, лекарство не поможет, тут спокой нужен… Утречком рано, коли не будет легче, съезжу, а теперича надо, чтобы уснули оне… Не пужайтесь, Валерьян Иваныч: може, сколь ночей не спали Наталья Силовна, от думы это. Успокоится, заснет, и все пройдет без лекарства…
Разумные речи, а главное — уравновешенный вид и тон Ивана успокоительно подействовали не только на издерганного художника, но и на больную: она покорно легла в постель и скоро заснула.
Валерьян всю ночь просидел подле нее; ушел только под утро, когда его сменила Паша. Наташа спала глубоким сном.
Утром она пришла в себя и говорила разумнее; на вопросы о том, что с ней было вчера, не отвечала ни слова. Решили немедленно поехать в Москву к знаменитому профессору по нервным болезням.
Не доезжая до Харькова, Наташа простудилась, слегла в вагоне: из горла показалась кровь. Дальше везти ее в таком состоянии Валерьян побоялся; они очутились в Харькове, в номере большой гостиницы. Наташа почти без сознания лежала в постели, в груди хрипело. Валерьян сидел у ее изголовья в ожидании доктора, вызванного по телефону.
Доктор скоро явился. Это был молодой профессор, лично знавший художника.
Выслушав больную, он определил у нее плеврит, велел прикладывать холодные компрессы и сказал, что ей придется с месяц пролежать в постели; только тогда можно будет перевезти больную в его собственную лечебницу.
Валерьян приуныл.
— Но это еще не все: нужно исследовать сердце, — добавил доктор.
Он стал выслушивать сердце Наташи, нахмурился, но тотчас же, приняв добродушный вид, начал шутить:
— За легкие вам, сударыня, можно поставить четверку: плеврит — вещь обыкновенная; но за сердце — двойку! Больше двойки никак не могу поставить.
Он приподнял веки ее расширенных глаз, пощупал маленькую опухоль горла и многозначительно промычал: «Гм!»
Потом пригласил художника в смежную комнату, плотно притворив двери, и, усадив его против себя в кресло, сказал:
— Вот что: туберкулез зарубцевался и не представляет опасности, плеврит вылечим, но у нее базедова болезнь в самом начале. Болезнь эта иногда проявляется в слабой степени и с нею живут, не замечая ее, целые годы. Беда в том, что у вашей жены она развивается бурно, заставляет усиленно работать сердце. В конце концов сердце будет измучено.
— Что это за болезнь?
Доктор замялся.
— Это — ненормальность щитовидной железы, слишком усиленная ее деятельность: яд, вырабатываемый ею, необходимый для организма, начинает отравлять весь организм. Опухоль железы давит на дыхательные сосуды, и оттого глаза выступают из орбит.
— Что за причина такой болезни?
— Трудно сказать. Болезнь редкая в России. Бывает природное предрасположение на почве наследственной нервности; для таких неуравновешенных натур достаточно каких-либо нравственных потрясений или продолжительной печали, переживаний длительного страха, чтобы при склонности к меланхолии заболеть ею. Чаще всего заболевают женщины под влиянием какого-нибудь не счастья или горя, например утраты близких. Ваша жена не была в Швейцарии?
— Только что оттуда приехала.
— Ну вот. При известной склонности к этой горной болезни она там ее и получила. Возможно, что базедова болезнь и прежде была у вашей жены в скрытой форме, а теперь обострилась.
— Какие первые признаки этой болезни?
— Признаки интересные. Болезнь задолго до своего проявления сказывается необычайной красотой глаз, этаким глубоким, прекрасным их выражением. В такие глаза часто по неведению влюбляются, восхищаются ими. А что касается вашей супруги, то они у нее и от природы красивы, в первой же стадии, вероятно, обращали на себя внимание специфическим выражением, которое поэты называют неземным. На самом деле тут ничего неземного нет, а есть болезненное явление, известное в медицине…
Валерьян слушал профессора с жадным, напряженным, горестным изумлением.
Так вот в чем разгадка необыкновенной красоты и загадочной печали Наташиных глаз! Вот то неожиданное и простое, что он всегда чувствовал, но не понимал, над чем мучился и терзался. Вот что он столько лет любил в Наташе — страшный, роковой недуг! Теперь он может завершить ее неоконченный портрет, но — какою ценой?
Отчего обострилась болезнь, скрывавшаяся в Наташе, быть может, всю жизнь? От продолжительной печали, от душевных потрясений? Но не сам ли он причинил их, когда увез ребенка, оставил ее одну в чужой стране, среди чужих людей на целый год тоски и душевных терзаний?
У него вдруг ослабели руки и ноги, сердце так замерло, что едва мог перевести дыхание.
— Осложнения и последствия этой болезни в медицинском отношении еще более интересны, — невозмутимо продолжал профессор. — Нервная чувствительность настолько обостряется, что больные начинают чувствовать многое, недоступное здоровым людям: на каком угодно расстоянии заочно чувствуют настроение близких им лиц и даже видят их — в известной стадии развития болезни некоторые, наиболее одаренные от природы, на время становятся как бы ясновидящими. Потом с течением времени повышенная возбудимость падает, обострение чувств притупляется, является апатия и наконец — слабоумие. Если базедову болезнь запустить и вовремя не остановить энергичным лечением, то обыкновенно она кончается параличом или разрывом сердца.
— Излечима ли эта болезнь? — побелевшими губами прошептал Валерьян.
— Да. Недуг еще только в самом начале. Можно попробовать лечить электричеством, но это длительно и не всегда дает благоприятные результаты: бывает, что, провозившись с таким паллиативным лечением, только потеряют время, запустят болезнь. Самый лучший и наиболее действительный способ — это операция, удаление некоторой части щитовидной железы, работающей у таких больных, так сказать, извращенно. Операция не тяжелая, но удачно ее делают только очень опытные хирурги: если вырезать больше, чем следует, — наступит безумие, меньше — придется повторить операцию. Сейчас положение осложняется плевритом; необходимо пообождать, пока больная не оправится, но, покончивши с плевритом, после некоторого отдыха, непременно нужно обратиться к хирургу. Везите тогда вашу супругу в Москву или Казань, я вам дам письма к знаменитым врачам. Пока сердце еще достаточно сильно и организм не истощен, операция спасет вашу супругу от тех перспектив, которые я вам нарисовал. Говорю все это с полной откровенностью, потому что в данном случае промедление смерти подобно…
Комната заколебалась и пошла кругом в глазах Валерьяна. Тело обессилело, голова откинулась к спинке кресла. Он хотел прервать речь профессора и крикнуть, что сейчас упадет, что ему дурно, но вместо крика чуть слышно застонал. Затем все исчезло из его сознания, наступила тьма, небытие, беспамятство.
Валерьян послал Силе Гордеичу телеграмму, прося, чтобы приехал кто-нибудь из родных. Он надеялся, что приедут братья Наташи, но приехали Настасья Васильевна и Варвара, неожиданно вернувшаяся из-за границы. Ничего хорошего для Валерьяна и Наташи не было в их приезде. Настасья Васильевна славилась тем, что любила похороны и держала себя в таких случаях неподражаемо. Тотчас по приезде начала орудовать столь уверенно, что сразу была видна ее опытность в делах приготовления человека к смерти: зятю предложила переселиться в маленький номер, для двух сиделок сняла комнату, смежную с комнатой Наташи, а сама вдвоем с Варварой поселилась рядом. Из комнаты больной велела вынести лишнюю мебель, а высокую кровать с двумя матрацами и горой подушек поставить посредине комнаты: получилось нечто мрачно-торжественное.
В комнате всю ночь горел ночник, дежурили сиделки, сменяя одна другую. В полутьме высокой и пустой комнаты с лепным потолком и опущенными гардинами, обложенная повязками и компрессами, в забытьи, в бреду и беспамятстве, опираясь спиной на пирамиду подушек, в длинной больничной рубахе, с прозрачным, неземным лицом и огромными, как синие чаши, глазами лежала умирающая.
С головы ее сняли роскошные, длинные волосы, и она стала похожа на худенького, бледного отрока, напоминая художнику картины Нестерова.
Иногда ночью во сне она кричала чужим, вибрирующим, жутким голосом, наводя ужас на Валерьяна. Все кругом гробоподобной постели говорили шепотом. Старуха и Варвара в заблаговременном трауре таинственно совещались в своей комнате о предстоящем печальном событии. Только Валерьян не верил в возможность смерти жены, ожидая неожиданный удачи. И эта удача пришла.
Настасья Васильевна, настроившаяся на похороны, была разочарована, когда хмурый профессор, несколько просветлев, заявил, что кризис миновал благополучно и что больную скоро можно будет перевезти в лечебницу.
Туда же вместе с ней переехали ее мать и сестра. Валерьян остался в гостинице, каждый день наведываясь в лечебницу.
Две новые сиделки, приглашенные Настасьей Васильевной вместо прежних, дружили в Варварой, на цыпочках ходили перед старой купчихой, но часто оставляли Наташу без присмотра. Она плакала от грубого обращения сиделок и ничего не говорила мужу. Здоровье стало опять ухудшаться. Наконец пожаловалась Валерьяну. Он взволновался.
— Знает ли об этом Настасья Васильевна?
— Я говорила ей. Она и слушать не хочет, души не чает в них. Не замечает, что они изо всех сил ухаживают за ней, а не за мной. Помещица! Окружила себя и здесь приживалками.
— Нужно взять новых сиделок.
Вошла Варвара и, узнав, о чем идет разговор, сказала сестре:
— Будто не знаешь мамашу. Что с ней поделаешь? Я вот и сама больна, лечиться приехала, мужа в нужде оставила, а меня за тобой ухаживать послали. Пойду, пожурю девиц.
И, не взглянув на Валерьяна, вышла.
— Не понимаю, — развел руками Валерьян, — что они обе против нас имеют?
— Кто?
— Твоя мать и Варвара.
— Как же не понимать? Я и то понимаю: у Вари — зависть давнишняя. Папа на меня столько денег тратит: и по заграницам лечили, и здесь, а ее в черном теле держат.
— Ну, не очень-то много давали и тебе, а здесь я в гостинице за всех и за все заплатил… Без копейки остался…
— Неужели? Это недоразумение. Как же мы теперь будем без денег? Чтобы уволить сиделок, надо расплатиться с ними, а мамаша денег на это не даст.
— Я послал телеграмму в Петербург… На днях переведут. Это все Варвара мудрит.
Наташа лукаво улыбнулась.
— Мне завидует, а вас ненавидит.
— За что?
— За то, что на мне женились… Ведь до нашей свадьбы она вас до небес превозносила, а вы меня, калеку, предпочли. Вот и злится с тех пор.
Валерьян отмахнулся.
— Ерунда! Никаких чувств с ее стороны никогда не замечал.
— Чувств не было, а честолюбие было. Ну, да это старая история, пора забыть.
— Вышла она замуж за знаменитого человека. Отчего же, как только Варвара около нас — как будто в дом змея заползла: вот-вот ужалит?..
— Что делать, Валечка. Надо войти и в ее положение: мужа она любит, а помочь ему не может: родитель гроша для него не даст. Пирогов бедствует. Тут поневоле змеей на всех зашипишь… Ох, Валечка, устала я от этих дрязг. Вот выздоровею — уедем куда-нибудь подальше от родных.
— Ну, а как твой плеврит?
— Подживает. Только доктор требует, чтобы я не волновалась.
— А Варвара нарочно науськивает сиделок, чтобы раздражали тебя. Это ясно теперь. Не известно, кого из нас она больше ненавидит. Тут — не дрязги, а злоба.
Она твоей смерти добивается!.. — кричал Валерьян, побледнев и сжимая кулаки. — Девиц этих я сменю, как только деньги получу… Пойду сейчас узнаю, как она объясняется с сиделками. Думаю — врет все!..
Валерьян вышел в коридор и остановился, заслышав громкий разговор в комнате Настасьи Васильевны.
— Денег-то у них нет, мамаша. Имейте это в виду! — говорила Варвара.
Послышался жесткий смех старухи.
— А мне какое дело? Он — муж, должен деньги добывать. Да и Наташе недавно отец перевел; куда дели? Я вот напишу, что даже в гостинице пришлось за зятька платить. Ты ведь по всем счетам отдала.
Ответы Варвары Валерьян не расслышал.
— Сиделки жаловались: очень капризничает сестрица, уволить их собирается, а денег-то и нет.
Старуха опять засмеялась и ответила что-то невнятное.
— Я долг свой исполнила, а распускать капризы тоже нельзя.
— Мученица вы, мамаша! Всегда мне было жалко вас.
Валерьян повернул назад и долго ходил по коридору, взволнованный услышанным. Повторяется старая история. Было ясно, что Варвара «сэкономила» несколько сотняжек за его счет. До чего дошла Варвара! Тут не одна корысть: одновременно она восстанавливает родителей против него и Наташи, клевещет на обоих. Рассказывать об этом больной — значит нанести лишний удар, исполнить затаенное желание Варвары. Но как защитить Наташу от предательства сестры и безумной матери? Нет, он ничего не расскажет ей. Нужно только устранить этих ужасных, быть может подкупленных, сиделок. Придется ждать несколько дней, когда пришлют деньги. Варвара умышленно оставила его без гроша, а теперь они обе хотят насладиться его унижением, да и Наташу унизить. Кто знает, что у них на уме? Может быть, действительно намерены этой мелкой травлей вызвать смертельный исход болезни… Вот в чьих руках жизнь Наташи! А он — бессилен… Попался в расставленную ловушку двух злобных, низких и не совсем нормальных старых баб… Не обидно ли, что они почти совсем его заклевали?
Он долго ходил, обдумывая невыносимое положение.
Вернувшись в комнату жены, Валерьян нашел там высокую старуху в простом ситцевом платье, с морщинистым, добродушным лицом, сидевшую у изголовья больной. Гостья что-то рассказывала, а Наташа слушала, опираясь на подушки и радостно улыбаясь. Лицо женщины напомнило ему нечто знакомое. При входе Валерьяна она почтительно встала.
— Валечка, знаете — кто это? — весело спросила Наташа. — Сусанна Семеновна, мать Евсея! Помните Виллафранку?
Валерьян улыбнулся и, протянув руку Сусанне Семеновне, сказал:
— Я виноват перед вами: должен был сам отыскать вас! Да вот видите — жена хворает!
— Что вы, батюшка, Валерьян Иваныч, до меня ли вам было? Болезнь-то не шуточная. Хорошо, что все обошлось благополучно. Уж я сама, как только узнала, что вы здесь, сейчас же и пришла. Вот с супругой вашей имела счастье познакомиться.
— Мне ваш сын наказывал непременно с вами повидаться, если буду в Харькове. Пишет он вам?
— Пишет постоянно… И про вас писал. Вот только не знаю, как он живет. Не бедствует ли? Здоровье у него плохое. Пишет, что ничего, да ведь материнское сердце не обманешь: чувствую, тяжело ему там, по России скучает. Супруга его померла здесь, на моих руках. Сколько слез да горя было: молодая женщина!
Валерьян вспомнил свое обещание «врать», если встретит мать Евсея, и на вопросы Сусанны о сыне отвечал уклончиво.
Старуха вздохнула.
— Видно, уж не доживу, когда ему можно будет вернуться.
— Доживете, — улыбалась Наташа. — Придет революция — и вернется.
Сусанна Семеновна замахала руками.
— И не говорите!
— Что вы тут делаете? Чем занимаетесь? — переменил разговор Валерьян.
— Повивальная бабка я, и по массажу в больнице работаю, а дочка моя на медицинских курсах.
— Сколько лет вашей дочке?
— Да уж двадцать. Года через два кончит курс, а теперь у нее летние каникулы, уроков ищет…
Вошла сиделка — сухая девица с колючим выражением лица, удивленно смерила взглядом умолкнувшую Сусанну и сказала холодным тоном:
— Без разрешения Настасьи Васильевны вход посторонним сюда строго воспрещается. Потрудитесь удалиться!
Сусанна Семеновна поднялась в замешательстве. Наташа побледнела.
— Это совсем вас не касается, резко сказала она сиделке. Голос ее задрожал.
— Нет, касается. Я обязана доложить Настасье Васильевне. Вам от нее нагорит.
— Настасья Васильевна — моя мать, а вы могли бы повежливее разговаривать.
Сиделка презрительно усмехнулась.
— Знаю, что мать. Но если тут будут шляться без разрешения всякие… личности…
Расширенные глаза Наташи засверкали гневом.
— Идите, позовите Настасью Васильевну.
— Вы не можете мне приказывать, — возвысила голос сиделка. — Не вы мне деньги платите, да у вас и нет их. Командуете, а сами нищие!
— Уходите! — твердо сказала Наташа.
— Мы тех уважаем, кто нам деньги платит. У вас нет ни гроша, так и молчите. Нам известно.
Вмешался Валерьян.
— Надеюсь, вы понимаете, что после такого разговора не можете больше ухаживать за больней, — изо всех сил сдерживая себя, спокойно сказал он сиделке. — Сегодня же вас освободят от ваших занятий.
— А это — еще как решит Настасья Васильевна, — отрезала сиделка, выходя из комнаты.
Наташа выразительно взглянула на мужа. Губы ее дрожали.
— Сиделка не свои слова говорит, — в волнении бегая по комнате, крикнул Валерьян: — ее научили, и я знаю — кто!
— Не лучше ли уйти мне? растерянно спросила Сусанна Семеновна.
Валерьян и Наташа в один голос стали упрашивать, чтобы она ни за что не уходила.
Вошел профессор.
При его появлении все замолчали. Валерьян представил ему мать доцента зоологии Евсея Тимофеева.
Профессор горячо пожал ее руку.
— Знаю вашего сына. Вместе кончали университет. Светлая голова, большой души человек. Больно, что таким людям приходится эмигрировать.
Он сел к изголовью Наташи и, привычно взяв ее руку, спросил:
— Как самочувствие?
Сосчитав пульс, он нахмурился.
— Гм! ничего не понимаю. Что случилось? Вы опять волновались?
Все молчали.
— Вам необходимо полное спокойствие. Надеюсь — не лечебница служит причиной того, что за последнее время замечается ухудшение пульса. Необходимо полное спокойствие, никаких волнений, иначе может быть рецидив. Полный покой! — повторил он, вставая. — Только тщательный уход и отсутствие волнений могут привести вас к выздоровлению.
— Имейте в виду, — строго обратился профессор к Валерьяну, — что у вашей жены есть еще другая, более серьезная болезнь. Предстоит операция. Советую на лето устроить больную где-нибудь в деревне, в имении, на чистом воздухе, в хорошей обстановке, при умелом и усиленном питании под наблюдением врача. Главное же — покой, во-первых, во-вторых и в-третьих.
Он прописал рецепт и ушел. Валерьян усмехнулся, хотел было пойти за ним следом и открыть ему причину волнений пациентки, но в дверях появилась Настасья Васильевна.
— Что у вас тут еще с сиделкой? — насмешливо спросила она, обращаясь к дочери и как бы не замечая остальных.
— Я отказываюсь от нее, мамаша: она приходит ко мне лишь затем, чтобы говорить дерзости.
— Сейчас был доктор, — волнуясь, говорил Валерьян, — требовал душевного спокойствия, а его нет.
Старуха пропустила слова зятя мимо ушей и, усмехаясь, снова обратилась к дочери:
— Ну, матушка, не капризничай. Слава богу, поправилась, так и начинаешь мудрить. Сиделки обе услужливые, старательные, сама вижу, а ты их выводишь из терпения капризами. Надо же и честь знать.
Настасья Васильевна закурила папиросу.
— Впрочем, мне-то что? Как хотите. Коли есть у вас деньги — заплатите ей сто рублей, — по мне хоть сейчас возьмите другую. Я в эти дела не мешаюсь.
Старуха затянулась папироской и вышла большими шагами, с поднятой трясущейся головой, давая понять, что считает разговор оконченным.
Валерьян и Наташа переглянулись.
— Придется ждать, когда мне пришлют деньги, — скрипнув зубами, сказал Валерьян.
— Какой ужас, какой кошмар! — горестно прошептала Сусанна Семеновна. — Неужели мать не понимает, что делает? Знает она, что у вас денег нет?
— Не только знает, но все это нарочно подстроено, чтобы издеваться. Она только тех любит, кто перед ней унижается. Дочь родную ненавидит. Сумасбродная самодурка… Но дело не в ней. Все эти глупейшие козни строит другая, любимая дочь — тигр в юбке.
— Перестаньте, — устало прошептала Наташа. — Что толку изливаться в словах? Сиделку нужно отпустить сегодня же. Но где мы возьмем сто рублей?
— Стойте, друзья! — с внезапным воодушевлением, напоминавшим голос Евсея, воскликнула Сусанна Семеновна. — Стойте, я достану денег.
Она торопливо надела старую соломенную шляпу.
— Но… как вы это сделаете? — удивился Валерьян.
— Уж я знаю как. У меня, конечно, ни копейки, но есть добрые знакомые. У них и займу, сбор сделаю. Ведь ненадолго. Не пропадет за вами. Когда вам вышлют-то?
— Дня через три, а может быть, и раньше.
— Достану! Для вас — дадут. Ведь вас, Валерьян Иваныч, все знают. Всем известно, что сто рублей для вас — пустяк. Но надо же было так случиться. Какой стыд для ваших близких!
— Близкие все и подстроили.
— Заговор… все против меня… издеваются… смеются, — бормотала Наташа, закрывая глаза.
Валерьян в испуге кинулся к ней, Сусанна Семеновна ушла.
Через час она вернулась, вынула из платка сторублевую бумажку.
— И собирать не пришлось. Сразу же дал знакомый доктор: я все ему рассказала. Очень волновался. Кланяется вам, просит не беспокоиться. Вот как люди-то к вам относятся, Валерьян Иваныч!
— Сегодня же возьмем новую сиделку, — облегченно вздохнула Наташа. — Нет ли у вас кого, Сусанна Семеновна?
— А как же, есть, конечно. Про мою дочку-медичку забыли? Она и будет ухаживать — безо всякой платы.
— Ну, бесплатности мы не допустим, — возразил Валерьян. — Но вы, Сусанна Семеновна, выручили нас из большого затруднения. Как гора с плеч. Избавились от этого пошлого черновского кошмара. Вы не знаете: дом Черновых — это бедлам: любой пустяк так запутают, так раздуют, что…
— Да ведь вы друзья моего Евсеши, как же было поступить иначе? Разве я могла?..
Наташа молча потянулась к Сусанне.
Старуха обняла ее, поцеловала в голову.
— Вторая дочка моя.
Наташа, прижимаясь к ней, шептала голосом, прерывавшимся от слез:
— Вы — удивительная. Я не привыкла к доброте. Никогда не знала материнской ласки, у меня не было матери.
VIII
Летом усадьба Константина была замечательно красива. Широкий овальный пруд, в который тихо вливалась заросшая осокой и лопухами речушка, лежал, как зеркало, у подножия высокой горы. У плотины работала водяная мельница. Рядом с плотиной стоял низкий, длинный одноэтажный дом с садом, пчельником и лесом за ними. На гору спиралью шла крутая дорога. На вершине горы шумел сосновый бор, а на самом краю ее, над обрывом к пруду, виднелся маленький бревенчатый домик, только что выстроенный.
С горы открывался широкий горизонт: до самого края неба шли ровные поля, покрытые волнующейся рожью, пшеницей, овсами. За сосновым бором белела березовая роща, и опять расстилались поля, уходившие к отдаленным отрогам Жигулевских гор.
Утро стояло теплое, тихое. Из лесу пахло смолой. Пруд горел под солнцем, как расплавленное серебро.
Сила Гордеич в чесучевом костюме, в жокейском картузике сидел на маленькой тесовой терраске домика и созерцал окружающее.
Над прудом в безоблачном небе, распластав крылья, плавал большими кругами коричневый беркут, гоняясь за маленькой птичкой. Она долго ускользала, коршуну не удавалось схватить ее, но наконец он изловчился, поймал добычу и скрылся с нею над лесом.
Силе Гордеичу стало жалко птичку, и было Удивительно, почему вдруг явилось такое странное чувство, которого он прежде никогда не испытывал.
Жизнь приближалась к концу; он это чувствовал, заметно дряхлел, ослабевал телом, должно быть поэтому смягчился душой. Не хотелось больше бороться с людьми, участвовать в их нескончаемой сваре, злобе… Хотелось охватить смысл и цель всей жизни на земле, ибо чувствовал Сила Гордеич как хороша земля и как помимо наживания денег бесплодна, безрезультатна его жизнь, как бессилен он при всех своих богатствах сделать хоть кого-нибудь счастливым, зато многих сделал несчастливыми и несчастлив сам. Сила Гордеич уже с месяц жил в этом домике, как пустынник — в гостях у своего сына. Именно в эти дни уединения, во власти девственной вечно юной природы, не знающей старости и смерти, ощутил он близость конца жизни и ту примиренность с нею, которую с невольным удивлением заметил в себе, когда пожалел погибшую птичку.
Сила Гордеич пришел к удивившему его самого убеждению, что причиною всех несчастий в его жизни был полуторамиллионный капитал, созданный им в течение полувека.
Именно теперь, как никогда, ощущал он, что всю жизнь был далек от людей и ненужен им: вся человеческая толпа, вечно ему враждебная, шла мимо него. Друзьями его были только такие же, как он, богачи, но все они ни на грош не доверяли друг другу, каждый ревниво оберегая свои интересы, и дружба этого круга людей походила на вынужденный, вооруженный мир тайных врагов. Все они так же, как и он, ненавистны и скрытно презираемы всей кипящей вокруг громадой работающих и завидующих им людей. Все люди схожи своей общей жизнью, которая кажется одинаковой: эта общность труда и одинаковость положения объединяет их неисчислимую массу, а он одинок и на вершине своих успехов сидит как в осажденной крепости, как паук, запутавшийся в собственных тенетах.
Многие его ненавидят, почти все боятся и никто не любит.
Вся семья несчастна, все дети больны и неспособны жить. Казалось ему теперь, что причиной их болезненности и неспособности тоже были проклятые деньги: если бы он остался пастухом или водоливом — чем был прежде — выросли бы дети Силы Гордеича совсем другими людьми, умели бы трудиться, надеялись бы только на себя, а теперь они с юных лет инвалиды, лишние рты, непригодные для жизни: их нужно содержать, чтобы они не погибли — хуже — всем им место разве только в лечебнице! Сила Гордеич окончательно убедился, что огромный капитал, скопленный им, может погибнуть вместе с его детьми, если после смерти отца они, такие никчемные, наследуют этот капитал. Они не проживут, не прокутят, не на себя истратят — даже на это нет у них сил, у них просто растащат все. Годами боролся с ними, учил, грозил, ссорился, но теперь его настроение совершенно изменилось: понял, что дети не жизнеспособны и сделались такими от его суровой опеки. Капитал сам за себя отомщал Силе Гордеичу на его же детях. Их нужно было еще в детстве вытолкнуть в жизнь, в бедность, чтобы учились бороться, но тогда ему некогда было подумать о них…
С неделю назад привезли сюда больной любимую дочь его Наташу, и это нарушило философское настроение Силы Гордеича. Два года лечили ее за границей от чахотки, чахотку-то залечили, но вернулась дочь с какой-то новой, мудреной, еще горшей болезнью — сердце никуда не годится. Это явилось тяжким ударом для него: как будто невидимая беспощадная рука стремилась задушить самого любимого из его детей, и Сила Гордеич бессилен был защитить дитя. Каждый день ездил Василий Иваныч, а вчера стало так плохо, что пришлось телеграммой вызвать из города доктора Зорина петербургскую штучку. С полгода как поселился Зорин в их городе, переехал из Петербурга с целью нажить деньги в провинции около купечества. Дом Черновых сделался кладом для него: все больны, не тот, так другой за Зориным посылает. Действительно хороший врач, красавец; губернские дамы от него без ума, повлюблялись все, от безделья болезни стали выдумывать; мужья ревновать принялись. Ревнуют и оба больные сына Силы: невестки — здоровеннейшие бабы, и все-таки к модному доктору лезут. Наташа-то всерьез больна, почти что при смерти, а Зинаида как раз сегодня бал затевает, всем соседям приглашение разослала; в доме идут приготовления и ужин готовят на пятьдесят человек. Ругался с ней Константин, да ничего не поделаешь. Вечером все равно гости съедутся. Еще этот Зорин… консилиум у них с Василием Иванычем. Наташе совсем плохо.
Сила Гордеич вздохнул, встал и решил пойти посмотреть, что там с нею делают доктора.
Войдя в комнату, где лежала Наташа, он поднял брови и слегка отшатнулся: она даже сидеть не могла в постели; поддерживали под руки Василий Иваныч и Константин. Валерьян, бледный, расстроенный, не сводил глаз с лица жены, а оно у нее сделалось теперь какое-то странное. Глаза, как у козленочка, которого колоть собираются. Голова не держится на плечах, и язык заплетается, коснеет, как бывает у пьяных. Бормотала жалким голосом, с трудом выговаривая слова, и при этом еще улыбалась.
— Как смешно!.. Язык меня не слу… не слу-ша-ет-ся…
Зорин, без пиджака, в жилетке, с засученными рукавами шелковой рубашки, с чисто вымытыми, нежными, девичьими руками, держал ее руку в своей и смотрел ей в глаза горящими глазами. Бледное, одухотворенное лицо доктора выражало нервное напряжение, воодушевленную решимость, почти вдохновение.
Валерьян посмотрел на Силу Гордеича безумно, взял его под руку и, наклоняясь, прошептал:
— Видели картину Репина, как царь Грозный обнимает убитого им сына, ну, известную, в Третьяковской галерее?
Сила Гордеич недоуменно оглядел взбудораженную фигуру художника, подумав: «Не бредит ли?»
— Ну, так вот… Замечаете? Она стала на того царевича похожа… не лицом, а — выражением… Очень странно… Я не могу… не могу. — Голос у него срывался.
Шатаясь, Валерьян вышел из комнаты.
— Спасите, доктор, — чуть слышно лепетала Наташа.
«Умирает, — подумал Сила и сам удивился своему спокойствию. — Один конец».
— Я спасу вас, — нежным, но уверенным голосом ответил Зорин. — Не падайте духом. Верьте мне…
Голова Наташи упала на грудь. Зорин раскрыл докторский ридикюль.
— Василий Иваныч, вы мне будете нужны… Господа, прошу всех на время удалиться.
Константин и Сила Гордеич вышли на террасу.
Там сидел Валерьян, взлохмаченный, с воспаленными глазами, блестевшими сухим блеском.
— Не унывайте, — сказал ему Сила Гордеич. — Что толку? Слезами горю не поможешь.
— Умирает, — мрачно прошептал художник, не глядя на тестя.
— Может быть, и не умрет… Разве вы не верите в медицину? Она нужнее людям, чем литература или ваше искусство.
— Ведь и медицина — искусство, — возразил ему Константин, — и большое искусство… Этот Зорин — прямо, как артист на сцене…
Через несколько минут пришли доктора, продолжая разговор между собой.
— Я предвидел, — оживленно жестикулируя, говорил Зорин. — Захватил с собой все, что нужно… Отчего вы не сделали без меня внутривенное вливание?
Василий Иваныч покраснел.
— Не решился… Никогда не доводилось.
— Средство героическое, но ничего больше не остается. Единственное, что можно сделать, — это подхлестнуть сердце, заставить его работать изо всех сил.
— Мы влили ей в вену строфант — сильно действующее средство, — обратился он к присутствующим. — Сердце на время оживет… У нее — водянка. Теперь воды сойдут, и недели две она будет чувствовать себя здоровой. Вот этим временем и нужно воспользоваться, чтобы сделать операцию щитовидной железы. Немедленно везите ее тогда к хирургу в Казань. Если пропустите время, болезнь опять возьмет свое, сердце ослабеет, опять будет водянка, и уж тогда положение может оказаться критическим… Да и теперь мы поспели, можно сказать, в последний момент.
— Помните Петербург, — обратился он к Валериану, — когда она еще невестой вашей была, и я на свадьбе вашей был. Признаки и тогда были, но я, конечно, ничего не говорил вам.
— Если она хоть на две недели встанет, то и тогда вы — чудотворец, — польстил доктору Сила Гордеич.
— Медицине я предан всю жизнь, люблю ее — как женщину, — засмеялся Зорин.
— Вам много дал Петербург, — застенчиво сказал Василий Иваныч своим бархатным басом. — И кроме того, вы — врач по призванию, талант, не то, что мы, грешные, деревенские врачи.
— Я слышал, что у вас есть другой талант, — ловко переменил тему Зорин.
— Василий Иваныч — большой певец, — усмехаясь, подтвердил Константин. — Ему бы на сцене быть, а он, видите ли, народник, вот в чем незадача: пенке мешает лечению.
Зорин весело засмеялся.
— Обычная драма русского талантливого человека. Еще Чехов сказал: «Как хороший врач — так у него непременно баритон или на скрипке играет».
На террасу вошла Зинаида, цветущая, румяная, несколько располневшая.
Зорин вскочил и с необыкновенным изяществом склонился к ее холеной руке.
Зинаида смотрела на него искристым взглядом и с такой задорной улыбкой, какой Константин, наблюдавший за ней, давно у нее не видел. Подбородок ее задрожал, все лицо приняло чувственное выражение, когда она тотчас же начала с Зориным кокетливый, шутливый разговор.
— Уж вы такой врач счастливый: взглянете — так мертвый воскреснет, и вообще, как герой, всегда являетесь с корабля на бал. У нас сегодня деревенская вечеринка: дамы, барышни будут — вам пожива. Для танцев амбар декорируем, тэт-а-тэт — на открытом воздухе. Василий Иваныч дает концерт, а я аккомпанирую… А пока — пришла позвать вас всех к обеду.
Зорин отвечал шутками, вся компания, сопровождая его, как некую знаменитость, двинулась вниз, по дороге к усадьбе.
Поздно вечером Наташа проснулась в сладостном, счастливом бреду: ей чудилось, что перед ней стоит юноша необычайной красоты, держит ее руку в своей теплой, нежной руке. «Я вас спасу», — говорит он ей музыкальным, чарующим голосом.
Она содрогнулась всем телом, открыла глаза, легко поднялась с подушек. Видение исчезло. Необыкновенное чувство счастья охватило ее. В комнате слабо теплился ночник. На голом полу спала горничная, заменявшая сиделку. В окно смотрела темно-синяя летняя ночь. Наташа чувствовала себя юной и любящей, как будто ее было мрачного прошлого, пережитых страданий, грустного замужества и несчастного, измученного мужа. Словно все это только приснилось в болезненном, кошмарном сне.
Издалека доносились стройные аккорды рояля, я могучий, бархатный, светлый голос пел волшебную песнь о чарах любви:
И грустно мне, я грустно так засыпаю, И в грезах неведомых сплю: Люблю ли тебя — я ее знаю, Но кажется мне, что люблю.Это пел внизу горы, в ярко освещенном доме усадьбы Василий Иваныч, но Наташе чудилось вдохновенное лицо Зорина и казалось, что ему принадлежит этот страстный, зовущий, увлекающий куда-то голос. Бледная, прозрачная, с широко раскрытыми, огромными глазами, она неподвижно слушала, держась рукой за ожившее, сильно бьющееся сердце.
Известный хирург-профессор оказался невзрачным, простецким старичком в старомодном пиджаке, одетом на косоворотку. Он носил немецкую фамилию, а говорил самым настоящим волжским акцентом с сильным ударением на «о» и частым повторением слова «того». При осмотре Наташи он как бы невзначай чуть-чуть скользнул тонкими пальцами по едва заметной опухоли около ее тоненькой шейки и вполне этим, удовлетворился, но в разговоре наедине с Валерьяном неожиданно сказал мужицким говорком:
— О-пе-рация, того, неизбежна, но должен предупредить, что за благополучный исход, того, не ручаюсь: сердце измучено.
Валерьян побледнел.
— Тогда, может быть, лучше не делать операции?
Профессор посмотрел на него поверх очков и пожевал губами, напомнив манеру Силы Гордеича.
— Нет, без операции она, того, проживет месяца три, не больше. Слов нет — операция трудная, но если перенесет — будет жить еще несколько лет.
Он проницательно посмотрел на страдальческое лицо Валерьяна и добавил решительно;
— Сделаем операцию.
Наташу положили на испытание в отдельную комнату лечебницы, и профессор в течение недели навещал ее каждый день, ласково разговаривал о посторонних вещах, расспрашивал о ее семье, об отце и матери, о братьях, о годах детства и, уходя, опять ласково, по- отечески проводил пальцами по ее больному горлу. Но за этими добродушными разговорами и незаметными прикосновениями к месту будущей операции Наташа угадывала, что опытный хирург неспроста разговаривает и выспрашивает, а хитро, тонко и почти незаметно изучает ее. Наконец стал упоминать о предстоящей операции, как о чем-то пустячном и даже приятном: опасности никакой, несколько минут будет немножко чувствительно, зато потом сразу наступит облегчение, и она тотчас же начнет танцевать. Через неделю разговоров нечаянно обмолвился, что «уж так и быть, того», сделает операцию… сегодня.
Наташа была настроена бодро и мужественно: ее уверили, что операция — это вожделенный конец ее страданий. То же самое летом говорил ей доктор Зорин, которому она верила больше, чем старому хирургу. В одном только Зорин ошибся: летом она выздоровела благодаря внутривенному вливанию строфанта, но не на две недели, как предполагал он, а на целых два месяца я до сих пор чувствовала себя бодрой. Зорин был сам удивлен таким непредвиденным, необъяснимым чудом, говорил, что собирается написать в медицинском журнале статью об этом случае, совершенно не предусмотренном наукой.
Извещенный о назначенной операции, Валерьян примчался в лечебницу. Вместо того, чтобы ободрять Наташу, он сам нуждался в ободрении, и она его ободряла, вызывая в нем невольное удивление неожиданному ее самообладанию, какого никогда не предполагал в этой хрупкой, исстрадавшейся женщине.
— Не волнуйтесь, Валечка, все будет хорошо. Доктор Зорин сказал, — тут она улыбнулась своей новой улыбкой, которой никогда не в силах была удержать, когда говорила или думала о нем, — сказал, что после операции я сразу воскресну. Кончатся ваши мучения со мной.
— Я буду здесь сидеть и ждать, — хмуро возразил Валерьян.
— Нет, вы тут, пожалуй, еще шум поднимете. Лучше пока сходите в цветочный магазин, принесите букет белых роз.
Вошел профессор и благодушно сказал Наташе:
— Ну, деточка, того, все в порядке, пожалуйте за мной. Как ваше самочувствие? Не волнуетесь?
Наташа смотрела весело.
— Нет, я решилась, взяла себя в руки. Вот только муж что-то духом упал.
Она лукаво улыбнулась.
— Не бойтесь, — тепло сказал старик Валерьяну. — Надеюсь, все обойдется благополучно. У вашей жены большая воля к жизни, а это очень много значит. По правде сказать, я, того, сначала-то не ожидал встретить такую твердость духа.
Валерьян не верил ему, вздыхал и хмурился.
— Все-таки я здесь подожду.
— Нет! — воспротивилась Наташа. — Идите и сделайте то, о чем я просила, иначе буду волноваться за вас.
Она как будто с умыслом отсылала его.
— Ну, идемте, — повторил старик и направился к двери.
Вслед за ним пошла Наташа, еще раз улыбнувшись мужу.
Валерьян кинулся к ней: хотелось остановить ее, отменить операцию. Когда Наташа скрылась за дверью, у него словно что-то оборвалось в груди.
Он подумал: «Наташа не знает, как опасна операция, а оперировать будут без хлороформа. Зачем она просила принести цветы? Ведь белые цветы на гроб кладут».
Он быстро бежал по улице, шатаясь, как пьяный, наталкиваясь на прохожих и бормоча. Потом забыл, куда идет, кто он, что ему нужно и почему застряла в мозгу мысль о цветах. Долго стоял на углу, раздумывал. С трудом вспомнил, что он, художник Семов, идет за цветами для жены, которую теперь режут хирурги. Растерянно улыбнулся, махнул рукой и пошел дальше.
Через час он вернулся в лечебницу с большим букетом белых роз, таща его, как веник — в опушенной руке. Иногда с удивлением рассматривал цветы, махал букетом, останавливался и опять размышлял вслух.
Когда вошел в комнату Наташи, фельдшерица, что- то приготовлявшая на столе, обернулась к нему, сделала знак рукой и глазами, чтобы он молчал.
На кровати странно, неподвижно вытянувшись, закрытая одеялом до подбородка, лежала Наташа с желтым, восковым лицом, с открытыми, но безжизненными, как бы ничего не видящими глазами. Шея и голова ее были крепко забинтованы.
Валерьян на цыпочках подошел к Наташе, тихо положил цветы к ее ногам и, наклонившись, стал смотреть в ее неподвижные глаза.
Она словно спала с открытыми глазами, а пожелтевшее, неживое лицо было, как у маленькой девочки, жалобное, словно ее обидел кто-то.
— Наташа! — прерывающимся шепотом позвал Валерьян.
— Тс-с! — зашипела на него фельдшерица, строго поднимая палец кверху и легонько потянув за плечо.
— Спит? — шепотом спросил Валерьян.
Женщина кивнула головой.
Он хотел перевести дыхание, но к горлу подкатился горячий, колючий клубок и остановился там, словно кто-то сжал ему горло.
Тогда ему стало казаться, что понемногу в этих глазах начинает теплиться жизнь: чуть-чуть дрогнули ресницы, полуоткрытые, бескровные губы сжались, восковое лицо потеплело…
Валерьян отступил, не сводя безумного взгляда с лица жены. Волосы поднялись дыбом, по спине и затылку хлынул мороз, потемнело в глазах, и художник на минуту потерял сознание.
Фельдшерица держала его за руку, встряхивала ее. поднесла к его губам ложку с лекарством.
— Выпейте это… Стыдитесь! Мужчина тоже! Она пришла в себя, проснулась… смотрит на вас.
Наташа смотрела теперь живым, сознательным взглядом, словно хотела что-то сказать.
Валерьян оттолкнул лекарство, упал на колени, прильнул к изголовью жены, не сводя с нее изумленного взгляда, горестного и радостного одновременно.
— Наташа!.. жива!.. — срывающимся голосом шептал он. Клубок откатился, растаял слезами.
Наташа закрыла веки, и сквозь длинные ресницы медленно проползли две крупные слезы.
— Ну, уходите, уходите! — зашептала фельдшерица, оттягивая Валерьяна за рукав. — Завтра утром будете разговаривать. Операция прошла хорошо. Да уходите же, вам говорят!
Больше он ничего не помнил.
Опомнился в гостинице, в своем пустом, унылом номере. Давно была уже ночь… В странном оцепенения лежал на примятом трактирном диване, одетый как был, когда вернулся из больницы. В комнату падал слабый свет от уличного фонаря. Старый, грязный, неуютный город светился тусклыми огнями.
Надел шляпу и вышел на улицу, сам не зная зачем. Осенняя ночь была темна, беззвездна. Долго, до усталости бродил по безлюдным, пустынным улицам старого татарского города. Огромный и кипучий когда-то, город давно приходил в запустение и упадок, словно былая жизнь уходила из него. Валерьян шел, быстро поворачивая из одной улицы в другую, стараясь усталостью заглушить безотчетное, беспричинное чувство гнетущей тоски. Незаметно очутился у башни Сумбеки, прошел под темным сводом древних каменных ворот, в которые, вероятно, еще Грозный въезжал при взятии Казани.
Башня Легендарной Сумбеки смутно чернела а темноте оригинальными очертаниями восточного стиля. Вспомнилась грустная легенда о несчастной татарской красавице, казалось, что Сумбека до сих пор еще томится в башне: в узких, темных нишах как бы еще сверкают из-под длинной чадры ее черные, огневые глаза. В воображении художника фантастическая княжна представлялась похожей на Наташу: ведь Черновы происходят от какой-то старинной, богатой татарской фамилии. Дикость и нелюдимость Наташи, ее странная боязнь посторонних — это атавизм затворничества мусульманских женщин. Утонченность и поэзия ее натуры, смесь ума и безумия, беззащитность и мужество, кротость и гордость — все это черты ее далеких предков. Ее лицо с правильными, прекрасными чертами и большими глазами — не монгольского, а какого-то другого восточного типа; но в Казани часто встречаются подобные лица, сохраняющие, быть может, черты древних болгар, обитавших на Волге до нашествия Батыя.
Художник фантазировал, бегая, как безумный, по улицам древнего восточного города.
Незаметно для себя очутился у подъезда лечебницы, «Так вот, собственно, куда мне надо! — с удивлением подумал Валерьян. — Нужно зайти спросить, жива ли Наташа…» Но ведь ему сказали, что ее нельзя видеть до завтра и чтобы он не беспокоился. Отчего же все-таки он беспокоится?
Взглянул при свете фонаря на карманные часы: половина двенадцатого. Все спят, и лечебница закрыта; стучаться в дверь не известно зачем, поднимать шум среди ночи, тревожить больную — нет, этого не следует делать.
Он повернул назад и опять бесцельно прошел несколько кварталов. Тоска возросла до невыносимого страдания.
В глухом, отдаленном квартале он увидел огонек в маленькой пивной на углу. В окнах двигались тени, глухо слышались голоса — мужской и несколько женских. Голоса повышались, и вдруг все их покрыл пронзительный женский визг.
Валерьян, отворив стеклянную дверь, вошел в убогое питейное заведение, состоявшее всего из одной небольшой комнаты. В пивной происходил скандал: за одним из столиков сидели три накрашенные проститутки и небольшого роста молодой человек в фуражке с кокардой. Он был пьян и стучал по столу кулаком. За буфетом стояла толстая пожилая хозяйка заведения. Все кричали. В момент появления Валерьяна чиновник размахнулся и ударил одну из девиц кулаком по щеке. Она покачнулась, схватилась рукой за щеку, сплюнула кровь и заплакала. Остальные с криками вскочили из-за стола.
Пьяный замахнулся еще раз, но Валерьян схватил его сзади за шиворот, приподнял в воздухе и бросил на пол. Фуражка с кокардой покатилась к порогу.
Все замолчали и замерли в различных позах.
Чиновник медленно встал, поднял картуз и, заикаясь, спросил пьяным голосом, пятясь к двери перед молча наступавшим на него трясущимся, страшным человеком:
— П-позвольте… собственно, по какому праву?
— А вот по такому, — вдруг рявкнул гость, сжимая кулаки и шагнув ближе. Лицо, необыкновенно бледное, дергалось, глаза сверкали.
Чиновник с замечательной быстротой юркнул на улицу, хлопнув задребезжавшей дверью. С улицы глухо слышался его тонкий, протяжный крик:
— Кара-ул!
Женщины окружили Валерьяна, и все враз, перебивая одна другую, с большим волнением рассказывали о причинах и подробностях скандала.
— Позвольте вас поблагодарить, — хрипло сказала побитая, протягивая ему руку и улыбаясь окровавленными губами. — Мы понимаем — вы хороший мужчина, порядочный.
Валерьян молча рассматривал ее припухшее лицо: когда-то оно было красивым, но теперь казалось жалким. От женщины пахло пивом и табаком.
— Я — случайно, — сказал он, разводя руками. — Не спится, вот и брожу по городу. Сна нет. — Он вздохнул и добавил печально: — Нет сна.
Все недоуменно, а потом испуганно посмотрели на него.
— Посидите с нами.
— Выпьем за интеллигенцию.
Валерьян улыбнулся.
— Нет, благодарю вас, мне обязательно нужно идти.
— Куда? Теперь два часа ровно. Все закрыто.
— В лечебницу.
Проститутки насторожились, опасливо переглянувшись.
Странный посетитель приподнял шляпу, повернулся к двери и быстро вышел из пивной.
— Не в себе, — качая головой, сказала буфетчица. — Может, какой-нибудь буйный сумасшедший, из лечебницы сбежал.
— Ужасти какие! — хором сказали проститутки. — Все может быть. Похоже, что ненормальный, а здоровый какой: как он об пол-то шваркнул!
Все засмеялись.
В это время фельдшерица в лечебнице говорила по телефону:
— Открылось кровотечение из кровеносных сосудов.
— Сейчас приеду! — был ответ. — Немедленно, того, вызовите ассистента.
Через несколько минут профессор вошел в комнату Наташи. Больная лежала в прежней позе. Бинт около шеи весь покраснел от крови.
— Носилки! — скомандовал хирург. — В операционную!
Явились доктор-ассистент и два служителя с носилками.
Наташу перенесли в операционную. Профессор, в белом халате, с засученными рукавами, вошел в высокую белую комнату, ярко освещенную электрической люстрой. Наташа лежала на длинном белом операционном столе. Ассистент и фельдшерица приготовили инструменты, зажгли спиртовку.
— Вы слышите меня? — громко спросил больную хирург.
— Слышу, — прошептали бледные губы.
— Сейчас мы будем делать прижигание. Будет немножко чувствительно… Соберите всю вашу силу воли. Вспомните всех, для кого вы хотите жить, — и будьте мужественны.
Наташа, не открывая глаз, невнятно прошептала чье- то имя, но не отца, матери, мужа или сына: она прошептала имя доктора Зорина.
Сняли окровавленный бинт. Обнаружилась страшная рана, искусно зашитая, но сквозь шов источавшая тоненькие струйки крови. Хирург быстрыми движениями пальцев что-то делал около раны, ассистент с напряженным видом, предугадывая и ловя его жесты, быстро подал ему маленький блестящий предмет.
Хирург нащупал им в ране тоненькую жилку, зацепил и вытянул ее. В тот же миг ассистент поднес к кончику жилы кусочек раскаленной добела проволоки. Запахло жареным мясом.
Врачи работали быстро, напряженно, с нервным подъемом. Они щипцами вытягивали перерезанные жилы и прижигали их раскаленным железом.
Наташа вынесла эту пытку, не теряя сознания, не издав ни единого стона.
Профессор снова зашил и забинтовал рану. Ассистент держал ее руку, наблюдая пульс.
— Спасена! — тихо сказал старик.
Ее перенесли обратно и положили в прежней позе на постель. Профессор взял бледную, бессильную руку Наташи и сам сосчитал биение пульса.
— Есть перебои и выпады… но это ничего… Главное, того, сделано. Удивительная живучесть!
— Редкий случай, — взволнованно заметил ассистент, все еще бледный от нервного напряжения. — После такой инквизиции я и сам всегда лежу два дня с головной болью.
— А как же я-то? — улыбаясь, возразил хирург. — Случается, в день несколько операций, коллега.
— У вас, профессор, стальные нервы.
— Страдалица, — прошептала фельдшерица, вздохнув. — За что такие муки?
Профессор пожал плечами.
— За грехи родителей Тяжелая, того… наследственность.
В дверь постучали. Фельдшерица вышла и через минуту воротилась.
— Там, внизу, муж пришел, спрашивает, все ли благополучно. Хочет видеть больную…
Профессор нахмурился.
— Скажите — все, того, благополучно. Видеть нельзя. Теперь три часа ночи. Что он?
Фельдшерица вышла.
Врачи начали снимать с себя белые халаты.
Больная лежала в глубоком забытьи. Грудь ее медленно и тяжело дышала.
— Я очень опасался, того, за исход, — шепотом сказал профессор, — но — удивительная нервная система! Теперь — спасена, года на три, на четыре.
— Под счастливой звездой родилась, — заметил врач.
— Ну, чтобы под счастливой — я бы не сказал. Обреченная. Жертва вырождения. А жаль. Замечательно хороша собой.
Профессор пожал руку ассистента и вышел.
После всех скитаний по заграницам и больницам, едва оставшись в живых, Наташа снова очутилась в мрачной обстановке дома Черновых. Такова была судьба дочерей Чернова: всю жизнь они бегали из родительского дома и всегда возвращались обратно с обожженными крыльями. Наташа побывала в когтях смерти и вернулась с глубоким шрамом около горла, с вышедшими из орбит глазами, в которых оставалось выражение ужаса даже тогда, когда она смеялась.
Операция замедлила развитие страшной болезни, но последствия остались: измученное сердце билось неровно, как бы прихрамывая; иногда происходили сердечные припадки, сердце начинало биться с бешеной скоростью, и тогда Наташа лежала с компрессами на груди. Валерьян бросал работу и звонил к доктору Зорину. Если это случалось поздно ночью, посылали Василия на черновском рысаке. Казалось, что Наташа вновь умирает. Валерьян опять переживал бессонную ночь страхов и тревог за ее жизнь, на несколько дней выходил из колеи, теряя способность к работе. Но приезжал Зорин, неизменно бодрый, изящный, веселый, оставался наедине с больной — и все как рукой снимало. Достаточна было его появления, чтобы Наташе сразу стало легче: она верила, что в мире нет другого врача, кроме Зорина, который так понимал бы ее болезнь, верила, что он всегда может спасти ее, как спас когда-то, в момент уже наступившей предсмертной агонии. Больное сердце было преисполнено веры в мудрость Зорина и благодарности к нему. Припадок обыкновенно через полчаса проходил бесследно, и Наташа опять несколько недель чувствовала себя здоровой. Доктор обнадеживал, что больная со временем выздоровеет окончательно.
Характер Наташи после операции заметно изменился: она стала веселой, жизнерадостной и болтливой, чего у нее не было даже в годы девичества, когда она считалась здоровой. Стала завивать барашком свои остриженные волосы, шила новые платья, желала нравиться. Совершенно исчезла свойственная ей прежде задумчивость. Валерьян верил в близкое выздоровление жены, обрел способность работать и только в дни припадков временно испытывал тревогу.
Наташа казалась ребячливей, чем прежде, как бы впала в детство. Психика ее, угнетенная прежде, переродилась после операции, таинственная печаль исчезла вместе с вырезанным кусочком железы. Наташа стала новым человеком, с другим характером. Валерьян считал это признаком выздоровления.
Зимой, окончив новую картину, отправился выставлять ее в Петербург.
Жизнь Наташи потянулась в однообразном, затворническом одиночестве, в обществе домашней учительницы Марьи Ивановны, подготовлявшей Леньку в гимназию.
Марья Ивановна, девица лет тридцати, не так успешно занималась с мальчиком, сколько развлекала свою госпожу городскими сплетнями и гаданием на картах. Она стала единственной неутомимой собеседницей Наташи, вела домашнее хозяйство в «том доме», куда временно поселились Семовы за отъездом Дмитрия и Анны в имение, с утра до ночи рассказывала все, что успевала узнать об успехах доктора Зорина в богатых купеческих и дворянских домах.
Это была вечная тема их разговоров, единственное, что интересовало теперь Наташу. По вечерам играли на пианино в четыре руки, а на сон грядущий Марья Ивановна гадала на картах о Валерьяне, но всегда случалось, что ближе всех к сердцу червонной дамы падал трефовый валет, а королю выходила дальняя дорога.
Наташа часто писала мужу, с нетерпением ожидая его возвращения, но прошло два месяца, а Валерьян все не возвращался.
Почти каждый день приезжал Зорин, и в его присутствии она преображалась, хорошела. Затворническая жизнь ее была так бедна содержанием, что скоро Зорин заполнил эту жизнь без остатка. После его визита Наташа целый день была особенно весела, говорила только о нем и жила ожиданием следующего визита. Иногда вспоминала о Валерьяне и сердилась, почему он долго не едет. Но образ мужа постепенно бледнел в ее ослабевшей памяти. День, проведенный без свидания с Зориным, казался пропавшим, скучным днем.
Наташа с удивлением замечала, что никогда у нее не было такой привязанности к Валерьяну, какая с каждым днем сильнее возрастала к Зорину: после прожитых вместе долгих лет, рожденных детей, после совместных страданий — она всегда чувствовала между собой и мужем расстояние, преграду, мешавшую ей войти душой в его душу, даже не могла обращаться с ним на «ты», почти всегда говорила ему «вы», думая, что в этом выражается ее преклонение перед известным художником. На самом деле прежний интерес ее к его творчеству давно иссяк, да Валерьян за годы ее болезни, постоянных тревог и переездов отстал от работы и только теперь вернулся к любимому труду; но, по-видимому, успешнее работалось ему в Петербурге, чем в провинциальной глуши, подле больной жены, когда малейшее ухудшение в ее здоровье выбивало его из настроения.
С Зориным Наташа чувствовала себя иначе: не было той душевной преграды, которая всегда отделяла ее от Валерьяна. Муж многого не понимал в ее настроениях, в особенности когда работал: тогда он уходил в свой внутренний мир, непонятный Наташе, между тем как Зорин на лету подхватывал ее желания, угадывал мысли.
Даже обыкновенной физической стыдливости, которую Наташа не могла преодолеть за годы супружеской жизни с Валерьяном, не испытывала при Зорине. Он имел право раздевать ее, обнимать, прижимать ухо к ее обнаженной груди, и Наташа с удивлением чувствовала, что давно к этому привыкла, что между ними установилась не только душевная близость, но как бы и телесная. Зорин стал ей ближе, чем муж, отношения с ним оказались интимнее, чем с Валерьяном.
Она была уверена, что по-прежнему любит мужа, и действительно любила его, не могла себе представить своей жизни без него, ждала его возвращения с нетерпением, но он все не ехал.
Наташа думала, что чувствует к Зорину естественную благодарность за спасение ее жизни в критический момент болезни. Благодарность скоро перешла в нежнейшую дружбу. Зорин казался ей героем, сильным человеком, сумевшим победить чудовище смерти, между тем как Валерьян не уберег ее от болезни, допустил все пережитые ею несчастья, только и умел, что страдать да мучиться вместе с нею, а как художник — опустился. Он поставил Наташу и ее жизнь выше своей жизненной задачи, бесполезно и безрассудно кинул свой талант под ноги ей, больной, беспомощной женщине, и оттого упал в ее же глазах.
Если бы ради служения искусству, ради успеха и славы Валерьян в своем мужском эгоизме бросил ее, Наташа за это больше бы его уважала; но он поступил как раз наоборот: забыл себя ради нее и при этом оказался слабой опорой, погубил карьеру, обеднел.
Художнический талант Валерьяна был именно той преградой, недоступной для нее областью, куда он уходил от нее и только там был силен, а в жизни оказался фантазером, слабым и непрактичным, как ребенок.
Ей, тоже непрактичной и беспомощной, нужен был не фантазер, а человек с трезвой головой, который мог бы нести ее сильными руками, оберегая от жизненных невзгод.
Валерьян не мог принадлежать ей всецело, а когда отдал всего себя, не осталось сил для творчества. Наташа думала, что, если ее болезнь протянется еще несколько лет, Валерьян ничего более не создаст в искусстве, сойдет на нет. Лучше было бы для него, если б он разлюбил ее, нашел другую. Ей нужен не столько муж, сколько врач. Она любит Валерьяна, привязана к нему, как к другу, столь же далекому от прозы жизни, как иона. Но как прожить без Зорина, практического ловкача, карьериста, но настоящего джентльмена? Зорин — соблазнительный красавец, франт, остроумный, очаровательный собеседник. Именно теперь, как никогда, Наташе хотелось, чтобы Валерьян не оставлял ее одну о Зориным.
Вкусы Наташи изменились. Она сама не замечала, как случилось, что благодарность и симпатия постепенно обратились в сильное, стихийное, нерассуждающее чувство; оно явилось у нее впервые в жизни: ничего подобного не переживала она, когда выходила замуж за Валерьяна.
Разговоры с Зориным были всегда полны чарующих недомолвок, волнующих намеков, остроумной игра слов, — овеяны ароматом утонченного флирта. До сих пор это была только невинная игра. Наташа знала, что Зорин женат, имеет детей, но не любит жену, нигде с ней не бывает. Он — донжуан по натуре, охотник за женщинами, имеет у них большой успех и упивается им. Для него не столь важно физическое обладание женщиной, — важнее взять ее душу. И вот он сознательно завладел душой Наташи.
Марья Ивановна сообщила ей, что по городу ходит сплетня, будто в Зорина влюблены жены ее братьев — Анна и Зинаида. Наташа побледнела при этом известии и с тех пор возненавидела обеих невесток.
По вечерам в «тот дом» шаркающей походкой приходил Сила Гордеич, расспрашивал о Валерьяне, скоро ли приедет, а когда Наташа не могла удержаться от рассказов о Зорине, имя которого не сходило у нее с языка, хмурился и, взглядывая на дочь поверх очков, переводил разговор на другое: опасался Сила Гордеич Зорина.
Варвара, лечившаяся от ревматизма на Кавказе, прислала ей письмо, где в высокопарных и нравоучительных выражениях предостерегала ее от Зорина: ему нужна не она, а ее наследство. Наташа знала, что Варвара и сама когда-то в Петербурге увлеклась им, а письмо это написала не для нее, а для Силы Гордеича, в надежде, что он по обыкновению вскроет письмо: это был замаскированный донос.
Сплетня все чаше и громче повторяла имена Наташи, Зорина и Валерьяна; начиналась завязка пошлого провинциального романа. Никто не сомневался, что Зорин подбирается к деньгам всех своих пациенток из черновского дома. Сила Гордеич делал вид, что ничего не знает, но на самом деле принял письмо Варвары к сведению.
Ежедневная информация Марьи Ивановны волновала Наташу, являясь жгучим содержанием ее теперешней жизни. На первом плане был Зорин, на последнем Валерьян. Однажды, когда учительница неосторожно выразилась о видах Зорина на будущие капиталы Наташи, она пришла в такой небывалый гнев, что «засветила» ей пощечину. На пощечину Марья Ивановна нисколько не обиделась, а наоборот — была польщена, приняв ее как переход от прежних отношений хозяйки и служащей к интимным, неразрывно-дружеским отношениям. Так оно и вышло. Отныне у Наташи уже не было секретов от Марьи Ивановны: учительница стала наперсницей и «другом» Наташи.
Откровенно разговаривали о Зорине, подразумевая, что Наташа любит его первой любовью. Только теперь она увидела, что выходила замуж без любви, из одного уважения, а также, чтобы вырваться из невыносимой обстановки черновского дома.
Но как случилось, что она зашла так далеко, — Наташа и сама не знала. Ей от всего сердца было жаль Валерьяна: неужели он столько лет мучился с ней, столько пожертвовал лишь для того, чтобы, выздоровев, она ушла к другому? Наташа запуталась в собственных чувствах. Долго не признавалась самой себе в любви к Зорину, налетевшей на нее, как новое несчастье, и, убедившись, что действительно любит, ужаснулась.
Ей казалось, что она должна бороться против этого безнадежного чувства, ухватиться за прежнюю любовь к Валерьяну, раздуть ее угасающие искры, а для этого нужно, чтобы он бросил все свои дела и немедленно вернулся к ней спасать ее от Зорина. Они уедут в Крым и там, вдали, быть может, все пройдет. Бежать, бежать от него, страстно и впервые любимого!
Наташа проплакала ночь над запутанным, туманным, бестолковым письмом к Валерьяну.
Хотелось, чтобы он догадался о сильном и опасном сопернике. Но не таков Валерьян: ему и в голову не приходит, какое новое горе надвигается на них обоих.
В эту зиму во всей жизни столицы — в искусстве, литературе, политике и торговле — чувствовалось небывалое затишье, внезапный, необъяснимый застой. О выставленной картине Валерьяна в прессе были благоприятные, но краткие отзывы: казалось — не до картин в Петербурге. Веяло зловещим настроением, иностранцы спешно уезжали за границу, на политическом горизонте надвигались тучи. Слышались невнятные шепоты о возможной войне и близости революции.
Валерьян уехал из столицы в мрачном настроении, не дождавшись покупателя на картину, недовольный собой и озабоченный тревожным, смутным письмом Наташи.
IX
Поселившись на лето в крымской долине на своей даче, Валерьян и Наташа по утрам отправлялись в лес на прогулку. Спали они в разных комнатах: Валерьян — в кабинете, внизу, она — наверху. Проснувшись, он по обыкновению заходил за ней.
В одно тихое солнечное утро Валерьян застал Наташу спящей и тихонько остановился у порога: она всегда просыпалась раньше его, но на этот раз, должно быть, плохо спала ночью. Без доктора Зорина Наташа опять стала сосредоточенной и печальной, чувствовала себя хуже. Разговаривали только во время прогулок; в остальную часть дня Валерьян или работал вместе с Иваном на огороде, или уединялся в своей мастерской.
Художник неслышными шагами подошел к изголовью жены и долго стоял так, в ожиданьи, когда она проснется: жаль было будить. Наташа опала, улыбаясь во сне знакомой Валерьяну, детской улыбкой.
Вдруг она открыла глаза и, еще не придя в себя, сонным голосом спросила:
— Это ты, Николай?
— Нет, это я, — тихо ответил Валерьян.
— Ах, это Валечка. А мне снился…
— …Зорин. По улыбке видно. — Валерьян тихо, ласково засмеялся. — Проснулась и спрашиваешь: «Это ты, Николай?»
Наташа смутилась.
— Не может быть! Не помню, чтобы я так сказала. Не могла сказать. Никогда и наяву-то не называла его на «ты».
Наташа опять улыбнулась «зоринской» улыбкой.
— Вы все шутите надо мной, Валечка. Ай-яй! как это нехорошо с вашей стороны! Неужели ревнуете?
Валерьян сел в кресло у изголовья жены.
— Нет, — сказал он со вздохом, — я так тебя люблю. Был бы рад, если бы ты могла быть с ним счастливой. Но ведь вся твоя любовь — фантастическая, в смысле надежд на новую жизнь. Ты любишь. Как это случилось? У него — жена, дети, и право, как-то незаметно увлечения тобой. Ты больна, имеешь сына. Вряд ли из ваших отношений может выйти что-нибудь путное. Ты сама для себя сочинила эту любовь. Впрочем, говорят, мужья бывают слепы, муж всегда узнает последним. Меня одно раздражает: пришлось уехать сюда от городских сплетен, — мы стали посмешищем дураков. Думают, что Зорин имеет на тебя, так сказать, меркантильные виды. Конечно, он не таков, я очень его уважаю.
— Все годы моего замужества я думала, что люблю вас, — опять заговорила Наташа, — и действительно, верила, что незыблемо люблю, а между тем, как все это оказалось непрочно! Ведь за мной никто никогда не ухаживал, кроме вас, но вот стоило только одному человеку обратить на меня внимание, как все и пошло прахом. Вы не рассердитесь на меня?
— Нет. Но продолжай. Надо же нам до чего-нибудь договориться. Толкуем об этом каждый день, а все ни к какому решению не пришли.
Наташа покачала кудрявой, хорошенькой головкой.
— К решению? Разве непременно нужно еще какое- то решение? Ведь я вовсе не собираюсь разводиться, Валечка. Нарочно уехала сюда, чтобы все это прошло, чтобы забыть.
— Наташа, ты противоречишь себе…
Она опять улыбнулась своей новой улыбкой, вспомнив Зорина, потом продолжала, не отвечая на реплику мужа:
— Но вышло еще хуже: бегство оказалось напрасным'. Я и здесь думаю о нем, во сне его вижу. Вместо забвенья только тоска. Ведь, в сущности, между нами даже на словах еще ничего не было… никакого объяснения… Может быть, и ничего не будет, но он мне необходим, я не могу без него жить. Я должна видеть его каждый день, иначе я не выздоровлю. Как это случилось — и сама не знаю. Вы уезжаете из дому всегда на две недели, а возвращаетесь через несколько месяцев. Я вас каждый день ждала. Ах, как я вас ждала, Валечка! Но вы — все не ехали. Это было жестоко с вашей стороны.
Она вздохнула, вытерла слезы кончиком рукава и, вздохнув, продолжала:
— А он все время был со мной. Вот к нему и привыкла… Вы там писали свои картины, а о том, что я покинута и одинока, не думали… Понемногу привязалась к нему, к моему спасителю… Долго боролась с новым чувством и теперь еще борюсь, но вы совершенно не боретесь с соперником: ведь все же он — соперник ваш.
— Чем я буду бороться? Не на дуэли же драться. Дело очень просто: любила меня, теперь другого любишь. Чувство не в нашей власти. Как и чем я могу вернуть твою любовь?
— Валечка, да я же и вас люблю, только по-другому Очень хочу, чтобы это наваждение прошло; может быть, что и пройдет само собой, но бороться я больше не в силах. Отвезите меня обратно, а сами поезжайте в Петербург. Теперь надо оставить на время меня одну, чтобы я изжила все это, дошла до какого-нибудь конца. Пусть выяснится естественный выход. Поезжайте, работайте ведь все эти годы я вам только мешала. Какая я жена? Так, дрянь на двух ногах. Если увлечетесь какой-нибудь другой, здоровой женщиной, даю вам свободу увлекаться, но только слегка, чтобы вы могли ко мне вернуться А главное — работайте, опять завоюйте вашу прежнюю славу, которую из-за меня потеряли, и возможно, что к тому времени я изживу мое несчастье. Тогда вернитесь ко мне. А я так бы хотела, Валечка, опять любить вас по-прежнему.
Валерьян встал с кресла, подошел к окну и, не оборачиваясь, сказал:
— Ты говоришь, как ребенок. Я не верю, что доктор женится на тебе. Не верю и в то, чтобы изжилось это чувство… Все эти годы я отдал тебе, надеялся, что ты выздоровеешь, а ты все не выздоравливала… и наконец — устал…
Губы Наташи задрожали.
— Я хочу выздороветь, — прошептала она, — но без него — не могу.
— Хорошо. Я уеду. Это самое лучшее, что можно сделать в моем положении. Но знай: в моем сердце твое место никем никогда не будет занято…
Голос его дрогнул. Наступило молчание.
Вдали по проселочной дороге, оставляя за собой облако пыли, катился чей-то автомобиль. По склонам зеленых гор, окаймлявших изумрудную долину, ползло стадо овец, татарчонок-чабан играл на жалейке заунывный мотив. Из-за гор, освещенных утренним солнцем, тихо плыли волнистые облака.
— Валечка, — тихо сказала Наташа, — пойдите сюда!
Валерьян обернулся: она сидела на кровати в ночной рубашке, худенькая, с короткими кудрями, похожая на мальчика. Смотрела на него ненормально большими глазами, все еще близкими, родными ему.
Он подошел. Наташа потянулась к нему, стала осыпать его щеки мелкими поцелуями.
— Я очень несчастна, — прошептала она, как бы прощаясь с ним. Слезы лились из ее выпученных, трагических глаз.
Спазмы сжимали горло. Валерьян чувствовал, что разрыдается, если скажет хоть слово.
Молча освободился из ее детских, слабых объятий и быстро вышел из комнаты.
На дворе густо и зычно лаял Фальстаф. У крыльца веранды, обвитой плющом, стоял Иван и, широко улыбаясь, чесал в затылке.
— Автомобиль чей-то… идет к нам, Валерьян Иваныч. Поглядите-ка!
В нижние ворота въезжал открытый желтый автомобиль с единственным пассажиром на шоферском месте.
Едва художник сделал несколько шагов навстречу, как машина подлетела к дому и сидевший за рулем широкоплечий человек в брезентовом плаще откинул с головы капюшон, обнаружив загорелое, бритое лицо.
— Здравия желаем, Валерьян Иваныч! — гаркнул густой, маслянистый голос Василия Иваныча.
— Какими судьбами? — невольно рассмеялся Валерьян. — Откуда?
Все сейчас расскажу, — ответил доктор, вылезай из экипажа. — Газеты получаете? О событиях знаете?
— Ничего не знаю. Идемте завтракать.
В столовой гость сбросил плащ и вынул из кармана сложенную вчетверо газету.
— Читайте!
Валерьян развернул «Севастопольский вестник», вслух прочел слова, напечатанные очень крупным шрифтом:
— «Германия объявила войну России».
Воцарилось молчание. Иван, стоявший у порога, разинул рот и, запустив руку за ворот, оставил ее там.
Василий Иваныч взволнованно ходил по комнате большими, грузными шагами. От его движений вздрагивал тяжелый дубовый буфет в углу, позвякивали на столе приготовленные стаканы.
— Гул идет по всей России, — заговорил гость, — объявлен призыв запасных, в Севастополе военное положение. Скоро будет осадное. Приезжие бегут из Крыма, на вокзале от билетной кассы хвост спиралью по всей площади… Надо и вам выбираться.
— Позвольте, — перебил Валерьян, откладывая газету. — Вы-то, собственно, как в Крыму очутились?
Василий Иваныч махнул рукой.
— Да ведь я давно из врачей ушел: в Киевской опере пою второй сезон, а здесь на летних гастролях с группой. В Севастополе готовится грандиозный вечер в пользу Красного Креста. Поэтому к вам приехал — от устроителей вечера: приглашают вас выступить на вечере, сказать что-нибудь с точки зрения искусства. Интеллигентная публика только и твердит теперь, что о «нашем мужичке, ямщике и солдатике». Заранее советую не отказываться, иначе плацкарты не получите и в поезд не попадете.
Валерьян задумался.
— Вот оно что! Ну, коли так, придется и мне выступить с вами. Не актер я, не оратор, не лектор, не хотелось бы…
— Ничего не поделаешь. Время пришло шумное, тревожное. Застрять здесь, наверно, не захотите.
— Да, как громом оглушило. Конечно, надо побывать в городе. Вот отдохнете, пообедаем, и — я к вашим услугам.
— До обеда долго. Обедать мы с вами будем в Балаклаве, на плавучей веранде: отличную там камбалу разварную дают.
Сверху сошла Наташа и удивилась, увидя знакомого гостя. Василий Иваныч галантно подошел к ручке.
— Озорница вы, Наталья Силовна. Ну, можно ли в такую глушь забираться? Приехал мужа вашего похитить: наступает эпоха великих событий.
— Война объявлена, — пояснил Валерьян, протягивая жене газету. — Надо спешно уезжать из Крыма. — Он улыбнулся и шутливо добавил: — Провожу тебя к отцу а сам на фронт поеду.
Наташа подняла на мужа удивленные глаза и медленно опустила их в газету, ничего не сказав.
— Ты знаешь, — быстро, нервно заговорил Валерьян, — Василий Иваныч бросил медицину, в опере поет теперь.
Наташа устало отложила газету.
— Конечно, ваше место на сцене, но как же это? Все на войну идут, даже художники, а вы — петь будете. Наверное, врачи теперь нужнее.
— Правильно, — покраснев, качая головой, подтвердил певец. — Узнаю вас: во всем вы искренни, Наталья Силовна, хоть стой, хоть падай. Но дело в том, что врач я плохой, а певец, говорят, хороший, — каждому свое. Актеры теперь тоже на помощь раненым деньги концертами собирают. Кроме того, я вообще враг войны, а этой — в особенности: если мы победим, будет еще горшая реакция, нас победят — неизбежна революция.
Наташа всплеснула руками.
Василий Иваныч поднялся из-за стола, залпом вы пив стакан остывшего чая.
— А вы как относитесь к войне, Валерьян Иваныч? На фронт собираетесь?
— На фронт я поехал бы в качестве художника или корреспондента, но это не мешает мне ненавидеть войну. Я хочу быть свидетелем против нее. Война — это величайшее преступление ее творцов против человечества, но все-таки желать самим себе поражения… Впрочем, о пораженчестве у меня еще не было времени подумать. Такова судьба России: история предъявляет счет за века рабства и косности… Но — ампутация лучше гниения. Говорят, война протянется не больше трех месяцев — и начнется новая эра.
— Валечка, — вмешалась Наташа, — вы не серьезно, сгоряча решаете: вы не поедете на войну. Подумайте сначала!
— Да ведь я не сейчас еду. Отчего не поехать? Напишу потом батальную картину. А сейчас мы с Василием Иванычем едем только в Балаклаву и Севастополь.
— Да, пора, — подтвердил гость. — Одевайтесь, Валерьян Иваныч!
— Это еще что такое? Зачем в Балаклаву?
Валерьян, смеясь, надевал дорожный плащ и шляпу.
— Ничего не поделаешь, Наташа. Василий Иваныч неумолим: надо экстренно хлопотать насчет отъезда.
— Парадного костюма не нужно? — спросил он певца.
— Ничего не нужно. По-военному.
Наташа проводила их до автомобиля. Позади всех стоял Иван.
— Война, брат Ваня, — весело сказал ему художник. — Ты, кажется, на призыве?
Иван крякнул, приосанился, запустил руку за пояс.
— В самый аккурат, Валерьян Иваныч. Гы! Семи смертям не бывать, а одной не миновать. Нет худа без добра…
Певец и художник переглянулись.
— Оригинал! — усмехнулся Василий Иваныч. — Ты из каких краев, Ваня?
— Да из ваших же, Василий Иваныч. Знаем вас. С Волги мы… Березовские.
— Ну, коли березовские, так оно и понятно. Философ ты, Иван, мыслитель… Всего хорошего!
— Не волнуйся! — говорил жене Валерьян, усаживаясь рядом с певцом, уже взявшимся за рулевое колесо. — Война далеко, опасности никакой, но — из этой глуши пора выбираться. Вернусь дня через три.
— Вообще, плюньте вы на эту тишь да гладь, да божью благодать, — смеясь, добавил Василий Иваныч, — собирайтесь-ка лучше в родные места.
Он нажал кнопку стартера, повернул руль, автомобиль харкнул, запыхтел и, круто повернувшись, мягко покатился к воротам участка.
Наташа долго смотрела им вслед. В глазах ее стояли слезы.
«Неужели уедет на войну? — думала она. — Не может быть! Не решится».
Валерьян, спросив вина, налил полный стакан и, не притрагиваясь к нему, задумался. На плавучей веранде ресторана не осталось никого. Синяя продолговатая бухта походила на озеро, соединяясь с морем узеньким «горлом», проходившим между двумя отвесными скалистыми горами. На вершине одной торчали знаменитые генуэзские развалины, на другой — виднелся беленький домик в лесу; около домика копошились саперы, лопатами выравнивали верхушку горы для будущего укрепления.
На левом берегу бухты, у подошвы горы, вдоль узенькой, словно театральной, набережной лепились жалкие рыбацкие домишки Балаклавы.
У берега стояли на привязи десятки рыбацких лодок, а на другой стороне, отражаясь в неподвижной синей воде, красовались роскошные особняки аристократов и богачей, напоминавшие ему дворцы Венеции. Это были как бы два мира, враждебно смотревшие один на другой с противоположных берегов. Дворцы художественно дополняли красоту вычурных скал и зеленых гор. полукольцом охвативших зеркальную бухту, но казались необитаемо-безжизненными. Зато рыбацкий берег жил своеобразной жизнью. На набережной сушились сети, чинились вытащенные на песок лодки. Проходили рыбаки-греки в вязаных фуфайках, в высоких, выше колен, тяжелых рыбацких сапогах, с запущенной щетиной черных бород, в выцветших старых шляпах с отвисшими полями. По узеньким, неправильным переулкам, террасами поднимавшихся в гору, сновали красивые, смуглые гречанки, бегали полуголые дети. Приезжие, большею частью девушки, в широких и легких домашних костюмах, с открытыми головами под палящим солнцем прогуливались взад и вперед по берегу бухты. Из небольшой двухэтажной гостиницы «Гранд-отель» против плавучей веранды выносили узлы и чемоданы, громоздя их на телегу ломового извозчика: по случаю объявления войны дачники преждевременно покидали этот демократический, «ситцевый» курорт.
Случилось неожиданное и странное: жена разлюбила его, а может быть, и прежде никогда «по-настоящему» не любила. Вспомнил свои колебания и недоумения перед свадьбой, когда ему казалось, что Наташа выходила замуж, не любя его, хотя и по собственной воле: ей хотелось тогда вырваться из мрачного дома Черновых, освободиться от родительского гнета, известный художник казался ей подходящей партией. На самом же деле ее и в те времена тянуло к изящному, светскому красавцу — доктору Зорину, но по молодости и неопытности своей Наташа не смогла разобраться в собственных чувствах. Теперь она встретила своего героя в иной обстановке, и давнишнее влечение вспыхнуло с новой силой.
Валерьян залпом выпил вино, наполнил стакан и снова осушил его. По жилам разлилась жгучая теплота. Голова слегка затуманилась, его охватило грустно-приятное, мечтательное настроение, в мозгу одна за другой загорались искры, всплывали неожиданные образы, красивые и печальные, как музыка во сне.
Солнце опускалось к закату, освещая нежную зелень виноградников на склонах гор, играя фантастическим пламенем на венецианских окнах балаклавских дворцов. Жара спадала; от бухты пахло нежно-свежим, терпким запахом моря.
Валерьян вспомнил балаклавское предание об итальянском пароходе с золотом, затонувшем около бухты во время Крымской войны. Почему-то вдруг ожил в памяти романтический герой «Тружеников моря» Виктора Гюго: там человек, чтобы поднять затонувшее судно, опустился в морскую глубину, боролся с гигантским осьминогом, победил, и когда, израненный, обезображенный щупальцами спрута, явился к любимой женщине, ради которой совершил героический подвиг, вид его ран внушил ей ужас и убил любовь; вместо него она за это время полюбила другого — красавца «с благородным, бледным и нежным лицом»… Герой Гюго устраняет себя: садится на уступе скалы, заливаемой морским приливом, и море поглощает его. Красиво и трогательно описано это в старой романтической книге. Валерьян чувствовал горькую сладость такого самопожертвования: ведь и он также совершал подвиги для спасения Наташи от смерти. Разве это не подвиг — оставить любимое дело, отказаться от славы, от успехов, скатиться с верхов жизни — и спуститься в безотрадное забвение для борьбы с чудовищем, которое душило Наташу своими холодными щупальцами?.. И все же он спас ее — годами отчаянной борьбы, поставив на карту всю свою судьбу, спас ей жизнь — для красавца Зорина, такого симпатичного, «с благородным лицом», как бы созданного для любви…
Ну, и пусть Наташа будет счастлива, а он уйдет навстречу приливу. Прилив надвигается грозно, море жизни огромно, оно незаметно поглотит его.
Валерьян выпил всю бутылку, спросил другую. Вино не пьянило его, только воспламенялась фантазия, и в ней всплывали мрачные образы, толпились горькие мысли.
Пурпурный закат пылал призрачным, холодным пожаром на спустившихся, тихо плывших облаках. Валерьян грустно следил за их незаметным, волшебным изменением. Позолоченные солнцем облака громоздились над вершинами гор и казались сказочным городом, возникшим в небе. Высились розовые, стрельчатые башни с золотыми кровлями, зубчатые стены, ограждавшие хрустальный замок. Все это медленно плыло, постепенно принимая все новые, фантастические формы: исчезли башни, дворцы и замки, словно кто-то смял их, смешал в бесформенную груду, и оно внезапно принимает образ гигантской головы с длинной, белоснежной бородой, с горбатым носом и маленькой шапкой на ней… Голова плывет, лицо изменяется, нос наклоняется к другому облаку, принимающему форму раскрытой книги…
Это старый еврей с картины Валерьяна «Погром». Но еврей уже изменился, начал таять, разрушаться; нос отделился, присоединившись к загнувшейся вперед бороде, книга разорвалась пополам. Еврей исчез, но вместо него образовались другие фигуры: бродяги среди снегов сидят у костра…
Все написанные им картины одна за другой в преувеличенном виде отражаются в облаках, расплываются там, распадаясь на части. Не написать ему их больше. Нет в нем прежней цельности и ясности. Он еще молод, полон сил, многое мог бы создать, но в душе, в самом темном ее уголке, прячется притаившийся страх, что задолго до заката его дней происходит закат таланта… Не тянет больше к холсту, а то, что писал он за последнее время, не захватывало его, оставалось в эскизах, в набросках и, едва намечаясь, расплывалось, как эти облака… Что за причина такого раннего угасания? Единственно, что ему удалось хорошо написать года три назад, — это фантастическую головку женщины с лицом и больными глазами Наташи, но эта картина осталась неоконченной: не хватило сил, слишком мучительно было писать такие глаза.
Если бы Наташа понимала, до какого отчаяния он довел себя, — ободрила бы, вдохновила, протянула руку…
Вдруг Валерьян рассмеялся: неожиданно вспомнился мотив грустно-комической песенки:
Он был титулярный советник, Она — генеральская дочь. Он в пылкой любви объяснился, Она — прогнала его прочь.Эго он, Валерьян, когда-то прославленный художник, оказался теперь в роли прогнанного. Ха-ха! Несчастная любовь! Р-разбитое сердце! Что же, серными спичками отравиться или броситься в бухту? Из-за очей прекрасных —
Пошел титулярный советник И пьянствовал целую ночь, И в винном тумане носилась Перед ним…— Ку-пе-че-ская дочь, — вслух напевал про себя Валерьян и захохотал один на пустой веранде. До чего он, однако, напился!
Закат разгорался все пышнее и ярче; почти половина неба над горами покрылась жаром, золотом и кровью.
На веранде послышались шаги. Валерьян вздрогнул и оглянулся: по лесенке поднимались двое — Василий Иваныч и маленькая, смуглая брюнетка с ним.
Певец представил ее Валерьяну, назвав нерусские фамилию. Оба они сели за его столик. Художник с удивлением посмотрел на новую знакомую. Ей казалось не более двадцати четырех лет. Одетая по-домашнему, как все в Балаклаве, с открытой головой, с большой вязаной шалью на плечах, юная артистка была стройна и красива, с высокой, крепкой девичьей грудью. В черных блестящих волосах ее дрожала свежая темно-красная роза. Лицо неправильное, смугло-оливковое, цыганского типа, с сочными, алыми губами и золотистыми, карими глазами.
Василий Иваныч заговорил о предстоящем концерте. О том, что будут выступать известные писатели, проживающие недалеко от Балаклавы, что придется съездить к ним.
Молодая женщина слушала рассеянно, иногда напевая что-то вполголоса на низких нотах, звучавших, как виолончель, и не сводя с Валерьяна робкого, но любопытного взгляда немигающих лучистых глаз.
Валерьян улыбнулся ей.
— Я люблю виолончель, — сказал он, намекая на ее голос.
— Меня зовут — Виола, — альтом засмеялась певица.
— Разве есть такое имя?
— Есть. Еврейское, на молдаванский лад. Я родилась в Кишиневе. Отчего вы не пришли с ним ко мне?
— Да так, не хотелось надоедать.
Виола нетерпеливо повела плечами.
— Напротив, вы — мой любимый художник, перед вашими картинами я плакала, мечтала когда-нибудь хоть издалека увидеть вас… Ну вот — увидела, и нет у меня никаких слов. Ах, эта ваша картина еврейского погрома, этот старый еврей, читающий на развалинах древнюю книгу — должно быть о страданиях еврейского народа! Ведь это всю душу переворачивает. Когда мне сказали, что «мой-то» обожаемый художник сидит здесь и неумеренно пьет вино, у меня сердце кровью облилось… Я побежала… отвлечь вас…
Валерьян засмеялся. Улыбнулся и Василий Иваныч, но Виола смотрела в глаза художника с наивным сочувствием.
— Вы несчастны в личной жизни, я знаю, слыхала… Но довольно же вам пить, поедемте с нами.
— Куда?
— В лодку, — вмешался Василий Иваныч, — в колонию писателей, приглашать их на вечер. Я уже заказал лучшую лодку с парусом и отборными гребцами. Э, да вот и они! Заночуем там, а утром обратно.
— Что ж, — равнодушно согласился Валерьян, — мне все равно. Знаю я эту колонию.
К «поплавку» подъехала большая, четырехвесельная белая лодка с мачтой и свернутым парусом. В лодке сидело пятеро молодых парней в шерстяных вязаных фуфайках, с открытой грудью, с голыми мускулистыми руками.
Василий Иваныч подошел к ступенькам веранды, спускавшимся прямо в воду в сторону бухты.
— Готово, ребята?
— Есть! — браво ответил рулевой, блондин с серебряной серьгой в ухе. — Будьте покойны, Василий Иваныч, наша «Слава» на гонках первый приз взяла. Вот только жалко — штиль. На веслах придется идти.
Валерьян первым спустился в лодку, подал руку Виоле. Маленькая смуглая ручка певицы была крепка к горяча, золотистые глаза улыбались.
— Ну, теперь берегитесь все, — торжественно заявил величавый бас: — я иду.
Лодка при общем смехе закачалась от его тяжелых шагов.
Василий Иваныч сел рядом с Виолой, Валерьян напротив них. Гребцы подняли весла, разом погрузили их в густую синьку бухты.
Быстро вышли через «горло» и заскользили по зыби открытого моря, держась вдоль скалистого берега, вверху покрытого виноградными садами. Пахло морем и виноградом.
— Вот с этой скалы, — показал рулевой, — в старые годы девица одна бросилась в море через любовь, через разбитое сердце…
Рыбаки засмеялись.
— Ну, — шутливо возразил Василий Иваныч, — в старину сердца прочнее нынешних были: разбивались только в самых серьезных случаях. Оттого о таких развитиях и помнят до наших дней. А нынешние сердца разбиваются от каждого пустяка; но в море из-за этого ни одна девица не бросается, потому что все равно никто не обратит внимания. Как вы думаете об этом, Виола?
— Думаю, что из-за нынешних мужчин не стоит убиваться.
— А из-за женщин? — спросил Валерьян.
Вместо ответа певица с грациозной гримаской показала мужчинам кончик языка и пошевелила им, как жалом.
— Где здесь, Сережа, пароход итальянский затонул? — обратился Василий Иваныч к рулевому.
— А вот в аккурат насупротив бухты. Считается… сорок сажен глубины… Лазили водолазы сколько разов, но ничего поделать не могли: песком засосало. Говорят, один человек так и остался там, затонувши…
— Труженики моря, — вздохнул Валерьян.
— Денег там — сорок миллионов.
— Около такого капитала живете, а достигнуть не можете, — дразнил Сергея Василий Иваныч.
— Наш капитал — море. Зимой на белугу ходим, и самый шторм. Случается, половина лодок ко дну идет, зато уж, как попадется белуга с икрой, тогда сразу у всех деньги, гуляем с неделю, покудова все как есть не спустим.
— А зачем так делаете?
— Эх, Василий Иваныч, рыбацкое дело такое — либо пан, либо пропал. Море-то зимой не свой брат, едешь и думаешь: ворочусь ли?.. И деды и прадеды наши на морских волнах помирали…
Рыбаки молча ухмылялись, дружно работая веслами.
— Потомки генуэзцев, — заметил художник. — Я представляю себе Балаклаву, какой она была в пятнадцатом веке: крепость на горе, а по набережной ходят люди в широкополых шляпах, в коротких плащах, с длинными шпагами, с длинными лицами…
— Романтик вы, — покачала головой Виола: — видите то, чего никто не видит… Времена плащей, шпаг, дуэлей, серенад — все это теперь только в пьесах да операх осталось.
— Издали все красиво, — заметил Василий Иваныч — через полтысячи лет и наши времена покажутся интересными. Вот война начинается. Будет героизм, битвы… подвиги…
— Ненавижу войну! — страстно прервала его Виола.
— Поведут на убой наших братьев, мужей, женихов… Из-за чего, для кого, кто устраивает этакий ужас?..
— Ага, вы начали из другой оперы, Виола. В этом — трагедия войны… Она — ужас и мерзость, но описывать ее будут красиво. Вот как раз сегодня в газетах есть описание первой битвы русских с германцами: поднялись в облака два аэроплана — наш и немецкий, сцепились, как две хищные птицы, и — упали с облаков вместе. А внизу две армии одна против другой, как муравьи. зарылись в землю.
— Крымский эскадрон уже отправили, — сказал Сергей, внимательно слушавший. — Коней забирают самых лучших…
— Плохо, что в нашей народной толще нет подъема. Никто не сочувствует этой войне, никому не понятны причины…
— Не хочу ни говорить, ни думать о причинах, — закричала Виола. — Жизнь прекрасна, коротка, дается человеку один только раз. Бросьте про войну! Посмотрите, какая красота!
Лодка быстро мчалась по едва дышавшему морю. В туманной дали на горизонте шел в Ялту черный грузовой пароход. От зеленых гор в море падали длинные тени. Солнце пышно угасало, озаряя нежную зелень виноградников.
— Какой закат! — восхищалась певица. — Художник, что же вы молчите?
— Художники красками говорят, не словами, — возразил Василий Иваныч, — певцы — звуками. Ну-ка, можете вы сейчас спеть что-нибудь о закате?
Как ярко солнце в тихий час заката…Не докончив куплета, она опять показала басу язык.
— Что, взяли?
Голос у нее был такой же золотистый, как и глаза, не контральто, как можно было ожидать по низкому тону, в котором она говорила, а, вероятно, меццо-сопрано.
— Спойте дальше! — поощрил певицу художник. — Замечательно красивый мотив. Да, тихий час заката Как хорошо!
— Это — народная, неаполитанская песенка, по содержанию довольно-таки глупенькая. Вы бывали в Неаполе?
— Случалось.
— А еще где были?
— Я много ездил… по всем морям… На Востоке, например, в Японии был…
— Ах, Япония — мечта моя.
— Но вы не докончили песни.
— Да? Вас интересует этот пустячок? Ну, дальше поется так:
Я знаю солнце еще светлее: И это — очи твои, милый друг.— Очи, очи! — с добродушной иронией проворчал Василий Иваныч. — Ах, уж эти сочинители романсов! Пишут для теноров и сопрано — и все про очи, будь они неладны.
— Кто — неладны? Сочинители или очи?
— И те и другие.
Валерьян молчал. Очевидно, Василий Иваныч нашел себе на сцене какую-то Виолу, и вот концертируют вместе. Оба молодые, здоровые, свободные… Скучно и завидно смотреть на чужое счастье. Закат угасает, но завтра взойдет утреннее солнце. Взойдет ли оно и для него? Как грозовая туча, надвигается огромная, страшная, непонятная война; не нужны будут теперь художники, певцы, певицы и эти мирные, наивные песенки любви Поздно нашел себя неудачный земский врач Василий Иваныч, разочарованный народник… Конченные, ненужные люди, не замечающие, что эпоха, в которой они были нужны и значили что-то, оборвана внезапно зазвучавшим громом чудовищных пушек; а певцы все еще поют старые песни, художники пишут никому не нужные картины…
— У вас больное лицо, — участливо сказала ему певица. — Что с вами?
Валерьян принужденно улыбнулся.
— Просто — голова болит. Вино и море плохо действуют на нее.
— Так вы прилягте, голубчик. Ничего, не стесняйтесь: вас укачало. Вот возьмите мою шаль!
Лодка слегка покачивалась, быстро скользя по зыби. Багровый закат бледнел, как догорающие уголья, подернутые пеплом. Облака сгрудились и тяжело лежали над гребнем гор. Им хотелось спуститься к морю, но море влажным своим дыханием не пускало их. В волнах кувыркались дельфины.
— Приналяжь, ребята! — озабоченно смотря на горизонт, сказал рулевой. — К ночи свежий ветер будет.
Угасающий закат отливал потоками расплавленной меди.
Нелюдимо наше море, День и ночь шумит оно… —вполголоса напевала Виола.
К золотым струнам ее красивого голоса внезапно прильнул баритональный, светлый бас:
Смело, братья, ветром полный. Парус мой направил я…Голоса мужской и женский как бы боролись между собой, переплетаясь в красивых аккордах.
Виола на момент умолкла. Тогда высоко, полно и легко взлетела и понеслась ввысь хрустально-прозрачная, широкая, предостерегающая волна сдержанно-могучего голоса:
О-бла-ка… бегут над морем, Крепнет ветер, зыбь черней… Будет б-бур-ря…Море звенело, словно аккомпанируя прекрасному пению. Казалось, что не певец пел, — облака неслись высоко над морем.
Когда Валерьян проснулся, была уже ночь. Его разбудили ощущение холода и громкие крики лодочников. Они суетились, спорили, ругались и гребли стоя, лицом вперед, изо всех сил налегая каждый на свое весло. Лодка качалась всего саженях в двух от крутого берега, но гребцы никак не могли пристать к нему, хотя весла гнулись под сильными руками здоровых парней: с берега дул ураганный ветер, пригибавший почти к земле прибрежные кусты; но море казалось спокойно, волны бежали от берега вдаль. Мачта была снята. Работа гребцов могла держать лодку только в состоянии неподвижности. Ветер ревел, выл и визжал в ушах. Рулевой стоял на носу лодки с багром в руках. Все кричали. Василий Иваныч сидел у руля. Виола оказалась на дне лодки, подле Валерьяна. Ее черные волосы развевались по ветру.
— Что такое? — недоуменно спросил художник.
— Береговой ветер, — сквозь завывание бури и крики лодочников сказала она.
Но только по движению губ он понял ее.
По небу из-за гор ползла черная туча. Накрапывал дождь. Из-за гор доносилось отдаленное рычание грома.
Гребцы отвоевывали у ветра каждый вершок движения лодки. Расстояние медленно сокращалось. Весь вопрос был в том, хватит ли у них последних сил: гребцы задыхались от усталости, по лицам струился пот, руки и ноги дрожали от напряжения. Наконец лодка приблизилась настолько, что рулевой раскачал и бросил вперед маленький якорь с привязанной к нему веревкой. Якорь зацепился за камень, веревка натянулась. Это вызвало радостный крик всех находившихся в лодке. Ее подвели к берегу, гребцы один за другим выпрыгнули на сушу, уцепились за веревку, закрепили якорь. Валерьян и певец тоже спрыгнули на берег, подхватили под руки Виолу. Туча покрыла все небо над морем.
— Ну, спасибо, — слышались голоса в темноте.
— Кабы не прибились, унесло бы верст за двести.
— А что ж, поплавали бы, да и вернулись.
— Вернулись! Могли бы в Турцию попасть, а то и к рыбам.
Сверкнула молния, и почти одновременно с ней над берегом и морем с треском раскатился продолжительный громовой удар. Виола вскрикнула, зажимая уши. Рыбаки сняли картузы, перекрестились. Дождь зашумел крупными, редкими каплями.
— В первый раз вижу грозу над морем, — сказал Василий Иваныч, надевая холщовый балахон с капюшоном.
Виола с головой накрылась шалью.
— Куда же мы спрячемся от дождя? — спросил Валерьян, озирая берег.
В темноте едва можно было различить кусты, огромные камни и отвесную, гладкую стену высокой горы.
— Лодку сейчас вытащим, под лодку залезем, — отвечали рыбаки, — а то под камнями.
— Под камнями пещеры есть.
Гребцы принялись вытаскивать лодку.
— Пойдемте искать убежище, — предложил Василий Иваныч.
У подошвы горы громоздились обломки скал, словно сброшенных когда-то с вершины. Три больших пирамидальных камня, склонясь верхушками, образовали как бы шалаш. Втроем залезли туда. Хлынул ливень. Тьму ежеминутно разрывала яркая, трепещущая молния. Почерневшее, ревущее море на момент освещалось до горизонта. Потом все опять погружалось в непроглядную тьму. Гром беспрерывно раскатывался над волнами.
— Словно черти в кегельбан играют, — рычал, согнувшись в три погибели, Василий Иваныч. — Что-то будет с нашими голосами, Виола? Сядемте плотнее: так теплее будет.
Он закурил папиросу, выпуская дым в расщелину скалы.
Виола, кутаясь в шаль, сидела между спутниками. При вспышках молнии выступало ее побледневшее лицо с большими глазами, на выбившейся пряди черных волос дрожали дождевые капли.
Через несколько минут в щели сверху несколькими струями побежала дождевая вода.
— Здесь еще хуже, чем под дождем, — насмешливо сказала Виола.
Валерьян молчал, кряхтя и кутаясь в плащ.
В один из перерывов дождя он выглянул в отверстие между камней. Молния озарила весь берег.
— Там виднеется пещера под скалой, — сказал он, вылезая.
— Не ходите! Промокнете, — протестовала Виола.
— Но ведь и здесь не сухо.
— А по-моему, лучше под лодку! — возразил певец.
Валерьян подбежал к щели в отвесной скале, пролез и оказался в просторной и совершенно сухой пещере с остатками пепла от недавнего костра. Он сгреб ногой в сторону пепел: каменный пол был горяч, как русская печка в избе.
— Сюда! — закричал он в отверстие, но удар грома заглушил его голос.
Снова хлынул дождь. Вспыхнула молния и осветила певцов, бежавших к опрокинутой лодке, подпертой веслами и накрытой парусом. «Пожалуй, что и под лодкой не плохо», — подумал он и успокоился за своих спутников, располагаясь на теплых гладких камнях.
Когда дождь утих, он услышал мелкие шаги и голос Виолы:
— Вы здесь?
— Здесь, — глухо ответил Валерьян. — Залезайте, тут хорошо.
В темноте он не видел, как она оказалась рядом. Маленькая рука женщины встретилась с его рукой.
— Старый бродяга! — прозвучал мелодичный голое. — Отлично устроился — и молчит!
— Я звал вас. А Василий Иваныч?
— Он под лодкой. Там сухо, но холодно, рыбаки махорку курят. Я и пошла вас искать. Согрейте меня, боюсь без голоса остаться. Отчего камни теплые?
— Тут был костер.
— Накройте мне ноги.
Художник укутал певицу. Она доверчиво и просто прижалась к его плечу. Валерьян почувствовал теплоту ее молодого, крепкого тела.
— Мне вас жаль стало, — шептала Виола: — говорили, что у вас больная жена. Вы любите ее?
— Да, — сухо ответил Валерьян.
— Сочувствую вам. А у меня муж больной: заболел психическим расстройством вскоре после свадьбы… Сидит теперь в сумасшедшем доме… Ужасно!
— Никак не ожидал, что у вас есть, или скорее — был, муж.
— Замужем я была всего три недели, — усмехнувшись, продолжала певица, — и мучаюсь теперь с безнадежно больным человеком, навещаю его. Да что? Разве это человек? Животное. Он не узнает меня, да я и не любила его никогда, так, из жалости какой-то вышла. Очень уж он любил меня, а потом вдруг заболел. Поступила в театр — на вторые роли: не везет мне. Кончила консерваторию, могу петь «Аиду», а мне дают роли горничных, вроде «Не простудилась бы барышня» в «Онегине». Только и показываю голос, когда в концертах выступаю. Знаете, в какой роли я хотела бы когда-нибудь выступить? В «Мадам Бетерфлей» — из японской жизни. Слышали эту оперу? Ее почему-то редко ставят, но какой там трогательный образ японочки, которая считает себя «мадам Бетерфлей» — женой английского лейтенанта! Он, конечно, пожил с нею, да и уехал навсегда, а она-то его ждет. Ах, как бы я спела ее! Мне почему-то близка эта роль. Предчувствую, что я и сама в жизни — «мадам Бетерфлей», мечтаю встретить этакого необыкновенного человека, сильного, который выдавался бы чем-нибудь, чтобы мог поднять женщину вот так — выше себя, над головами толпы. Как я любила бы его!.. Потом он, конечно, бросил бы меня, но я все бы ждала. Я и теперь жду, что явится он на моем пути, этакий цыганский барон, который «ходил три раза кругом света и научился храбрым быть». Но нет его. Все еще нет. Никому не нужны ни моя молодость, ни красота, ни голос. Муж? Какой он муж? Я и не допустила его до себя. Поехала сюда, думала — хоть бы с кем-нибудь душу отвести. Ведь это совсем недавно случилось, что помешался он. Отвести душу хочется, но уж, конечно, не с милейшим Василием Иванычем. Слишком прост, хотя и талантлив. Он ведь тоже, как и я, начинающий.
— А я думал, что вы близки с ним.
Виола рассмеялась.
— Я тоже думала, что вы так думаете. Нет, он только сослуживец мой, хороший товарищ — и больше ничего. Не моего романа.
Гроза утихала. Изредка погромыхивал удалявшийся в море гром. Дождь шел тихо, шелестя по песку. Виола замолчала, глубоко и печально вздыхая.
«Странная и, должно быть, несчастная. Неудачница в жизни и на сцене, — подумал Валерьян о своей собеседнице. — И зачем она все это рассказывает мне?»
— Вот встретились вы, — вздохнув, продолжала певица. — Вы меня извините, что я вам при первой встрече открываю душу: это — потому, что я вас давно знаю по вашим картинам; вы помимо моей воли — близки мне, как и многим, кто любит вас, как художника. Встретились так странно, в грозе и буре — в буквальном смысле. Вы оказались таким, каким я вас воображала: высокий, суровый, немного мрачный, каким и должен быть творец «Погрома». Встретила и — потеряю наверно. Начинается война… Сколько погибнет сильных, храбрых, молодых!.. Может быть, все погибнем, может быть, не встретимся больше…
— Я уезжаю на фронт, — внезапно и неожиданно для себя сказал Валерьян.
— На фронт! — страстно вскричала Виола, цепко схватив обеими руками его большую руку. — Зачем? Что вас заставляет? Ведь вы не офицер, вас не призывают.
— Меня не призывают, я сам хочу ехать… в качестве самого себя… Меня интересует война…
— Милый, не ездите!.. Ведь это же ужас… это… это… Мало ли от какой случайности можно погибнуть! От какой-нибудь шальной пули, от… мало ли чего. Вспомните, как погиб Верещагин.
— А жена? — вдруг вскричала она, всплеснув руками. — Неужели она согласна вас отпустить? Ведь она больная и уж, конечно, любит вас?
Валерьян вздохнул.
— Разлюбила, — с грустной усмешкой сказал художник. — Отпустила на все четыре стороны…
— Это больная-то? Что-то не так.
— Именно так… Впрочем, оставим это, мне тяжело.
— Милый, простите, не буду. Но я так близко приняла это к сердцу… Разлюбила…
В тоне ее последних слов Валерьян почувствовал грусть и вместе с нею плохо скрытую радость.
— Поговорим лучше о вас. С кем же вы думаете отвести вашу душу?
— Ни с кем. Вот — с вами бы, но вы недосягаемый для меня, неприступный. И уж, конечно, вам давно надоели такие поклонницы, как я… Вы особенный, в вашем сердце не найдется для меня даже маленького местечка, я это чувствую. И, пожалуйста, не думайте, что я с места в карьер липну к вам. Я не из тех, которые легко увлекаются. Я — злая, гордая, самолюбие на сцене изранено. Многие у нас в труппе, привыкшие легко смотреть на молодых актрис, вылетали от меня бомбой. Оттого и не пускают на первые роли. Я недавно дала пощечину нашему премьеру, знаменитому тенору, получающему 12 тысяч в год. Толстый такой, жирный, глупый, но голос — божественный! Такова сцена: там не требуют ума, таланта, души. Ценится какое-нибудь верхнее «ля» — и больше ничего. Счастливое устройство голосовых связок. И сколько там дураков, невежд и мерзавцев! Ненавижу их, а сцену — люблю. Одинока, горда, несчастна. Но я была бы счастливой от самой маленькой дружбы с вами. Ведь вам тоже надо отвести душу. Давайте отведемте вместе. Отдайте мне эти несколько дней, чтобы я могла помнить о них всю мою остальную жизнь.
Виола, все крепче прижимаясь к нему, запрокинула голову, приблизив лицо к его лицу, и, улыбаясь, закрыла глаза. Ему стоило только наклониться, чтобы поцеловать ее. Теплота ее тела волновала его, упругая девичья грудь прижималась к его руке. Кровь закипала от ее низкого вибрирующего голоса. Ее горячее дыхание закружило ему голову, губы их сблизились. Виола лежала у него на плече в страстной истоме. Валерьян крепко обнял ее, мягкие женские руки обвили его шею. Вдруг сверкнула зарница, осветила бледное лицо Виолы с закрытыми глазами и мгновенно погасла. Валерьян вздрогнул: в моментальной вспышке голубой молнии, казалось, промелькнула тень, и перед его взором встала во тьме Наташа.
Только что утром расстался с ней, говорил, что ее место в его сердце никогда никем не будет занято, а вечером уже лежит в объятиях первой встречной, путается с какой-то певичкой. Зачем ему эта возможная физическая связь с актрисой? Хочет, чтобы он поднял ее выше себя, над головами толпы, служил ей. Не довольно ли он поднимал одну, чтобы тотчас же начать поднимать другую, да еще без любви? Ведь он внутренне холоден к Виоле, его душа полна по-прежнему Наташей. Нет, он не поцелует эту неизвестную ему, льнущую к нему женщину.
Валерьян все еще держал в объятиях Виолу. Но руки его, словно по чьей-то посторонней воле, освобождали покорную талию Виолы.
Тень пропала, и Валерьяну стало казаться, что это была только его постоянная мысль о Наташе, галлюцинация, порожденная излишне выпитым вином.
Виола, вздрагивая всем телом, беззвучно плакала на его плече. Чуть слышно плескалось море о прибрежные камни. Сквозь расщелину скалы пробивался голубой рассвет.
X
В погожее октябрьское утро солнышко светило почти что по-летнему; на небе ни облачка, воздух не шелохнет: ведреная, на редкость теплая осень выдалась.
Сидел Сила Гордеич по нездоровью, вместо прогулки, на лавочке у ворот собственного дома: доктор Зорин велел на воздухе больше быть. Сильно пошатнулось здоровье: плохо спалось, совсем измучила бессонница, думы одолевали, а перед глазами все какие-то черные точки плавали, как мухи. Слабость во всем теле, ноги чуть двигаются, мелкими шажками по земле шаркают.
Начавшаяся война сильно тревожила Силу Гордеича: еще до войны, по совету Крюкова, положил он большой капитал в заграничный банк на случай революции, а теперь, поразмыслив, покаялся, послал письмо о переводе ему вложенных денег обратно. Что именно заставило его так поступить — он никому не говорил, но, по-видимому, кроме присущей ему осторожной дальновидности, тут имели значение соображения государственного порядка. Сказалась и отеческая любовь к собственным деньгам, — для него они были живым существом, созданием всей его жизни: никак не мог расстаться с ними Сила Гордеич, нежно, ревниво любил их, пуще детей родных; так пусть они вернутся к его любящему сердцу.
Война началась небывалая. По мнению Силы Гордеича, ставилось на карту самое бытие государства. В деревнях остались только стар да мал, да бабы; запасных гнали на войну бесчисленными поездами. Опустели дворянские гнезда, многие соседи-помещики, бывшие военные, оказались на фронте, а некоторые, немедленно по прибытии туда, сложили свои головы на полях брани.
Не осталось в стороне и купечество. Крюков, как бывший офицер, сбрил бороду, закрутил усы, надел форму, уехал в кавказскую армию. Пишет теперь из Баку: состоит командиром гарнизона, заведует продовольствием, получил повышение в чинах. Этот не сложит головы, в тылу отсидится, да еще, пожалуй, около продовольствия заработает.
В земскую организацию поступил Константин, уехал в Киев: иначе ведь в действующую армию заберут.
Зять Валерьян сдал жену родителям на хранение и укатил в Москву, тоже на фронт собирается: военные картины хочет рисовать, деньги заработать, а иначе — кому теперь нужны художники? Думал Сила Гордеич — не отпустит его Наташа; нет, отпустила. Пошли темные сплетни по городу, что, дескать, нелады у них, будто бы Зорин к Наташе примазывается — конечно, из-за денег. Да не бывать этому, чтобы и вторая дочь от мужа к другому ушла! А уйдет — ни копейки не получит, как с Варварой было. Зорин — не дурак, чтобы без денег чужую жену взять, да еще больную… Ежели на наследство рассчитывает, так он, Сила, тоже не глуп: такое устроит завещание — комар носа не подточит. Тоже и Варвара смерти его ждет — не дождется. Собиралась все к мужу, а тут — война, границу закрыли. Оно и лучше, чем в эмиграции горе мыкать, лохмотья трепать.
Казалось Силе Гордеичу, что все дети смерти его хотят. Когда думал о Варваре, ненавистнице своей, стяжательнице, когда вспоминал, что Зорин лечит его, а сам Наташке голову крутит, — невольно сжимал костлявые кулаки, сердце колотилось, голова кружилась, и черные мухи сильнее мелькали в глазах. Ехал мимо извозчик — что за чудо, двоится извозчик! Лошадь и пролетка в двойном виде кажутся. Люди идут мимо, собака ли пробежит — все в двух экземплярах, рядышком, боком к боку или друг над дружкой мерещатся. Встал Сила Гордеич со скамейки, хотел в дом воротиться, но тут земля под ногами закачалась, завертелась, как мельничный жернов, в глазах потемнело, и упал миллионер Сила Чернов лицом в грязь у ворот собственного дома без сознания.
Что потом было — Сила Гордеич не помнил, очнулся в дверях, своего дома: кучер Василий с Кронидом под руки его вели и потом на диван в кабинете положили. После этого опять впал в забытье. Приехал Зорин, заставил выпить микстуру, и пришел в себя Сила Гордеич. Рассказали ему, что Василий, выйдя за ворота, нашел его в бесчувствии лежащим на земле у калитки. Долго ли он так лежал, никто не знал: в доме народу много — жена, дети, внуки, прислуга, но, видно, никому невдомек было присмотреть за больным стариком. Посоветовал доктор водочку бросить и режим жизни изменить.
— Ваше дело стариковское, — улыбаясь, сказал ему Зорин: — организм изношен, сердце потрепано, за графинчиком с приятелями засиживаться перестать придется, а режим вот какой нужен: вечерком легкого чего- нибудь покушал, «Четь-минеи» почитал — правильные старики обязательно на ночь «Четь-минеи» читают, — а как девять часов — в постельку и — бай-бай!
— Никогда еще не было, чтобы ни с того, ни с сего в глазах двоилось, — оправдывался Сила Гордеич. — Разве что когда случалось рюмок тридцать выпить.
— Нет, уж насчет рюмочек и думать забудьте. Режим станете соблюдать — до девяносто лет доживете; а иначе — бойтесь кондрашки, серьезно вам говорю.
Сила Гордеич покрутил головой, помолчал и вдруг спросил:
— А как вы скажете, доктор, могу ли я считаться сейчас в здравом уме и твердой памяти?
— Вполне, и очень даже.
Сила, хитро улыбаясь, протянул ему руку.
— Ну, спасибо, очень вам благодарен.
По уходе доктора долго сидел один в кабинете, перебирая бумаги, и вдруг велел позвать сверху Кронида. Тот пришел по обычаю своему с веревочкой в руках и, шагая из угла в угол по кабинету, спросил, ухмыляясь в седеющую бороду:
— Что прикажете, дядюшка?
Сила Гордеич сидел, понурясь, в кресле у письменного стола. На столе, как всегда, стояла большая серебряная чернильница в виде шкуры медвежьей — давнишний подарок Валерьяна и Наташи, в день их свадьбы. Упершись морщинистыми руками в иссохшие колени, он хрипло прошептал:
— Прежде всего — сядь, не мотайся перед глазами и брось веревку. Разговор будет серьезный.
Кронид послушно сел, сунул в карман заплетенную плеткой веревочку.
— В животе и смерти бог волен, — начал Сила Гордеич внушительно, — все под богом ходим. Однако после этого случая чувствую — подходит конец моего земного странствия… недолго проживу.
— Как знать, дядя. Чего вы испугались? Доктор говорит — безусловно ничего опасного.
— Что мне доктор? Сам чувствую. А посему желаю я пересмотреть и вновь завещать мою последнюю волю. Умирать-то не сейчас собираюсь, может, и не один год проживу еще. А все-таки, пока нахожусь в здравом уме и твердой памяти, решил привести свои земные дела в окончательный порядок. — Помолчал, крякнул и добавил низко: — Позвони пойди нотариусу, чтобы сейчас же беспременно ехал… Чтобы все дела бросил… Нынче же и напишем. Да гляди, чтобы ни одна душа в доме не знала!
Кронид пошел в прихожую. А Сила Гордеич, кряхтя, вынул из несгораемого шкафа большой лист синей гербовой бумаги.
Минут через пятнадцать приехал нотариус, — давнишний приятель, осанистый, грузный человек с красным лицом и большой седой бородой, расчесанной на груди на две стороны.
Все трое заперлись в кабинете.
— Опять переделывать? — потирая руки, спросил нотариус. — В третий раз уже, Сила Гордеич!
— Ничего, время такое… изменчивое. Ты, друг, извини за беспокойство, теперь уже в окончательном виде.
— Что ж, составим предварительный проект.
— Проект приблизительно прежний, — кряхтел Сила, опустив голову и жуя губами. — Кое-что добавить да изменить придется.
Нотариус сел к столу, придвинул лист простой бумаги и обмакнул перо.
— Пиши, как полагается! По всей форме.
Поскрипев пером, нотариус прочел вслух вступительные строки завещания и вопросительно посмотрел на завещателя.
Сила Гордеич вздохнул.
— Волчье Логово по-прежнему — старшему сыну Дмитрию, Березовку — младшему. Дома продать и вырученную сумму включить в общий капитал… Денежные суммы тоже без изменения: сыновьям — по сто тысяч, младшей дочери — сто, а Варваре — тридцать… жене моей — пятьдесят тысяч.
— Воля ваша, дядя, — прервал Кронид Силу Гордеича, — но позвольте за Варвару слово сказать. По-моему, напрасно ее обижаете.
Сила Гордеич стукнул костлявым кулаком по креслу.
— А тебе какое дело? — вдруг взвизгнул он. — Это враг мой: ненавидит меня, социалистка… Кабы не дети у нее — ни гроша не дал бы.
Сила Гордеич сам испугался своего волнения и громкого крика, сдержал душившую злость, отдышался и добавил низким шепотом:
— Дети-то, конечно, не виноваты.
— То-то и есть, что дети, — вздохнул нотариус.
Завещатель помолчал, пожевал губами и, вдруг ослабев, махнул рукой.
— Ладно уж, пишите и ей… поровну с Натальей…
— Вот хорошо, — обрадовался Кронид, пряча в карман веревочку.
— Хорошо, — передразнил его Сила. — Плакали мои денежки. Сам на себя дивлюсь: смягчился я что-то под конец жизни моей. Все-таки — дочь ведь. — Засопел носом, задышал, стараясь удержать слезы, навернувшиеся на глаза.
— Только вот что я обдумал и решил, — успокоившись, продолжал он: — из денег, завещанных сыновьям и дочерям, выдать наличностью по двадцать тысяч каждому на воспитание детей, а остальные положить в банк на двадцать четыре года. В случае смерти моих детей капитал переходит к внукам через указанный срок.
— Здорово! — удивился Кронид.
— И мудро, — одобрил нотариус.
— …Предоставляя, конечно, право пользоваться процентами, — закончил Сила Гордеич и юмористически посмотрел на Кронида. — Племяннику моему Крониду десять тысяч наличными и хутор в Алатырском уезде. Довольно, чай, Кронид? У тебя ведь ни жены, ни детей.
— Покорнейше благодарю, — сухо ответил племянник.
— За двадцать лет управления, полагаю, ты, чай, скопил себе малую толику?
— Ничего не скопил, дядя.
— Ну, если не скопил — сам виноват. Душеприказчиком назначаю тебя же.
Сила Гордеич покряхтел, повозился в кресле и, посмотрев на собеседников поверх очков, продолжал внушительным, торжественным тоном:
— Теперь — последнее и самое главное: все остальное мое имущество, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось, исчисляемое приблизительно около или более миллиона рублей, в деньгах, закладных и процентных бумагах, завещаю после смерти моей…
Старик остановился, взволнованно перевел дух и повторил с расстановкой:
— Завещаю после смерти моей — в пользу го-су-дар-ства.
Скрипевший пером нотариус поднял голову и уставился на завещателя. Кронид побледнел и замер посреди комнаты с разинутым ртом.
— Не по-ни-маю, — протянул он недоуменно. — В пользу государства. Куда именно? На какой предмет?
— В государственное казначейство, — твердо ответил Сила Гордеич, — на предмет устроения жизни. Такова моя воля.
Кронид переглянулся с нотариусом.
— Насчет нормальности моего ума будет свидетельство доктора, — угадал их мысли Сила Гордеич.
— Удивительно! — пожал плечами Кронид. — Отнять у наследников большую часть капитала!
Сила улыбнулся.
— Не удивляйся, Кронид. Мои взгляды на капитал тебе известны… все это годами обдумано мной. Детей и внуков я обеспечил, а от больших денег только одна погибель им будет. Потому и решил: сделать дар государству, которое, как вам известно, находится сейчас в чрезвычайной опасности.
Кронид забегал по комнате, дрожащими пальцами расплетая веревочку.
— Где это видано, — остановился он вдруг от волнения, — чтобы купец… почитай весь капитал — государству? Дико!
— По правде сказать, — с расстановкой отозвался нотариус, — такого случая не запомню. Случалось — жертвовали на Афон, на церковь, на странноприимные дома, на сирот, за последнее время больше на школы отказывают и уж совсем не завещают на колокола. Но чтобы государству, и почти весь капитал — этого не упомню. Не было.
Он обмакнул перо.
— Что ж, запишем пункт последний… всему народу и потомству в поучение. В Америке, говорят, миллиардеры иногда так поступают. Размахнулись вы по-американски, Сила Гордеич.
— Нет, это — по-русски! — крикнул Кронид, пряча веревочку. — Это… это… я не знаю что: подвиг или безумие?
— Писать? — спросил нотариус.
— Пиши, — махнул рукой Сила и с трудом поднялся с кресла. — Ох, устал! Пойду, полежу покуда! Потом, Кронид, позови меня — подписать-то.
Сила Гордеич удалился, совсем по-старчески семеня мелкими шажками: было ему уже семьдесят четыре года.
Кронид, проводив нотариуса, поднялся по внутренней лестнице наверх. Долго шагал из угла в угол по большой, низкой, неуютной комнате антресолей, кое-как обставленной старой, облезлой мебелью, крутил в пальцах веревочку. Но вот скрипнула дверь, и вошла Варвара в черном платье, с гладко причесанными черными волосами.
Кронид искоса посмотрел на нее и продолжал ходить, как маятник.
Варвара заискивающе улыбалась вымученной улыбкой, от которой у Кронида сразу стало тяжело на душе.
— Кронид!..
— Что?
— Опять завещание писали?
Она устало опустилась на расшатанное, полинялое кресло.
— Да, опять писали.
— Не скажешь ли чего-нибудь — вообще. А, Кронид?
Кронид молчал, сутуло расхаживая с веревочкой, низко опустив голову, как всегда. Ему было жаль Варвару. Знал всю ее несчастную, незадачливую жизнь. Как она изменилась со времени своего второго замужества, после возвращения из эмиграции! Муж, мечтавший о министерском портфеле, бедствует теперь в Лондоне, все надежды гибли, а она из блестящей салонной львицы превратилась в мещанку, в приживалку в доме ненавистного отца. Приехала не только лечиться, хотя и больна действительно, а главное — за деньгами для мужа… Но просить их — безнадежное дело. Вот разве наследство после отца поправит ее дела; плох стал дядя. Хотелось обнадежить ее, сказать, как, по его совету, отписал ей отец сто тысяч, но не считал Кронид себя в праве говорить. Да и как знать, не вздумает ли Сила опять переделывать завещание? Ведь вон он какой: государству отвалил миллион, а ему, Крониду, за верную двадцатилетнюю службу — десять тысяч: уверен, что Кронид «скопил» — то есть украл — «малую толику», и его же дураком считает, если не крал, когда действительно можно было красть сколько угодно.
— Кронид! — умоляюще повторила Варвара.
Кронид остановился и, не глядя на нее, плел веревочку.
— Ничего не скажу, Варя, не имею права.
Варвара усмехнулась саркастически.
— Да ведь в коридоре слышно было, как он визжал про меня.
— А ты подслушивала?
— Так, случайно мимо проходила.
Она тяжело и грустно вздохнула.
— Вижу, не на что надеяться мне.
Кронид распустил сложно заплетенную веревочку и начал заплетать ее снова.
— Напрасно, — повторил он и опять большими шагами заходил по комнате.
Сказать ей, что ли? То-то обрадуется. Поймет, что не такой уж злой человек отец у нее, каким она всю жизнь считала его. Может быть, произойдет примирение отца с дочерью после многолетней борьбы и вражды. Характеры — одинаковые: нашла коса на камень. Она, пожалуй, еще бессердечнее — от матери. И мстительна, как дьявол… Вместо благодарности у нее, пожалуй, совсем другая обнаружится психология. Догадается старик, что Кронид строгий секрет выболтал, и нагорит Крониду. Нет, ничего не следует говорить Варваре: придет время — сама все узнает.
Кронид продолжал ходить, заплетая веревочку и ухмыляясь тайным мыслям своим.
Странная психология в доме Черновых; двадцать лет он ее разбирает и никак разобраться не может. Взять хотя бы отношения Варвары с отцом. Ненависть в обоих друг к другу лютая, а вот смягчился же Сила Гордеич, отписал ей сто тысяч и даже прослезился: если бы только она могла видеть его в эту минуту! Да и она: ненавидит его, а отними у нее эту ненависть, так ей жить будет нечем, некого тогда обвинять во всех несчастьях ее жизни, в которых только она одна и виновата, непокорный ее характер. Всю жизнь промахивалась от честолюбия и собственного нахрапа: одним прыжком, как тигрица, всегда норовила добычу сцапать и — всегда неудачно.
А старик — деспот великий и эгоистище. Всех детей своих, можно сказать, передушил из-за проклятых денег.
Эх, отцы! Отцы-деспоты… Иудушки Головлевы, Карамазовы, Иваны Грозные… жестокие, отвратительные, а потом рыдающие над загубленными во имя ложной идеи собственными детьми. Отцы и дети, проклиная и ненавидя друг друга, все же, как каторжники, связаны одной веревкой, которая так заплелась, так запуталась, что и не распутаешь. Дети рвутся в разные стороны, не хотят идти с отцами, но веревка-то одна для всех, все связаны, все похожи, одинаковы, — над всеми тяготеет одно общее заклятие…
— Да будет тебе вить твою проклятую веревку! — контральтовым стоном зазвенел вдруг яростный Варварин голос. — Повесишься ты когда-нибудь на ней, несчастный ты, старший дворник дома Черновых. Бессмысленная твоя жизнь.
Кронид поднял глаза и остановился: перед ним стояла Варвара с побелевшим, искаженным лицом и ненавидящим, пожирающим взором, горевшим зеленым огнем. На голову Медузы походила теперь голова Варвары: столько ненависти было в лице и глазах ее.
Кронид испугался.
Она схватила его за тщедушные, худые плечи цепкими, тонкими, длинными руками с холодными, бледными пальцами и, приблизив к его лицу свое, медузье, закричала повелительным тоном:
— Говори, говори же, говори всю правду! Лишили меня наследства? Ограбили? Обездолили? Н-ну, говори, домовой!..
— Говорю, а ты не веришь, — растерянно пробормотал Кронид, отводя ее руки. — Чего взбеленилась?
Руки Варвары опустились безнадежно. Углы губ скорбно сложились в горькую улыбку, глаза налились слезами. Она тяжело перевела дыхание и сказала тихо, дрожащим, прерывистым голосом:
— Хоть бы сдох он скорее, изверг, мучитель, обидчик мой!.. Ну, если… уж я ж ему… уж я ж ему!..
— Варя, напрасно ты… Больше сказать ничего не могу, одно скажу — напрасно, — волнуясь, мямлил Кронид.
— Из-за него большой человек, муж мой, без помощи пропадает. Коли могла бы для такого человека украсть или ограбить, — украла бы и ограбила.
— Варя!
— Что — Варя? Будь хоть раз искренним, скажи правду, намекни хоть, я пойму… Да и так понимаю, сама слышала… До того довели, что либо на себя руки наложить, либо…
И вдруг ласково, льстиво, с кошачьим мурлыканьем прильнула головой к плечу Кронида;
— Кронидушка, вспомни… ведь мы вместе росли, вместе в детские игры играли… Покажи завещание… издали… Только одно место, одну строчку…
— Да нет у меня его…
— Где же оно? У нотариуса?..
— У дяди… в несгораемый шкаф положил, а ключ всегда у него…
Варвара откинула голову и долго молча смотрела в белесые скрытные глаза Кронида, никогда не смотревшие прямо. Кронид не выдержал ее взгляда, опустил голову. Какая-то неясная, тайная, невероятная мысль прошла между ними. Бледное лицо Варвары окаменело, зеленовато-серые глаза сузились, бескровные тонкие губы крепко, решительно сжались. Кронид сам не знал, почему ему вдруг сделалось страшно, и руки его с запутанной веревочкой начали дрожать мелкой дрожью.
Варвара, тяжело дыша, с раздувающимися ноздрями и все с тем же окаменевшим, бледно-серым, помертвевшим лицом, медленно и молча вышла из комнаты. Кронид посмотрел ей вслед, вытер пот с лысевшего лба и вдруг почувствовал слабость в ногах.
Тогда он сел в кресло, вынул веревочку и долго расплетал и заплетал ее худыми, бледными, все сильнее дрожавшими пальцами.
Москва была полна отзвуками войны.
Уличная пресса неустанно разжигала патриотическую ненависть к немцам. Возникло множество листков и журнальчиков с кроваво-красочными рисунками, с портретами и изображениями легендарного подвига Кузьмы Крючкова.
На Тверской несколько раз в день выставлялись телеграммы, написанные крупными буквами на огромном плакате; около него всегда стояла уличная толпа.
Кареты и автобусы Красного Креста каждый день развозили с вокзалов раненых по лазаретам. Лазаретов учредили много, но поездов с изувеченными людьми ежедневно прибывало еще больше. Злобой дня для Москвы были — раненые.
Почти ежедневно на улицах устраивались патриотические шествия, под открытым небом перед уличной толпой выступали оперные певцы и певицы. Сделался модным романс «Два великана». В театрах и «благородном» собрании давались многолюдные концерты в пользу раненых; публика была сплошь в блестящей военной форме, в эполетах и аксельбантах, дамы — в брильянтах, а с эстрады декольтированные исполнительницы романсов пели о «мужичке».
В одно солнечное, не по-осеннему теплое утро цирк Чинизелли устроил уличную демонстрацию в древнерусском стиле: в нескольких экипажах по Тверской шагом ехали ряженые, загримированные боярами и шутами, окружавшие видную, дородную женщину в атласном сарафане и кокошнике. Около тротуаров шли «великаны» на высоких ходулях, бежала уличная толпа, а впереди всей процессии ехал на большом, тяжелом коне древнерусский витязь в кольчуге, в железном шлеме, в желтых сафьяновых сапогах, с тяжелым мечом сбоку, с деревянной палицей, окованной железными шипами. Всадник был под стать коню — рослый, широкоплечий красавец с пушистыми белокурыми усами, — известный всей Москве цирковой силач.
Хотели произвести впечатление силы, создать бутафорский, ходульный патриотизм, показывали силачей, наряженных в костюмы прошлого.
Когда демонстрация, сопровождаемая пестрой толпой, удалилась, по Тверской вскоре после нее прошел полк солдат в серых шинелях, с ружьями на плечо. Это вряд ли было продолжением демонстрации: солдаты шли без музыки и песен, хмуро, озабоченно, с суровыми бородатыми лицами. В их необычном молчании и суровости, в тяжелом, размеренном шаге, от которого вздрагивала мостовая, чувствовалась спокойная, серьезная сила.
Они прошли серой массой и оставили тяжелое, мрачное впечатление. Серое русское войско шло умирать молча, без речей, без трубных звуков, без приветствий толпы, одиноко и мрачно, затаив свои мысли и чувства.
Снизу, от Охотного ряда, по мостовой шагал долговязый мужик в ватном пиджаке, в сапогах «бураками» с твердыми голенищами, в высокой бараньей шапке. За ним бежала толпа ребятишек, с любопытством на него глазевшая. Но вблизи становилось очевидно, что за мужиком бегут не дети, а взрослые, казавшиеся детьми в сравнении с необыкновенно высокой фигурой: вся толпа была ей по плечо. Великан с котомкой за спиной и с посохом в руке, не обращая никакого внимания на сопровождавших его зевак, шел гигантскими шагами и скоро скрылся за Страстным монастырем.
Все эти странные уличные явления наблюдал Валерьян с балкона третьего этажа гостиницы «Люкс».
Он с любопытством проводил глазами цирковую демонстрацию, потом тяжелую массу солдат и наконец — нелепую фигуру великана, шагавшую серединой улицы.
Валерьян не чувствовал патриотизма, не ощущал ненависти к немцам, но думал, что война, так внезапно и грандиозно начавшаяся, повлечет обвалы в неуклюжей, обветшалой постройке российского государства. Думал о том, как должны быть громадны последствия этой войны, независимо от того, кто останется победителем: все проклинали небывалую бойню, в которой целиком исчезали полки, корпуса и отдельные армии.
Тем не менее художник приехал в Москву с целью хлопотать о командировке на фронт: хотел видеть войну ближе, своими глазами, занести на полотно будущие впечатления, хотел погрузиться в это море всеобщего бедствия и в нем забыть личные страдания, казавшиеся теперь ничтожными в гуле войны; этот гул чувствовался даже здесь, далеко от нее, в самом сердце страны.
Вся интеллигенция — писатели, артисты, художники объединились в группы и работали по приему раненых на вокзалах. Валерьян тоже заявил о своем желании участвовать в группе добровольных санитаров Красного Креста, надеясь таким путем скорее попасть на фронт в качестве военного корреспондента и художника.
В дверь постучали.
Вошел приземистый, бритый молодой человек в шляпе и широком пальто с повязкой Красного Креста на рукаве. Он хромал на правую ногу, тяжело, как копытом, стуча железным каблуком.
Это был скульптор, которого ждал художник. В больших выпуклых глазах вошедшего чувствовалось что-то птичье, как и в бледном, тонком лице с прямым, острым носом. В кружке художников он был известен под прозвищем «Птица». Хромал оттого, что на правой ноге ему не хватало пятки, давно потерянной им совершенно случайно. Пятку заменял железный каблук, и потому так тяжел был его шаг, что, однако, не мешало его проворным и ловким движениям.
Он еще на ходу весело крикнул:
— Все в порядке, сэр: ты зачислен в нашу дружину на Брестский вокзал. Эге!
Птица хитро подмигнул и, распахнув пальто, бухнулся в кресло.
— Ах, вспотел! Ковылял за этой дурацкой демонстрацией. Бездарно и глупо, антихудожественно, по-балаганному. А Святогора, «живую колокольню» из цирка Чинизелли, видел? На войну, говорят, собрался, на вокзал его провожают. Не понимаю, что обозначает такое торжественное шествие: шут ли это гороховый, которого, может быть, наняли купцы для потехи, или в этом надо усматривать какой-то символ?
— Дались им эти великаны! — с неудовольствием заметил Валерьян.
— А между тем, — с воодушевлением продолжал хромой, — где у нас настоящие большие люди? Создаст ли война хотя бы больших мастеров этого, по совести говоря, грязного и страшного, преступного дела? В прошлом такими мастерами были Суворов и Наполеон; да и те добивались удачи главным образом умением воодушевлять людей, умиравших по их воле, умели внушить веру в определенную идею. Была у нас, например, турецкая война, так ведь народ воспринимал ее как войну религиозную, шли добровольцами, умирали и замерзали на Шипке. Были у нас настоящие великаны, был Достоевский, который сумел зажечь толпу своей знаменитой речью. А теперь? Воинственных или патриотических идей ни в нижних слоях народа, ни в верхних — в серьезном смысле — ни тинь-тилили за веревочку. Везде сознательное или бессознательное пораженчество. Вот идея, которая носится в воздухе. Кто же победит? Конечно, идея.
— Неужели ты думаешь, что целая коалиция не сможет немцев победить?
Птица усмехнулся и, посмотрев на друга своими немигающими, птичьими глазами, сказал тихо, как бы про себя:
— Ихняя идея — это Германия. Их распирает от силы. Сорок лет готовились. Верят, мерзавцы, в бронированный кулак. А у нас после японского позора даже и в молебны перестали верить. Этой войны народная стихия не понимает, не приемлет, не сочувствует ей. Нет и великанов. Величайший-то наш великан всю жизнь занимался тем, что наносил сокрушительные удары не внешним врагам России, а — церкви и государству. О! он многое разрушил, ибо, дорогой мой сэр, наша церковь и наше государство во многом достойны разрушения. И уж, конечно, не благословил бы теперь новых Дмитриев Донских великий отшельник, а сказал бы новое «Не могу молчать».
Скульптор взволнованно вынул трубку и, набивая ее табаком, со вздохом закончил свою речь:
— Вот это был — настоящий наш Святогор… Покурим, сэр! Все равно, не вылезет Россия из этой ямы, в которую попала. А пока — будем раненых принимать. Есть даже надежда отправиться тебе на галицийский фронт для иллюстраций. Советую поехать. Напишешь массу эскизов, а потом такую картинищу двинешь. Поехал бы и я, да не пустят с моим копытом.
Птица постучал каблуком, посмотрел на карманные часы и засвистал.
— Я ко всякой войне отношусь отрицательно, — промолвил Валерьян, закуривая трубку, — и все-таки поеду…
— Сэр, — перебил его скульптор, — одевайся! Пора на вокзал. Поезд придет через час, но нужно быть на месте заблаговременно. С нынешнего дня начинаем. Дай-ка я тебе приколю повязку: специально для тебя достал.
Вытащил из кармана повязку Красного Креста и засуетился, стуча своим «копытом».
Площадь перед внушительным белым зданием вокзала была занята расположившимся «вольно» полком солдат, только что прибывшим для отправки на фронт. Плотной, густой массой они сидели как попало — на земле, на ступеньках подъезда, вдоль изгороди сквера, в полном вооружении и амуниции. Эта громада вооруженных людей с окладистыми бородами, крупных, сильных, производила внушительное впечатление. Казалось невероятным, что все они в самом скором времени превратятся в убитых и калек.
Около бокового входа стояло несколько автомобилей и карет, приспособленных для перевозки раненых. В обширных комнатах вокзала сновала разнообразная толпа, собравшаяся встретить ожидаемый поезд, а у буфета каланчой стоял и закусывал Святогор, окруженный зрителями его необычайной наружности. Великан, по- видимому, давно уже привык быть предметом удивления, жевал бутерброды, ни на кого не обращая внимания.
Птица подошел к нему дружелюбно.
— Здравствуйте, сэр! На фронт?
— На фронт, — с набитым ртом глухо отвечал Святогор и, улыбнувшись, добавил: — Елки зеленые!
Скульптор протянул ему руку, и она, как рука младенца, исчезла в чудовищной лапе великана. Худое лицо с небольшой клочковатой бородой добродушно осклабилось.
— Для устрашения немцев, — деловито приставал Птица, смотря в это лицо снизу вверх.
— Не, теплые вещи сопровождаю во Львов.
Святогор был очень худ и нескладен. Длинные, как у гориллы, руки внушали невольный страх.
— Сколько в вас росту, сэр?
— Три аршина и три вершка, — скучным голосом не глядя на собеседника, равнодушно отвечал голос, видимо, тяготясь разговором.
— Да в шапке шесть вершков, да каблуки. Итого три аршина десять вершков. Настоящий Святогор! Пусть знают немцы, каких людей родит русская земля! А скоро поезд?
— Не, — медленно тянул мужичьим говором Святогор, — опаздывает, елки зеленые: только к ночи придет.
Скульптор увлек Валерьяна к группе людей с повязками Красного Креста; это были артисты и художники, большею частью знакомые. Начался общий разговор о «распределении ролей», как выразился живой и вездесущий Птица.
В сумерках раздался звонок, возвещающий о приближении поезда. Толпа хлынула на перрон.
Поезд подошел не так, как подходят обыкновенные поезда: чрезвычайно тихо, медленно, торжественно и — печально. В толпе многие отирали слезы. Едва двигаясь, почти беззвучно проплывали теплушки с открыты ми широкими дверями сбоку и наконец остановились. Было несколько вагонов с пленными австрийцами и один с немцами в железных шлемах; австрийцы, большею частью молодые, белобрысые ребята, некоторые совсем еще безусые, радостно улыбались толпе, как будто приехали в гости к родственникам. Немцы, наоборот, выглядели с суровым достоинством и отчасти с презрением: казалось, они хотели сказать и, вероятно, говорили на своем языке: «Так вот она, Москва, знаменитый азиатский город! Это ничего, что мы попали в плен: нет сомнения, что скоро наша непобедимая армия будет у ворот вашей Москвы».
— Д-да-а, — как бы на выражение их лиц ответил высунувшийся из толпы мешанин в новом картузе с лаковым козырьком, с длинным клином бороды, загнувшейся вперед, — это вам не австрияшки. Хе-хе! Сурьезный народ.
Валерьян и Птица принялись за свое дело: подходя в каждому вагону, спрашивали вожатого о числе раненых и тут же ставили цифры мелом на стенке вагона.
Когда они прошли вдоль всего поезда и вернулись обратно, из передних вагонов люди с повязками уже выносили раненых на носилках. Толпа, теснясь, жадно заглядывала в раскрытые двери вагонов: многие ожидали встретить родных и близких. Птица исчез в толпе.
Двое санитаров несли пожилого солдата с полуседой бородой и желтым, исхудалым, закоптелым лицом. Для соблюдения очереди санитары остановились у решетки, отделявшей перрон от площади, где уже «грузили» раненых в приготовленные фургоны. Санитары подняли носилки. Раненый перекрестился широким крестом. Валерьяна поразила серьезность и торжественность его обветренного, закоптелого лица, словно из дыма и пламени выхваченного: на этом первом лице с войны, которое он увидел, был особенный отпечаток, вероятно, отличавший всех, побывавших «там», в горниле ее.
Приковылял хромой скульптор, стуча по асфальту своей железной ногой.
— Сэр, все в порядке. Наша миссия кончена. Идем на вокзал: сейчас поведут пленных. Ну и рыла у некоторых, сэр! Скульп-ту-ра!
Обширный зал освещался сверху большой электрической люстрой. Белый свет электричества был невыносимо ярок. Половину зала диагонально занимала толпа зрителей, стоявших неподвижно и тихо, как в церкви. Художник и скульптор, присоединившись к толпе, встали впереди. Взоры всех были устремлены на внутренние двери, выходившие на перрон.
Вдруг вся толпа нечленораздельно зарычала:
— А-а-а-а!
В гуле этого почти звериного рычания чувствовалось враждебное злорадство.
Из дверей с перрона через весь зал, наполненный ослепительным светом, медленно шли к выходу пленные германцы, человек сорок. Их сопровождали, идя по бокам всей группы, несколько солдат с обнаженными саблями. Немцы двигались медленно, колонной по четыре человека в ряд, коренастые, в серых мундирах, в черных стальных шлемах. На два шага впереди шел их предводитель — германский лейтенант. Он был выше всех ростом, молодой, стройный, прямой, с длинными, вытянутыми в стрелку, как у Вильгельма, белокурыми усами. Шлем на его голове, опушенный на грудь, был обтянут серым суконным чехлом, и лишь блестело золоченое копье на верхушке. Длинные ноги были в рейтузах и твердых крагах из желтой кожи. За плечами до земли висел стального цвета плащ. Звенели шпоры.
Когда толпа зарычала, он еще ниже опустил голову, но осанка по-прежнему осталась воинственной.
Казалось, что он испытывает позор и стыд плена. Может быть, ему вспоминалась голубоглазая, светловолосая девушка, оставленная им в Германии, ожидающая его победного возвращения. Может быть, вспоминалась Германия, синие волны родного Рейна.
Остальные были простые солдаты, но и они выглядели воинами «победоносной Германии». Толпа, порычав, утихла и продолжала стоять неподвижно, глазами провожая тевтонов.
Он стоял, смотрел и думал, что началась, быть может, великая, героическая эпоха, что перед его глазами не пленные тевтоны идут, а шагает история, и что сам он со своею любовью, страданиями и несчастьями — только ничтожная пылинка, исчезающая в вихре наступающих грозных событий.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
I
Грустно было в зимние вечера в пустынных купеческих хоромах. В ломе царствовала вечная, угрюмая тишина. Вся семья была в разброде. Константин и Валерьян с фронта писали редко. Дмитрий не выезжал из Волчьего Логова. Настасья Васильевна почти не выходила из своей комнаты. Варвара была неотлучно при ней и только по вечерам являлась к Наташе, всегда лежавшей в постели: больную часто мучали сердечные припадки.
Никого не бывало, кроме доктора Зорина, да и тот приезжал, только когда его вызывали.
Затворническая жизнь Наташи, лишенная всяких внешних впечатлений, освещалась только визитами доктора, но теперь ее редко оставляли наедине с ним: все знали о болезненной, безнадежной любви Наташи.
Сила Гордеич тоже догадывался, но не показывал вида, и никто из семьи не осмеливался заговаривать с ним об этом. Следовало бы совсем отказать от дому Зорину, но доктор был ему самому нужен: здоровье с каждым днем ухудшалось; да и Наташа без леченья совсем, пожалуй, свалится. По его мнению, со стороны Наташи была просто блажь, воображение, но не считал удобным заводить с ней этот интимный разговор: волновать ее опасно, случится припадок — и тогда волей-неволей придется за Зориным посылать: лишний расход!
Сила Гордеич дремал в глубоком кресле кабинета, предаваясь унылым мыслям. Вошел Кронид с письмом в руке, молча передал его старику и, улыбнувшись скверной улыбкой, сказал:
— От Валерьяна Иваныча.
Письмо было адресовано Наташе, но такой уж был давнишний порядок в доме Черновых, что вся корреспонденция предварительно проходила через контроль Силы Гордеича.
Он надел очки и разорвал конверт. Письмо было написано мелким почерком на нескольких листах.
Он улыбнулся.
— Эка, сколько! Я и не разберу… У тебя глаза-то лучше, Кронид, почитай-ка, а я послушаю.
Кронид взял письмо, сел на стул, придвинулся поближе к Силе и, осмотрев листки с начала и с конца, начал читать:
— «Извещаю тебя, милая Наташа, что я жив и совершенно здоров. С месяц как прикомандировался к санитарному поезду. Так сделал не один я, но многие военные корреспонденты, в шутку называющие себя „вольными конькобежцами“: начальство не допускает их по-настоящему видеть войну.
Наш поезд отправляют близко к полям битвы, где находятся полевые лазареты, откуда мы получаем раненых, можно сказать, свеженькими — человек восемьсот каждый раз. Доставляем их во Львов, и живем во Львове в особом общежитии. Находимся почти все время в поездках, отдыхаем редко. В составе поезда — человек тридцать санитаров и несколько сестер милосердия. Сестрами заведует кавказская княгиня. Санитарный состав добровольцев — московские студенты, несколько хористов украинской труппы, профессиональные санитары, два корреспондента московских газет и я. Компания пестрая, но интересная для меня.
Самая неприятная сторона санитарной службы заключается не в громадном физическом утомлении и не в тяжелых картинах человеческих страданий, но главным образом — в той грязи, в которой живешь во время поездок, в полном отсутствии элементарных удобств. Кормят нас солдатскими щами и кашей из общего котла, помещенного в особом вагоне-кухне. Едим из жестяных чашек деревянными ложками, хлеб — черный, часто сырой или заплесневелый.
Непривычный, изнеженный интеллигент, попавший в санитары, сначала этой пищи не приемлет, а принявший — заболевает. Но мы уже давно привыкли к щам и каше, к грязным ложкам и плошкам, сами ходим в вагон-кухню каждый за своей порцией и едим, приткнувшись где попало. Чай пьем тоже по-дорожному, из жестяных чайников и кружек. Спим на голых скамьях, не раздеваясь, не умываясь; приходилось спать и просто на грязном полу в нетопленном, холодном вагоне. От тесноты, дурного воздуха, окружающей грязи и вынужденного неряшества как-то чувствуешь себя вышибленным из культурной жизни. Грубеешь, опрощаешься, забываешь самого себя и живешь исключительно коллективной жизнью. Собственное „я“ прежде, в Петербурге или Москве казавшееся таким сложным, большим, важным, становится теперь ненужным, пустым и легким, поднимается над головой и — маленькое — улетает куда- то. Остается — дело, в котором и растворяешься на эго время без остатка.
Привыкнуть можно ко всему. Когда мы едем за ранеными в пустом поезде, каждый раз в ожидании чего- то нового и вместе с тем гнетущего, тяжелого, всеми нами овладевает повышенное, почти веселое настроение: кто-нибудь играет на гитаре, украинские хористы поют свои родные песни. Слышатся смех, шутки, рассказы, а поезд все мчится и мчится вдаль.
Зато, когда нагрузим вагоны ранеными и возвращаемся обратно, начинается страда. Хорошо еще, если попадают группы легкораненых или так называемых „самострелов“ (это — которые сами себе отстреливают или отрубают пальцы с целью, чтобы больше не посылали в бой). Толпами иногда приходят они с поля битвы, кое-как забинтованные; с ними хлопот мало — здоровые люди. Но тяжелораненых приходится таскать на носилках, а в пути ухаживать за ними. У некоторых не хватает руки или ноги, многие в бреду. Покладем их в теплушки на нары в два яруса и дежурим по очереди по два, по три часа около них ночью при свете керосиновой коптилки; даешь воды напиться; все они часто лить просят. Иногда попадается такой состав, что весь вагон бредит и орет: кому представляется атака и штыковой бой, кому — родная деревня, жена и дети.
Но не буду портить тебе настроение такими картинами. Сначала все это нас потрясало, ужасало, угнетало, но теперь мы сделались бесчувственными, нагружаем и разгружаем раненых с таким равнодушием, как будто это дрова, а не живые люди, истекающие кровью…
Оказывается, для всякой впечатлительности бывает предел: нервы притупляются и с известного момента не воспринимают впечатлений.
В обстановке войны странно изменяется человеческая психология. Эту перемену каждый чувствует сам, наблюдая самого себя и других. То, что казалось бы недопустимым и даже преступным там, в тылу, за рубежом войны, — здесь кажется дозволенным и вполне естественным. Прежде всего обуревает совершенно бесцельная жажда разрушения. Чувствуешь, что все можно и что те писаные законы, которыми управляется жизнь „по ту сторону войны“, — на войне никуда не годятся, нелепы и необязательны: кругом законно убивают, поджигают, крадут, грабят, насилуют — и находят в этом затаенное удовольствие.
Недавно наши санитары-студенты — все такая славная, хорошая молодежь — забавлялись в общежитии тем, что расстреливали висевшие на стенах масляные картины и портреты; наше общежитие помещается в бывшей австрийской охранке — огромном учреждении, откуда австрийцы, уходя, почти ничего не успели взять. Комнаты обставлены роскошной мебелью, картинами, гардинами, но мы, конечно, тотчас же все загрязнили, загадили, а картины расстреливали не известно зачем: без озорства, без злобы, а так, из какого-то злобного инстинкта разрушения. На диване сидел один студентик, а товарищи, целясь в картину, чуть было не всадили ему пулю в голову. Искали в доме ценностей, чтобы поживиться, но нашли только полицейские костюмы и разный скарб. Зарились на несгораемый шкаф и никак не могли его отпереть, а в одно раннее утро застали самое княгиню, взломавшую шкаф. Нашла ли она там что-нибудь, не известно и неважно, но меня поразило, что военной добычи искали не только простые санитары, с целью мародерства прибывшие на фронт, но и „милые, развитые“ студенты и даже сама княгиня.
А то принесли раз в вагон раненого солдата — в крови, в грязи, в испражнениях. Что с ним делать? Вымыть негде. И жалко, и отвратительно. Говорю солдату-санитару: „Оботри его!“ Санитар, этакий подозрительный тип с лицом уголовного, отвечает: „А чего с ним возиться? Дать ему вторую пулю!“ Просто, спокойно сказал…»
Кронид читал монотонно, часто останавливаясь на неразборчивых местах. Сила Гордеич слушал с закрытыми глазами, казалось, дремал.
— Все, что ли? — спросил он, очнувшись.
— Како, черт, все? И половины не прочитали!
— Ну, посмотри там в конце, нет ли чего?
Кронид перевернул несколько листков и продолжал чтение:
«Мне не хочется тебе описывать то, что я видел: еще, пожалуй, спать не будешь по ночам. Война только издали хороша, а вблизи — грязное дело… Грандиозное кровопролитие, где отдельный человек кажется мошкой. Дезертиров и самострелов в тылу расстреливают целыми ротами… Случалось бывать и в окопах… сидят голодные, холодные, изъеденные вшами… Толку от нашей санитарной работы почти никакого: только отвезем полный поезд раненых, а покуда везем — их там новых еще больше наделают, и не видится конца… Кладем их прямо на пол. На вокзале пройти негде: сплошь тела…
Зато — победы… Австрийцы отступают из Галиции, сдают город за городом… По этому случаю во Львове в ресторанах пир горой… В Москве и Петрограде, говорят, ликование, балы. Дамы посылают солдатам подарки… Но если бы видели они, что делается в окопах, в лазаретах…
„Домой“ пока не собираюсь, да и где у меня дом?..»
— Вот те на! — с неудовольствием проворчал Сила Гордеич. — Довольно, Кронид! После сам просмотрю, все равно — такое письмо Наташе передавать нельзя!
— Конечно!
— И какого черта он там в санитары затесался! Третий уж месяц, а тут жена больная, ребенок. Да и люди спрашивают, где, дескать, муж-то. Не дело! Обе мои дочери оказались вроде как соломенные вдовы. Эх!
Сила Гордеич встал с кресла и, шаркая туфлями, поплелся в комнату Наташи.
Кронид посмотрел ему вслед с двусмысленной улыбкой, потом вздохнул, свернул письмо и, сунув его в ящик стола, стал ходить из угла в угол, кусая бороду, загнутую вперед полумесяцем.
Наташа сидела а глубоком кресле, закинув голову с закрытыми глазами и, казалось, спала. Лицо ее было очень бледно и спокойно.
На кушетке, вниз животом, опираясь на локти, «сфинксом» лежала Варвара и пристально смотрела на что-то бормотавшую сестру.
Варвара и Марья подняли головы: на пороге раскрытой двери стоял Сила Гордеич.
Варвара села, приводя в порядок волосы. Марья Ивановна склонилась к Наташе:
— Наталья Силовна, проснитесь!
Наташа открыла мутные глаза.
Сила Гордеич быстрыми шагами подошел к дочери.
— Что с тобой?.. — Голос его звучал хрипло, глаза впились в бледное лицо Наташи.
— Я, кажется, заснула, папа?
— Ничего не понимаю! — развел руками Сила Гордеич. — Ты что, бредила, что ли?
— Я ничего не помню, — удивленно сказала Наташа. — Дайте мне капель.
Марья Ивановна достала с полки пузырек.
— Пусто!
— Ну, так сходите в аптеку!.. После сна всегда у меня голова болит.
— Какой это сон! — раздраженно крикнул Сила Гордеич. — Спишь, а сама с Варварой разговариваешь. Я все слышал. Что за чушь!
— Да ведь она ничего не помнит, папа, — возразила Варвара. — Что вы к ней пристаете?
Сила, кряхтя, прошелся по комнате, заложив руки за спину и шлепая туфлями.
— Я— в аптеку, — сказала Марья Ивановна и вышла, твердо стуча каблуками.
— Ты что-то про Валерьяна бормотала, — садясь в кресло, смягченно сказал старик. — Скучаешь, что ли?..
Наташа улыбнулась.
— Конечно, скучаю, папа. Уехал — и не пишет ничего.
Сила крякнул, отвел глаза в сторону.
— Коли скучаешь, напиши ему сама, чтобы приехал хоть к Рождеству побывать. А то бы и совсем. Будет уж. Чай, по доброй воле поехал… Спишь и видишь его, бредишь ведь, а нет — чтобы написать: приезжай, мол. Бросил семью — и горя мало! Не нравится мне это… Я и сам вот болен…
Наташино состояние встревожило его: какие все болезни-то неслыханные, а от него скрывали, и доктор ничего не говорил. Тихий ужас поселился в полумертвом доме Черновых. А эта Варвара только забавляется болезнью сестры. Поговорить придется с доктором и тогда уж Варваре дать острастку… Вытворяет штуки над больной. Валерьяна выписать надо. Развал неудержимый идет в семье, и не хочется больше глядеть на все это Силе Гордеичу.
Сила встал и, кряхтя, вздыхая, поплелся из комнаты, ни разу не взглянув на старшую дочь. Когда дверь затворилась, Варвара долго смотрела ему вслед прищуренным взглядом. Потом снова улеглась на кушетку в позе сфинкса.
— Варя, помоги мне лечь в постель! — жалобно сказала Наташа детским голоском. — Трещит голова…
Варвара раздела худенькое тельце сестры, потрогав маленькое жемчужное ожерелье, закрывавшее шрам на ее тоненькой шейке, — давнишний подарок Валерьяна; это было единственное украшение, с которым Наташа не расставалась никогда.
— Ну, вот и я пригодилась тебе, милая сестрица, вместо сиделки…
— Спасибо, Варя! Я знаю — ты ведь любишь меня.
— Люблю, конечно… А кто тебя не любит? У отца— ты любимица, муж — какое ожерелье-то подарил!.. Был когда-то художник, деньгами сорил, а теперь — санитар! Ха-ха!
— Варя! — тяжело дыша, тихо прошептала больная, — у меня, кажется, припадок начинается…
— Ну что ж — припадок. Пройдет! — мурлыкала Варвара. — Доктор придет — все как рукой и снимет. Чай, не впервой. Выздоровеешь — с Валерьяном разведешься, за Зорина выйдешь… Муженек-го твой, как был деревенщиной, пьяницей, богемой, туда же и возвратится, или по-прежнему бедняком-мазилкой будет в Москве. О нем жалеть нечего. Не пара он тебе, и всегда был не пара. Так, сдуру ты за него вышла. Эту ошибку тебе исправить надо… Да и он не очень-то будет плакать о тебе. Там, на фронте, чай, сколько их, сестер милосердных — утешат! Да что сестры!.. Бывший-то доктор, Василий Иваныч, писал Константину, как они с какой-то певичкой на лодке ездили в Крыму. Ха-ха! Неужто у него с певичкой ничего не было? Было, наверное… Вот увидишь — роман заведет.
— Со зла говоришь, — металась в постели Наташа.
— Ничего не со зла, — из любви к тебе говорю… Любить-то он тебя любит, ну, а денежки твои — тоже любил. Потому и любит, что ты любимая дочь у отца, наследство получишь… По-моему, коли на то пошло, так уж лучше Зорина взять. Этот хоть тоже к деньгам прилипает, как пластырь, но зато красавец и умница. Дедушке ни на грош не поверит: сначала деньги выжмет, потом уж тебя возьмет.
— Варя, ты мучаешь меня!
Варвара, усмехнувшись, продолжала:
— Всем известно, как он здешних дам лечит… Ты, конечно, не в счет, ты ведь святая… Он их собой лечит — за деньги, понимаешь?
— Не понимаю, Варя… Голова горит…
— Ну, как не понять? Что ты, ребенок, что ли? Все знают, что у него секретная комната в гостинице есть. Все туда к нему и ходят потихоньку, с черного хода… Говорят, братья-то давно оба рогаты…
— Не верю. Ты это все нарочно… нарочно говоришь, чтобы меня обидеть.
Наташа заплакала.
Варвара подошла к Наташе, села подле на кровать.
— Ну, не плачь, успокойся. Я пошутила, а ты всерьез… Дурнушечка, пучеглазка, золушка!.. Как тебя еще назвать? Принцесса, страдающая расстройством желудка. Ха-ха!
— Сердце… сердце… — шептала, задыхаясь, Наташа.
Варвара прижалась ухом к груди больной: сердце билось бешено, неровно, хромыми ударами. Улыбнулась.
— Ничего особенного. Лупит вовсю твое влюбленной сердце… Я ведь все шучу, не обижайся, пучеглазка!.. От болезни ты неземной красавицей стала…
Вскрикнула Наташа. Голова ее бессильно упала, глаза закатились под лоб.
Варвара близко наклонилась к сестре, и пальцы ее холодных рук медленно поползли по обнаженной исхудалой груди Наташи и вдруг вцепились в тоненькую, детскую шейку с заметным шрамом, оставленном страшной болезнью.
— Наследство получишь, любимая дочь! — шептала Варвара.
Наташа очнулась.
Тогда тонкие пальцы ослабели и стали гладить жемчужное ожерелье.
— Что ты делаешь? — едва слышно двигались губа Наташи. — Ты шутишь, Варя?..
— Да, шучу, — шепотом отвечала Варвара. Руки ее тряслись.
— Мне плохо, Варя… Жутко… Боюсь!.. У тебя страшное лицо…
Голос Наташи замер.
— Ты бредишь, бредишь! Да, бредишь. У меня лицо совсем не страшное… Тебя душит ожерелье: оно узко тебе, давит шею. Слышишь? Вот так, вот так давит, я сейчас тебе разорву его… Фу, какая у тебя шея цыплячья!.. Тоненькая, дряблая… Сейчас… сейчас… я сними его, развяжу… разорву… Тебе и легче будет, милая сестрица, милая моя сестрица.
Варвара стиснула ожерелье на тоненькой шейке хрипевшей Наташи. Нитка оборвалась, и жемчуг распался.
В комнату вбежала в пальто и шапке, запыхавшись, Марья Ивановна. Лицо ее было бледно, рот раскрыт, она задыхалась, держа в руке аптечный пузырек.
— Всю дорогу беду чуяла! — бормотала она, бросаясь к Наташе. — Бегом бежала!
Варвара встала, выпрямилась и провела руками по лицу.
— Ей дурно… Я пойду, позвоню доктору, — сказала она деревянным голосом и, шатаясь, вышла.
Марья Ивановна долго смотрела вслед ушедшей.
— Зверь! — вдруг закричала она истерично и, всхлипнув, наклонилась к Наташе.
II
Как всегда, санитарный поезд вышел из Львова поздно ночью. Санитары спали в вагоне третьего класса на голых скамьях, при тусклом свете стеариновых свечей.
Валерьян проснулся от хлопанья дверей, громких, веселых голосов.
Было раннее осеннее утро. Поезд стоял на маленькой степной станции. Два студента-санитара: один — непомерно длинный, а другой — низенький, смотрели из окна вагона и чем-то любовались.
— Замечательная картина! Жаль — аппарата нет: снять бы!
— Да, это редко бывает. Эй, художник, проснитесь! Тема для вас! Посмотрите: солдат богу молится.
Валерьян выглянул в окно.
На пригорке около станции виднелась высокая крытая кибитка, а спиной к ней, лицом к восходящему солнцу стоял на коленях солдат — в серой шинели, стянутой ременным поясом.
Он стоял неподвижно и прямо, лишь изредка крестился и потом опять долго оставался без движения.
Над холодным осенним полем всходило затуманенное, грустное солнце и освещало всю его фигуру.
— Ну, что, годится для тенденциозной картины? — улыбаясь, спросил высокий студент.
Валерьян отрицательно покачал головой, но вынул карманный альбом и стал набрасывать рисунок.
Быстро чертя карандашом, Валерьян говорил:
— Этот русский воин, которого сейчас отправят в бой, быть может, в последний раз видит восход солнца, прощается с ним, молит, чтобы взошло оно над Россией. Спасать ее призваны солдаты, а не депутаты Думы и не ораторы литературных вечеров в Петербурге.
Санитары с любопытством смотрели через плечо художника на его работу, но Валерьян захлопнул альбом и вышел из вагона.
Все кругом носило признаки передовых позиций: поле, взрытое окопами, оживлялось группами солдат, строивших барак для раненых; казаки на берегу ручья грелись у костра, рядом были привязаны к дереву оседланные кони.
К станции обозом подъезжали военные фуры, запряженные крупными, могучими конями, управляемые солдатами и нагруженные ружьями, как дровами. Подъехав к станции, люди сбрасывали ружья охапками на землю и складывали в кучу. Тут были ружья с австрийскими ножами и русскими штыками, ружья с раздробленными ложами, переломленные пополам, с погнутыми штыками и дулом. Свозили их сюда с еще не остывшего поля сражения.
Станция была невдалеке от небольшой реки со взорванным железнодорожным мостом, а на горизонте, на синеющей лесистой горе чуть-чуть виднелось в утреннем тумане фантастическое очертание колоколен, церквей и башен красивого, старого города. Мост через реку быстро восстанавливали: весь железный переплет моста, исковерканный при взрыве, торчал из неглубокой, но быстрой реки. У входа на мост стоял товарный поезд о рабочими и солдатами; кипела плотничья работа.
На перроне ударили в станционный колокол. Молившийся солдат встал, надел папаху и побежал к поезду, стоявшему на втором пути. Поезд, полный солдат, скрипя колесами и стукая буферами, двинулся к мосту.
Валерьян, пройдясь около станции, вернулся обратно. Около вагонов стояли его товарищи — два студента и молоденькая сестра милосердия.
— Что это за город виднеется? — спросил, подходя, Валерьян.
— Ярослав, — в один голос ответили студенты.
— Издали он очень красив, Аленушка? — сказал девушке маленький студент.
— Только издали, — смеясь, возразила Аленушка. — Говорят, совершенно разоренный город: на улицах ни души, магазины закрыты. Вот Тарново — другое дело: нам только что встречные рассказывали — ужасно дешево можно купить белье, кружева и шелковые материи, по рублю за метр!
— Это оттого, что торговцы спешат выбираться оттуда, — заметил маленький санитар.
— Думают, что мы патриоты, а в сущности из любопытства в санитары поступили, — задумчиво сказал его товарищ.
— Войну смотреть поехали.
— Ах! — сказала Аленушка, — хотела бы я видеть, как разрываются шрапнели: страшно и любопытны! А солдаты какие! Такие милые!
— Поехали из любопытства, а все похудели.
— Я в гусары хочу поступить, — сказал маленький. — В санитарах много ли увидишь?
— В вагоны! — протяжно закричал голос с паровоза.
Поезд двинулся, но скоро опять остановился перед входом на временный деревянный мост. Каждый вагон переводили на другую сторону отдельно люди, оставившие для этого плотничью работу. Под колесами что- то протяжно скрипело, стонало, вздрагивало. Паровоз, прицепленный сзади поезда, не решился въехать на мост. На другом берегу состав прицепили к новому паровозу. Перебравшись через мост, подъехали к городу.
В пустых комнатах небольшого, неуютного здания вокзала — никакой мебели, пол затоптан тысячами грязных солдатских сапог. Повсюду встречались только солдаты.
Валерьян поднялся в верхний этаж по витой чугунной лестнице. Там оказался буфет — большая пустынная комната, посреди ее длинный стол, в углу на стойке самовар, бутерброды, пирожки.
Было холодно, грязно, неуютно; чувствовалось, что все это — «временно». За столом пили чай и закусывали офицеры и какие-то случайные люди казенного вида.
Валерьян сел за общий стол. Против него сидел пожилой исхудалый офицер, с бледным, усталым, болезненным лицом, с небольшой седеющей бородкой и свешенными вниз усами. Солдатская гимнастерка казалась черной от грязи, шинель потрепана. Он вяло доедал котлету. Валерьян, заказывая обед, спросил его:
— Хорошо ли вам подали?
— Конечно, хорошо, — усталым голосом ответил офицер. — Да что вы меня спрашиваете? Я две недели горячей пищи не видел: тут что ни дай, все покажется хорошо. Две недели на одних сухарях!
Вы откуда едете?
Вздохнул.
— С позиции. В окопах сидели. А потом за Дунаем отходить пришлось. Я со своей ротой последним шел, понтонные мосты сжигал. Нам с берега уходить надо, а тут люди падают от усталости. Говоришь ему: вставай, брат, а то смерть будет! Кругом шрапнели рвутся, он и сам видит, да ведь что ж поделаешь, когда не может? А тут еще аэроплан этот прилетел.
Офицер замолчал и прикрыл глаза ладонью бледной, исхудалой руки.
— Извините! — продолжал он, через минуту овладев собой. — Нервы совершенно расхлябались, трудно мне говорить. Кругом столько горя, столько горя! Трудная война. А в газетах посмотришь — как все у нас хорошо, легко и приятно! Как в оперетке.
— Ну и что ж — аэроплан?
— Что аэроплан? Прилетел, вьется, кружит над нами. Заметались все… Тут недолго — и паника начнется… Лошади бесятся… Давка… Что против аэроплана сделаешь? Ну, и бросил бомбу… Убило четверых людей да пять лошадей… Способы войны-то какие!
Офицер опять провел ладонью по глазам, помолчал, вздохнул с глубокой печалью.
— На каждом шагу трагедия, да такая, что и нарочно не выдумаешь. В штыковом бою два чеха, два родных брата, встретились: один — наш, другой — австрийский; замахнулись друг на друга штыками, вскрикнули и бросились один другому на шею. И посейчас наш-то всем своего пленного брата показывает, все кричит: «мой брат!» Совсем помешался… А то — вот видите на том конце стола казачий сотник сидит, старик? У него же в сотне сын его служил, вместе они были. Ну, послали сына с десятком казаков на разведку. И разведка-то эта совсем не нужна была, — все это знали. Отправился. Его там первого и уложили. А тут немцы наступили, труп-то и остался у немцев. Так отец выпросил разрешение отбить труп сына, взял свою сотню и отбил, похоронил. Вот он сидит, всем об этом рассказывает, да теперь уже и говорить не может: начнет говорить — и заплачет.
Помолчали.
— Приам! — сказал Валерьян, с любопытством посмотрев на казачьего сотника с широкой седой бородой во всю грудь. — Вы читали Гомера? осаду Трои? Только Приам выпрашивал труп сына, а этот взял с бою.
Офицер, казалось, не понял. Вздохнул, опять закрыл глаза ладонью и повторил печально:
— Сколько горя! сколько горя!
— Куда же вы едете?
— В Россию… Отправляют на отдых. Нервы пошатнулись… Оправлюсь — опять на войну поеду.
— Да вас, может быть, совсем освободят?
— Да нет! Только бы нервы привести в порядок. Такое время пришло… Немцы-то приготовились… у них техника, везде дороги… артиллерия какая! А у нас. — Старик махнул рукой.
— Да, — подтвердил Валерьян, — война застала Россию неготовой.
— Непопулярная война… Никто не знает, за что деремся. Но что же делать? Приходится воевать. Вы, я вижу, с санитарным поездом? Тоже и ваше дело нелегкое… В Тарново едете?
— Да, за ранеными.
— Там еще бой… неразбериха идет… Ну, мне пора в поезд. Позвольте уж в таком случае отрекомендоваться!
Старый офицер встал, назвал себя и пожал руку Валерьяна. Глубокая грусть звучала в его голосе. Прихрамывая, в потертой шинели, шаркая ногами, он стал спускаться с лестницы.
«Такие не побеждают», — подумал Валерьян, смотря ему вслед. Остальные, вместе с казачьим сотником, тоже встали и направились к выходу.
Валерьян быстро покончил с обедом пошел побродить по городу.
На площади перед вокзалом стояла грязь непролазная. Когда-то была здесь мостовая, но ее давно вдавила на четверть аршина в землю: войска проходили. Навстречу, по широкой, прямой, грязной улице шло безоружное бледно-синее австрийское войско.
Австрийцы шли беспорядочной толпой; вели пленных человек пять русских солдат с ружьями. Мелькали разнообразные лица, пожилые и совсем юные, но все исхудалые, измученные, в изорванной амуниции, стоптанных башмаках, некоторые с одеялом на плече.
— Сколько человек? — спросил Валерьян встречного конвоира.
— Восемьсот пятьдесят! — на ходу, не останавливаясь, отвечал солдат.
— Откуда ведете?
— Из Тарнова!
Прошли, и опять обнажилась безлюдная, пустая улица. Кругом ни души, ни звука, ни пешехода, ни извозчика.
Большие дома, шикарные отели стояли безжизненные: окна изнутри были закрыты ставнями или опушенными шторами, двери заколочены, магазины заперты. Стало тихо и мертво кругом. Валерьян сделал несколько поворотов, миновал главную улицу и наконец попал на окраину. Здесь оказалось еще грязнее и пустыннее. Изредка кое-где мелькали странные темные фигуры в рваных длиннополых костюмах, да и те, завидя чужого человека, тотчас же испуганно исчезали: это были местные жители.
«Зачем они тут остались? — думал Валерьян, шагая по грязной, кривой и узкой улице. — Что делают, чем питаются эти одичалые от горя и голода люди? Есть ли у них какие-нибудь надежды на что-либо? Вряд ли. Им просто не на что, некуда и незачем бежать. Ни от кого они не ждут себе добра, и нигде не будет им лучше. Богатые люди — те все уехали».
В воздухе с небольшими промежутками сухо и жестко перекатывались отдаленные пушечные выстрелы, напоминавшие уходящую грозу в степи.
Вернувшись на вокзал, Валерьян нашел свой вагон, на ступеньках которого сидел маленький студент-санитар и ел из жестяной чашки кашу. На соседнем пути ожидал своего отправления теплушечный поезд. У раскрытой теплушки стоял человек необыкновенно высокого роста, в полушубке и папахе, и весело болтал с юношей.
— Вчерась австрийцы в Тарново, в город, стреляли из тяжелых орудий. Громыхали так, аж во всех домах стекла звенели. Всю ночь никто глаз не сомкнул, елки зеленые!
Несмотря на сбритую бороду, Валерьян узнал его, да и трудно было не запомнить великана.
Маленький студентик по-ребячьи аппетитно уплетал кашу и радостно улыбался.
— А вы куда едете?
— Да туда же опять возвращаюсь. Приезжал казенные вещи принять.
— В самый город стреляли?
— В самый что ни на есть. Больше, впрочем, целили в железнодорожный путь и на вокзал. Да ни разу не попали: плохо стреляют австрияшки.
— Это значит, что мы под обстрел едем, — ликовал студент, забывая о каше. — Великолепно!
— Да, если и сегодня стрелять будут.
— Прекрасно! Я бы очень этого желал, но, конечно, при том условии, чтобы в меня не попало.
— А уж это — как придется.
Вдали, чуть слышно, как вздох чудовища, прокатился густой выстрел.
— Эх, елки зеленые! — ухмыляясь, кивнул головой великан.
— Это вы, Святогор? — спросил художник.
— А вы почем меня знаете?
— Знаю, видел в Москве… Ну, что, сопровождаете солдатские вещи?
Святогор весело засмеялся.
— Да я уж давно этим делом занимаюсь: отвезешь в окопы — и назад, за новой партией. Вроде маркитанта или каптенармуса стал… Вот и теперь ждут меня в окопах солдатишки.
— А сейчас откуда?
— Да с позиций же, из окопов. Зябнут солдатишки- то, чтоб им!
— Ну, что, как там в окопах? Хорошо?..
— Ничего, весело живем. Хо-хо! Удивительный народ наши солдаты, без смеха на них смотреть невозможно. Например, шлепнулась как-то шрапнель недалеко от меня, подняла целый воз земли на воздух, а вместе с землей барабанщика и кашевара. Барабанщик перевернулся в воздухе и опять встал на ноги, отряхнулся, глядит — а кашевару-то ползада оторвало. Хо-хо! Протер глаза, поглядел вот эдак, сказал: «Жалко парня!» — и пошел по своему делу. Ну, не черти ли? Спокойно так сказал. Ах, елки зеленые!
— Страшно, чай, когда шрапнель? спросил cтудентик.
— Ну, как сказать! У нас под Перемышлем теперь ко всей этой пальбе так привыкли, что только разве когда чемодан пролетит, так смотрят. Телятами их зовут. Летит эдакий теленок из четырнадцатидюймовой тетки — хо-хо-хо! — видно его всем, занятно. А на шрапнель давно никто внимания не обращает. Выучились по звуку различать, которая разорвется и которая — нет. Отлично разбираются, и редко когда под выстрел попадают. Ежели в поле — всегда успевают отбежать… А вот вам не анекдот, а истинный случай: сидит солдат на корточках, оправляется около рва. Вдруг над ним шагах в четырех позади — трах! Так он, мерзавец, даже не привстал, только оглянулся — вот так — и опять сидит… Анекдот!
Великан был чуть-чуть навеселе, поминутно прерывал рассказ густым смехом, похожим на лошадиное ржание.
— Неужели все-таки не страшно? удивился Валерьян.
Рассказчик внезапно стал серьезен, задумался немного.
— В подобных случаях — никому!.. Ну, а во время штыкового боя — один раз ходил и я добровольцем — так тут как есть ничего не помнишь… как в тумане… Водки дают перед боем, она в голову ударяет. Страх же является после, когда вспоминаешь и вспомнить не можешь, да еще вот когда в атаку идешь мимо убитых и раненых. Тут, знаете, привыкаешь не смотреть на них. Нарочно не смотришь, потому что привыкнуть к этому все равно нельзя, только и можно, что не смотреть. Ну, и ничего, — идешь.
— Вам приходилось убивать людей в бою?
Святогор замялся.
— В бою — нет… Велик я очень, мишень большая. Я раненых таскал на себе… Один раз перед боем, вроде шутки, в единоборстве участвовал, без оружия, просто сказать — по-цирковому боролись один на один с немецким силачом… в обнимку… во время двухчасового перемирия… между окопами…
— Ну, и кто же сдался?
Святогор смутился.
— Не хочется рассказывать… Здоровый попался немец, пониже меня, но в плечах — как бык… Очень злобно боролся… ну, унесли его на носилках: хребет у него, значит, повредился.
— Какое зверство! — содрогнулся студентик.
— Да я и не люблю вспоминать… Ну, сами немцы затеяли, кричат из окопов по-русски: «Рус! вот у нас силач есть, выставляйте своего». Эх, елки зеленые! я и вышел… Само собой, на войне вежливости мало, нежничать не приходится. Посылают иногда набирать подводы в обоз. Едешь верхом по дороге. Где их взять, подводы эти? Встречается мужик в телеге — сто-о-ой! Заворачивай! Он — то и се, кланяется, молит, денег не берет, только отпусти его. Боится. Э, елки зеленые, за-во-ра-чивай!.. Хо-хо-хо! Ведь война, а не что-нибудь.
— Теперь опять в окопы? — спросил Валерьян.
— В окопы… Из Тарнова ворочусь на Перемышль, а там на лошадях с кладью ехать верст двадцать только… По планту придется искать пункт, да горе мое — плохо я разбираю чертежи эти, поискать надо кого пограмотней.
— Хотите, я поеду? — предложил Валерьян.
— А что же… коли отпустят вас…
— Я добровольный санитар.
— А верхом ездить умеете?
— Умею.
— Ну, тогда в Тарнове встретимся и поедем.
Паровоз внезапно и сильно дернул все вагоны, так что студент едва удержался на ступеньках и полез в вагон. Валерьян вскочил на ходу и помахал шапкой Святогору. В вечеру подъехали к большому вокзалу со множеством путей и стоящих на них санитарных и товарных поездов. За вокзалом — город. В воздухе под вечереющим небом, не умолкая, перекатывались пушечные выстрелы, но не так близко, как рассказывал Святогор: вероятно, австрийцы отступали. Кроме пушечных выстрелов, где-то слышалось характерное жужжание. Находившиеся на перроне солдаты и санитары смотрели в небо. Над вокзалом летел аэроплан. Он был, как коршун, коричневого цвета, с остро срезанными концами крыльев, летел невысоко и быстро — над головами толпы, удаляясь за город, где на горизонте виднелись позиции.
— Австрийский! — говорили кругом. — По крыльям видно, что не наш: таубе!
— Вот — бросит бомбу.
— А что ж, и бросит.
— Нет, он на позицию летит, к своим возвращается. Нам-то теперь уж нечего бояться — пролетел.
Самолет быстро промчался над вокзалом и, удаляясь, летел над полем. Вдруг в поле, далеко от города, когда аэроплан казался издали птичкой, взлетел под ним от земли кверху большой столб дыма.
— Бросил-таки бомбу в окопы, проклятый!
На пушечные выстрелы, мерно катившиеся издалека, никто не обращал внимания.
Валерьян пошел в город, бесцельно поворачивая из одной улицы в другую. Начинало смеркаться.
Тарново оказался захолустным старинным городом в средневековом стиле. Попадались дома древней архитектуры, с почерневшими, поросшими мхом черепичными кровлями, с рисунками на стенах и орнаментами шестнадцатого века. Некоторые из них он зарисовал.
На тротуарах толпились люди.
Уже совсем стало темно, когда Валерьян вышел на маленькую, глухую площадь, окруженную средневековыми домами, посреди которой торчало странное четырехугольное здание с круглой старой башней стиля рыцарских времен. У приземистых полукруглых ворот стоял полицейский в австрийской форме и на вопрос художника ответил, что это — ратуша.
Валерьян попросил провести его на верх башни.
Страж достал ключи огромного размера и повел художника по темной винтовой лестнице на самый верх башни, где висело два небольших, почерневших от времени колокола. Валерьян долго смотрел оттуда на Тарново — второстепенный польско-еврейский городок, века живший маленькой жизнью захолустья, отныне исторический город ожесточенных битв мировой войны.
Художник-санитар едва отыскал свой поезд: его отвели на другое место после маневров. Кучка людей с фонарем несла кого-то на носилках.
— Кого несете? — спросил Валерьян.
— Аленушку, — ответил маленький санитар.
— Что с ней?
— Смерть! — добавил высокий. — Под шрапнель попала.
Издалека катились глухие громовые раскаты тяжелой артиллерии. И каждый раз после пушечного вздоха высоко в небе разрывались и молниями струились по черному небу летящие золотые звезды, вспыхивали, рассыпались и гасли одна за другой.
Похоже было на иллюминацию.
— Хо-хо-хо! елки зеленые! Да ведь мы не туда попали, Валерьян Иваныч! Вот так клюква!.. Стой!.. заворачивай!.. Ну и погодка!
Святогор остановил своего огромного, худого коня и, сдвинув покрытую снегом папаху, посмотрел кругом из-под рукавицы.
Шел крупный, густой снег. Дикое, мертвое поле было одето серебряной пеленой, как саваном.
Усталый конь опустил голову, нюхая снег. Гигант на великане-коне казался привидением.
— Ни зги не видно, — сказал Валерьян, кутаясь в бурку и поднимаясь на стременах. — По плану тут скоро должен быть железнодорожный путь.
— Вот те и по плану!.. С дороги сбились!
Три подводы, нагруженные теплыми солдатскими вещами, следовавшие за ними, остановились. Четверо всадников в башлыках, с винтовками за спиной, неясно маячили позади. Снег валил крупными, пушистыми звездами.
— Слезай, Валерьян Иваныч, пойдем пешком, дорогу поищем, а они постоят покудова… Ехать опасно. Пес ее знает, где мы: еще в плен попадешь!.. Кажись, подъем виднеется. Не насыпь ли?
Слезли с коней, привязали к передней телеге. Валерьян сбросил бурку.
— Стой, ребята! Остановка. На разведку пойдем.
— Заплутаетесь… Винтовку возьмите!.. — слышались глухие голоса. — Что же, стоять, что ли?
— Полчасика подождите. Поглядим вон за тем бугром.
Голоса отвечали недовольно. Кто-то крепко выругался. Фигуры Святогора и художника, казавшегося ребенком рядом с великаном, скоро исчезли за снежней пеленой. Пройдя несколько минут, Валерьян оглянулся: подводы и всадники словно растворились в снежной стихии.
— Далеко не пойдем, — сказал Валерьян: — заблудиться можно.
Пройдя с полверсты, поднялись на бугор.
— Ах, елки зеленые, да ведь это насыпь и есть? Она! — бормотал Святогор.
Взойдя на железнодорожный путь, остановились.
— Ну, как же теперича выходит по плану? Где мы?
— Лишнего дали. Назад надо вдоль пути, там искать хутор брошенный. Это и будет пункт.
Что-то бухнуло и тотчас же завыло в воздухе.
— Шрапнель!.. Гляди в оба! — встревоженно прошептал Святогор.
Рядом с насыпью с металлическим визгом что-то разорвалось, целый столб земли взлетел кверху. Святогор присел и, разинув рот, растянулся, кувыркнувшись в снег. Вслед за ним прыгнул с насыпи Валерьян. Во рту у него сразу пересохло, в груди похолодело, дыхание остановилось. Глотая воздух, он уткнулся в снег.
— Лежи, лежи! — шептал Святогор, поднимая голову из снега: лицо великана побелело. — Сейчас вторая будет!
Опять бабахнул отдаленный гром, и через несколько мгновений над их головами с противным, злобным визгов разорвалась вторая шрапнель.
— Ну, теперь в середку возьмет — и крышка нам. Бежим!
Разом вскочили и побежали. Святогор махал саженными прыжками, взрывая снег сапожищами. Валерьян старался догнать его и вдруг упал… Взвизгнуло в воздухе, во рту опять пересохло. Он ткнулся лицом в снег в стал глотать его.
— Ползи… ползи! — шипел приглушенный шепот Святогора. — На брюхе ползи!
Валерьян чувствовал слабость в руках и ногах. На момент он потерял сознание, но усилием воли очнулся, пополз, взрывая снег обмерзлыми руками и коленями.
Снова грохнул далекий густой звук. Четвертая шрапнель взвизгнула по другую сторону насыпи.
— Бежим! — заорал Святогор.
Сколько времени они бежали по неглубокому рыхлому снегу, Валерьян не помнил. Выстрелы прекратились. Обоза на прежнем месте не оказалось, но их встретил солдат из охраны, побежавший навстречу, как только завидел их. Он кричал, показывая рукой в лощину: сквозь завесу падавшего снега чернели возы с людьми около них.
— Отошли под прикрытие, — сказал солдат, — Ну, как? Никто не ранен?
Разведчики не отвечали.
— Стой! Дай дух перевести. Чуть живы остались. Святогор снял папаху, вытер пот рукавом, вздохнул во всю глубину своей необъятной груди. — Ну, теперь айдате!
Побледневший Валерьян молчал, сплевывая тягучую слюну. Ему было стыдно сознавать только что пережитый припадок животного страха под выстрелами. Так вот она — война: никаких врагов, одни шрапнели. Вспоминал, что, отправляясь на войну, желал смерти, но, едва встретившись с ней, убедился, что совсем не хочет умирать: падал, ползал, бежал, лишь бы только спасти жизнь.
— Глупо! — хмуро бормотал он, шагая рядом с солдатом и Святогором.
— Арясина! — спокойно сказал солдат великану. Залез на бугор, каланча этакая… Тебя, небось, за десять верст видно.
— А ты бы сам понюхал шрапнели, — огрызнулся Святогор, — Смеяться неча — смерть видали! Как начали палить, елки зеленые! — струхнули, конечно. Зато дорогу отыскали… Страшно было, Валерьян Иваныч? Война ведь, а не что-нибудь…
— Устал я, — спотыкаясь, бормотал Валерьян.
— Едем до пункта! Недалече будто.
Догнав обоз, Святогор взобрался на своего высокого коня, напоминая Дон-Кихота на Россинанте. Лошадь шла тяжело, как с возом.
Валерьян неумело ступил ногой в обледеневшее стремя, конь попятился, и он упал. Осердясь, из последних сил вскочил в седло и ударил коня плетью.
Через час езды на пригорке завиднелся хутор: глинобитная халупа с высокой кровлей, густо занесенной снегом, и какие-то приземистые постройки рядом с ней.
Вечерело. Вьюга затихала. Валерьян ехал впереди, за ним высился громадный всадник, казавшийся фантастически преувеличенной тенью, конные солдаты и тяжело нагруженные возы.
Подъехали. Никто не встретил прибывших. Всадники спешились. Солдаты растворили полусгнившие ворота, ввели экипажи и лошадей во двор. На дворе слышались их грубые голоса, изрыгавшие русскую ругань. В холодной, нетопленной хате стоял покрытый пылью некрашенный стол, несколько табуретов, скамья и деревянная кровать с охапкой соломы на ней. На запыленном полу остались грязные, засохшие следы солдатских сапог.
— Этакий свинарник! — сказал Святогор, пролезая в низенькую дверь, для чего ему пришлось вдвое согнуться.
Выпрямившись, почти коснулся шапкой низкого потолка. Вошел, снял шапку и грузно опустился на скамью.
Валерьян лег на кровать и закрыл глаза.
— Спать… спать!.. — бормотал он.
— Постой, Валерьян Иваныч, не сварганят ли ребята поужинать чего? Рядом, надо полагать, кухня… Кашу сварят…
— Спать!.. — бормотал Валерьян.
С минуту он еще слышал голос и шаги Святогора. Потом все затихло. Казалось, что хата плыла и покачивалась, как корабль на волнах. Приятное изнеможение разлилось по всему телу. Перед закрытыми глазами Валерьяна понеслись бескрайные снежные поля, улицы разрушенных городов, вагоны, полные окровавленных тел. Потом явилось бледное лицо Наташи с закрытыми глазами. Оно, близко подплыв к Валерьяну, стало удаляться, все уменьшаясь, и наконец, превратившись в светлую точку, исчезло. Валерьян провалился в тьму и вдруг заснул тяжким сном, без сновидений.
Проснулся от ощущения острого холода, открыл глаза и долго не мог вспомнить, где он, не мог понять, что с ним происходит. Голову ломило, во всем теле была слабость. Над головой в черной тьме горели яркие звезды. Различил маленькие квадраты разбитых окон, полуразрушенные стены, груду земли, соломы и обломков на полу. Остаток разломанного потолка висел над ним. Пахло пылью и землей. Валерьян поднялся, сел и чихнул. За стеной слышались грубые голоса. Вдруг вспомнил, что он лег спать в халупе с соломенной кровлей.
Где же кровля? В неплотно затворенную дверь мелькнул слабый свет. Голоса зазвучали ближе… За дверью слышалась возня, топот тяжелых ног.
— Валерьян Иваныч! — различил он глухой голос Святогора.
Валерьян откликнулся слабым, простуженным голосом и опять чихнул.
Дверь затряслась от сильных ударов, упала. С фонарем в руках появился Святогор.
— Иваныч, жив ли?
— Жив. Что случилось?
Валерьян задыхался, сердце колотилось в груди. В глазах — словно песок. Полное бессилие во всем теле и невыносимая боль в голове.
Святогор, нагнувшись, направил на него блуждающий луч фонаря.
— Слава те, господи! Жив, ей-бо! Вот чудо!.. Ты заснул. а мы все в кухне легли…
Валерьян долго, с усилием вспоминал и спросил тихо:
— Где… крыша?..
— Крыша? Хо-хо!.. Неужто не слыхал?.. Чемодан тут был, теленок этот самый. Пролетел, ну и задел маненько за крышу. Ну и разорвался за двором… Вылезав брат, чего тут? Война ведь, а не что-нибудь!
Валерьян встал с постели, но вдруг закачался и снова упал на солому. В глазах потемнело, колючий озноб пробежал по спине, одолевала противная слабость, словно не было костей в членах.
— Спать хочу… спать!.. Холодно!.. Кого несут? Аленушку? Наташу несут!
Валерьян забормотал несвязно и бессмысленно.
— Э-э, — тихо и печально протянул Святогор.
Поставил фонарь, молча взял бесчувственного товарища в охапку и понес из халупы, согнувшись под косяком низенькой двери, тяжело и осторожно ступая через обломки и мусор. Голова Валерьяна моталась безжизненно.
Очнулся он от страшной жажды: смертельно хотелось пить. С трудом открыв глаза, увидел себя лежащим на нарах теплушечного вагона. Кругом рядами, в два яруса, лежали раненые, прикрытые казенными серыми одеялами. Пахло йодоформом, гноем и тем тяжелым запахом, к которому Валерьян привык, сопровождая раненых. Теперь он сам лежал вместе с ними на жестком соломенном матраце. Вагон покачивало, мерно и дробно стучали колеса. На стене мигала маленькая жестяная лампа, но сквозь щель неплотно задвинутой двери пробирался серый свет зимнего утра.
— Пить! — чуть слышно сказал Валерьян.
И вслед за ним, словно подражая ему, послышались слабые, страдальческие голоса:
— Пить! пить!
— Сейчас, — благодушно ответил знакомый голос. От двери поднялась темная фигура Святогора в мохнатой папахе.
— Всем по порядку, ребята! Я на хлеб, на соль не таков, а на воду разориться готов!
Он нагнулся над ведром, зачерпнул кружку и протянул Валерьяну. Больной с жадностью пил воду большими глотками.
— Полегче, что ли, Валерьян Иваныч? Всю ночь в бреду был.
— Голова болит… жар у меня…
— Контузило маненько, либо просто лихорадку схватил, застудился. Може, и тиф… Вот доедем до Львова, положим тебя в лазарет, там доктора разберут… Человек ты еще молодой, поправишься… Тут вот и похуже тебя есть раненые.
— Пить! — слышались со всех сторон жалобные голоса.
— Сейчас, ребята, всем хватит.
Святогор принял опорожненную кружку и стал поить остальных. Кругом лежали люди с забинтованными головами, руками, ногами: некоторые спали или были без чувств. Тяжело было дышать от тошного запаха.
Валерьян, напившись, глубоко вздохнул и закрыл глаза. Голову ломило от непонятной боли, сердце стучало тяжело. По жилам струился жар, во рту пересохло, он сам чувствовал свое горячее дыхание, в ушах стоял непрерывный тонкий звон, тянуло ко сну.
Добряк — этот страшный великан, сломавший хребет немцу в «шуточной» борьбе. Нянчится как с ребенком, добровольно дежурит в вагоне… Но что за болезнь? Контузия или тиф? Одна не лучше другого. Лишь бы добраться до Львова, а там — в лазарет… Кончилась поездка на войну… Только бы не тиф!.. Он ничего не напишет Наташе, пока не выздоровеет… И ничего никогда не расскажет ей, как жалко закончились его военные подвиги…
Поезд остановился у большой, оживленной станции. Слышалась беготня, голоса людей, свистки и лязг паровозов.
Дверь в вагон широко раздвинулась: в квадрате двери виднелось снежное поле и свинцовые облака над ним. Кто-то в кожаной куртке, заглянув, спросил:
— Свободные койки есть? Раненых принимайте! Кто тут дежурный?
— Я дежурный, — ответил Святогор. — Одна койка!
К вагону приставили лесенку. Свободное место оказалось рядом с Валерьяном. Два санитара втащили на носилках раненого. Это был молодой, красивый человек с черной подстриженной бородкой, с забинтованной головой и шеей. Глаза его были закрыты. Крепко спал раненый.
Санитары, насколько могли, осторожно переложили новичка с носилок на койку. Спящий не проснулся, не открыл глаз, но высвободил из-под одеяла руку в белой рубашке и пытался сорвать с головы повязку.
В вагон поднялись офицер в папахе и сестра милосердия в черном костюме, в черной наколке, с красным крестом на груди. Она встала на колени и, наклонясь к раненому, взяла его за руку, щупая пульс.
— Это мой товарищ, кавказец, кавалерист, — сказал офицер. — Без сознания. Удивительной храбрости человек! Ранен пулей навылет в горло. Этой же пулей убит его денщик. Ехали верхом, и разом срезало с седел обоях — одной пулей…
— Пульс слабый, — сказала сестра, подняв на офицера черные большие глаза. Лицо ее было очень красиво и грустно.
— Примите особые меры, сестрица! Ваш соотечественник и храбрый солдат… Я был свидетелем его храбрости.
— Можно впрыснуть морфий, — сказала сестра, — Больше ничего нет у нас… Очень слаб…
Она вынула шприц, обнажила смуглую руку раненого и сделала укол. Кавказец так и не открыл глаз, не пришел в сознание и все пытался в тяжелом сне, глубоко и прерывисто дыша, сорвать повязку с головы. Через минуту морфий подействовал: больной лежал спокойнее, дыхание стало медленнее, рука не поднималась к повязке. Офицер и сестра вышли из вагона. Мимо несли на носилках других раненых в другие вагоны.
— И зачем она ему морфий впрыснула? — сказал кто-то из раненых, лежавший в верхнем ярусе. — Надо бы камфары, а она — морфий! Сами не знают, что делают.
— А что? — возразил другой.
— Морфий — это последнее дело, — чтобы умереть скорее.
— Кому суждено, все равно помрет… Мне вот ногу по самый пах отрезали — и жив!..
— А у меня руки нет… В полевом лазарете некогда с нами возиться: раз — и готово!
— Нет хуже, братцы, ежели кому челюсть оторвет: ни пить, ни есть не может, один язык болтается…
— Есть такой: в углу лежит.
— Куда все годимся? Лучше — смерть.
— Сколько народу каждый день убивают, калечат! А для чего — не известно.
— За Расею! А энтот кавказец — тоже за Расею? Что ему, чай, Расея-то?..
— За Расею! — послышался насмешливый голос сверху. — А когда снарядов нет, это — как? А кормят чем? А генерал Рененкампф — немец, и супротив немцев ему русскую армию доверили! Он и поклал ее к черту в болото, ратью гати замостил.
— Был слух — какого-то генерала за измену казнили. Всех бы их…
— Измена и есть. А войну прекратить! Да как не быть измене, когда царица — немка? Наши немцев поколотят — она плачет.
— Распутин, слышь, с царицей живет. А тут умирай за них, клади живот за этакую сволочь.
— Война? Зачем? — недоуменно повторял кто-то. — Мало, что ли, у царя русской земли?
— У него-то много: удельная — вся его, а вот у мужиков нету.
— Воткнуть бы в землю штыки — и забастовать.
— Уж и так самострелов гонят видимо-невидимо: отстрелит сам себе ладонь — и ползет в лазарет…
— Ребята! — возвысил голос Святогор. — Прошу прекратить такие разговоры.
— А тебе что? Доносить будешь? Что с нас взять? Нам и так смерть приходит, видали мы ее. Нас смертью не застращаешь.
— Доносить мне чего же, я и сам — мужик, но только что — лучше прекратить. Зря болтать нечего. Вы на войне дрались, а я ведь затем только поехал на фронт, чтобы воинам облегчение сделать. Я, братцы, мужик безземельный, в цирке борцом служил, я умных людей всяких видал. Вы меня послушайте: не шумите, а ждите. Доподлинно знаю: скоро будет конец войне. Писатель один знакомый мне говорил.
— А ты видел, нешто, писателей?
— Эй, елки зеленые! да я у Льва Толстого был, с отцом Кронштадтским беседовал, у проповедника Илиодора в Царицыне жил: все правды искал. Я тертый калач, много чего видал.
— Видать, что тертый калач. А Распутина видел?
— Очень даже хорошо знаком: запивоха, пьяница. Про войну очень матерщинно выражался. Про войну сказывают — прекратить надо.
— А не врешь ли ты, дядя?
— Что мне врать? Что слышал, то и говорю. Будет замирение всех народов, и образуется одно общее государство по всей земле, без царей и без помещиков.
Поезд сильно дернул и медленно пошел, постепенно увеличивая скорость.
Святогор задвинул дверь.
— Поглядеть, жив ли новый-то? Что-то больно тихо лежит.
Новый пассажир лежал неподвижно, с заострившимся, восковым лицом. Святогор подошел, приложил к груди ухо, вдруг снял папаху, сложил крестом руки кавказца и сказал:
— Кончился!
— Мертвого положили! — разом загалдели раненые.
— Не хотим мертвого! Уберите его!..
— Рядом с мертвым лежать, в одном вагоне ехать?.. Бунт устроим!
Вагон галдел.
— Ребята! — старался перекричать всех Святогор: — куды я его дену? Потерпите. На первой же станция заявку сделаю, тогда и снимут. А теперь куды же?
— Не хотим! Не желаем, чтобы с нами — мертвый…
Кто-то заплакал.
Святогор долго толковал с ранеными. Валерьян дотронулся до скрещенных на груди рук мертвеца: они были холодные. Чернобровое бледное лицо, обрамленное молодой бородкой, казалось еще полным жизни. Красавец-юноша. Вероятно, есть невеста, жива мать. Ждут его возвращения. А он вот лежит здесь бездыханный, безмолвный, словно задумался о чем-то. На глухой станции зароют подле железнодорожной насыпи, и навсегда исчезнет глупый, несмышленый юнец. Стоит ли эта бессмысленная, грязная война всех бесчисленных молодых жизней, которые она ежедневно поглощает десятками, сотнями тысяч? Валерьян не видал в ней ничего героического, красивого. Тупое, дьявольское истребление людей чудовищными машинами, посылающими невидимую смерть из-за десятков верст. И вот — грязные вагоны, а которых в мирное время возят скот, набитые обломками изувеченных человеческих тел, еще живых, страшно обозленных, потом — лазареты, братские могилы, много могил. Война безобразна, ужасна, преступна и бессмысленна. Может быть, и он, Валерьян, художник, любящий жизнь и людей, так остро чувствовавший радостные краски мира, погибнет, как червь, издохнув в каком-нибудь лазарете. Ведь он здесь — только раненый санитар, один из бесчисленных санитаров, — прислуга войны. Валерьян прежде книжно отрицал войну, теперь она вызывала в нем сознательный ужас, омерзение и ненависть.
Рядом с ним лежит холодный труп, который скоро начнет разлагаться, и кто знает, не окажутся ли они все трупами к тому времени, когда остановится поезд?
Было душно от трупного запаха гниющих ран, от йодоформа, испражнений и зловоний десятков полумертвых людей, заключенных в тесной коробке товарного вагона. Мертвый лежал, трясясь как бы от смеха, почти соприкасаясь с Валерьяном, когда вагон качало на стыках рельсов. Слабый свет сумрачного серого дня проникал только в маленькое, конюшенное окошечко под самой кровлей вагона. От вони и боли в висках и затылке кружилась голова, тошнило. Валерьян закрыл глаза. Его мысли скоро перешли в безобразный, кошмарный бред.
III
Наташа проснулась.
Хотела вытянуть руку — не слушается рука, пальцы затекли, не сгибаются; хотела шевельнуть затекшей ногой — не повинуется нога.
Вошла Марья Ивановна с полотенцем и тазиком: Наташа всегда умывалась при ее помощи, сидя в постели. С трудом поднялась, села.
— Знаете, Марья Ивановна, я отлежала руку в ногу. Потрите мне их хорошенько!
Марья Ивановна взяла безжизненную руку Наташи: рука была холодна и тяжела, как мертвая… Камеристка выронила ее, побледнела, разинула рот, чтобы сказать что-то, — и не могла. Задрожала вся. Наташа взглянула на это искаженное лицо и поняла.
— Позвоните доктору, Марья Ивановна, — спокойно сказала она.
Камеристка вышла, твердо стуча каблуками, а Наташа легла и тихо поглаживала правой рукой левую.
Пришла Варвара с притворной улыбкой. Наташа вздрогнула, спрятала больную руку под одеяло. Смутно вспомнила Наташа страшную сцену наедине с сестрой в содрогнулась, не зная, была ли эта сцена на самом деле или приснилась ей.
— С добрым утром, милая сестрица!.. Слышу, Марья Ивановна к доктору звонит. Опять припадок, что ли? — Варвара насмешливо прищурилась и засмеялась: — У Зинаиды тоже недавно припадок был.
— Надо Валерьяну телеграмму послать, — помолчав, сказала Наташа.
— Соскучилась?
— Всяко бывает… Что я тут? В тягость всем. Хочу в своей квартире жить.
— Правильно! Тогда и доктору удобнее бывать… Скоро старухи будем, а все родительское всевидящее око над нами пребывает…
Легкой, изящной походкой, элегантный, как всегда, вошел Зорин. От его привлекательной улыбки как будто сразу стало светлее в комнате. Все три женщины невольно ответили ему радостной улыбкой. Наташа улыбалась своей особенной, единственной улыбкой, появлявшейся только для Зорина.
— Прежде всего — не пугайтесь! — начал он. — Серьезного ничего не может быть. Позвольте-ка ручку!
Он взял Наташину руку и вдруг нахмурился, но тотчас же улыбнулся. Наташа наблюдающе следила за ним.
— Так я и знал… Временная анемия. Это пройдет, только нужно делать ежедневный массаж. Я вам пришлю массажистку… Впрочем, нужно исследовать.
Лицо его приняло то вдохновенное выражение, которое так любила Наташа.
— Прошу! — театрально сказал он, делая жест, приглашающий остальных к выходу.
Оставшись вдвоем, Зорин и Наташа несколько секунд молчали. Оба не могли скрыть волнения.
— Скажите правду, — прошептала Наташа.
— Я вам сказал почти всю правду, — тихо ответил врач. — Но прежде всего — признайтесь: вы испытали неприятность, потрясение, ну, испуг, что ли?
Наташа отвела взгляд в сторону.
— Да, — сказала она шепотом, На глазах ее навернулись слезы.
— Что случилось?
— Этого даже вам не скажу.
— Хорошо. Вот вам правда: у вас легкий паралич, но…
Две слезы покатились по щекам больной.
— Клянусь вам, что я вылечу вас: в этой форме паралич излечим. Конечно, не сразу, пройдет много времени…
Наташа тихо вытерла слезы и долго не могла говорить. Потом сказала с неожиданным спокойствием:
— Николай П… Павлович… я знаю, что умираю… медленной смертью…
Доктор сделал протестующее движение.
— Не лгите… перед таким страданием… Это оно загубило жизнь большого художника. Но моя смерть воскресит его… Ведь правда — он очень талантлив?
— Да, но во всяком случае… Что вы хотите сказать?
— Я хотела служить ему… любила в нем талант… и — человека… Ведь он хороший, добрый, — правда?
— Правда.
— Но как мужчину — никогда не любила!.. Нет в нем чего-то, что нравится нам, женщинам.
Доктор пожал плечами.
— Я этого не знала тогда… когда сделала выбор между ним и другим. Ошиблась на всю жизнь… Только для того, другого, хотела бы жить!.. Вы знаете его?..
— Знаю, — вспыхнув, тихо ответил врач, близко наклоняясь к лицу Наташи и продолжая еще тише: — Он тоже ошибся и тоже несчастлив.
Глаза их встретились. Долго молчали оба — доктор и пациентка. Наконец он сказал:
— Прошлого не воротишь. По ошибке прошли мы… они — мимо друг друга и слишком поздно встретились опять…
— Слишком поздно, — повторила Наташа. — Я любила и люблю его. всю жизнь — его одного. Буду любить до самой смерти… Она уже стоит надо мной. Я умираю, милый… Поцелуйте меня в первый и последний раз!
Доктор Зорин наклонился и поцеловал больную долгим, нежным поцелуем. Наташа обвила его шею детски- тонкой, голой, почти прозрачной рукой.
— Ну, теперь идите!
Наташа спрятала лицо в подушку.
Зорин вышел.
В гостиной его ожидала вся семья: весть о новой болезни Наташи заставила даже Настасью Васильевну явиться на семейный совет. В центре всей группы сидел Сила Гордеич. Отдельно от всех, у гардины окна стояла Варвара. Кронид, опустив голову, вил веревочку. Лицо старухи было скорбно. Сила Гордеич, изможденный, больной, задумчиво жевал губами.
— Скажите, доктор, что у нее?
— Удар, — жестоко ответил Зорин, садясь на пододвинутый стул. — Паралич левой стороны в легкой форме. Жизни непосредственно не угрожает. Возможно, что больная даже поправится, не совсем, но отчасти: будет в состоянии двигаться по комнате. Полное восстановление вряд ли возможно.
Сила Гордеич покачал головой.
Все смотрели на доктора в ожидании.
— Что за причина?
Зорин замялся.
— Причины бывают разные, но в данном случае на почве болезни сердца катастрофа могла произойти от ничтожных причин: внезапное волнение, испуг, переутомление…
— Не получила ли письмеца от муженька? — с жесткой насмешкой спросила старуха. — Прислал недавно — прямо, как плач на реках вавилонских, и ждет, поди, что такое письмо мы ей отдадим? Не дрогнула рука написать!
— Никаких писем она не получала, — тихо сказал Кронид.
— Я ее спрашивал, — медленно говорил Зорин. — По-видимому, был внезапный испуг, но при каких обстоятельствах — она объяснить отказалась.
— Не знает ли кто? — спросил Сила Гордеич, обводя всю семейную группу хмурым взглядом поверх очков.
Все молчали.
Старик вопросительно переводил взгляд от одного в другому и наконец мельком взглянул на Варвару: она стояла, отвернувшись к окну, потом, не поднимая глаз, медленно вышла.
IV
В Киеве был разгар зимнего сезона. В театрах шли бенефисы, гастроли, благотворительные вечера. Рестораны сияли. В уличной, театральной и ресторанной толпе преобладали военные. Чувствовался тыл армии. Гостиницы были переполнены.
В поздний зимний вечер швейцар «Континенталя», отдыхая после дневной суеты, читал вечерние телеграммы, развалившись в кресле у дверей вестибюля. По случаю взятия Перемышля в городе разливанное море. Военные ходят гоголем, у всех папахи набекрень. А приезжих все прибывает. Всем «штатским» велено отказывать в номерах, беречь свободные комнаты для военных.
Затрещал звонок.
Швейцар отворил внутреннюю дверь подъезда и, подойдя к запертой наружной двери, прислонил усатое лицо к зеркальному стеклу. Смутно виднелась фигура человека с чемоданом в руке.
— Нет номеров!
— С фронта! — повелительно крикнул голос снаружи.
Дверь отворилась, и в теплый вестибюль вошла, звеня шпорами, высокая фигура в занесенной снегом бурке, в башлыке и сивой папахе с кокардой.
Фигура сунула чемодан швейцару, сбросила башлык, обнаружив бледное, худое лицо с маленькой бородкой. На этом лице был отпечаток войны, как у всех, кто побывал в ее огненном пекле.
— Найдется номер?
— Так точно. Как прикажете записать?
— Валерьян Семов, военный корреспондент.
Швейцар повел его наверх и, отворив угловую комнату, зажег электричество.
Валерьян, сбросив бурку и оставшись в кожаной куртке, сел за письменный стол, развернул лежавшую на нем газету. Мельком взглянул на объявления первой страницы. В опере шла «Мадам Бетерфлей» с участием Виолы Рубан…
Посмотрел на часы: можно еще застать второй или третий акт. Наскоро умылся, взглянул на себя в зеркало. Глянуло суровое, обветренное лицо, словно опаленное пожаром. Усмехнулся. Накинув бурку и спустившись вниз, вышел из гостиницы.
Оперный театр сиял близко, через улицу; над кассой висело объявление об аншлаге. Сквозь круглые закрытые двери доносились волны оркестра и золотистый голос Виолы.
Валерьян прошел за кулисы. Меж боковых декораций можно было видеть певицу в японском «кимоно». Шла сцена расставания: лейтенант покидал обманутую японочку. Красивый голос певицы звучал естественно, задушевно. и грустно…
«А ведь у нее талант!» — думал Валерьян, смотря в упор на Виолу из-за кулис, но она не видела его, переживая любимую роль.
Тенор пустил финальную ноту, уплывая «в море», сцена наполнилась металлом сильного голоса. Валерьян ожидал, что театр грянет аплодисментами, но их не последовало.
— И всегда он так! — прозвучал знакомый бас за спиной Валерьяна. — Опять весь звук остался на сцене…
— Зато Рубан хороша… Первый дебют, — а как передает!
Валерьян обернулся: позади него стоял Василий Иваныч в парадном, фрачном костюме.
— Валерьян Иваныч! Откуда?
— Из Львова.
— Узнать нельзя. Исхудали вы.
— Болен был.
Занавес опустили. Публика громкими аплодисментами вызывала Рубан. Она помчалась на сцену бегом, как девочка, сияющая и прекрасная.
— Пойдем к ней! — подхватив Валерьяна под руку, сказал Василий Иваныч. — Вы попали на первый дебют Виолы. Поет, как никогда прежде не пела. Талантливая девчонка!.. Рада будет вас видеть… Она знает о вашем приезде?
— Я писал ей.
— А вот и Виола.
Со сцены с букетом в руке вышла певица, на миг остановилась: радостно вскрикнув и подбежав к Валерьяну, положила ему руки на плечи. Глаза ее сияли.
— Валерьян Иваныч, наконец-то! Вот счастье!..
— Поздравляю с успехом, — сказал Валерьян, целуя ей руку.
— Я счастлива, пьяна, но не от успеха… Приехал! Боже мой, и какой бледный!.. Здоров ли?
— Теперь здоров.
— Ну, идемте в мой уголок! И вы, Аяров, тоже.
— Аяров — это мой псевдоним по сцене, — пояснил певец.
В уборной Виола опять взяла Валерьяна за плечи, долго смотрела в глаза.
— Я вас никогда не видел такой, Виола, — смеясь, заметил Аяров. — Вы столько тратите нервов сегодня, а ведь после спектакля предстоит концерт!..
— Ничего, я могу петь хоть до утра. Валерьян Иваныч, едемте с нами на благотворительный концерт!
Валерьян поклонился.
Виола, сидя перед зеркалом, поправляла грим.
— На сцену! — послышался голос за дверью.
— Последний акт, — сказала Виола, вставая. — Друзья, идите в публику, а потом подождите меня.
Аяров провел Валерьяна в директорскую ложу и сам остался с ним.
«Мадам Бетерфлей» была трогательна. Валерьян не сводил глаз с певицы: печальная история о наивной японочке, воображавшей себя женой иностранца, равнодушно бросившего ее ради другой, настоящей жены, вызывала невольное чувство сострадания. Но Валерьян думал о живой Виоле, о том волнении, с которым она встретила его, вспоминал первое знакомство с ней полгода назад. Виола нравилась ему с первой встречи. Голос певицы рыдал, звенел призывом и слезами, но художнику чудился в резонансе этого голоса призрачный, властный шепот: «Ты мой!.. Ты мой!.. Даже после смерти моей… Всюду буду с тобой!» Казалось, что за соблазнительной певицей следует невидимая тень другой женщины с печальным, укоризненным взглядом.
Валерьян вышел из ложи. Долго ходил по коридору. Спектакль кончился. Аяров пошел за кулисы, вернулся вместе с Виолой, уже одетой в бархатную шубку. Вышли втроем. Подкатил парный извозчик с коренником под голубой сеткой. Виола села рядом с Валерьяном. Аяров поместился на переднем сиденье.
— Пошел в клуб! — звучно сказал певец.
Сани понеслись по морозному снегу, синеватому от встречных фонарей.
Небольшой зал клуба был переполнен. Аяров пел трагический романс о всаднике с мертвым черепом, о смерти, властно попирающей поле битвы. Мрачный романс, исполненный блестящим голосом, оставил сильное впечатление. Но чем ярче пел певец, тем тяжелее было Валерьяну слушать, хотелось забыть о войне. Особенно раздражало, что «об этом» поют перед нарядной, благополучной толпой.
Было душно. Валерьян вышел в буфет, выпил рюмку коньяку. Думал о Виоле и Наташе, сравнивал их. Одна — больная, разлюбила его, отпустила на все четыре стороны, дала свободу. Другая, полная жизни, огня, молодости, — призывает к радостям новой любви. Что же мешает ему пойти навстречу ее призыву? совесть? верность законной жене, открыто и честно любящей другого? Мещанство или только жалость? Он почти реально видел призрак, враждебно смотревший на него во время пения Виолы. Может быть, сказывается контузия. Валерьян отошел от буфета и в дверях столкнулся с Константином.
— Валерьян Иваныч! Сейчас только узнал, что вы здесь, — смеялся Константин. — Ну-ка, завернем, дернем по единой!
Он подхватил родственника под руку и повернул обратно.
— Надолго в Киев?
— Нет, проездом. Еду на отдых домой.
— Пора! Я тоже собираюсь по делам, а потом обратно.
— Какие же дела у вас, Костя?
— Земский союз организовал на Волге фабрику. Солдатское сукно и одеяла в лазареты поставляем.
— А имение?
Константин махнул рукой.
— Пес с ним! Две рюмки водки или коньяку?
— Все равно.
— Заходите завтра вечером ко мне. Вот адрес. Большая квартира, вроде общежития. Все наши волжане, и Василий Иваныч там. Однако идемте Рубан слушать. Она тоже бывает у нас. Вы знакомы с ней?
— Как же, еще в Крыму встречались.
— Значит, придете? Поговорим тогда о домашних делах, а сейчас некогда… Ну, до завтра. Пишет Наташа?
— Потому и еду, что пишет: зовет домой.
Когда Валерьян вернулся, на сцене пела Рубан. Пела она одну за другой солнечные итальянские песни. Появление Валерьяна в ложе сейчас же заметила, и голос ее с этой минуты зазвучал призывно: пламенный темперамент невольно зажигал, волновал и покорял слушателей. Валерьяну казалось, что Виола поет для него. Ее долго вызывали, заставляли бисировать.
Когда она ушла со сцены, Валерьян отправился в комнату артистов. Длинный стол был уставлен цветами и фруктами. Виола с пылающим лицом стояла с бокалом шампанского в руке. Аяров говорил шутливую речь. Константин тоже стоял с бокалом.
— За молодой талант, за ваше будущее! — закончил Аяров, чокаясь с Виолой.
— Вот еще с кем я хочу чокнуться! — звонко крикнула Виола, поднимая бокал, а другой поднося Валерьяну. — Пью за тех, кто, безоружный, добровольно переживал муки и ужасы войны. Кто не убивал других, но сам смотрел смерти в глаза. Пью за добрых и храбрых, за тех, кто любит людей.
Она выпила и уронила бокал на ковер.
— Я пьяна, — сказала она, вдруг угаснув и бессильно опускаясь в кресло. — И весело, и грустно мне.
— У вас драматическое настроение, — дружески шепнул ей Аяров.
Виола засмеялась.
— Должно быть, все еще роль переживаю. Художник, сядьте ближе ко мне, я так ждала вас! Слушайте, на сцене поют. Какая грустная песня!
Со сцены доносились звуки балалайки. Небольшой, приятный тенор пел русскую песню:
Как один купец рассказывал рассказ: Один молодец девицу погубил.— Это из цикла нижегородских песен, — пояснил Аиров.
На него зашикали.
Виола слушала, опустив голову.
Он с ее руки колечко получил, Сам уехал, обещался замуж взять. Сел в коляску, кони быстро понеслись…Виола крепко схватила горячей рукой руку Валерьяна.
— Домой! — резко сказала она. — Устала, скучно. Плакать хочется. — И, наклонившись близко к лицу художника, прошептала: — Проводите меня!
Валерьян подал ей шубу. Руки Виолы дрожали. На сцене замирало пение.
У подъезда Виола еще раз посмотрела Валерьяну в глаза. Она быстро вскочила в сани. Валерьян, садясь рядом, тихо спросил:
— Куда?
Вместо ответа Виола безмолвно склонилась к нему.
— В «Континенталь»! — неожиданно для себя крикнул извозчику Валерьян.
Виола вошла в номер гостиницы, как в свою комнату. Доверчиво, радостно улыбаясь, сбросила ему на руки шубу. Чувствовала себя победительницей, поправляя перед зеркалом прическу и любуясь своей красивой фигурой.
Валерьян смутно помнил, как к ногам Виолы легким облаком упало платье цвета зари, как он схватил и поднял на руки упругое, прекрасное тело маленькой женщины…
Наконец он открыл глаза: над его лицом склонилось пылавшее смуглым румянцем лицо Виолы, и серьезно, грустно смотрели большие потемневшие глаза с длинными, изогнутыми ресницами. Лицо ее казалось неподвижным, но из глаз волной вдруг хлынули слезы.
— Милый!.. любимый!.. — тихо сказала Виола. — Люблю тебя… Пойду с тобой на все…
Замолчала, только теперь вспомнив о жене Валерьяна.
— Ведь она порвала с тобой, другого любит?
Валерьян вздохнул.
— Пока не выздоровеет, не брошу ее, — хмуро ответил он.
— И не бросай. Будь ей другом, а меня люби! Может быть, и я ее полюблю: она — живые мощи, а ты — живой человек, ты не можешь замуровать себя вместе с нею в могильном склепе. Это бывает только в опере «Аида», а жизнь — не опера. Тебе нужна свобода; ты художник, ты не имеешь права губить свой талант.
— Я люблю ее… и тебя! — тихо добавил Валерьян.
— Ну и что же тут особенного? Некоторое время будет у тебя две жены. Не ты первый, не ты последний. Она — твой крест, а я от тебя ничего не требую. Я только хочу спасти от гибели твой талант. Готова отдать все для тебя. Сколько лет ты любил больную, которая и любить-то тебя не может! Наверное, и того, другого, не по-живому любит. Должен же ты когда- нибудь вырваться из склепа! Я поступлю в московский театр, будешь приезжать ко мне. А лучше, если бы ты только заботился о ней, но не жил там, в провинции: там — погибель твоя. Ты сильный. Ты все вынесешь. Если же окажешься безвольным и слабым, я разлюблю тебя!
— Сильные выносят все, — возразил Валерьян, — но и они иногда падают. Слабые же никогда не несут креста. Вот и ты готова на жертвы для меня, а ведь тебе нужен сильный человек, который помог бы тебе подняться на гору. Я помню, ты так говорила.
— Мне — ты нужен… ты!.. Я не слабая. — Виола замолчала, потом усмехнулась. — Странно, о чем мы говорим! Ведь ты уже спас ее от смерти. Она почти выздоровела и даже другого полюбила. Чего же лучше? Миссия твоя кончена. Жена скоро выздоровеет, найдет свое счастье, и все будет хорошо. А мы с тобой, мой милый, любимый, начнем новую жизнь.
Валерьян обнял Виолу и повторил, по-прежнему хмурясь:
— Начнем новую жизнь! Да, наверно, ты была бы хорошим товарищем мне.
— Чего же хмуришься? Ну, улыбнись! Мне нравится, когда ты смеешься.
— Я не способен строить свое счастье на несчастье других.
— А хотя бы и так, — тряхнув головой, резко сказала Виола. — Сказано — падающего толкни! Иногда это честнее, чем падать вместе с ним.
Валерьян хотел возразить, но Виола прильнула к его губам.
Сквозь опущенные гардины давно уже пробивался зимний утренний свет, доносился шум трамвая, в коридоре гостиницы слышались шаги проснувшейся прислуги.
— Посмотри! — сказала Виола, приподнимаясь и смотря на дверь. — Телеграмма лежит на полу.
Она вскочила и подняла просунутую под дверь бумажку.
V
Вечером под Новый год в доме Черновых ждали приезда Валерьяна. По этому случаю Наташа, не встававшая с постели, приоделась.
Много было хлопот Марье Ивановне, чтобы нарядить больную по ее вкусу. У Наташи явилась фантазия одеться художественно, чтобы произвести приятное впечатление на мужа. Она сидела, спустив ноги с постели, в платье цвета осенних блеклых листьев. В особенности много было забот и размышлений с прической: густые каштановые волосы Наташи Марья Ивановна долго завивала, ползая перед ней на коленях, достала где-то длинные оранжевые листья и ловко вплела их в волосы.
Вошел Кронид, ухмыляясь в бороду:
— Сейчас Валерьян Иваныч звонил!
Наташа вспыхнула.
— Оказывается остановился в гостинице и спрашивает: не можешь ли ты к нему приехать? Я, конечно, ответил, что не может, мол, и просил прибыть сюда, заверил, что если он не хочет встречаться с Настасьей Васильевной, то это можно устроить… Все еще черные кошки между ними бегают, что ли?
Наташа покачала головой.
— Ах, Кронид, Кронид! Не в кошках дело. Ведь надо же нам о своих делах поговорить. И вообще я только ждала его, чтобы переехать на отдельную квартиру. А пока поживем в гостинице.
— Это скандал будет, — возразил Кронид. — Из собственного дома да в гостиницу!.. Силе Гордеичу обида. Что люди-то скажут! И без того Костя с Митей не разговаривают, жен их ты терпеть не можешь, Настасья Васильевна с Варварой Валерьяна ненавидят, Варвара против отца пуще прежнего злобствует… Прямо, как пауки в банке.
— Вот поэтому-то я и хочу из дома выехать, Кронид. Ты забываешь, что я больна, что все это на нервы действует… Как тут жить? Для того и мужа выписала. Отдельно хочу жить, своей семьей… Ведь у меня еще Ленька есть, и ему нехорошо: издергают его, как нас всех издергали… Где он?
— У окошка сидит, отца ждет… Действительно, дергается весь от нетерпения.
Шаркающей походкой, в туфлях, но, как всегда, опрятно одетый, вошел Сила Гордеич, окончательно одряхлевший и высохший.
— Уйми ты своего разбойника! — недовольно ворчал он, обращаясь к Наташе. — Всю ночь мучился, не мог заснуть, а тут, наконец-то, нечаянно, сидя на стуле, задремал. Так нет — прибежал Ленька, кричит: «Па-па приехал!..» Кто его просил будить-то меня, спрашивается?.. Полон дом народу, всякий делает, что хочет, а до меня — словно и дела нет никому… Эх! как было задремал-то хорошо!
— Никто не посылал его к вам, — отозвался Кронид. — Сидят все по комнатам.
— Вот то-то и есть, что по комнатам… Не дом — гостиница. Где же Валерьян? Или зря шум подняли?
За дверью послышались шаги и звук шпор. Вошел Валерьян в солдатской гимнастерке и высоких сапогах.
Войдя, он остановился против Наташи, радостно всплеснув руками. Лицо ее вспыхнуло густым румянцем, огромные синие глаза без блеска, оттененные черными ресницами, оживились. Осыпанная оранжевыми блеклыми листьями, в этот момент она как бы помолодела и похорошела, напомнив самое себя до замужества.
— Красавица! — смеясь, вскричал Валерьян и, опустившись на одно колено к низкой кровати, поцеловал руку жене.
— Ну, чем не рыцарь? — добродушно пошутил Кронид.
Прибежал Ленька в серой курточке, с наголо остриженной круглой головой.
— Я первый увидел, как ты на извозчике подъехал! — возбужденно кричал он, хлопая в ладоши.
— Ленька, помолчи! — строго сказал ему дед.
Валерьян поднял сына на руки, посадил к себе на колени.
— Я же не маленький, папа!.. — Вырвался и сел рядом.
— Ну, конечно, вырос ты здорово, в гимназию пора.
Наташа улыбалась.
— Ох, как напугала ты меня, голубушка, телеграммой этой! Что случилось? Где у тебя паралич?
— Так, пустяки, — беспечно отвечала Наташа. — Ручка да ножка пошалили немножко, после — об этом. Теперь, Валечка, я вас больше на войну не пущу.
— Да уж довольно бы, кажется, — вмешался Сила Гордеич. — Пора бы — давай бог ноги: не до художества там теперь.
— В газетах туманно пишут, — заметил Кронид, — а слухи идут плохие. Расскажите-ка!
— До моего отъезда, — начал Валерьян, — наши гнали австрийцев, победы праздновали, а теперь пришли немцы и, как метлой, вымели нас из Галиции…
— Что же за причина?
Валерьян усмехнулся.
— Чудовищная артиллерия и — ядовитые газы. Читали, чай. Пустят вперед дымовую завесу, а потом ураганный огонь все сметает, железной гусеницей ползут… У нас не только снарядов — ружей не хватает. Задние ряды с голыми руками идут, брошенные ружья у мертвых подбирают… В тылу путаница: то снаряды не туда зашлют, то не того номера, или вместо снарядов черт знает что окажется… Началось это как раз после моего отъезда… Про измену слухи идут, — будто бы в нашем тылу немцы же все это устраивают…
Сила Гордеич, тяжело вздохнув, пожевал губами.
— Плохо будет, ежели союзники не выдержат.
— Союзники! — усмехнулся Валерьян. — Им тоже туго. Говорят, в Париже слышна немецкая канонада: тевтоны идут, земля дрожит под ними…
— Слов нет, великое испытание предстоит народу нашему, — задумчиво изрек Сила Гордеич. — Однако хорошо вы сделали, что вовремя уехали… Чай, и без ваших корреспонденций обойдутся…
— Собственно, я уехал в месячный отпуск… Писал в газетах, ну, и рисунков много накопил…
— Хорошо заработали? — посмотрел Сила поверх очков.
— Не очень: рисунки мало использовал. Больше корреспонденции… Две недели в Киеве сидел, отписывался… Тысчонку вывез все-таки…
— Не густо! — покачал головой Сила. — Ладно, хоть цел остался!..
— Отпуск ваш я изорву, Валечка. Вы похудели, побледнели…
— Война-то, видно, не свой брат! — гыгыкнул Кронид.
— А на вашу тысячу квартиру снимем, — продолжала Наташа.
Сила Гордеич недовольно крякнул.
— Какую тебе еще квартиру? Плохо у отца-то?.. Чай, покудова и здесь поживете?
— У нас своя семья, папа.
— У каждого своя семья. Всем бы лучше одной семьей жить… Пойдемте-ка чай пить, а потом ужинать.
Валерьян вежливо, но холодно отказался. Сила Гордеич знал, что зять не в ладах с тещей и свояченицей, не стал упрашивать.
— Папа, я поеду с ним: нам надо поговорить, давно не видались, — заявила Наташа.
— В гостиницу? — Сила пожал плечами. — Не по душе мне все это… Ну, да и то сказать, не разлучать же мужа с женой!
— А я-то один здесь останусь? — захныкал Ленька.
— Все поедем, — обняла Наташа сына: — и ты, и Марья Ивановна.
— В самом деле, дядя, пускай пока в гостинице поживут, — просительно сказал Кронид. — Какая уж тут встреча Нового года, когда настроение у всех — гы-гы!
Сила засопел и поднялся со стула.
— Просить можно, а неволить грех… Кронид, вели Василию лошадь заложить! Не того бы хотелось, — повернулся он к Валерьяну, — неприятно мне это. Ну, ничего поделать не могу. Живите уж, как знаете!
Он пожал руку зятю и, явно огорченный, удалился.
Кронид пошел в кухню отдать приказ Василию.
Наташа склонила голову к плечу Валерьяна, чтобы скрыть внезапные слезы.
— Плохо было без меня? — тихо спросил Валерьян, вдруг охваченный щемящей жалостью к ней.
— Плохо, — прошептала Наташа. — Не покидайте меня… Вы мой единственный друг и товарищ…
Сила Гордеич, заложив руки за спину, прошелся по двум богато обставленным комнатам. В углу стояла приготовленная елка. Снова думал о своих детях и внуках, кряхтел и вздыхал. Литые зеркала от пола до потолка в безмолвии отражали громоздкую, тяжелую мебель и чахлую, согбенную фигуру старого миллионера.
Переезд Наташи в гостиницу казался ему скандальным событием, чем-то вроде официального разрыва Наташи с домом отца. Опять сплетни пойдут да расспросы.
— Уехали! — сказал вошедший Кронид, вынул веревочку, сел в кресло и начал расплетать ее.
— Не глядели бы мои глаза, — прорычал Сила Гордеич, со вздохом опускаясь на диван. — Скучища-то какая!.. Прожил век — сам не знаю зачем. Не только семейного уюта — спокоя не знал никогда, одни неприятности. Надоело мне все это хуже горькой редьки. Ну, скажи, пожалуйста, зачем они еще в гостиницу потащились? Срам один и оплеуха отцу! Дмитрия раз в год вижу, Константин — на фронте, а на Варвару и глядеть-то противно. Помру, чай, скоро — вот и будет всему конец…
— Ну, полно вам, дядя! Позвонить надо Мельниковым: не приедут ли? В картишки сыграем…
— Что ж, позвони. Да закуску вели собрать!.. Выпить бы…
— Ведь вам запрещено?
— Э! — Сила махнул рукой. — Все одно, надоело все. Забыться хочу. Семья моя развалилась. Россия гибнет. Беды ждать надо… Ну, иди-ка, позвони!..
Кронид встал, но в это время в передней затрещал звонок.
— Кого еще бог дает? — удивился Сила Гордеич. — Не ряженые ли? Без карточки не принимать!
В передней, куда поспешно вышел Кронид, послышалось несколько мужских и один женский голос — как будто знакомые, чей-то басовитый, раскатистый смех.
Вошли — Крюков в полной офицерской форме, в эполетах и при сабле, с лихо закрученными усами, — совсем узнать нельзя стало купца-бородача, всегда ходившего в поддевке; за ним Константин и Мельников с Еленой. Давно не видал Сила племянницу; бледная, высокая, стала еще худее прежнего, в лице этакая тонкость появилась, а на висках преждевременная седина. У Мельникова отросли тараканьи усы и руки постоянно трясутся, еще с пятого года… Ребенок глухонемой у них, — тоже горе…
— Не ждали, Сила Гордеич? — шумел Крюков, обнимая старика. — Это мы нарочно — новогодний сюрприз вам.
Костя, усмехаясь, пожал руку отца без особых нежностей, как всегда.
— Как снег на голову! — дивился Сила, улыбаясь гостеприимной улыбкой. — Откуда?
— Мы-то с Костей — с фронта, — не давал никому говорить Крюков, отстегивая саблю и зачем-то поставив ее в угол. — В вагоне встретились, да и залились сначала на ихнюю земскую фабрику: пригодится после… Рассчитали так, чтобы к вам на встречу Нового года попасть. Завернули к Мельниковым — и шасть сюда всей значит, компанией. Рады ли, нет ли, а уж угощайте гостей…
— Рад! Как — не рад? Сидим тут с Кронидом, как два сыча. Глаз никогда не кажешь, — обратился он к Мельникову.
— Да все дела, — хихикая, говорил Федор: — поставками занимаемся. Дело хлопотное, ну, зато не без прибыли. Вот денежки вам привез!
— Какие?
— А должок-то, десять тысяч? К Новому году, говорят, обязательно надо долги платить. Хи-хи!
— За это спасибо! Долг платежом красен… Хорошо заработал?
— Не жалуемся. Даже многие ненадежные люди взаймы просят.
— А ты знаешь пословицу: у тебя плачут да просят, а ты реви да не давай!.. Ну, пойдемте чаевничать.
К чаю вышли Настасья Васильевна и Варвара с детьми — девушкой на возрасте, похожей на мать, и студентом, приехавшим на святки из Москвы. Сын Варвары был чрезвычайно смугл, скуласт, горбонос и черноглаз.
— Совсем ты, Коля, татарчонком выглядишь! — сказал ему Крюков. — И в кого это он у вас такой, Варвара Силовна, — в отца, что ли?
— А то в кого же еще? — рассмеялась Варвара. — Впрочем, это атавизм какой-то: в казанскую родню. Как будто из орды Чингис-хана сбежал!..
— Как здоровье Наташи? — спросила Елена Варвару. — Все лежит?
— Какое — лежит! Муж приехал, так она к нему в гостиницу переехала.
— Что ж это — в гостиницу? — с осуждением сказала Елена.
— Им там лучше будет, — обидчиво заметила Настасья Васильевна.
— Удобнее, — подхватила Варвара: — есть где доктора принимать…
— Мы с Валерьяном вместе до Москвы ехали, — рассказывал Константин.
Сила Гордеич насторожился. Намеки Варвары на доктора не нравились ему.
— Ну, что ты теперь про войну скажешь? — спросил он Крюкова. — Небось, опять революция мерещится?
— Шутки плохи, — воодушевился Крюков. — Я, конечно, стою за войну до победного конца. Но все может быть, Сила Гордеич: момент критический!..
За столом стоял общий гомон.
— Ребятишки, пойдемте елку зажигать! Небось, танцевать хотите? Или хором петь? Так и быть, поиграю вам, — сказала Варвара.
— Все ступайте, — сказала Настасья Васильевна? — ужин буду накрывать. — И вышла распоряжаться по хозяйству.
Все перекочевали в гостиную. Зажгли елку. Варвара села за рояль. Начались танцы. Сила с Крюковым толковали о политике. Крюков опять развел рацею часа на полтора. После танцев запели хором.
Настоящего веселья никогда не бывало в доме Черновых. И на этот раз, как всегда, все внутренно скучали, кроме разве Мельникова, который искренне радовался, что расквитался с долгом Силе Гордеичу. За ужином мужчины по заведенному обычаю налегли на водку, в когда, наконец, пробило двенадцать и подали шампанское, Сила Гордеич неожиданно оказался вдребезги пьяным, — чего с ним давно не бывало. Сила Гордеич смутно помнил, как он целовался с Мельниковым, плакал и жаловался, что его любимая дочь «сбежала» в гостиницу, что Россия гибнет, а доктора Зорина он ненавидит. Говорил о завещании, вынул из бумажника ключ от несгораемого шкафа и все время держал его в зажатом кулаке. Он не мог больше пить, но благодарный Мельников насильно вливал ему дрожащей рукой в горло коньяк, обливая рубашку. Сила едва помнил, как его под руки, словно архиерея, отвели в спальню, уложили в постель, а пьяный Мельников лил ему, лежачему, в рот жгучую, липкую жидкость. Он икал, плевался и коснеющим языком бормотал бранные слова. Потом все стихло, и он заснул мертвым сном, но и во сне сжимал в руке маленький стальной ключик…
Вдруг он очнулся, поднял руку и наткнулся ею на холодные, тонкие пальцы, которые быстро выскользнули из его руки.
Сила Гордеич тяжело открыл веки: кругом была тьма, но из-за спущенных гардин узким лучом пробивался рассвет. Силе Гордеичу почудилось, что перед ним стоит темная женская фигура. Он не сразу вспомнил, где и что с ним происходит. Вдруг блеснула мысль, что дверь осталась незапертой вчера. «Крысиная смерть!» — мелькнуло в его мозгу. Руки и ноги онемели. Огненная волна хлынула к затылку, лицо налилось кровью, из глаз брызнули искры. Сила Гордеич хотел вскочить — и не мог пошевелиться, хотел крикнуть — язык не повиновался. Женщина протянула руку, в молчании наклонилась к его лицу, и старик в ужасе узнал Варвару. Из груди его вырвались едва слышные, хриплые звуки:
— В-ва…ва…ва…
С глухим храпом он запрокинул голову, сухенький кулачок его скатился с груди, рука свесилась с кровати, выронила ключ и осталась неподвижной.
На другой день к вечеру в гостиницу приехали Зорин и Константин. Они вызвали Валерьяна в коридор и там сообщили, что Сила Гордеич тяжело заболел: вряд ли выживет, лежит без языка, отнялись рука и нога. Сказать об этом Наташе не решались, но Валерьяна просили поехать к больному проститься.
Когда приехали в дом Черновых, все было кончено! Сила Гордеич помер.
Весь следующий день доктор Зорин подготовлял Наташу к этому событию, истощив все свое красноречие; приезжал к ней три раза в течение дня с известиями об ухудшении здоровья Силы Гордеича, в то время как он давно уже лежал в гробу. Наконец она сама догадалась, что ее обманывают, что отца уже нет на свете, и заплакала.
VI
Первое, что увидел Валерьян на Невском, — это толпу зевак, стоявшую на мостовой и задравшую головы кверху: на крыше шестиэтажного дома стоял, как монумент, рослый рабочий с молотом в руке и бил им прикрепленного над фронтоном двуглавого орла с распростертыми черными крыльями, с золочеными головами и лапами. Наконец, двумя последними ударами рабочий оторвал гигантскую птицу от кровли, поднял обеими руками над головой и швырнул с высоты на мостовую. Перекувыркнувшись несколько раз в воздухе, орел тяжело грянулся о каменные плиты и, при восторженном реве толпы, разбился на несколько частей: одно крыло переломилось, другое все еще торчало кверху, золоченые деревянные головы лежали в грязи.
— Ур-ра-а! — кричала толпа, махая руками и шапками.
Некоторые пинали нестрашную больше птицу, топтали ее каблуками.
Валерьян шел посмотреть, что делается около Государственной думы, хотел взять извозчика, но извозчиков не было, трамваи не ходили, и от этого над прежним лихорадочно-шумным, многолюдным Петроградом повисла необычайная, несвойственная ему, почти торжественная тишина.
Улицы кишели народом, но ввиду отсутствия экипажного и трамвайного движения люди шли больше по мостовой, чем по тротуарам. Это не были прежние деловые, по горло занятые, хмурые и нервно напряженные петроградцы, всегда бежавшие куда-то, как на пожар, — по всем улицам столицы в странной тишине медленно, врассыпную, маленькими кучками, как муравьи, молча двигались люди в глубокой задумчивости, с опушенными головами, словно не знали, что им теперь делать, когда привычная для них жизнь опрокинулась и остановилась.
Все учреждения и магазины были закрыты, никто не работал, не делал своего обычного дела; все остановилось, задумалось: как быть, что делать?
Иногда из-за угла вылетал грузовой автомобиль, изукрашенный красными флагами, наполненный солдатами или рабочими; они были охвачены воинственным весельем, потрясали оружием, иногда стреляли в воздух, как бы угрожая кому-то.
Валерьян вместе с толпой дошел до Таврического дворца.
Здесь творилось что-то невообразимее: все примыкавшие ко дворцу улицы и переулки были запружены такими густыми толпами людей, стремившихся, по-видимому, попасть во дворец, что происходила настоящая давка. Кого только не было в этой пестрой, неисчислимой толпе: солдаты, матросы, рабочие, интеллигенты, барыни, купцы, мужики, сновали автомобили, велосипедисты, всадники, — и все это в каком-то обалдении теснилось, толкалось, бурлило, вскрикивало.
Молодой офицерик крутился верхом на кавалерийской лошади в самой гуще толпы, поставленный, по-видимому, «наводить порядок», кричал давно уже охрипшим голосом, уговаривал, умолял, просил и наконец стал грубо ругаться.
— Господа граждане, да нельзя же так! Не лезьте? Сказано — нельзя! Слышите или нет? Дальше нельзя. Все равно не пропустят всех. Да вы что? Оглохли? Ведь ходынка будет! Это черт знает что такое!
Но толпа как будто не слышала этих беспомощных криков: густой лавиной, с покрасневшими от натуги лицами, с глухим, невнятным гулом, медленно и как бы помимо своей воли, движимая задними, все прибывавшими волнами, двигалась она к Таврическому дворцу.
Но там шпалерами стояли солдаты, никого не пропуская в образовавшийся между ними коридор.
Волна катившейся сплошной массой толпы принесла Валерьяна как раз к этому коридору и прижала за спинами цепи солдат. Он не мог никуда выбраться из толпы, даже если бы захотел уйти обратно.
В это время в проход к подъезду Государственной думы въехал шикарный автомобиль. Дверцы его раскрылись, и из автомобиля вылезло четыре человека; один из них был заметный, выдающейся наружности: высокий, худой, белокурый усач в черном пальто и круглой шляпе. Он стоял прямо против Валерьяна, и когда повернулся к нему лицом, художник невольно вскрикнул:
— Евсей!
Зоолог, увидав старого друга, почти задавленного в толпе, махнул солдатам рукой, на рукаве которой была красная повязка, и сказал им что-то. Тогда они расступились, вытащили Валерьяна из толпы и пропустили к автомобилю.
— Какими судьбами? — спросил Евсей, расцеловавшись с Валерьяном.
— Случайно попал в водоворот.
— Пойдем, я тебя проведу.
— А ты что за власть?
— Разве не видишь? — указал он на повязку и автомобиль одновременно. — Комиссар Николаевской железной дороги. Хорошо, что ты мне попался!
Они свободно прошли между шпалерами охраны к главному подъезду дворца.
«Кулуары» Государственной думы напоминали теперь одно большое, всероссийское волостное правление: толпились рабочие, были и мужики в дубленых полушубках, валенках и лаптях, по типу напоминавшие «ходоков» царского времени. Слышались толки о разных «местных нуждах», с которыми, по-видимому, теперь потянулись со всей России к Государственной думе.
Деловито пробежали люди с портфелями и папками бумаг. За дверями, охраняемыми часовыми с винтовками в руках, происходило заседание Думы.
В коридорах толкотня, шум, говор, табачный дым и следы грязных сапог и лаптей. В Государственную думу «самочинно» пришел народ собственной персоной.
— Ну, — сказал Евсей, — вот мы и встретились!
— Давно ли ты из-за границы?
— Совсем недавно. После расскажу. Сейчас мне надо на заседание, ты подожди меня: я скоро! Потом вместе поедем обедать.
Через полчаса он в коридоре отыскал Валерьяна, сидевшего на подоконнике и в качестве лишнего человека наблюдавшего общую суету.
— Едем! Ты, небось, в ресторане думал обедать? Шалишь, брат: все рестораны закрыты. Будешь обедать у меня, да кстати потолкуем… Жизнь, брат, началась треугольная!
Они пробрались к автомобилю и поехали.
— Ты один или семью завел? — спросил Валерьян.
— Мать и сестра со мной. Да еще двух приезжих друзей приютил! Коли хочешь, и тебе место найдется. Ты здесь как?
— Тоже недавно приехал из провинции по своим делам, в номерах живу.
— Перебирайся ко мне: квартира казенная, большая.
— Спасибо, но я ведь скоро назад поеду.
— Что так? Теперь здесь надо быть.
— А ты помнишь мои-то семейные дела, больную жену?
— Помню… Все еще больна?
— Разбита параличом. А отец помер недавно.
Евсей вздохнул:
— Все-таки выбирайся оттуда. Тут, брат, будут дела!
В квартире комиссара Николаевской дороги на Лиговке в ожидании хозяина на диване сидели два просто одетых человека и о чем-то спорили. В одном из них Валерьян узнал давосского редактора Абрамова, другой походил на рабочего: пожилой человек в синей блузе, в дымчатых очках и, по-видимому, слепой, — он ощупал кругом себя бегающими пальцами и говорил, как бы пуская слова мимо собеседника.
— Опять дискуссия! — засмеялся Евсей. — А вот я еще третьего привел.
— Ба! — вскричал Абрамов, — вот что называется — гора с горой!
— А это — старый каторжник, дядя Ваня, — представил Евсей слепого. — Художник Семов! Не слыхали про такого?
Слепой протянул худую руку мимо руки Валерьяна. Рукопожатие вышло неловким.
— Слыхать-то слыхал, — с бесстрастным, неподвижным лицом ответил дядя Ваня, — да для меня это звук пустой: зрения лишен… Но думаю, что художникам временно придется отложить кисть в сторону, Надо контрреволюции ждать.
Евсей улыбнулся и с портфелем под мышкой вышел.
— Какая теперь контрреволюция? — вскинулся Абрамов, качая золотой своей бородой. — Ты пессимист, дядя Ваня. Конечно! Все идет великолепно. Россия удивит мир своей благородной, величавой революцией. Теперь только одно и можно сказать: «Ныне отпущаеши».
— Постой, оптимист!.. — ровным голосом, невозмутимо остановил Абрамова дядя Ваня.
Разговаривая, он не поворачивал лица к собеседнику, как это делают зрячие, а только привычно нащупывал быстрыми пальцами ближайшие к нему предметы.
— Постой! Неужели ты не сознаешь, что ты пьян? Пьян от революции, которая только еще вчера началась. Ты пьян от нее и поэтому так говоришь. Ничего не видишь перед собой, а я — вижу!
Слепой ощупывал перед собой воздух, быстрыми, чуткими пальцами как бы касаясь невидимых, неслышных струн, сидел с поднятой головой и, казалось, смотрел куда-то вдаль незрячими глазами, словно слушал что-то, неслышное другим.
— Будет контрреволюция! — спокойно продолжал он, медленно отчеканивая каждое слово. — В какую форму она выльется — не знаю, но что она будет, в этом нет сомнения. Черед теперь за ней, и видится она мне очень страшной и — кровавой. Нельзя ей не быть, и поэтому она — будет.
Он опять коснулся пальцами невидимых струн и, не поворачивая головы, закончил с оттенком шутки в ровном голосе:
— А ты — пьян. Да, пьян от преждевременной радости, и потому так говоришь.
— Дядя Ваня, ты упрям, как не знаю кто! Откуда будет контрреволюция, когда армия перешла на сторону народа? Пикнуть не дадут! Да ты знаешь ли, почему без крови весь переворот произошел? Ведь рабочие всею массой вышли на Невский, против них был выслан последний, самый надежный полк, — остальные все присоединились к восставшему народу. Предводитель этого полка, молодой офицер, должен был скомандовать солдатам «пли», но не сделал этого и присяге не изменил, а вышел вперед и застрелился! Это была единственная пролившаяся жертвенная кровь. Полк перешел через его труп к революции. Кто же теперь не сочувствует ей? Ведь самодержавие ненавистно всем классам, все хотят республики. За революцию стоят даже ее классовые враги, даже те, кому она не выгодна и, кроме погибели, ничего не принесет.
— Так, значит, и офицеры сочувствуют революции? — спросил Валерьян.
Слепой иронически улыбнулся:
— Сочувствие их сомнительное и пролетариату не внушает доверия. Совершенно справедливо опасаемся мы их. Офицеры теперь прячутся по чердакам, переодеваются в штатское платье. Их разыскивают, арестовывают и оружие отбирают. Ты еще скажи, что и бывшие министры тоже стоят за революцию?.. Нет, товарищ Абрамов, все это еще только цветики, а ягодки будут впереди… Что же это была бы за революция, если после свержения самодержавия оставить по-прежнему старый строй?.. Нет, революция только начинается, а ты думаешь, что она уже кончилась… Она еще не раскачалась. А все эти дворянчики, буржуйчики, помещики, жандармы, полицейские — куда денутся?
Слепой поиграл пальцами и, помолчав, повторил:
— Будет контрреволюция!..
— Все еще спорите, — улыбаясь, сказал вернувшийся Евсей. — А чего бы спорить? Конечно, будет.
— Не верю, — сказал Абрамов, хватаясь за голову. — Не понимаю!
— Протрезвись! — усмехнулся слепой. — Ведь революция не столицами ограничится, она и в деревне, по степям, по лесам и горам запылает. А ежели имущий класс по карману ударить, — как не быть встречной волне? Без сопротивления старый строй не уступит.
— Да, к этому идет, — сказал Евсей, придвигая стулья к столу. — Вот вам первый и очень важный признак: Государственная дума и Совет солдатских депутатов! Вы думаете — они поладят? Ничего подобного, уже начинается! Дума — барская, черносотенная, буржуйская — чего тут ждать? А уж этот Керенский! Положение его весьма треугольное… Был я сейчас в Думе — кавардак! Кто в лес, кто по дрова.
В комнату быстрыми шагами вошла седая старуха. Валерьян поднялся ей навстречу. Она взволнованно всплеснула руками.
— Валерьян Иваныч, голубчик! Вот уж не ждала о вами встретиться!
— В жизни много значит случай, Сусанна Семеновна.
— Ну, здравствуйте! Как времена-то меняются! Опять революцию переживать будем. Где вы живете теперь? Наташенька жива ли?
— Жива.
— А здоровье как?
Валерьян рассказал о здоровье Наташи, о параличе, о смерти отца.
Старуха охала и вздыхала.
— Ну, теперь по крайней мере наследство получит. Состоятельный ведь был отец-то?
— И на этот счет, кажется, дела ее неважны, — завещание старик оставил оригинальнейшее: почти весь капитал завещал в пользу государства!
Все подняли головы.
— Ай, батюшки, обезумел он, что ли, перед смертью?
— Я так и ждал, что отмочит ваш старик какую- нибудь оригинальную штуку, — со смехом сказал Евсей.
— С общественной точки зрения поступок похвальный, — развел руками Абрамов. — Ну, а детям оставил что-нибудь?
— Хитро поступил добрый старичок, — грустно улыбаясь, продолжал Валерьян: — детям завещал по сто тысяч каждому…
— Ого!
— Но с тем, чтобы деньги были положены в банк на четверть столетия!..
Все засмеялись.
— И лишь на воспитание детей завешал выдать по двадцать тысяч. Но дело в том, что наличных денег почти не оказалось: их еще надо взыскивать по закладным с дворян, заложивших ему свои имения.
— Пропащее дело! — махнул рукой Евсей. — До суда ли теперь? Так ничего и не получили?
— Нет, двенадцать тысяч пока выдали, мы и купили домишко деревянненький. А денег нет никаких, кроме процентов… Вот и поехал я продать некоторые картины мои, а тут, покуда ехал, революция началась. Кто купит?!
— М-да! — промычал Евсей, — куда ни кинь — все клин. Буржуям теперь не до картин, правительство — временное…
— Значит, фактически весь капитал у должников, у дворян остался. Объегорили покойника: деньги получили, а земля при них.
— Ну, с землей-то еще не известно, что произойдет. Революция ведь! У помещиков отберут, мужикам разделят… Земельный вопрос затяжной будет, на десятки лет. Можно сказать, пропали тятенькины капиталы.
Евсей покрутил ус и вдруг сказал:
— А ведь я, пожалуй, просватаю твои картины, если хочешь… Где они у тебя?
— Часть — здесь, часть — в Москве, остальные в Крыму…
— Ты бы собрал их в одно место, а потом я тебе напишу…
Вошла высокая, красивая девушка с дымящейся миской в руках.
— А вот и Маша, моя сестра.
— Уж извините: прислуга по случаю революции рассчиталась, сами готовим, — заметила Сусанна.
— Мы знакомы, — возразила Маша, поставив миску на стол и радостно смотря на Валерьяна.
Валерьян пожал руку девушки.
— Как же, помню вашу услугу и не забуду никогда?
— Что вы, полноте! Мы с Машей так рады были тогда познакомиться с вами. Товарищи, прошу кушать и не бранить хозяек.
— Ба! — вскричал Евсей, обращаясь к Валерьяну, — чуть не забыл: письмо тебе есть. Почему-то на Государственную думу послано, я и захватил.
Он полез в боковой карман и передал измятое письмо.
— Не надо бы за обедом передавать, — упрекнула его Сусанна Семеновна. — Может, неприятное что в письме… Сколько раз я тебя учила, Евсеша! Лучше бы после…
Валерьян разорвал письмо, пробежал глазами и нахмурился.
— Действительно, неприятность, — пробормотал Валерьян: — в Киеве арестован брат моей жены.
— Это заика-то? — спросил Евсей.
— Нет, младший, Константин.
— Да, там еще старая власть в силе. Значит — жандармы?
— По-видимому. Придется экстренно ехать, выручать.
— Да кто пишет-то? Верный ли человек?
— Человек известный, друг его, оперный артист.
Евсей задумался.
— Трудно теперь ездить: поезда идут битком, заедешь на юг, назад, пожалуй, не скоро выберешься. Ну, я-то достану тебе билет и даже мандат состряпаю с командировкой. Когда думаешь ехать?
— Завтра. Сегодня картину запакую и в Москву пошлю.
— Ладно! Приходи завтра к вечернему поезду, я буду на вокзале и все устрою. Мой совет — оборачивайся скорее и выбирайся из провинции… Дело с картинами постараюсь наладить… Запиши мой адрес!
После обеда Абрамов и дядя Ваня снова заспорили о революции. Валерьян попрощался и вышел. На Лиговке горел большой, многоэтажный дом, работала пожарная команда. Слышались выстрелы. На крышу дома лезли солдаты и пожарные: дымом выкуривали с чердака офицеров и полицейских.
VII
В Волчьем Логове в кухне за столом сидело человек восемь: кучер Василий, две горничных — Катя и Васена, четверо работников и в центре стола — наездник и охотник Игнатий. Толстая кухарка возилась около печи. Лысый Игнатий, пожилой мужик, с клинообразной рыжей бородой, с умным и хитрым лицом, изрезанным сетью тонких морщин, говорил нараспев, словно сказку рассказывал:
— Надоел он в царском дворце всем министрам и енералам, потому — изгилялся надо всеми, руку свою совал целовать, с трахту-барахту без музыки плясать заставлял — и плясали, бывалоче, енералы: значит, силу большую забрал у царя с царицей. Царица его за святого почитала, а ён, значит, с ей жил, а царь, известно, пьяненький, смирный и не больно умен, попросту сказать — с придурью…
— Это царь-то с придурью? — недоверчиво спросила кухарка.
— А тебе что гребтится? — язвительно ответил Игнатий. — Всякие цари бывали, а энтот — дурак ли, нет ли, чтобы при своей живности простого мужика допустить вместо себя царством управлять? Коли с японцем воевали, живот-от, бывало, на Дальнем за его клади, подушны плати, а назад-от с его чего получишь? Гришка энтот был мужик совсем нестоющий, а так — испрохвала. Бают, бродяжка был беспашпортный, пьяница и шельма, по монастырям шатался, но, конечно, слово знал: без слова не напустил бы на них туману. Ну, прямо, не к ночи сказать, с нечистой силой знался.
Кухарка перекрестилась и плюнула наотмашь.
— Заговоренный был: ни гонор, ни ножик, ни отрава и никакая пуля его не брали. Вот он и зазнался: пьянствовал и весь царский дворец облевал. А царица — она из немок, сроду русского мужика не видала, думает — так и надо: русский святой, дескать, блаженный. Все равно как и наши бабы — дураков али юродивых святыми считают… Только Гришка не дурак был, а колдун и плутяга. С бабой ли, с барыней, али с царицей — все едино: все бабы одинаковы, — с другой только визгу больше, а сласть одна.
— А ты будет! — прервала Васена. — Ты дело говори, не про баб!
— И про баб к делу говорю. Ну вот, значит, господам это больно не ладно показалось, — отшил он всех их от царя и царицы. Заманили его в доброе место да в вино яду подсыпали. Он выпил и — хоть бы хны! Только смеется. Из пистолета стрельнули — не берет пуля. Связали, рот заткнули да с моста в пролупь… Тут его нечистая сила под руки подхватила и не дала утонуть. А ночью дело-то было: как раз в аккурат петухи пропели — черти-то и бросили его, пьяного. Однако чебурахнулся он с моста, а потом отудобел и говорит: «Без мене, говорит, не стоять Расее». Икнул и помер. С эстого все и пошло. Могилу народ обгадил, царь с горя запил, а тут армия взбунтовалась: мошенство везде! Теперича царя сместили, и значит, учреждается решпублика, а царь будет из большаков выбран…
— Каке-таке большаки? — спросила кухарка.
Игнатий посмотрел на нее с головы до ног и с ног до головы.
— Большаки — значит постарше которы, за народ стоят, больше прочих смыслят. Первым долгом у помещиков землю отберут и промежду мужиков разделят. И посейчас солдаты войну бросают и по деревням вертаются: землю делить!
— Без начальства не дозволют, — заметил Василий.
— Да какое теперь начальство, елова голова, коли царя нет, а министры в остроге? — искоса взглянув на него, возразил Игнатий. — В начальники выбраны солдацки епутаты…
— А Дума?
— Ну, и Дума тоже, только она со всячинкой: там господа да купцы сидят. Их небольно слушают. Покелева приказ разошлют, в деревнях самосуд идет. Ездил я по нашей округе — беды, что делается! Помещиков, значит, выселяют миром, а какая есть в дому имения — разделяют по совести: как, значит, помещики нынче строго воспрещенные и не жильцы на свете, то крестьяне есть им законны наследники. Одно негоже: бандиты появились.
— Каке-таке бандиты? — хором спросили слушатели.
— А пес их знает! Наедут в телегах и верхами, с винтовками, и ну грабить усадьбу. Ничего не дают мужикам. Им, сукиным детям, хорошо, а мужику где взять? Мужики на них, ежели сила берет, — с вилами. Случалось, скрутят им руки назад — и в город, к большакам отвезут. В городу большаки силу забрали. Ну, только что от бандитов вреда большая. А то куманисты есть.
— Вот тут и разбери их, — отозвался Василий, — которы большаки, которы куманисты. На лбу не написано!
— Царица небесная! — всплеснула толстыми руками кухарка, — что деется! Не всыпали бы нашим горячих пониже спины?
— Ну, нет, прошли времена! — сказал один из молча слушавших работников, молодой парень. — Мы им сами всыпим по перво число.
— Дык как же это, неужто и Черновых из фамильного дома выведут?
— Еще как!
— Вчерась, — продолжал Игнатий, — сельский сход был, и приговор всем обществом постановили: в помин души Силы Гордеича супруге его, Настасье Васильевне то есть, отвести в пожизненное жительство ихнюю избу, что рядом с домом пустая стоит, пять пудов муки на месяц и всего прочего, сколь ей потребуется до скончания жизни. Дом отвести под училищу, мельницу — в обчество, лошадей, коров и всю живность поделить, а Дмитрия Силыча с супругой и Кронида Лексеича проводить в город честью. Вот каке дела-те!..
— Ну, — сказала Васена, — кабы Настасья Васильевна здесь была, она бы только подогом стукнула да сказала: «Выдьте все вон при моем виде!» — и вышли бы.
Игнатий взглянул в окно кухни и радостно осклабился:
— Да вот он, староста, с крыльца идет. Значит, был уж, заявление сделал. Хочешь — не хочешь, а супротив народу не попрешь. Теперича — шабаш, кончилась наша служба, решился дом Черновых!
Бабы всхлипнули. Катя выскочила из-за стола и выбежала из кухни, раскрасневшись.
Кухарка грузно села на кровать и причитала в голос:
— Да и что же это деется? Куды мы все пойдем? Век свой жили в Логове.
Василий встал из-за стола, сказал строго:
— Чего ревете загодя? Что будя, то и будя… Я вот у Черновых служу двадцать пять лет — и выслужил двадцать пять реп!
— Замолчь, дуры! — прикрикнул на баб Игнатий. — Никакого понятия нет у вас. Теперича лучше будя… Кончились помещики — значит наша взяла. Законны наследники — и баста! Все теперь наше.
В кухню вошел Кронид. Все замолчали.
— Что за шум, а драки нет? — сказал он сумрачно. — Василий, запрягай коляску: в город поедут. Ну и дела, ох, дела!..
Он проницательно обвел всех взглядом исподлобья и ушел.
Через полчаса на черное крыльцо вышли Дмитрий и Анна, одетые по-дорожному, у крыльца стояла коляска, запряженная парой серых лошадей, с Василием на козлах. Около кухонной двери безмолвно стояли Васена с кухаркой и все работники. Игнатий озабоченно хлопотал около брички. Кухарка сморкалась и вытирала нос кончиком фартука.
Вышел Кронид и сказал:
— Ну, с богом!.. Завтра позвоню по телефону. Утро вечера мудренее. Да не волнуйтесь больно-то!.. Безусловно, обойдется все.
Дмитрий и Анна молча попрощались с ним и сели в коляску.
Игнатий снял шапку, поклонился отъезжающим:
— Не обессудьте на нас! — сказал он, разводя руками. — Завсегда были довольны вами. А теперича пришла свобода! Сами посудите: как, значит, мир, так и мы!
— Мир! Свобода! — передразнил его Кронид. — Не рано ли самоуправничать начали? Будет закон — тогда другое дело, а без закону поступать — тоже и вас по головке не погладят.
— Трогай! — сказал Дмитрий.
Анна сидела молча.
Василий шевельнул вожжами, и коляска выехала в растворенные ворота.
У ворот стояла небольшая группа мужиков, баб и ребятишек. Все они молча глазели на отъезжающих, но шапок не снимали.
Когда коляска скрылась за мельницей, к дому подошли четверо мужиков солидного вида. Один из них с большой книгой под мышкой.
— Староста с понятыми идет! — заговорили в толпе.
— А то как же? Сначала все имущество в книгу запишут, а потом делить, сколько кому на кажный двор.
— Ладно ли будет? Как бы чего не вышло?
— Вот вздонжили! — огрызнулся Игнатий. — Как — не ладно, коли, значит, мы законны наследники?
Староста, белокурый, курчавый мужик, тот самый, который когда-то говорил речь на свадьбе Наташи, деловито прошел в растворенные ворота, сопровождаемый понятыми и хлынувшей за ними толпой.
На крыльце стоял Кронид.
— Ну что, опись, что ли, будете делать?
— Опись, Кронид Лексеич. Уж ты сделай милость, покажи нам все!
— Показать покажу, но только прошу, чтобы не начали тащить, что кому попало. Склока будет.
— Склоки не будет, Кронид Лексеич. Чай, мы не ка- ке разбойники, прости господи, — обчествена комиссия! Нынче только все запишем — и боле ничего.
— Ну, начинайте.
— Да вот, скотину желаем поглядеть, конный завод.
Кронид повел комиссию к длинному каменному сараю конюшен.
— А в амбаре что?
— Это не амбар, а собачник, пустое дело!
— Отопри-кась, не хлеб ли?
— Говорю, собак держим!
Едва Кронид отворил дверь амбара, как оттуда выскочил старый, седой, облезлый волк с цепью на шее.
Вся толпа шарахнулась от зверя. Волк на момент обалдел от неожиданного и яркого дневного света, потом ощетинился, ляскнул клыками и, волоча цепь, в несколько прыжков очутился за воротами.
Толпа с криками и улюлюканьем побежала за ним.
— Это что ж такое? — спросил староста.
— Волк ручной, — гыгыкнул Кронид. — Цепь оборвал, проклятый!
— На что гада держите?
— А это еще Натальи Силовны забава была. Щенком взяли. В лес отпускали — назад пришел, пристрелить — вроде как жалко: к людям привык, ровно собака. Да и забыли про него.
— Пристрелить надо. Убежал вот, ищо задерет кого?
С реки слышались крики толпы.
— Пойду пристрелю, коли в поле не убежал. — услужливо сказал Игнатий. — Ружье-то есть у меня, пулей заряжу.
Кронид повел комиссию в конюшню. Игнатий рысью побежал за ружьем.
— У-лю-лю-лю! — кричали парни и ребятишки на берегу.
Волк прыгнул в воду, поплыл. В него бросали камни.
Прибежал Игнатий с двустволкой, прицелился, два раза выстрелил, но не попал. Волк уже выбирался на другой берег, заросший густым тальником.
— Помирать отправился, — сказал стрелок, вскинув винтовку на плечо, и пошел обратно.
— А ты бы, дядя Игнатий, в лодку сел да переехал: он в тальнике! — кричали ему из толпы.
— Патронов нет, — махнул рукой Игнатий.
Еще издали, подходя к дому, Игнатий увидел длинный обоз пустых телег, стоявший перед усадьбой, и человек двадцать людей в серых шинелях и бараньих шапках, с винтовками за плечами. Они выносили из дому сундуки, корзины, узлы, ковры и грузили все это на подводы. Дом оцепила стража с ружьями, взятыми на прицел.
Игнатий, побледнев, постоял минуту, подумал и бросил в траву двустволку.
Навстречу ему быстрыми шагами шел Кронид в косоворотке, выпущенной из-под жилетки, в мужицком старом картузе; за ним бежал Шелька, давно поседевший от старости. Кронид был бледен и тяжело дышал.
— Лодка где? — тихо спросил он Игнатия.
— У берега, — так же тихо ответил Игнатий. — Валяй скорее на ту сторону! Ежели увидят — у них расчет короткий… Иди потихоньку. Бежать-то хуже. Лодка — под яром.
Кронид кивнул головой и пошел к реке. Игнатий сутуло зашагал к подводам. Там был шум, говор, слышалась матерщина.
— Что же это будет? — галдели мужики. — Имение к нашему селу принадлежит, наших помещиков. А вы что за люди — нам не известно…
— Мы — солдаты! — рявкнул кривоногий человек в гимнастерке, с папахой на затылке и с револьвером у пояса. Лицо его со щетинистыми усами было обветренное, запыленное, с воспаленными глазами. — Мы кровь проливали! А вы что? Гужееды!
Игнатий протолкался к нему, снял картуз, заговорил умильно:
— Как мы есть законны наследники собственных наших помещиков, то канителиться нечего: предъявите ваш мандат!
— А это видал? — яростно визгнул человек в папахе, поднося револьвер к бороде Игнатия. — Вот наш мандат! — Он указал на вооруженных людей, стоявших у нагруженных возов и вскинувших на руку винтовки при его словах.
— Наследники! Всю деревню разнесем! На изготовку! — крикнул он людям в солдатских шинелях.
Звякнули ружейные затворы, ощетинились штыки.
Толпа брызнула в разные стороны. Из конюшен выводили кровных лошадей, привязывали позади телег.
Двое солдат вели под уздцы громадного гнедого коня. Испугавшись выстрелов, конь уперся в воротах и начал пятиться назад. Начальник отряда подошел, выстрелил ему в ухо. Лошадь грянулась оземь.
— Родненький! Семь тысяч плачен! — закричал Игнатий. — Цены нет коню! Народное достояние! Что делаете?
— Пошел, пошел! — крикнули на него. — Будешь галдеть — и тебе то же будет…
Кто-то ударил его в спину прикладом. Игнатий упал.
— Долой помещиков! — кричал предводитель неизвестных людей. — Камня на камне не оставим! Спалить проклятое гнездо, чтобы духу не осталось, чтоб не воротились!
Кронид подплыл в лодке к тальнику на другой стороне речки и, отводя густые ветви кустов, протолкнул лодку к берегу. Вдруг он вздрогнул и невольно отшатнулся: в кустах, наполовину в воде, висел на цепи волк. Кронид потолкал его веслом: зверь издох, удавившись запутанной цепью.
Кронид сидел в лодке, скрытый кустами, и смотрел на покинутый берег. Видно было высокую, четырехэтажную бревенчатую мельницу, плотины и мрачный дом Черновых, заслоненный высокими старыми акациями. На берегу толпились деревенские ребята, слышался печальный, тонкий вой собаки: выл Шелька, которого Кронид позабыл взять с собой. Да и куда его? Начал бы лаять, навел бы на след. Станут искать — и найдут Кронида. Вдруг Шелька завизжал: ребятишки поймали его, взяли на руки и несут к воде, слышно, как кричат:
— Буржуй! В воду его! Ишь, жирный какой!..
— Пущай плывет к хозяину!..
Раскачали за ошейник и с хохотом бросили в реку.
— Плыви, Шелька!..
— Всех бы их утопить!
Шелька бултыхнулся в воду, вынырнул и поплыл обратно к берегу, но в него стали кидать камнями…
«Утопили!» — вздохнул Кронид. Стало жалко старого пса, которого помнил щенком. Ну, а он-то, Кронид, куда свою жизнь ухлопал? Весь век свой берег чужое добро, а сам остался бедняком, сторожевым псом, вот как Шелька, если не хуже. «Старшим дворником» дразнили хозяйские дети — Дмитрий, Константин, Варвара… Вырос в этой семье, любил ее с детства, а за что, собственно, любил-то? Не иначе, как за Логово, где прошла молодость, одинокая, без любви, без своей семьи. Вот эти акации любил, речку, родные поля. А умер дядя — отказал дальний хутор и жалкие десять тысяч. Куда теперь идти? На хутор, что ли? Он вынул из кармана неизменную свою веревочку и даже здесь, скрываясь в кустах, начал глубокомысленно расплетать и заплетать ее без этого занятия не умел думать Кронид.
Когда он поднял голову, над селом густым столбом поднимался к небу черный дым, мелькали красные крылья пламени — горел черновский дом. Закурился дымок и над мельницей.
Кронид закрыл лицо руками.
Огонь разгорался быстро. Мельница пылала, как гигантский факел. Обоз, нагруженный черновским добром, медленно двинулся по дороге под охраной вооруженных людей.
Около дома бегали мужики, но не тушили пожара, а тащили то, что осталось после налетчиков. Рухнули стропила, огонь выбивало из окон. Дом Черновых горел ярко и пышно: день был красный, безветренный, стояла сушь.
Кронид вылез на берег и пошел в поле прямиком, без дороги, сам не зная, куда и зачем. Шел долго, не оглядываясь, с опущенной головой, крутил веревочку. Опомнился только вечером на большой дороге. Солнце заходило за край необъятной, безлюдной степи. Только тут он осмотрелся: впереди виднелось большое село. Позади, на горизонте, стояло зарево, отражаясь на вечер них облаках.
Шагах в пятидесяти впереди шел широкоплечий мужик в чапане, подпоясанном кушаком, в лаптях и с длинной палкой в руке. Мужик шагал споро, Кронид никак не мог догнать его, хотя и прибавил шагу. Наконец пешеход остановился, оглянулся и стал свертывать цыгарку, опираясь на палку. На выпуклую грудь падала темная окладистая борода, с проседью по бокам, старый картуз съехал на затылок.
— Здорово, кунак, — крикнул он подходившему спутнику, и только по голосу Кронид узнал его: это был Крюков.
VIII
Была ранняя весна. Волга разлилась во всю ширь, на деревьях только что распустились нежно-зеленые листья.
Старинный приволжский город, известный своей красотой, тишиной и захолустностью, стоит на вершине высокой горы, покрытой снизу доверху фруктовыми садами. Город, расцвеченный старыми церквами и монастырями, окутанный зелеными палисадниками, тих и живописен, почти весь деревянный, с множеством уютных бревенчатых домиков, украшенных антресолями, мезонинами и балкончиками из точеных балясин. В особенности красив самый фасад города, далеко видный с Волги: над гребнем горы, окнами к реке стоят одноэтажные домики с вышками и башенками, а перед ними, вдоль крутого обрыва, стелется зеленый лужок. Эта часть города исстари называется «Старым Венцом», в отличие от «Нового Венца», являющегося его продолжением. Лужок засажен чахлыми акациями, лишенными чьего-либо ухода, а над обрывом, что горделиво высится над Волгой, стоят деревянные скамьи на врытых в землю столбиках, с покривившейся ветхой беседкой, не известно кем и для чего выстроенной в давние времена.
Старый Венец служит любимым местом не столько для прогулки обывателей, сколько для созерцания дивной картины, открывающейся с высоты его видом на величаво плывущую Волгу и лесистое Заволжье, уходящее за необъятный горизонт. В особенности весной каждый вечер Венец усеян зрителями: сидят вплотную на длинных скамейках или на гребне горы, свесивши ноги с обрыва, и молча смотрят в безграничную даль. Разговоров почти никаких не слышно: все молча смотрят на Волгу, словно ждут чего-то из-за горизонта. Но проходили годы, десятки годов, а жители тихого города все еще молча смотрели и ждали.
Многие, проживши долгую, однообразную жизнь, так и умерли в молчаливом созерцании горизонта, ничего оттуда не дождавшись. Какие-то огромные чувства и невыразимые ожидания властно внушает этот торжественный и что-то обещающий, на сотни верст раздвинутый горизонт.
Кажется, что великие дела должны совершаться здесь, и только героические события — подстать окружающему величию.
Но умственные горизонты жителей живописного города, венчающего вершину горы, были, в противоположность окружающей шири, до убожества узки, жизнь сера, скучна, однообразна, средневеково-замкнута: дворяне жили в своем кругу, купцы, чиновники — в своем. Рабочих в городе, по отсутствию фабрик и заводов, почти не было, кроме грузчиков. А чем и как жило преобладающее население города — мелкие ремесленники и, главным образом, мещанство — никого не интересовало. Несомненно было одно: все жили скучно до страдания, до одури.
Началась война с Германией. Город отнесся к ней так же созерцательно, как привык относиться ко всяким явлениям природы: вздыхали, толковали, провожали близких на войну, а потом сидели на Старом Венце, ждали конца ее и возвращения ушедших; но война тянулась, а ушедшие не возвращались. Так шли годы.
Вдруг в Петрограде случилось что-то непонятное, и пришлось созерцать странные события: отречение царя, появление Временного правительства и большевиков, не согласных с правительством. Потом взяли верх большевики, война как-то сама собой прекратилась, а с фронта повалили по железным дорогам солдаты.
Нахлынули они оборванные, в шинелях внакидку, оплевывая землю шелухой семечек и без дела шатаясь по улицам беспорядочными толпами.
Весь старый порядок жизни как-то сам собою распался. Торговля почти исчезла, базары по временам подвергали облавам и разгоняли; продукты приходилось добывать контрабандой, по «вольным» ценам, и все предметы первой необходимости вдруг исчезли в городе, словно смерч прошел.
Женщины злобствовали на комиссара продовольствия, бывшего калачника, большого рыжего мужика. Большинство обывателей — владельцы бревенчатых домиков, все эти полусонные созерцатели жизни, жившие мелкой торговлишкой, мелкими ремеслами, всякими волжскими промыслами, — проклинали «большевицкий режим». Чувствовалась растерянность.
Радовались только солдаты и беднейшая часть населения.
Городские обыватели всю суть большевизма видели в наступившей дороговизне и всеобщей неурядице. Вспомнили своего обывательского бога, наполнили собою свои старые, вросшие в землю церкви и потихоньку, шепотом, с оглядкой, испуганно просили его — «об избавлении от большевизма».
Почти каждый день случались пожары от неизвестных причин; говорили о поджигателях. Разгорелся сильный пожар на базаре и в примыкавших к нему торговых рядах: горели склады товаров.
С реки за много верст виднелся черный дым горящего города. Жизнь на Волге замерла. Редкие пароходы и поезда подходили с большим опозданием, как придется, да никто и не ездил, кроме солдат и революционного начальства. Извозчики перестали выезжать к пристани и вокзалу.
В таком состоянии находился город, когда после долгого отсутствия приехал с пароходом Валерьян. С Волги ему казалось, что горит Старый Венец, где стоял его маленький бревенчатый домик. Оставив чемодан на хранение, он долго взбирался по деревянной лестнице в две сотни ступеней на вершину горы, застланную дымом. Задыхаясь и обливаясь потом, выбрался на Старый Венец, убедился, что пожар далеко от Волги. По улицам бежали люди, разъезжали конные патрули, слышались разрозненные выстрелы.
— Все — как было, только нет прежней тишины и спокойствия. На целый год он застрял на юге, не будучи в состоянии выбраться оттуда: по железным дорогам валом валили беженцы. В Киеве не застал Константина: во время переворота он был освобожден из тюрьмы и успел уехать. Не застал ни Виолы, ни Аярова.
Путь был свободен только в Крым, и Валерьян очутился на своей крымской даче. В доме жила Паша, а Иван был призван на войну и никаких вестей о себе не присылал. Паша кое-как справлялась с хозяйством, участок отдала исполу татарину Сеит-Мемеду и радовалась, что хоть хлеб есть и корову можно доить.
Кое-как выбрался и проскочил из Крыма, натерпевшись всяких невзгод. Писал Наташе, но так и не получил ответа. Не знал, жива ли она, цела ли. С дороги послал телеграмму, и вот теперь горел нетерпением и тревогой за жену и сына. Пожар города, выстрелы, солдаты на улицах, бегущие прохожие внушали недобрые предчувствия.
Умерил шаг, чтобы отдышаться, и, подойдя к крыльцу с сорванной кнопкой звонка, остановился в нерешительности.
Дверь отворила Марья Ивановна с веселой улыбкой.
— С приездом. Пожалуйте! Ждем.
— Все ли благополучно?
— Все по-прежнему, — сказала Марья Ивановна, проводив его.
Валерьян быстрыми шагами прошел через веранду и прихожую.
— Наташа! — крикнул он, задыхаясь. — Жива ли ты?
— Жива! — послышался слабый голос Наташи из маленькой боковой комнаты.
Валерьян ринулся к ней.
Наташа лежала в постели и, радостно улыбаясь, протянула к нему тоненькие смуглые руки. Личико ее исхудало, стало темным, и с этого потемневшего лица смотрели огромные глаза.
Со слезами на глазах он целовал ее руки, щеки, губы, говорил, волнуясь, бессвязно:
— Я писал тебе, телеграфировал… Получала?
— Получала и отвечала… Сегодня все ждут тебя. Кронид и Виола…
Наташа лукаво улыбнулась.
— Я уж, Валечка, на «ты» с тобой перейду: четырнадцать лет живем!.. Да и помру, чай, скоро.
Валерьян сделал протестующий жест, пытаясь возражать.
— А Виола твоя со мной подружилась… Она тут концерт свой устроила, да и застряла. Не может выбраться в Сибирь. Каждый день к нам ходит петь под рояль… Хорошая она, и голос хороший. Только знаешь ли, что я тебе скажу, Валечка?.. — Наташа притянула к себе голову мужа и прошептала на ухо: — Не женись на ней!
— Да ведь я женат, кажется?
— Не плутуй! Мы с ней объяснились.
— Что же она тебе говорила?
— Все сказала: любит тебя и плачется, что ты ее мало любишь.
— Это правда. Тебя по-прежнему люблю!
— Разве я жена? Калека ведь. Видишь, рука-то из плеча совсем вышла, как плеть висит, а ногу волочу, будто кочергой загребаю. С палочкой хожу по комнате… Правда, помереть не хочется, но с таким здоровьем недолго проживешь!
— Полно, голубушка! Хоть хроменькая живи!.. И что ты все про смерть толковать начала?..
На глаза Валерьяна навернулись слезы.
— Да так, к слову. — Наташа вздохнула, — Завел ты даму сердца. Любишь — не любишь, а ведь она молода, здорова, недурна собой. Пристанет — так и женишься… Полжизни пропадал из-за меня, а потом из-за нее пропадать начнешь. Что толку? Насмарку вся твоя жизнь пойдет. Певица-то она хорошая, но не больно умна, одним словом — актриса. А ты вот что, Валечка, когда я умру…
— Да перестань! — с горечью прервал Валерьян. — Что ты все — умру да умру… Может, я раньше.
— Ну, не буду, я ведь все о деле хочу, а мысли путаются, голова у меня поглупела совсем… Виола — не пара тебе. Дай мне слово, что не женишься на ней!..
— Ну, даю слово!
— Поживешь года два один, когда меня не… тьфу, тьфу! а там уж — как придется… Только не женись на Виоле. И хорошая, и талантливая, но не будет тебе с ней счастья, — еще хуже, чем со мной! Такая уж, видно, судьба твоя незадачливая. Ей бы за Василия Иваныча выйти, а она, дура, и слышать не хочет: голосу его завидует, злится, что он получше ее артист.
— Профессиональное соревнование. Это бывает. А Василий Иваныч здесь разве?
— Гостит у отца: отец его — протодиакон здешний. Ты не ревнуй ее к Аярову: он как овдовел, так про женитьбу и думать забыл, искусством занят. И тебе бы вот так… Вам, артистам, семейная жизнь не подходит. — Наташа вдруг весело улыбнулась. — А знаешь, кто у нас влюбился?
— Кто?
— Кронид. По уши втюрился в Виолу. Безнадежно, идеально, как старая дева… Жалко! Смотреть на него противно. Седина в бороду, а бес в ребро. Скрывает, конечно, да ведь шила в мешке не утаишь… Хохочет над ним Виола, в грош его не ставит. Да он и сам понимает, что дело его швах. Тебя она, действительно, любит, да тоже зря… Вот какие у нас дела, Валечка.
— Дела запутанные, — шутил Валерьян. — Ну, коли пошло на откровенность, у самой-то у тебя как?
— Это про доктора, что ли?
— Да.
Наташа улыбнулась знакомой улыбкой.
Валерьян засмеялся.
— Он — донжуан и брандахлыст, — весело сказала она. — Я любила его, Валечка, и ты не должен за это сердиться. Ко не замуж же мне, калеке, за такого «орла» выходить? Эта фантазия кончена. Вот только изменился он что-то ко мне: не дозвонишься, а нужен он!
Валерьян нахмурился.
— Знаешь что, давай условимся не говорить: ты — о докторе, а я — о Виоле.
— Хорошо, — вздохнула Наташа.
— Теперь о главном: как вы тут живете, что происходит в городе? Голодаете? Деньги есть?
— Деньги Кронид ежемесячно приносит, по двести рублей из какого-то опекунского совета. Не понимаю я этих дел, он тебе сам лучше расскажет… Живем не плохо: на еду хватает… А что происходит в городе, — где мне знать? Я из дому не выхожу. Зимой, действительно, жутко было: ночи не спали, все чудилось, что кто-то вокруг дома ходит. Ну, Кронид придет, бывало, ночевать, мы и успокоимся…
— А братья как?
— Костя часто приходит. Посчастливилось ему имение продать. Теперь они с Крюковым какие-то дела завели.
— А Дмитрий?
— Дмитрия из Волчьего Логова выгнали. У тещи живет.
— А Костю не выселили из отцовского дома?
— Нет, не дошла еще очередь.
— Бывает Дмитрий у тебя?
— Что ты, что ты! Да я его жену видеть не могу: вся позеленею, как она, бывало, поздороваться подойдет… За Зориным бегает до неприличия. Ну, и запретила она Мите ко мне ходить… Жалкий он, несчастный. В ссоре мы.
— А мать? Варвара?
— Мамаша с Костей живет, у меня ни разу не была. Варвара на Сергиевские воды лечиться уехала, дети ее тоже при Косте… Хороший он человек, все к нему льнут. А Дмитрия никто не видит…
— Не говорил Костя, за что его в Киеве арестовали?
— Да все за Пирогова. Недолго сидел: большевики выпустили. Смеялся Костя, когда рассказывал. Напрасно ты ездил его выручать. Может быть, больше к Виоле тянуло?
— Ты позабыла каше условие?
— Ах да! Скоро ли все это кончится?
— А что именно?
— Да революция-то.
Валерьян усмехнулся.
— Она только начинается, Наташа. На что мы, художники, сгодимся ей — и сам не знаю. Между прочим, заезжал я в Петроград, продал две картины, и знаешь — кто помог? Помнишь Евсея в Виллафранке? Он теперь в Петрограде…
— Хотела бы я повидать его… Он — большевик? А ты?
Валерьян засмеялся.
— Я художник, Наташечка. Художником и умру. Большевики руководят революцией, — это их специальность, а не моя. Народ ждет от них счастья, верит в них, идет за ними, и поэтому они сильны. Если же потеряет веру, то и сила их исчезнет в тот же момент… Я-то верю, что вся сила в народе…
— А ты посмотри-ка, что за сила позади тебя стоит! — лукаво прервала его Наташа.
Валерьян обернулся: за спиной кресла стоял подросток в ученической курточке, из которой он уже вырос.
— Ленька! — радостно вскричал отец, — Ты подслушивать?!
Сын засмеялся и бросился обнимать отца.
— Гимназию без тебя закрыли, папа, а я очень этому рад: ничего не понимал тогда. Теперь в новой школе учусь. Ты большевик?
— Пока еще нет, а ты?
— Ярый большевик, — ответил Ленька, — убежденный! Мы впереди отцов идем: шкурники они, отцы-то.
— Ленька! — ужаснулась Наташа.
Через несколько дней пришла компания: Константин, Кронид, Аяров и Виола со своим аккомпаниатором, профессорского вида толстяком с густыми седыми волосами, горой стоявшими над большим, широким лбом. Все сидели за самоваром в тесной столовой маленького домика. На пианино лежали раскрытые ноты.
Наташа вышла к гостям, опираясь на длинную и тонкую альпийскую палочку, волоча парализованную ногу, левое плечо стало у нее ниже правого, а рука висела безжизненно.
— Знаете новость? — встретил ее Василий Иванович. — Виола завтра утром, наконец, уезжает.
— Правда! Получила пропуск, а главное — места в мягком вагоне на двоих, — подтвердила Виола.
Аккомпаниатор улыбнулся в седые усы.
— Собственно, поездка наша началась шуточно и неудачно. Я ведь преподаватель музыки в Киеве, занятой человек, но если проберемся на Восток — сделаем дела!
— Ну, коли большевики продержатся два месяца, то и от нас здесь ничего не останется, — задумчиво промолвил Константин.
— Слышно, с низу белые по Волге идут, города берут и старый строй восстанавливают. Под Самарой стоят, — заметил Кронид.
— По-моему, что бы там ни случилось, а помещиков больше не будет, — сказал Валерьян.
В прихожей кто-то крепко хлопнул дверью, и в столовую ввалился Крюков в старой, выцветшей, заплатанной сибирке, с отпущенной во всю грудь бородой. Седина струилась двумя прядями от усов по бороде, как пролитое молоко: не походил он теперь ни на прежнего купца, ни на недавнего офицера.
— Мы так думаем, — заговорил он, пожимая всем руки: — по двести десятин все-таки можно будет иметь.
— Откуда тебя принесло? — усмехнулся Константин.
— Где был, там меня уж Митькой звали. Вот чайку бы! — Крюков крепко уселся к столу, наливая чай в блюдечко заскорузлыми, грязными руками. — В бегах был. У знакомых мужиков скрывался. Чай, ведь, знаете, сожгли и меня в Лаптевке. Буржуй! Но, промежду прочим, некоторые мужики привечают и нашего брата: там у них «углубление» революции пошло.
— Поедем и мы в Сибирь! — предложил Константин.
— Ни за какие коврижки! Ты, Костя, как знаешь, а я здесь останусь, при фабрике. Устоят большевики — к большевикам пойду. Али они не люди? Помяните мое слово — извернусь и опять при капитале буду! — Он опрокинул стакан вверх дном, положил сверху огрызок сахару. — Покорно благодарим. Прибедниться надо. Денежки покудова — в кубышку. Видите, сибирка-то какая? А руки мои работы не боятся, голова — на плечах.
— Гляди, как бы она с плеч не свалилась, — гыгыкнул Кронид.
— Моя не свалится. Ей-бо, ребята! Чего тут? Надо выкручиваться. Не все же в нетях оставаться?
— Так это ты нарочно нищим нарядился?
— А то как же!
— Посмотрел бы кто, как мы с ним в степи встретились, — рассказывал Кронид. — Шагает в чапане, в лаптях — бедняцкий мужичонка.
— Кабы не чапан, болтался бы на собственных воротах. Смеяться нечего: чапан у меня на припасе. Может, и вам кому спонадобится.
— Вот кряж! — одобрительно улыбнулся Аяров. — Такой, пожалуй что, не пропадет.
— Дворяне погибнут: им это на роду написано. А мы еще поборемся, — продолжал Крюков. — Ведь в чем дело? Борьба, видать, затянется, — гражданская началась. Силы приблизительно равные. Еще — кто кого, вилами на воде писано.
Крюков разгладил бороду, распахнул рваный кафтан, обнаружив старую ситцевую рубаху.
— Ушкуйник вы! — смеясь, сказала Виола.
— Покорнейше благодарим. Мы люди простые, едим пряники неписаные. Но, промежду прочим, пальца в рот не кладите!
— Виола-то Игнатьевна кокетничает с тобой, а ты и ухом не ведешь, борода! — хихикал Кронид завистливо.
— Не с вами же кокетничать! — небрежно уронила Виола и обернулась к художнику: — Отчего вы приуныли, Валерьян Иванович?
— Оттого, что вы уезжаете.
Виола засмеялась.
— Кроня! Там в погребе у нас бутылка шампанского есть, распорядись-ка! — решила Наташа.
— Вот это дело!
В комнате стоял общий говор.
Наташа, сидевшая рядом с мужем на диване, положила ему голову на плечо.
— Не болит ли? — спросил он, заглянув ей удивленно в лицо.
— Болит, конечно, как всегда, но это ничего. Я рада, что ты приехал. Собрались все, кого я люблю, одного человека не хватает. Ну, да с ним все кончено: ты победил!
Вошел Кронид с подносом, уставленным шампанским, и стал обносить всех. Последний стакан он высоко поднял в руке.
— Пью за отъезжающих! Благополучного пути! Птички перелетные, пусть ваша дорога приведет вас к счастью и славе! А мы — кончаем наш путь. Разрушен дом Черновых! Черновский капитал превратился в дым. Если бы Сила Гордеич встал из гроба и увидел наше положение, — упал бы и опять умер! Ленька, ты большевик?
— Большевик! — с сияющей улыбкой ответил Ленька.
— Вот. Внуки-то Силы Гордеича куда пошли! А нам, старикам, еще надо разобраться в наших путях. Кончились вишневые сады. Беги, кто может, к дальним берегам! Ваше здоровье, Виола Игнатьевна!
Виола поднялась с места и тихо приблизилась к пианино. Музыкант сел. Она развернула ноты и показала в них что-то. Зазвучали грустные аккорды.
Острою секирой ранена береза, —вдруг запела артистка.
В лирическом романсе слышались трагические оттенки.
Валерьян насторожился. Дрожь пробежала по его нервам. Почему-то вспомнилась Наташа-невеста, когда- то певшая единственный раз в своей жизни о сломанной березке. Долго, отчаянно боролась за жизнь, а теперь смертельно ранена в сердце: спета ее песня!
Лишь больное сердце не залечит раны.Волной хлынул трепещущий голос. Наташа припала к груди Валерьяна: плечи ее тряслись.
— Эх, не надо бы такую песню петь! — с сожалением сказал Крюков.
Виола бросилась к рыдающей Наташе, обняла ее.
— Наташа, друг мой милый! прости меня! Ах, я проклятая. Забыла, нечаянно разбередила горе твое.
— Ничего, — успокаиваясь и вытирая слезы, прошептала Наташа. — Так это я… свою болезнь… «Березку» вспомнила… дом наш…
— Больше не буду петь! — решительно заявила Виола. — Василий Иваныч, ваш черед!
Аяров подошел к пианино, крякнул басом, нахмурился.
— Ничего веселого-то и я не захватил. Вот есть новейший романс на военную тему, больше и нот нет. «Полководца» петь не буду, спою «Забытого».
Он ревниво и завистливо взглянул на Виолу: певица, вызвавшая рыдания, возбудила зависть баса. Видно было, что он волнуется, собираясь затмить успех Виолы.
Запел сдержанным, бархатным басом романс о забытом на поле сражения, смертельно раненном воине.
В деревне, в бедной хате ждут его возвращения жена и сынишка.
Не плачь, сынок! Приедет скоро тятя, На радостях я пирожок горячий испеку.Трогательно, искренне прозвучали простые слова.
Постарался Василий Иваныч: не хотел дать спуску Виоле.
Теперь Валерьян выскочил из-за стола и быстро ушел в соседнюю комнату. Была ли причиной жизненная тема романса, быть может, напомнившая ему пережитые картины войны, или оказалось все это близким его переживаниям, когда он и сам лежал, оглушенный «чемоданом», в халупе в то время, когда его, быть может, ждали жена и сын, — но слезы неудержимо хлынули из глаз его. Затворившись в темной комнате, он дал им волю.
Перестарались певцы, состязаясь друг с другом. Долго пел еще Василий Иваныч. Когда Валерьян успокоился и вышел, гости толпились в прихожей, собираясь уходить.
Валерьян уговаривал гостей не уходить.
— Первый час! — возражали они. — Засиделись!
Наташа шепнула ему на ухо:
— Попроси у Василия Ивановича его фотографию!
— Обязательно завтра утром принесу, — отозвался Аяров.
Марья Ивановна торопила Наташу поскорее лечь в постель.
— Переутомилась! — тихо сказала она Валерьяну, — Никогда так долго не сидела!
Ночь была тихая, теплая. Валерьян пошел проводить гостей.
Шли попарно по пустынным тротуарам Старого Венца. Валерьян шел с Виолой, позади всех плелся Кронид.
С пожарища тянуло гарью.
— Не ходите далеко! — говорила Виола. — Еще патруль встретите, а у вас нет пропуска. Расстанемся! — она высвободила руку из-под его руки.
— Зачем ты… вы… уезжаете?
Виола вздохнула.
— Вы не любите меня, Валерьян. Я в этом убедилась… А кроме того, когда увидала Наташу, сердце мое содрогнулось. Жаль ее. Ведь она совершенно беспомощна, а вы — единственная ее опора! Ну, представьте себе, если бы вы даже полюбили меня и бросили жену: истерзали бы себя, меня и ее!
— Прежде вы говорили иначе.
— Прежде она любила другого… а теперь он, кажется, покинул ее. Она жалости вашей просит, разве не видите? Я не представляла себе всего. Да и вы ее любите. Не будет вам счастья, если б вы вздумали бросить Наташу в таком положении, только из мести, из самолюбия. Это было бы чудовищно! Непохоже на вас. Я любила вас, но не встретила серьезного чувства. Ведь есть же и у меня гордость! Да и до счастья ли теперь? Расстанемся. Вспоминайте иногда вашу маленькую Виолу… которая…
— Виола! — Голос Валерьяна дрожал.
— Прощайте! — прошептала она. — Не целуйте! Не надо!
Она вырвалась и побежала.
Валерьян вздохнул и с опушенной головой побрел обратно. Потом повернул на гребень Венца, посидел на скамейке, глядя на хмурую, скучную, ночную Волгу без огней, без движения, без жизни.
Сердце ломило от тоски. Он пошел опять бродить и незаметно для себя очутился у гостиницы. У дверей стояли Виола и Аяров. Валерьян остановился в тени.
— Итак, значит, никогда? — печально спросил Аяров.
— Никогда! — твердо ответила Виола. — Мы — соперники на сцене!
— Но я вас…
Ветер заглушил шепот Аярова.
— Никогда! — повторила она и скрылась за дверью.
Валерьян оделся и вышел в столовую.
Солнце ярко било сквозь опущенные гардины. Марья Ивановна, приткнувшись за столом, писала карандашом на клочке бумаги. Перед ней стояла прачка, только что принесшая корзину чистого белья; часть его лежала на столе.
— Наташа спит? — мимоходом спросил Валерьян.
— Какое — спит! Сердцебиение у нее! Переволновалась вчера от музыки вашей. Посидеть бы надо около нее, а мне вот некогда: белье переписываю. Ленька убежал куда-то.
Валерьян вошел в комнату Наташи: она лежала в постели с резиновым пузырем на груди. Лицо ее посерело, приняло землистый оттенок.
— Не волнуйся. Ведь это у меня обычная вещь: раз в месяц обязательно бывает. Приняла капли, полежу с полчаса — и пройдет.
— Все-таки я посижу.
— Разговаривать трудно мне. Не беспокойся, милый.
Наташа посмотрела на мужа своими огромными глазами: в них была обычная грусть и давно не виданная Валерьяном ласка.
— Поцелуй меня и иди! Позови Леньку: он в саду.
Валерьян поцеловал жену и вышел на черное крыльцо, выходившее в маленький садик. Было тихое солнечное утро. Около беседки цвели белые цветы. Ленька поливал их.
— Мать зовет! — сказал Валерьян сыну. — Иди в дом.
— Сейчас! Вот только кончу.
Валерьян вернулся в кабинет и прилег на диван. Вдруг Наташа громко позвала его:
— Валерьян!
От этого необычного крика он вздрогнул и бросился в ее комнату. Тотчас же оттуда по всему дому разнесся страшный крик, слышный даже на улице:
— А-а-а-а!
Это кричал Валерьян.
В комнату вбежали разом Марья Ивановна и Ленька.
Художник держал Наташу, приподнявши ее с подушки за плечи. В остановившихся глазах Наташи стояло выражение ужаса. Губы напряженно дрожали, силясь что-то выговорить. Алый цвет ее губ вдруг перекрылся как бы хлынувшей под кожей черной кровью, нижняя челюсть отвисла, страшные глаза дрожали, голова упала набок.
— Обморок! обморок! — бормотала Марья Ивановна, бестолково помогая дрожащими руками приподнять бесчувственное тело.
— Нет, не обморок, — горестно прошептал Валерьян и приложил ухо к груди Наташи: сердце не билось.
Смутно мелькало перед Валерьяном побелевшее лицо Леньки с такими же, как у Наташи, синими глазами, в которых отражался ужас мертвых Наташиных глаз, Марья Ивановна зачем-то звонила доктору Зорину, потом убежала, крикнув:
— За старухой!
Тело Наташи лежало в постели с разинутым ртом и неподвижными глазами.
Марья Ивановна привела дряхлую старушонку, соседку. Принесла таз с теплой водой.
— Уходите! — шепотом сказала она, раздевая покорное, безжизненное тело.
Уходя, Валерьян оглянулся: Наташу с повисшей на грудь головой положили на пол. Валерьян не чувствовал ни отчаянья, ни горя и вообще — ничего не чувствовал. Все было как в тумане. Приходил доктор Зорин, определил смерть от паралича сердца. Пришел Василий Иваныч с фотографической карточкой с надписью. Был гробовщик. Хлопотал и распоряжался откуда-то появившийся Кронид. Потом все ушли.
Наташа лежала в кабинете, на большом столе, посреди комнаты с завешенным зеркалом. Лицо — как у спящей; холодные, твердые, как у статуи, губы сложились в жалкую улыбку.
Вечером опять пришел Василий Иваныч, до утра сидел с ним в столовой, о чем-то говорил, но Валерьяну было скучно с ним. На рассвете, оставшись один, пошел к Наташе. В доме все спали. Валерьян открыл лицо умершей, поцеловал ледяные губы и долго стоял так. Усилием воли хотел заставить себя плакать, но слез не было: была тупая тяжесть, полная бесчувственность.
Утром положили умершую в гроб, посыпали сулемой и мелким льдом: в комнате чуть-чуть слышался странный, тяжелый запах. Цветы из сада, которые Наташа сама вырастила, срезали и положили ей в изголовье.
Опять хлопотал Кронид. Пришли попы и певчие, стали служить панихиду. Явились родственники: Настасья Васильевна, Дмитрий с женой, Мельниковы — все, кто при жизни относился к Наташе безразлично или враждебно. Дмитрий положил на гроб жестяной венок. Константина не было, Варвара лечилась на водах. Валерьян не сказал родным ни слова. Они ему — тоже.
Хотелось вытолкать всех этих людей, так долго причинявших Наташе страдания, тонко оскорблявших, не понимавших и не любивших ее. Хотел крикнуть, что они лицемеры, чтобы взяли обратно жестяной венок, что это они отравили молодую жизнь, довели до ранней могилы. Но ничего подобного он не сказал. Скандал у гроба почившей был бы оскорблением ее памяти. Сочли бы Валерьяна помешанным или пьяным.
С печальным, похоронным пением вынесли гроб, поставили на катафалк. Когда зарывали Наташу, никто не плакал: ее родные вообще никогда не плакали, никого не любили. Не мог плакать и Валерьян.
В том же безмолвии и бесчувственном отупении он вернулся домой.
Два дня молчал, ни с кем не разговаривая, почти не ел и не спал.
На третий день неожиданно почувствовал: больше думать об ушедшей не следует. Инстинкт самосохранения подсказывал, что нужно сделать выбор: или гнить душой и самому умереть от тоски, или продолжать жизнь, какая бы она ни была. Валерьян решил жить. Уехать в Москву.
IX
В самый разгар волжского разлива прошел слух, что взяли чехи Самару и двигаются вверх по Заволжью.
В местной газете написали об этом и даже на заборах расклеили воззвание к рабочим и крестьянам города: выражалась уверенность, что они постоят за свою собственную рабоче-крестьянскую власть. Читали воззвание обыватели и молча ухмылялись: немного было рабочих и крестьян в обывательском городе, больше проживало мещан, совсем не настроенных стоять за рабочую власть.
Что это были за чехи и откуда они взялись — никто в точности не знал, но думали, что, может быть, хоть они, подобно древним варягам, наведут порядок в великой и обильной Русской земле, и опять будет прежнее мирное житие. Пусть отстаивают город рабочие и крестьяне. Мещанам-то что за дело? Их никто об этом не просит. Метались по городу мотоциклетки с лихими седоками, мчались нагруженные грузовики-автомобили, скакали верховые, потянулись куда-то военные обозы.
На Старый Венец выкатили пушки, а самый Венец окопали рвом и защитили с Волги колючей проволокой. Ждали чехов из-за Волги, куда были направлены жерла орудий: со времен Стеньки Разина не было пушек на Старом Венце, не воевал самый тихий и безмятежный город на Волге.
Никогда еще с таким ожиданием не смотрели обыватели с Венца на далекое Заволжье, сплошь покрытое дремучими лесами.
Ничего не видно было за лесом, но пушки с треском палили через широко разлившуюся Волгу, обстреливали заволжский берег: ждали артиллерийского поединка, думали, что чехи будут через Волгу переправляться, город приступом брать. Объявили осадное положение: вечером, после восьми часов никто носа не смел на улицу высунуть, ни огонь зажигать. Сроду ничего подобного не случалось в приволжских городах. Запасались мукой, солью, картошкой и всякой провизией, какую еще можно было достать.
Но вот в тихое весеннее утро, когда обыватели только еще просыпались, а некоторые спали, проведя в чутком сне тревожную ночь, там и сям под окнами на Старом Венце стали раздаваться голоса женщин:
— Чехи! Чехи пришли!
Екнуло сердце у всех. Повскакали с постелей, всклокоченные, кто в чем, высунулись из окон, вылезли из калиток.
— Взяли город чехи! Заняли кадетский корпус! — неслись голоса.
Здание ревкома по-старому называли кадетским корпусом, так же как «дворец труда» — губернаторским домом.
И стали выползать пугливые обыватели из своих нор.
Беспорядочно сбежались на площади: там стояло огромное, занимавшее почти половину квартала, кирпичное здание, где до революции сотни лет воспитывалось поместное дворянство.
В толпе преобладали женщины — домашние хозяйки с корзинками, канцелярские служащие, мещане, подростки и уличные ребятишки, — та обывательская толпа, что всегда на Старом Венце собиралась.
У подъезда стояли вооруженные часовые в немецких черных касках. Десятка два конных солдат в маленьких шапочках пирожком выстроились против здания. Худой, высокий человек во френче, с белокурыми бакенбардами, по выправке — офицер, отдавал распоряжения подчиненным, стоявшим навытяжку, с рукой под козырьком. Слышался тихий, сдержанный говор толпы, все спрашивали друг друга, некоторые обстоятельно рассказывали, «как было дело».
Одна из кучек жадно слушала рассказ молоденького солдатика — мальчишки лет семнадцати, стоявшего на мостовой с ружьем у ноги. Прыщавое, худое лицо его с длинным носом было измазано грязью от пыли и пота. Он был в солдатской шинели и железной, лакированной каске.
Юноша странно, нервозно хихикал.
— Наш эскадрон переправился ниже города, в безлюдном месте, а нынче на рассвете мы встретили их кордон и перекололи всех до единого, без выстрела, врукопашную.
— Перекололи всех, — продолжал он, торжествуя, — думаем: надо скорее в город! Да боимся, не остался ли кто в живых, не поднял бы тревогу по полевому телефону. Спешились посмотреть убитых. Гляжу — а один живой, только прикинулся мертвым. Я его — штыком, а он шевелится: злющие ведь они, красные-то! Его, бывало, к земле приколешь, а он еще саблей машет. Колол- колол, — нет, никак не прикончу: то рукой, то ногой дрыгает. Что делать? Вынул тесак и стал ему голову рубить. Хи-хи-хи! — жутко хихикает прыщавый доброволец.
С удивлением созерцали обыватели его долгоносое, вымазанное грязным потом, нездоровое лицо, искривленную улыбку.
— Ведут кого-то!
От подъезда корпуса, сквозь расступившуюся толпу ехали шагом двое конных, а между ними с необычайной решимостью шел бледный человек в белой, с красными крапинками рубахе без пояса, в кожаном картузе, босой, в широких черных шароварах. Подстриженная ярко-рыжая борода оттеняла это поразительно бледное, помучневшее лицо, такое бледное, что оно казалось белее ситцевой рубахи на этом рослом, дюжем человеке. Красные крапинки издали казались брызгами крови. Шел он быстро и решительно, размахивая в такт шагам руками, как бы торопясь куда-то по чрезвычайно важному делу. Двое всадников с короткими ружьями за спиной, в маленьких шапочках, оба молодые, красивые, с черными усиками, ехали быстрым шагом.
Толпа ухнула, широко расступилась перед бледным человеком, а затем, слившись в плотную массу сзади всадников, побежала за ними.
— Комиссар продовольствия! — слышалось в толпе. — Попался! А-га-а!
Толпа злорадно рычала.
— Нашли его в подвальном этаже, в пекарне. Хлебопеком переоделся, а документы-то в кармане оказались.
Недалеко увели комиссара: всего только повернули за угол и остановились на дороге, против высокой кирпичной стены, окружавшей двор кадетского корпуса.
Всадники спешились. Толпа замерла в ожидании. Один из них снял из-за плеч свою короткую винтовку.
Комиссар твердыми, большими шагами подошел близко к стене и встал лицом к ней.
Хлестнул короткий, сухой, негромкий треск выстрела.
Рыжая голова в кожаном картузе, видневшаяся за густой толпой, исчезла.
С глухим гулом обывательское стадо кинулось к стене, толкаясь, падая, давя друг друга и ползая по земле, к трупу комиссара.
Солдаты сели на лошадей и рысью поехали обратно.
— Что делаете? Звери вы, что ли? — закричал в толпе высокий, тонкий голос. — Человека убили, а вы…
Голос оборвался на полуслове. Толпа побежала за всадниками. Комиссар, раскорячив ноги, лежал у стены вниз лицом. С мостовой в испачканном белом пиджаке поднялся Кронид. По рыжеватой бороде текла кровь. Он вытер бороду, сплюнул кровью и побежал, прихрамывая. За углом вдруг остановился: у стены лежали четверо, судя по костюму — рабочие, в синих блузах, высоких сапогах. Головы их валялись отдельно от тела, раздробленные на куски; у одной из них совсем снесло черепную коробку. Мозги виднелись на траве, стена была обрызгана чем-то серым, с прилипшими к ней волосами. В траве лежал человеческий глаз вместе с лобной костью.
От площади вели под конвоем группы бедно одетых рабочих, заводили в ближайшие дворы, и оттуда сейчас же доносились сухие звуки выстрелов.
Кронид бежал бесцельно. Очутился на Старом Венце. На углу была женская тюрьма, одноэтажное старое здание. У ворот, на траве, лежали навзничь три трупа в защитных гимнастерках. Раскинув по траве страннобледные, застывшие руки, они лежали в таких позах, словно собирались встать. Это были тюремные надзиратели; Кронид часто видал их прежде.
За решеткой низкого окна стояла молодая, красивая цыганка, с монистами на груди, в ярко-огненной шали, с серебряными перстнями на загорелых руках. Она кивнула головой Крониду.
— Что, молодец, дождались? За что убили-то? Подивись! Бедные люди. Шестнадцать карбованцев получали. За экое жалованье смерть приняли. О-хо-хо! Лишенько!
— За что сидишь? — сурово спросил Кронид.
— За-понапрасну. Пришли белые и начали бедных людей избивать да в темницу сажать. И меня ни за что взяли. Ой, худо будет!
Кронид, повернув обратно, быстро пошел по дощатому тротуару. Цыганка еще раз крикнула ему вслед:
— Худо будет!
Когда он пришел в черновский дом, по обыкновенна с черного хода, его встретила Зинаида с заплаканным лицом.
— Беда-то какая! — зашептала она. — Приходили чехи с ордером; говорят, чтобы мы наверх перебирались: внизу полицейское управление будет, охранка. Сроку только сутки дали.
— Вот те и на! Дождались избавителей!
— Похлопотали бы вы, Кронид Алексеевич. Костя-то как на грех уехал.
— Что же я могу? Безусловно придется подчиниться. Перетерпим как-нибудь, а там видно будет.
— Сходили бы по начальству, отбоярились бы. У нас дети, старуха больная. Лучше бы к Блиновым: у них дом — дворец, а семья маленькая.
— Гы-гы! Что же это брат на брата сваливать будет повинность? Нет уж, покорно благодарю, мне и так по зубам попало, насилу ноги унес.
Кронид рассказал о том, что происходит в городе.
— Арестовывают все больше рабочих, а на нас — повинности и налоги. С имущего класса все дерут — что красные, что белые, — один шут.
— В театре какое-то собрание объявили: повестку принесли. Хоть туда сходите.
Вечером в театре состоялся многолюдный митинг. Зал был переполнен. Со сцены говорил речь воевода добровольческой армии — высокий, во френче, с холеными бакенбардами. Он обещал изгнать большевиков и восстановить прежний «справедливый» строй. Только нужны новые Минины и Пожарские, нужен подъем народного патриотизма, нужно собрать деньги. Пусть все жертвуют, кто что может, пусть делятся деньгами, ценными вещами. Сейчас же в публику пойдет комиссия для приема добровольных даяний. Лишь бы прогнать большевиков, а тогда видно будет, какой строй установить.
Кронид сидел в партере рядом с Дмитрием. Новый «Минин» говорил гладко, как по писаному: вероятно, не в первый раз, заучил речь наизусть.
По рядам пошла комиссия с блюдом для пожертвований на «белое дело». Пример показал воевода: положил свои золотые часы с цепочкой. Кронид ехидно улыбнулся: небось, везде их кладет. Когда комиссия подошла к ним, Кронид смутился, пошарил в карманах и ничего там не нашел.
Дмитрий показал черные стальные часы.
— К сожалению, не захватил золотые: не знал! — пожал плечами заика.
Публика жертвовала плохо, клали дешевые вещицы, серьги, брошки, рублевки, десятки…
Когда сборщики прошли, Кронид лукаво посмотрел на Дмитрия, но тот и ухом не повел. Не хотела купецкая мошна раскошелиться, хотела, чтобы белые спасли ее бесплатно или по крайней мере подешевле; норовили надуть белых.
Ночью, возвращаясь с митинга, Кронид и Дмитрий встретили на глухой улице тихо двигавшийся обоз телег, нагруженных застывшими, скорченными человеческими телами; окостенелые, вытянутые руки их с окровавленными, скрюченными пальцами торчали кверху, словно мертвые воздевали их к небу.
На другой день обыватели сидели на скамейках Старого Венца, угнетенные, вздыхающие и грустные, недосчитываясь многих соседей своих, смотрели в далекую синь горизонта с еще большей тоской, чем прежде. Казалось, что теперь они уже и сами не знают, какое будущее может принести им избавление. Теперь, при белых, стало еще страшнее.
Широко разлившаяся Волга как бы замерла и притихла: не было в ней прежней жизни — ни пароходов, ни барж, ни плотов.
В половине августа, в воскресенье, часов в шесть пополудни, когда Старый Венец был усеян гуляющей публикой, над городом внезапно появился аэроплан.
Прилетел он со степной стороны, пожужжал над горой и, спустившись так низко, что видно было сидящего в его кабинке человека, начал кружиться над Венцом, как коршун, высматривающий добычу.
Из толпы раздалось вверх несколько выстрелов, но аэроплан не испугался, продолжая описывать круги над следившей за ним толпой, словно издеваясь над ней: его интересовали пушки и окопы на Венце.
Потом взмыл над Волгой, покружился около пристани и, поднявшись высоко, улетел в степь.
Это был большевистский аэроплан. Говорили, что большевики подошли к городу и стоят за небольшой речкой в числе одиннадцати тысяч; город же охранялся всего только тремя тысячами гарнизона: солдаты, бежавшие с германского фронта, давно уже схлынули куда-то.
Положение было безнадежное, но обыватели верили, что должна откуда-то явиться помощь; говорили, что белые шлют подкрепление из Казани.
На скамейке сидел Кронид в белом кителе и парусиновых башмаках. Подошел и сел рядом незнакомый мужик с большой краюхой хлеба, торчавшей из кармана. Мужик жевал калач, безучастно созерцая Волгу.
— Нездешний? — спросил от нечего делать Кронид.
— Не! — медленно ответил тот. — Из подгородней деревни.
— Как же ты через красных-то прошел?
— Ничего, прошел.
— Как думаешь, чья возьмет?
— Обязательно наши возьмут город!
— Какие — наши? — с неудовольствием спросил Кронид.
— Наши, большаки.
— А ты бы держал язык за зубами. Какие они тебе — наши?
Мужик ничего не ответил и продолжал жевать, глядя мимо Кронида бесцветными, ничего не выражавшими глазами.
Толпа на Венце все увеличивалась, собираясь отдельными кучками.
В центре одной из групп немец Карл Карлыч, начальник добровольного обывательского караула, назначал очередных в ночное дежурство. Тут же лежало на земле необходимое количество винтовок со штыками.
На предстоявшую ночь с Венца требовалось отправить пятерых караульных на окраину города — охранять пороховой склад.
Но почти все, предчувствуя опасность, под разными предлогами отказывались от своей очереди.
Карл Карлыч пожал плечами и усмехнулся. Это был небольшой человек с желтенькой бородкой клинышком, странно похожий на Кронида, десять лет назад приехавший на Волгу с широкими планами обогащения в России; он построил под городом большой кирпичный завод, теперь уже заброшенный, а в городе имел образцовый фруктовый сад с домом на склоне Старого Венца. Считали его богатым человеком; он уже сидел в большевистской тюрьме, но скоро был выпущен и даже получил какую-то должность. Но когда ушли красные, Карл Карлыч начал содействовать белым. Теперь в его доме квартировали белые офицеры.
— Хе-хе-хе! — рассмеялся Карл Карлыч. — Это виходит по русской пословице: мой дом на краю, а я ничего знать не хочу! Когда биля мой очерет, я ходиль, и вот он ходиль, и другой ходиль, а сегодня все — как мишка в норка!
Из толпы посыпались возражения.
— Конечно, кому охота? Наступление ожидается…
— Враки! — возражал немец. — Я биль в управление… там знают… Говорили — не будет на нинешний день…
— Верю всякому зверю, верю и ежу, а им — погожу…
— Тебе хорошо, Карл Карлыч: твоим козырям под масть. А мы опасаемся. Тебе и тюрьма — пустяк.
— Золотым молотком и тюремные двери отворить можно.
— Тугая-то мошна не говорит, а чудеса творит: крякни да денежкой брякни — из воды сух выйдешь. А с нами разговор короток.
— Каждому своя голова дорога.
— Надо же кому-нибудь на караул ходить?.. Ай-ай, срам какой! — качал бородой Карл Карлыч.
— Вот назола! — с досадой сказал, выходя вперед, Кронид. — Откуда — такая остуда? Ежели мы сами себя не защитим, кто же нас защитит? Ну что ж, пойду я не в очередь. Неужто больше нет никого?
Помялись, погалдели и заставили еще четверых отправиться в караул: нехотя согласились два писца, учитель и бородатый мещанин.
Неумело взяв солдатские винтовки на плечи, нестройной группой повернули в переулок. Солнце закатывалось. На тротуарах всюду было необычайное оживление: люди с озабоченными лицами группами выходили из домов и спешили куда-то. Встретилась компания городских врачей, в числе их Зорин; увидал Кронида, рассеянно улыбнулся.
— Куда?
— В караул. А вы?
— На перевязочный. — Зорин махнул рукой, не останавливаясь.
По главной улице тянулся казенный обоз, проносились мотоциклетки. Вот так же было, когда большевики уходили. Теперь белых черед. Базар опустел. Медленно сгущались бесконечные степные сумерки.
Долго шли городом, пустырями, Солдатской слободкой, состоявшей из жалких хибарок, неправильно разбросанных. Совсем стемнело, когда подошли к караулке. Дальше была степь, а шагах в пятидесяти, на отшибе, неясно виднелся продолговатой тенью пороховой склад.
В караулке светился огонь. Около маленькой жестяной лампы сидел сторож, поджидавший караульных.
Маленькая комнатешка с голым столом, бревенчатыми стенами и деревянными скамьями показалась еще меньше, когда наполнилась неуклюжими фигурами людей, стучавших и звякавших ружьями. Лампа коптила, освещая их неверным светом.
— Здорово, дед! — тяжело поставив ружья в угол, говорили пришедшие сторожу, старику с физиономией старого солдата.
— Здравствуйте! А я жду-пожду: что-то, мол, долго.
— Да нейдет никто нынче: боятся! Наступления ждут. Белые-то, значит, — за «хороших» людей, за богатых, а с красными зато вся беднота идет.
— Не бойся богатого грозы, а бойся бедного слезы! — сказал старик.
— Какая уж тут слеза?.. Кровью пахнет: под самым городом стоят.
— Что же, из Казани-то нет подкрепления?
— Ничего не известно.
— Видно, оставили нас на произвол судьбы?
— Покурим с горя!
— Кто хочет курить, здесь курите, а на карауле нельзя. Порох ведь!
— По двое пойдем?
— Знамо дело: по два веселее. Смена — через два часа. Сколько теперь?
— Десять, — сказал Кронид, посмотрев на карманные часы. — Айдате, кто со мной?
— Пожалуй, хоть я, — откликнулся учитель, бледный, молодой, в очках.
Взяли ружья, осмотрели их, вышли.
Ночь была темная, беззвездная, сырая, накрапывал дождик. Кронид поежился в своем белом кителе. Шли к амбару гуськом. В четырех шагах уже не видели друг друга. Ощупью подошли к амбару. Прислонились к стене, под крышей, спасаясь от дождя. Дождь шел мелко, словно шептал что-то.
— Ну и ночь! — сказал учитель. — Тут к самому носу подойдут — не увидишь. Довелись нападение — я и стрелять-то не умею. Ладно, если убежим. Охрана тоже!
— Ну, я бы не побежал. Что за жизнь пришла? Чего ждать?
— Так-то оно так, а все-таки живой про живое думает. Дурак лишь не боится ничего.
— Ну, все мы на этот счет не дураки. Однако разойдемся: я — с этого конца, а вы — с другого.
Учитель звякнул ружьем и пошел вдоль стены. Через два шага он словно утонул в черной тьме, даже шагов его не слышно было за шумом дождя.
Кронид поставил ружье между колен и, сидя в неудобной позе на пологом каменном фундаменте амбара, вынул веревочку. Мысли его ползли беспорядочно. Вспомнилось смуглое лицо Виолы, ее пение, смех. Кронид тряхнул головой: не надо! Уехала — и хорошо! Наташа, пожалуй, вовремя ушла: тут и здоровому невмоготу. Вспомнил расстрел комиссара, безголовые трупы… Настасья Васильевна с внучкой Лизой в комнату переехала. Константин хмурый вернулся, совещались о чем-то с Дмитрием. Уехала охранка, дом опустел… Сын Варвары к белым добровольно ушел.
Кронид вил веревочку, не то думал, не то дремал.
Вдруг кто-то схватил его за плечо.
— Кто тут? — дико закричал он, хватаясь за ружье.
— Смена! — послышался знакомый голос. — Или вздремнул?
— Задумался, грешным делом. Время, что ли?
Перед ним в черной тьме стояли двое. Кронид узнал смену.
— А учитель где?
— Здесь я. Идемте! — прозвучал голос из темноты.
Дождь прекратился, но было сыро. Кронид передал ружье и, рассмотрев наконец фигуру учителя, зашагал следом за ним к тусклому огню караулки.
— Как на войне живем, — пробурчал учитель, съежившись. — Дожили! Из Казани-то и не почесались. Видно, и там неладно.
Бородатый мещанин спал на голой скамье. Учитель закурил папиросу. Озябший Кронид сел, положил голову на стол, согрелся и опять задремал.
— Началось! — громко сказал кто-то над его головой.
Вздрогнул. Поднял голову.
Светало. Все караульные были в сборе и громко разговаривали. Издалека мерно доносились глухие, раскатистые, густые удары, словно гром в степи: стреляли из пушек.
— Больше часу пальба идет, а вы спите!
Кронид посмотрел в окно: небо очистилось от облаков. Занималась пышная заря, обещавшая солнечный, красный день.
— Что же будем делать?
— Что делать? Посидим до смены: в восемь часов дневная должна придти.
— Вряд ли.
— Подождем все-таки.
— Выйти надо из караулки, — предложил Кронид. — Ружья здесь оставим.
Все вышли и сели невдалеке на бревнах.
Всю ночь не спали в доме Блиновых. Анна набила вещами два чемодана, но всего не увезешь с собой. Дмитрий заперся в кабинете, и оттуда глухо доносились тяжелые стуки в стену. Наконец он выглянул за дверь, с засученными рукавами рубахи, забрызганной известкой, и позвал жену.
Анна вышла усталая, растрепанная.
В стене было выломлено большое отверстие, с камин величиной. В комнате стояла пыль, пахло глиной.
— Давай! — сказал он, заикаясь. Губы его дрожали. Дмитрий тяжело дышал, отирая пот полотенцем.
— Ну-ка, посмотрю: хватит ли места? — шепотом ответила она.
— Хватит не хватит, больше не могу: устал, да и собираться надо.
Анна осмотрела работу мужа.
— Ничего. Потрудился, можно сказать. Заделать- то как?
— Тоже задача! Замажем, а сверху — обоями… Высохнет в один день.
Анна принесла серебряный самовар, потом целый узел столового серебра, бокалы, подстаканники, несколько золотых часов, браслетов, цепочек.
— Бриллианты — здесь! — сказала она, указывая на грудь.
— Это, конечно, с собой…
— Сундуки, в случае чего, обещал Крюков к себе забрать. Ну, а покуда — мама здесь будет.
Дмитрий засунул драгоценности в отверстие в стене. На полу припасена была глина, известь, лежали кирпичи.
— Все?
— Все!
Анна перекрестилась и, всхлипнув, вынула платок.
Муж принялся за работу. Неумело вмазывал кирпичи. Анна помогала. Возились долго, и оба выпачкались в глине. Когда работа была кончена и мусор убран, в окнах посветлело.
Заклеив сырое пятно на стене куском обоев, пошли умываться. Дом Блиновых был когда-то княжеским дворцом. Двухсветлый зал, отделанный мраморной обшивкой, лепными украшениями и потемневшими рисунками художников на потолке, уже много лет не отворяли, да и все парадные комнаты оставались необитаемыми вследствие их огромности и ненужной, холодной роскоши. Блиновы жили попросту, ютились в маленьких боковых комнатах. Существовало предание, что забытый княжеский род вымер преследуемый драматической судьбой. В минувшие века в старом дворце созерцались гнусные дела: разврат, насилие, убийства, кто-то был отравлен, остальные погибли от наследственного сумасшествия. Дух преступления как бы тяготел над старым домом, губя и позднейших его обитателей: мрачная драма убийства и сумасшедствия в семье Блиновых была у всех на памяти. У них никто никогда не бывал. Екатерина Ивановна ходила в полумонашеском костюме, устроила в угловой комнате «моленную», зажигала лампадки, молилась, часто ездила в монастырь. Теперь, когда двухмиллионный капитал был конфискован, осталось все-таки порядочная сумма в шкатулке да собранное с должников: старуха вздорная и тщеславная прежде, замкнулась в религиозное ханжество. Что произошло в государстве и в городе, кто с кем воевал — не хотела взять в толк, была уверена, что скоро усмирят бунтовщиков, а ей возвратят два миллиона. К сборам дочери и зятя в отъезд отнеслась невнимательно и равнодушно, а сама и слышать не хотела об отъезде.
Катерина Ивановна тоже не спала эту ночь. Когда совсем рассветало, пошла в столовую. Дмитрий разговаривал у порога с Василием, Анна ходила по комнате совсем одетая, вместо шляпки — в платке. Старуха остановилась в дверях — толстая, с мясистым, увядшим лицом, с двойным подбородком и суровым взглядом из- под нависших бровей.
— Поторапливайтесь! — говорил Василий. — Подвода у ворот стоит, и Константин Силыч с семейством с полчаса на пристань выехали. «Меркурий» вторые сутки дымит. Бают, как бы нынче не отвалил, хоша не известно, пускают ли на пароход-то…
— Нас пустят, — возразил Дмитрий: — записывались.
— Ну и слава богу! А все-таки — торопитесь!
— Ты поезжай с подводой, а мы прямиком, по лестнице сойдем, раньше тебя будем.
— Ладно.
Василий взял чемоданы, Дмитрий взвалил на плечи узел, и они оба вышли через черный ход.
В это время, как отдаленный гром, глухо донесся первый пушечный выстрел.
Катерина Ивановна перекрестилась.
Еще раз громыхнуло. Анна остановилась, разинула рот и побледнела.
Вошел Дмитрий.
— Анна, слышишь?
— Что?
— Наступление началось. Возьмут нынче город!
— А может, отсидимся на пароходе, да и назад?
Дмитрий рассердился.
— Назад?! Одиннадцать тысяч их, а белых-то — горсть.
— Мамынька, прощай! — сказала Анна и поклонилась матери в ноги.
То же сделал и Дмитрий.
— Бог простит! — сурово ответила старуха. — Куды путь-то держите?
— За Урал, мамынька.
— П-переждем с полгодика, — добавил Дмитрий, — а потом воротимся… Небезопасно здесь оставаться.
— Уж и не знаю, мамынька, как вы тут проживете без нас?..
Старуха усмехнулась.
— Что вы мне? Какая защита-заборона, загуменная ворона? Хуже с вами-то, а с меня, старухи, что взять? Поезжайте!
Дмитрий и Анна еще раз поклонились ей. Когда они вышли, гул канонады катился слышнее. Над Заволжьем поднималось солнце.
Долго спускались с Венца к Волге по бесконечной деревянной лестнице. С горы всю пристань было видно, как на ладони. Дымил белый, двухэтажный «Меркурий», но на пароходной конторке не замечалось никакого движения; зато на берегу, около самой воды, кишмя-кишела толпа. Несколько лодок, до отказа нагруженных людьми и их багажом, плыли на другую сторону Волги. Через двухверстный железнодорожный мост с необычайной быстротой шел пассажирский поезд. Грохотали пушки. По-видимому, мост был под обстрелом.
Анна шла по лестнице впереди Дмитрия, по временам нащупывая на груди заветный мешочек. Спустившись к берегу, сказала:
— Митя, вон Василий с подводой и все наши!
— Вижу.
— Пароход-от не пойдет, видно?..
На берегу слышались крик, гвалт, ругань. Известный всей России фабрикант и помещик, черный, как таракан, с появившейся только теперь проседью на висках и в усах, кричал, размахивая бумажником:
— Двадцать тысяч за лодку!
— Сто! — небрежно отвечали лодочники.
— Полцарства за коня! — улыбнулся Анне Дмитрий. — Вот где обдираловка!
Вся черновская компания оказалась в сборе. Константин с женой и двумя ребятами, Крюков, Мельников с Еленой, Кузин и многие другие, вчерашние богачи и воротилы города.
— Пароход — для войск! — подскочил Крюков, хлопнув Митю по плечу своей тяжелой лапой. — Да и то на ту сторону! Ходу нет ему никуды: Казань взята, Самара — тоже… Чугункой поедете.
— А ты?
— Я остаюсь, и Кузин остается… Провожать вышли… Несусветные цены дерут!
Фабрикант грубо ругался, сидя на узлах и чемоданах в отчаливавшей небольшой лодчонке, рядом с женой, известной артисткой. Заплатил сто тысяч за перевоз.
На берегу лодочники ругались между собой. Двое схватились «за грудки». Лодок не хватало, целая стая их, взмахивая веслами, чернела на светлом фоне реки, спеша переброситься на далекий берег Заволжья. Приходилось огибать зеленый остров на самой середине реки, пробираться узким проливом между двумя его частями, разорванными Волгой.
Зинаида сидела с детьми на верху воза, полная, постаревшая, растрепанная. Константин спорил с кем-то у берега. Толпа беженцев металась, как на пожаре. Откуда-то вынырнул Кузин, не спеша и сладко улыбаясь, дернул за рукав Крюкова, начал шептаться с ним. Крюков воодушевился, подбежал к Василию.
— Трогай к пароходной конторке!
— Дык…
— Трогай, говорю!
— Зачем? куда? — волновалась Анна.
Зинаида сидела на возу безмолвно. Дмитрий стоял столбом, ожидая, что за него все сделают другие. Крюков за руку тащил Константина от берега, шептал:
— Знаю, что делаю! Есть лодка! — и подмигнул.
— Так точно! — слащаво добавил Кузин. — Только надо незаметно, а то налезут! Айда к пароходу!
Заскрипела телега по песчаному берегу. В большой дощаник влезали, толкаясь, бросая туда узлы и чемоданы, вспотевшие, охрипшие люди с красными от злобы и толкотни лицами, растерянные, перепуганные, обезумевшие. Радовались, что черновская телега сдуру потащилась куда-то в другое место.
Мерно и густо громыхали большевистские пушки.
К восьми часам артиллерийский обстрел внезапно прекратился, но тотчас же началась пулеметная трескотня: по временам она умолкала, но потом возобновлялась с еще большей силой.
Находившиеся вблизи караулки казармы оказались пустыми, и туда спешили соседские бабы и подростки за поживой: тащили вязанки листового табаку, конскую сбрую и всякий хлам.
Мимо караулки промчался выпущенный из конюшни серый в яблоках великолепный кровный жеребец.
Замолк пулеметный треск. Через несколько минут совсем близко послышалась беспорядочная ружейная пальба.
— Чего сидите? — крикнула одна из баб караульным, по-прежнему сидевшим на бревнах. — Красные перешли уже через речку, в город ворвались. Вот тут недалеко стреляют.
Двое караульных еще раньше ушли домой, обещав через полчаса вернуться, но так и не вернулись. Новая смена тоже не явилась.
Решили оставить амбар без караула и разойтись по домам.
С тяжелым чувством брел Кронид домой.
Когда, миновав пустыри и буераки, вошел в город, ружейная пальба послышалась ближе, словно за углом стреляли. На улице, кучками стоя у ворот, глазели обитатели окраины — бабы, дети, подростки.
Кронид повернул к Волге, чтобы сразу выйти на Венец. Стрельба то учащалась, то замирала, но заметно становилась слабее. Вслед за ним, обгоняя его, бежали один за другим к спуску солдаты белой армии. Хотел спросить их, но они бежали по другой стороне улицы, кто с ружьем, кто без ружья. Солнце начинало припекать. По лицам их струился пот, смешанный с грязью.
Крониду все еще не верилось, что белые разбиты: если бой продолжается, то, может быть, еще и отбросят красных?
Как раз мимо Кронида, задев его плечом, пробежал по тротуару молодой, безусый солдат в немецкой черной каске. Он тяжело дышал, отирая грязный пот, струившийся по его желто-смуглому, запыленному лицу, и держа ружье в опущенной руке.
— Ну, как дела? — крикнул ему вдогонку Кронид.
Солдат на момент остановился, обернувшись на голос, не сразу понял, перевел дух.
И вдруг радостно, устало улыбнувшись, крикнул:
— Кронид!
— Коля!
Это был сын Варвары.
— Куда бежишь?
— За Волгу! Дела на Конной! Понял? Нас вздули, но мы еще придем! Прощай! Каждая минута дорога. Кланяйся маме!
Коля побежал вперед, на глазах у Кронида перемахнул через забор и исчез в чьем-то саду, мелькая между деревьями, прямиком спускаясь под откос.
Кронид посмотрел ему вслед и тяжело вздохнул.
«Пропадет мальчишка! — думал он, шагая по тротуару. — Нет, уж, пожалуй, не вернетесь!.. Эх! дернула Кольку нелегкая к чехам пристать! На Конной!.. Значит уже в городе бой. Отстреливаются кое-как, задерживают красных, чтобы дать своим возможность убраться ва Волгу».
Перестрелка угасала с каждой минутой и наконец совсем замерла.
Когда Кронид вышел на обрыв Старого Венца, глазам его предстала такая картина: глубоко внизу, под горой, от пристани отчалил «Меркурий», черневший наполнявшими его солдатами разбитой армии. Пароход медленно повернул против течения и вскоре бросил якорь у заволжского берега.
«Не поспел Колька!» — вздохнул Кронид, садясь на скамью.
Вслед за пароходом барахтались несколько лодок, которые сверху казались горстью брошенных в воду мошек.
Под откосом, в садах, слышались одиночные ружейные выстрелы: красные преследовали бегущих.
Через мост уходил последний поезд отступающих. Опять загромыхали пушки: должно быть, обстреливали поезд, а с моста отвечали ружейным огнем. Поезд шел быстро и, пройдя мост, остановился. С парохода черной ниткой ползли солдаты, как муравьи.
В воздухе раздался такой густой и мощный удар, словно выстрелило одновременно несколько пушек, — и последний пролет моста за Волгой опустился одним концом в воду: белые взорвали мост.
Над городом прямым столбом, все более сгущаясь, поднимался дым. Кронид оглянулся, горел опустевший дом Черновых, бывшая охранка белых. Никто не тушил пожара. День на редкость тихий, безветренный. Пламя вздымалось ровным, спокойным костром.
На углу Венца два человека в шлемах с красной звездой держали кого-то под руки, повалили на землю. Раздался выстрел.
Кронид задрожал. Оглянулся по сторонам: ближе всего был дом Карла Карлыча. Кронид, прячась за изгородью, прокрался к дому. Парадные двери стояли раскрытыми. Вскочил в прихожую и запер дверь за собой. Одно окно было раскрыто. Он подошел закрыть его. Кронид захлопнул окно и обошел квартиру: она была брошена на произвол судьбы, на полу валялись обрывки газет, стояли пустые корзины, раскрытые шкафы. Карл Карлыч успел скрыться.
Неожиданно в дверь кто-то бухнул гулким, тупым ударом. Потом еще… и опять.
Вдруг весь страх почему-то прошел у Кронида. Даже стыдно стало за недавний припадок трусости.
«Смерть?» — вслух спросил он себя, Потом медленно подошел к запертой им самим двери.
— Кто там? — глухо спросил он.
— Отпирай! — раздалось сразу несколько голосов.
Молча отодвинул засов и настежь открыл створчатую дверь. У крыльца стояло четверо солдат в шлемах с красной звездой, с ружьями в руках. Пятый был без оружия, но лицо его поразило Кронида напряженностью выражения. Бледное, худое, давно не бритое, в густой золотой щетине, оно казалось каменно-неподвижным и только глаза были раскаленные и решительные.
— Здесь живут белые офицеры! — утвердительно, словно отрубая слова, сказал он.
— Жили. Теперь нет никого.
— А ты кто? Документы.
— Документов со мной нет.
— Да чего слушать буржуя? — закричали солдаты. — Он это, сукин сын, провокатор, изменник! — кричали солдаты. — Из-за него, мерзавца, сколько погибло рабочих!.. полны овраги расстрелянных!
Человек без оружия поднял руку:
— В расход!
По Венцу шагом проехал эскадрон конницы на высоких лошадях с новой сбруей, с красными повязками на рукавах и с алыми звездами на остроконечных желтых шлемах.
По опустевшей, безлюдной улице гулко звякали блестящие подковы лошадиных копыт.
Дом Черновых пылал среди неестественной тишины, объявшей красивый город на вершине горы, отражавшейся в зеркальной реке.
Когда Колька добежал до берега, пароход был уже на той стороне. Обливаясь потом и тяжело дыша, он остановился у широких мостков пароходной конторки «Меркурия». В садах раздавались ружейные выстрелы. Все лодки были уже на другой стороне. Вдруг он услыхал под мостом спорящие голоса, показавшиеся ему знакомыми.
— Машинист сбежал. Правьте сами, как-нибудь доедете, — говорил слащавый голос.
— Да не умеем мы! Не доедем, — разом закричали два голоса.
— Тише! — послышался голос, несомненно Крюкова. — Промедление смерти подобно. Ведь каждую минуту влопаться можно. Я тоже не умею, и нельзя мне. Кузин, растолкуй им, как ее в ход пустить…
Послышались женские всхлипывания:
— Господи, что же это будет!
— Лучше бы на простой лодке.
Колька бросился вниз, спустился под мостки и наткнулся на всю компанию: Дмитрий, Константин и Мельников с плачущими женами и детьми сидели в моторной лодке. Кузин и Крюков стояли под кручей, у самой воды.
Внезапное появление солдата с ружьем заставило женщин вскрикнуть.
— Я это, я! — отирая пот с грязных щек, крикнул он. — Едем! Я умею править.
Колька, не расставаясь с ружьем, вскочил в лодку.
— Теперича — лодка, значит, ваша, — сказал Кузин.
— Коля, заводи! — хлопотал Крюков. — Да лягте, которые… Не торчите: еще под шальную пулю попадете.
Константин насмешливо бросил Кузину:
— Спасибо за лодку!
— За сто тысяч! — тихо добавила Анна.
— На что едем, куда — сами не знаем. Люди-то вон остаются, — говорила Зинаида.
— Отваливай! — скомандовал Крюков и отсунул тяжелую лодку, кряхтя и напрягаясь.
Заработал мотор. Лодка сначала медленно, а потом все быстрее заскользила мимо конторки между якорных канатов. Сидевшие в ней прилегли за высокими бортами.
Крюков и Кузин, здоровенные, широкоплечие, в старых, заплатанных поддевках, вылезли из-под кручи и пошли на пустую баржу пароходной конторки.
Лодка быстро удалялась, оставляя за собой пенистый след. С горы по ее направлению затрещали выстрелы. Обогнув остров, братья Черновы высунули головы. Над городом стоял дым, Две кряжистые фигуры все еще виднелись на борту баржи, бородами друг к другу: о чем-то совещались. Два самых предприимчивых купца не захотели бежать, остались в руках ненавидевшей их революционной власти. Был у них какой-то план: в этом братья не сомневались. Женщины лежали на дне лодки, прижавшись одна к другой.
Белые, сойдя с парохода, зажгли его. Огонь побежал по бортам маленькими язычками и струйками, быстро превращаясь в яркое пламя. Многочисленные каюты в два яруса осветились изнутри ярко-золотым светом. Сидевшим в лодке слышно было, как трещали сухие, тонкие переборки, выкрашенные масляной краской.
Когда перегорели канаты, пылающий пароход, медленно поворачиваясь, поплыл сам собою вниз по течению. Силой воды и огня его вынесло на середину реки: весь огненно-золотой и прозрачный, он зловеще плыл по голубой зеркально спокойной реке.
X
Варвара возвратилась из лечебницы совершенно больной и едва могла ходить. На курорте произошла такая же разруха, как и во всей стране: ни врачей, ни лекарств, ни больничного белья, ни дров, ни пищи! Чуть живой вернулась в родной город после взятия его красными. Отыскала свою мать и дочь на окраине, в углу проходной комнаты, отгороженном ситцевой занавеской.
Настасья Васильевна стала совсем ненормальной, заговаривалась, голова тряслась пуще прежнего. Внучке ее, Лизе, было уже двадцать пять лет. Она напоминала Варвару в молодости: такая же высокая, крупная костью, с большим подбородком. Обращалась с полоумной бабушкой повелительно, как бы в отместку за прежнее ее самодурство. Единственной опорой семьи была Лиза: служила где-то, приносила паек.
В городе возрастали дороговизна, голод, холод. Зима наступила лютая, какой давно не бывало. На топливо ломали заборы, спиливали деревья. Ночью луна светила сквозь морозный туман, а по бокам ее двумя огненными столбами зловеще сияли два ее отражения. В городе шли слухи: о событиях на юге, об атаманщине, батьковщине, гайдамачине.
У обитателей угла в проходной комнате не было ни хлеба, ни дров, ни керосина. По вечерам сидели с самодельной лампадкой и полуголодные ложились спать, прикрываясь всяким тряпьем. Жили как на новом «дне» — новые «бывшие люди».
Однажды вечером пришел Крюков, очень редко заходивший, все в той же выцветшей, заплатанной сибирке. Лизы не было дома, бабушка спала в углу на сундуке. Варвара, исхудавшая, желтая, встретила его испуганным взглядом: Крюков приходил только с неприятными вестями.
— Ну, черный ворон, каркайте скорее, каких еще бед нам не хватает?
Крюков по старой привычке расшаркался, руку у Варвары поцеловал, сел на стул, кивнул в сторону бабушки:
— Спит, али прихворнула?
— И хворает, и спит. Совсем оглохла и обезумела… Одним словом — рассказывайте, что нового?
— Ничего особенного… Есть известие, что сын ваш в Сибири теперь, в ледяном походе участвует. Братья в Минусинске мельницу держат, но — небогато живут. А вот насчет супруга вашего — читали? в газете было…
Варвара побледнела.
— Не пугайтесь: плохого пока нет. Из Англии он уехамши, на Дону теперь обретается, с белыми, при штабе чем-то состоит. Можно, пожалуй, порадоваться за него. Писем не имеете?
Варвара махнула рукой.
— Какие письма? С четырнадцатого года не пишет…
— Пожалуй, что это и хорошо, — задумчиво сказал Крюков.
— Что же тут хорошего? Видно, что все поставил на карту. Опять вмешался в политику.
— Большая игра, что и говорить. Чья возьмет — не известно. Но, по-моему, — в самый раз он с белыми соединился.
— Ведь вот вы, кажется, не большевик, а с большевиками ладите. Ваши-то взгляды какие?
— Взглядов моих я не скрываю, Варвара Силовна. Я — спец, фабрикой управляю, и пока нужен им. Приспособляться надо, Варвара Силовна. Плетью обуха не перешибешь, сила солому ломит. Вот по всему городу теперь повальные обыски. Придут, конечно, и к вам: Чеке отлично известно, чья вы дочь и чья жена. Специально за этим шел к вам — предупредить. Приготовьтесь— и чтобы ни синь-пороха не было, ничего подозрительного, особливо насчет переписки. Боже сохрани! А лучше всего — съехать бы вам от дочери: на недельку спрячем вас, а там, глядишь, все обойдется, в особенности ежели при обыске ничего не окажется. Ну, прощевайте! — закончил Крюков, вставая. — Там, за занавеской, я мучки с полпудика принес — в счет Кости по фабрике. После сочтемся.
По уходе Крюкова Варвара упала на кровать, вцепилась зубами в подушку, чтобы не разрыдаться. Больное сердце то замирало, то начинало бурно колотиться в груди. Задыхалась. Руки и ноги дрожали. Чувствовала близость какой-то печальной развязки всей ее жизни: что делать, куда идти, где спрятаться? Так вот она — русская революция! Мечтала о славе и богатстве, когда шла за Пирогова, думала министрихой от революции быть, а тут какой-то ураган вдребезги разбил всю жизнь.
В комнате стемнело, когда пришла Лиза — в валенках, в дубленом овчинном тулупчике.
— Хоть бы огонь зажгли! — сказала она раздраженно, сбрасывая полушубок. — Спят — и горя мало… Селедку принесла, вставайте!
Старуха зашевелилась в углу, села.
Лиза долго при помощи медной зажигалки возилась с лампадкой.
— Я не сплю, Лиза, — отозвалась Варвара. — Нездоровится мне.
Убогая комната слабо осветилась неверным, мигающим светом.
— Кто это был здесь? — дребезжащим голосом спросила Настасья Васильевна. — Кронид будто.
— Поехала! — возразила Лиза. — С того свету, что ли?
— Али, бишь, умер он. А ты не кричи, чего кричишь?
Лиза ничего не ответила, развертывая принесенный сверток.
Варвара смотрела на ее широкую спину, на большие, красные от мороза руки. Неужели эта мужиковатая, огрубевшая девушка в валенках — ее дочурка Лиза? Казалось, еще недавно бегала в коротеньком платьице, с ленточкой в белой, как лен, косичке, ластилась к матери, а теперь простуженным басом говорит…
— Лиза, купила бы ты мне фунтик яблочек на рублевочку! — жалобно сказала старуха. — Рублевочка-то есть у меня: в платочке завязана.
— Бабушка! как ты не понимаешь ничего! Рублевка теперь ничего не стоит. Совсем из ума выжила!
— Оставь ее! — сказала Варвара. — Крюков был, муки принес. Предупреждал, что по городу обыски идут…
— Оружие ищут. А какой дурак будет держать его, себе на погибель? Ерунда!
— Отчим твой у белых теперь…
— Читала. Обыска ждать надо. Если придут, беги на улицу с черного хода, а уж я отбоярюсь…
— Крюков советует мне на время к ним переехать.
— Где все? — бормотала старуха. — Были — и нет никого. Все в могиле. Богатство-то наше куда подевалось?
Послышался стук в парадную дверь. Лиза выскочила в коридор; с лестницы хорошо был слышен ее густой голос и еще несколько женских и мужских голосов.
Захлопали дверями соседние жильцы. Чье-то испитое лицо просунулось за занавеску и, прошипев: «С обыском» — исчезло.
Варвара накинула на плечи шубу и выскочила на двор через пустую кухню.
По коридору слышались тяжелые шаги и мужские голоса.
Настасья Васильевна, высокая, худая, как скелет, с трясущейся головой поднялась с жалкого ложа и, горделиво подбоченясь, сказала блеющим голосом:
— Не сметь сюда входить! Выдьте вон при моем виде!
Ночевавшая у Крюковых, занимавших флигель во дворе у Кузина, Варвара утром узнала, что Лиза после обыска арестована и сидит в тюрьме.
Варвара тотчас же отправилась в Чека.
Чрезвычайная комиссия помешалась в бывшей городской управе. Это был большой, двухэтажный белый дом на главной улице города. Ей приходилось и прежде бывать в светлых, высоких комнатах управы. Но теперь у дверей стояли часовые в красноармейских шлемах. Ее пропустили в приемную, где в ранний утренний час еще не было никого.
Она села на скамью и стала ждать.
Из боковой двери выглянул высокий красноармеец в длинной кавалерийской шинели. Вежливо спросил ее фамилию и скрылся.
Через несколько минут тот же человек в шинели выглянул в дверь и сказал громко:
— Гражданка Пирогова, пожалуйте!
Варвара вошла в маленький кабинет, где около письменного стола сидели три молодых парня в косоворотках.
— Что вам угодно? — спросил один из них.
— Я прошу освободить мою дочь, — сказала Варвара, откинув дрожащую голову, и поискала лорнетку в ридикюле, но лорнетки не было.
— Вас вчера не оказалось дома, и поэтому она арестована. Нам нужны вы!
— Если нужна, то вот я, — возразила Варвара.
— Нам нужны сведения о вашем муже. Вы в переписке с ним?
— Нет.
— Вам не известно, где он?
— Не известно, я уже несколько лет не имею от него никаких известий.
— Так.
Молодой человек порылся в бумагах. Потом сказал:
— Он изменник революции. Вы должны иметь в виду, что если будет обнаружена ваша переписка с ним, то вам грозит суровое наказание. К вашему счастью, обыск не дал таких результатов.
— Их и не могло быть, — сказала Варвара. — Надеюсь, что арест моей дочери не будет продолжительным?
— А с вашим покойным сыном вы переписывались? — неожиданно спросил чекист.
Варвара вздрогнула и вдруг откинулась на спинку стула с помертвевшим лицом. Комната пошла кругом перед ее глазами. На минуту она потеряла сознание.
— Выпейте воды! — прозвучал над ней чей-то голос.
Она дрожащей рукой взяла стакан и выпила несколько глотков. Зубы стучали о стакан, несколько капель пролилось на платье.
— Я не знала, что его… уже…
Спазмы сжали горло. Слезы медленно потекли из глаз, но лицо казалось неподвижным. Огромным усилием воли она овладела собой.
— Он — убит?
— Нет, нам известно, что ваш сын, находясь в армии Колчака, умер от тифа. В бреду убежал из лазарете в поле и погиб там во время бурана.
Варвара прижала платок к глазам и долго не отнимала его.
— Можете идти! — сказали ей. возвращая документы. — Дочь ваша будет выпущена сегодня же.
Варвара встала. Прежнее самообладание вернулось к ней.
Глаза были сухи, лицо — каменное.
Не помнила она, как очутилась дома, на кровати. Когда открыла глаза, у изголовья стояли доктор Зорин и Лиза. Бабушка сидела на сундуке, как бы кивая трясущейся головой.
— Что со мной? — едва слышным голосом прошептала Варвара.
— Ничего особенного, — ответил Зорин. — Легкое переутомление, маленькое нервное потрясение.
— Три дня без памяти лежала, — мрачно сказала Лиза.
Варвара рванулась к дочери, но силы оставили ее: голова упала на подушку.
— Лиза! — прошептала она. — Ты здесь! свободна!
— Молчи, — наклонилась к ней Лиза. — Все благополучно. Не волнуйся, мама: вредно тебе.
— Вам нужно правильное лечение, Варвара Силовна, — продолжал Зорин. — Здесь обстановка неблагоприятная, но я похлопочу, чтобы вас приняли в больницу.
— Не хочу, — прошептала больная. — Лучше здесь… Проклинаю всех!.. все!..
Лицо Варвары задрожало. Она снова впала в беспамятство.
Через неделю Варвара умерла.
XI
Осень стояла солнечная, сухая, теплая. Уличная жизнь Москвы мало чем отличалась от прежней: на Ильинке торговали всякой мелочью, на углах стояли извозчики, московская толпа почти также оживленно сновала по тротуарам, как и прежде. Но большие гостиницы были обращены под новые учреждения, магазины закрыты. Торговали только чайные и столовые, молочные и табачные лавочки, много было уличных торговцев с лотками яблок и картофельных котлет.
На Советской площади на месте уничтоженного памятника Скобелеву строился серый обелиск; на фронтоне бывшего дома генерал-губернатора выделялись на полотняной вывеске красные буквы РСФСР. Перед домом стояла большая уличная толпа. Человек в тужурке и кепке, стоя на балконе, громким голосом, разносившимся по всей плошали, говорил речь отрывистыми фразами. Этот звучный, разряжающийся голос показался Валерьяну странно знакомым: где-то когда-то он слышал его. Оратор говорил о борьбе революции с ее врагами, о победах, завоеваниях и предстоящих трудностях. Москва готовилась отпраздновать годовщину революции.
Валерьян тщетно пытался вспомнить, где он слышал этот взрывчатый голос, но так и не вспомнил. Мысли были заняты собственными делами. Он шел к скульптору Птице, торопился застать его дома и, не дослушав речи, пошел по Тверской.
Чтобы попасть в студию скульптора, нужно было пройти под полукруглые каменные ворота и в глубине двора семиэтажного дома отыскать одну из многих парадных дверей. Найдя дверь, лифтом поднялся на шестой этаж: выше лифт не ходил; на седьмой, чердачный, пришлось подняться по лестнице. На низенькой двери была приклеена бумажка с надписью: «Прошу даже близких друзей не приходить ко мне ранее 9 часов вечера».
Валерьян улыбнулся: эта записка висела еще с дореволюционных лет, но на ее содержание и смысл никогда никто из «близких друзей» не обращал внимания.
Валерьян без колебаний надавил пуговку электрического звонка, и дверь тотчас же отворил сам хозяин — хромой, постукивающий железным каблуком, с коротко остриженной головой и в длинном коленкоровом халате — в своем рабочем костюме.
Расцеловавшись с другом, скульптор сказал, вводя его в мастерскую:
— Ты хорошо сделал, что не опоздал. Жду комиссию и, значит, в два счета устрою тебе свидание… Работаем. Занят по самые… по эти… по колена… Видишь?
Художник осмотрелся.
Мастерская скульптора была заставлена гипсовыми и мраморными фигурами, бюстами; с длинных полок смотрели мужские и женские лица, смеющиеся, плачущие, думающие, мечтающие… На человека, впервые вошедшего в эту странную комнату, они производили впечатление неподвижно застывшей толпы с различным выражением лиц, полных жизни. Вот полунагая женщина с трагическим лицом и с заломленными в отчаянии голыми руками; в ее позе и выражении прекрасного лица столько экспрессии, что кажется — у нее захватило дух, и вот-вот сейчас из мраморной груди вырвется дикий, истерический вопль… Но она молчит, и уже годы как замерла в этом трагическом состоянии.
А позади нее, ущемленная в железном треножнике, осталась неоконченная мраморная голова с заразительно смеющимся лицом, похожим на самого скульптора: от смеха даже вздулись жилы на лбу. Но смеха не слышно, и странно было видеть эту беззвучно хохочущую голову, навеки оставшуюся в таком веселом виде. С полок смотрели богини, мудрецы и герои: Сократ, Аристотель, Венера, Паллада, Ахиллес, Геркулес, — древние задумчиво взирали сверху на современных людей.
Возвышаясь головой почти до стеклянного потолка мастерской, треть комнаты занимала фигура, вылепленная из еще не остывшей темной глины. Она как бы появилась из бесформенной массы, голая до пояса, с могучей грудью, мощными руками, с головой великана и вьющейся круглой бородой. Фигура эта, видимо, была далеко не окончена, но голова и лицо жили глубокой жизнью, полной, напряженной экспрессии.
— Кто это? — спросил Валерьян.
— Модель памятника Виктору Гюго, — любовно проведя рукой по волнам глины, ответил скульптор. — Заказ советской власти! В ноябре годовщина революции — так надо к сроку, но вряд ли успею. Главное — захватило меня, как давно не захватывало: перечитал все его книги, бредить даже начал, во сне его вижу. И вот — сляпал! — Скульптор с нежной осторожностью провел по глине привычной, ловкой рукой, засученной по локоть и мускулистой от постоянной работы. — Хорош?
Художник не ответил. С невольной завистью смотрел на новое создание скульптора.
Могучее лицо дышало жизнью, мыслью, чувством: в сложном и глубоком его выражении ощущалась мощь Жана Вальжана, дикая любовь Квазимодо и образы «Тружеников моря».
Глаз нельзя было отвести от этого содержательного, гениального лица. Внезапно всплыли те волнующие переживания, которые когда-то давно, в юные годы, испытал он за чтением «Собора Парижской богоматери» и «Истории одного преступления».
— Да, хорошо, — сказал он со вздохом. — Это лучшее из всего, что ты сделал до сих пор.
Птица поморгал глазами.
— Я ночи не спал, когда думал о нем. Вложил в него все, что у меня накопилось здесь!.. — Скульптор постучал себя по крепкой и круглой груди. — Сэр! — продолжал он. — Ты с начала революции сидел там, на своей Волге, и, конечно, понятия не имеешь о том, что здесь затевается. Ко дню годовщины в Москве будет воздвигнуто триста памятников писателям, поэтам и героям революционного движения во всем мире. Триста! Это, брат, крыть нечем. Жаль только, что большинство заказов получили футуристы: народ все такой, понимаешь ли, — а-про-по, шан-тро-па, а-ля-фуршет, ам-по-ше — и поминай как звали! Но все-таки будут работы и настоящих мастеров. Большевики на это денег не жалеют. Триста тысяч чистыми за Гюго получу, если только к сроку успею отлить. А на днях ведро спирту на обмывку глины пришлют, чтобы не трескалась.
Птица посмотрел на друга искоса, с лукавством.
— Разве непременно спиртом надо обмывать?
Скульптор посмотрел еще лукавее.
— Не дурак же я! Спирт разведем и выпьем. Небось, все друзья мои сбегутся. Когда у меня обмывка, так они по запаху, с улицы, чутьем чуют. Бежит мимо, понюхает воздух — и ко мне… А сейчас давай кофе пить!
— Вот как! — удивился Валерьян. — Кофий пьешь?
— Не настоящий, конечно, не мокко, а так — а-ля- фуршет. Но зато с сахаром!
Рядом с мастерской, за малиновой шерстяной занавеской, заменявшей дверь, была крохотная, гробообразная комнатка с чрезвычайно низким потолком, с единственным окном, из которого был вид на бесконечные крыши Москвы.
Там стояла низенькая, продавленная софа, круглый стол в углу, два стула и керосиновая плита на маленьком столике, с большим чайником из красной меди. Птица зарабатывал хорошо, мог жить лучше, но сам себе готовил обед и кипятил кофе: остались привычки богемы, с которыми он не хотел расставаться после десятилетней жизни в Париже.
С привычной ловкостью развел огонь, заварил кофе. Валерьян остановился перед мраморной фигурой женщины.
— А это что? — спросил он подошедшего хозяина.
— Жена позировала, — равнодушно ответил скульптор.
— Разве у тебя есть жена?
— Была, сэр!
— Где же она теперь?
Птица пожал плечами.
— Разлюбила тебя?
— Нет, любила, и я ее любил, но уж лет десять как разошлись. Надоела ей толпа моих друзей, она и предложила мне ультиматум: или друзья, или она. Я долго раздумывал, а потом предпочел друзей. Она и ушла… Терзалась очень, но не мог я покориться ей: тогда бы все творчество мое пошло к черту…
Валерьян долго смотрел на отчаянье красивой женщины, которую не пожалел и осмеял Птица, не умевший работать без друзей и свободы. Он довольствовался одинокой жизнью. Она наполнялась радостями творчества и холостыми пирушками на чердаке с друзьями и приятельницами такого же типа, как он сам. Валерьян думал, что Птица беспорядочен и чудачлив, но ребяческой душе его свойственны птичьи крылья, которые в минуты вдохновенья поднимают его высоко над жизнью. Недаром и живет он на чердаке седьмого этажа, взирая на знаменитый город с птичьего полета. Валерьян с горечью и завистью к другу думал о своей жизни, погибшей из-за любви и сострадания к женщине, о своем таланте, захиревшем от того, что он долго был близок к умиравшему дому чуждой для него семьи и не был способен к справедливой жестокости истинного художника.
— А вот, — прервал молчание Птица, снимая мокрые тряпки с фигуры, которой до этого не заметил Валерьян, — ежели не успеют отлить Гюго, я им другую вещицу дам.
Это был бюст человека с гордо и вызывающе поднятой головой, с высоким, благородным лбом, с лицом агитатора, дышавшим волей и энергией.
— Узнаешь?
— Лицо знакомое, но трудно вспомнить.
— Это — Лассаль. Тоже мучился и с ним: перечитал все его речи, «Один в поле не воин» Шпильгагена — и все не мог натуры найти. Помогла мне старая статуэтка моей же работы с одного эмигранта. Жил с ним в Париже. Совсем я тогда слабеньким, желторотым учеником был: голодал, лепил миниатюры на продажу, а он ходил продавать на тротуаре. Вот с него и взял я материал, кроме, конечно, портретов Лассаля…
Птица налил два стакана горячего кофе и поманил приятеля в маленькую комнату.
— Пей! Насчет закуски слабовато нынче: черный хлеб только, голодновато в Москве. А все-таки — молодцы большевики! Как они умеют организовать всякие праздники, что делается в цирке, в балете, в опере! — Птица улыбнулся и продолжал, отхлебывая кофе: — Вот, сэр, какие дела.
— Голод в Москве, — пробормотал Валерьян.
— Это обойдется. Не хлебом одним жив человек. Зато сколько денег идет на театры, художество, литературу! Книги, брат, теперь издаются в сотнях тысяч! Наша братия, художники, прежде зависели всецело от буржуазии, чесали ей пятки. Все, что искусство создало до революции, будет поставлено на почетную полочку, но — не годится для настоящего момента: оно не созвучно эпохе! Нам с тобой нужно начинать сначала. Так начнем же! Черт побери из тяньтери в яньтери наше прошлое! Прежде властвовавший класс умер. Туда ему и дорога! В мир грядет коммунизм! — вскричал Птица с пафосом. — И что бы ни случилось с ним, несомненно одно: свершается колоссальный сдвиг во всем мире в пользу галерки, которая пересела в партер.
Он крепко поставил стаканы, взъерошил вихры, взял с полки маленькую переплетенную книжку, раскрыл ее и сказал, понизив голос:
— Вот что писал когда-то Генрих Гейне о коммунистах! Послушай…
Птица порылся в книге, нашел нужную страницу и прочел с увлечением:
— «С ужасом и трепетом думаю я о времени, когда коммунисты, эти мрачные иконоборцы, достигнут господства: своими грубыми руками они беспощадно разобьют все мраморные статуи красоты, столь дорогие моему сердцу; они разрушат все те фантастические игрушки искусства, которые так любит поэт; лилии, которые не занимались никакой пряжей и никакой работой и, однако же, были одеты так великолепно, как царь Соломон во всем своем блеске, будут вырваны из почвы общества, разве только захотят взять в руки веретено; роз, этих праздных невест соловьев, постигнет такая же участь; соловьи, эти бесполезные певцы, будут прогнаны и — увы! — из моей „Книги песен“ бакалейный торговец будет делать пакеты и всыпать в них кофе или нюхательный табак для старых баб будущего. Увы! я предвижу все это, и несказанная скорбь охватывает меня, когда я думаю о гибели, которую победоносный пролетариат угрожает моим стихам: они сойдут в могилу вместе со всем старым романтическим миром».
Птица захлопнул книгу, сунул ее на полочку и, повернувшись к Валерьяну, сказал:
— Лет сто назад писано. Коммунизм приходил в мир вместе с каждой революцией, но — не достигал господства. Теперь опять пришел! Бедный Гейне! Он думал, что коммунисты разобьют статуи красоты, но они их воздвигают! Думал, что его стихи сойдут в могилу, но коммунисты воскресили их! Он скорбел половиной своего расколотого сердца, а другой половиной смеялся над этой романтической скорбью и — приветствовал революцию. Он без колебаний примкнул к ней, ибо чувствовал, что романтика, которую он так любил, — отжившая гниль, музейная бутафория и что будущее человечества непременно, рано или поздно, пройдет через эпоху коммунизма. Он не любил «этих мрачных иконоборцев» и все-таки шел с ними, потому что любил жизнь, а она требовала гибели отжившего и была на стороне разрушителей… потому что, милый мой сэр, жизнь стремится вечно обновлять мир!
— Все это правда, но ведь они узкие, примитивные материалисты, — возразил Валерьян, — а мы, художники, никак не можем обойтись без фантазии, без поэзии и, как тот же Гейне, — без романтизма.
Скульптор весело улыбнулся.
— Они не только узкие материалисты, — на самом деле это люди, одержимые пафосом великой фантазии. Они враги устаревшей, выдохшейся веры, но они сильны тем, что несут новую веру. В мире давно уже не было таких людей, упорно верящих в творческие силы народа. Да, они верят страстно, нетерпимо, свирепо, и в этом их сила. «Аристократы духа», вечные «патриции искусства», мы идем вместе с ними, сами того не замечая: в старых богов и мы давно не верим… Я приветствую коммунизм потому, что сама жизнь вызвала его на арену мира, потому, что он столкнул в тартарары старую рухлядь и поднял такую пыль, что весь мир чихает. Сэр! — меняя пафос на иронию, продолжал Птица, становясь в позу со склоненной головой. — Ты видишь перед собой ни больше, ни меньше, как бодрого, веселого, жизнерадостного большевика, в порядке партдисциплины работающего на мельнице коммунизма. Из тяньгери в яньтери старую жизнь! В два счета, а-ля-фуршет! Равняйся на новую жизнь, и да здравствует революция!
В это время затрещал звонок. Скульптор, стуча каблуком и хромая, быстро заковылял к двери.
Вошел Ленька — длинный, тоненький, выглядевший юношей.
— Отец, поздравь: сдал и принят в институт! — заговорил он ломающимся голосом.
Валерьян обнял сына.
— Ну, вот и прекрасно. Не надивлюсь на тебя! Ведь каким ты был лентяем, а теперь вот радуешься, что учиться приняли.
— А знаешь — почему, отец? — возразил Ленька, садясь рядом с ним на софу. — Учителя мешали учиться. Ведь я был внук банкира, ну, и переводили из класса в класс, хотя я ровно ничего не знал и шалопайничал.
— Это правда, Леня, — отозвался скульптор, зажигая опять керосинку. — Кофе выпьешь? Дети богатых на девяносто процентов вырастают безвольными оболтусами. Нужда, брат, развивает волю, энергию, обогащает душу переживаниями и в особенности полезна в молодости.
— По правде сказать, и я виноват в том, что у тебя было такое серенькое детство, и совсем не моя заслуга, что из тебя что-то выходит. Никак не воспитывал тебя! Даже не заметил, когда ты успел вырасти, — мягко говорил сыну художник.
Ленька не отвечал, с аппетитом поглощал кофе с хлебом.
— Теперь очень интересно учиться, — пробормотал он с набитым ртом. — Интересная жизнь… лекции… собрания.
— Все зависит все-таки от самого себя, сэр, — возразил Птица. — Разве мы не видим хулиганство, распущенность и огрубение? Кто расположен к порче, тот везде испортится, а есть такие, которых портят, а они не портятся. Революция поставила детей прямо перед лицом жизни. Кое-кто этого не выдерживает, зато из тех, в кого самой природой что-нибудь вложено, выйдут новые, прочно устроенные люди, — конечно, не без труда, не без борьбы… Из тебя, Леня, выйдет толк. Нахожу, что удачный сын у тебя, сэр!
— Бросьте вы обо мне толковать, старики! — улыбаясь, прервал его Ленька. — Все еще ребенком меня считаете…
— Да, правда, — почему-то вздохнул Валерьян. — Ты уже самостоятельный человек, в моем руководстве не нуждаешься…
— Будем друзьями, отец! — с порывом возразил юноша. — Я помню, как ты мучился, когда болела и умерла мама, как тебе было тяжело жить. Глядя на твои мучения, я решил никогда не жениться.
Друзья рассмеялись.
— Ну, сэр, как твоя работа? — переменил тему Птица.
— Да вот не знаю, как и где мастерскую получить.
— Работай пока у меня. С минуты на минуту жду комиссию по устройству годовщины. Дадут и тебе заказ: если хочешь — работы по колено… Хотят они заказать хорошему художнику плакат в восемь сажен вышины. Валяй!.. Для большого театра тоже нужны новые декорации. В день годовщины вся Москва будет залита яркими красками, цветами… Интересно работать. Друг мой, великий художник Валерьян! Все должны служить коллективу, все — на фронт революции! Пупки вперед и — равняйся! А наши прежние заслуги, — Птица свистнул, — увы! — аннулированы.
— Каким языком ты стал говорить! — укоризненно сказал Валерьян.
— Я говорю языком плаката, улиц. Да! Скоро и мы с тобой будем работать для улицы: высекать статуи, строить памятники, писать картины для площадей, не вершками, а саженями. Пока идет перестройка всей жизни, и уж тут не попадайся под ноги задумчивая лирика, интеллигентская тоска и поэзия уюта в зимний вечер у камина… К черту все это!.. Сэр! Забудем наши старые заслуги, наденем рабочий фартук, засучим рукава, начнем строить новое на прочном грунте старой земли. Все — дыбом, все — сначала.
Валерьян слушал патетические речи Птицы и не знал, серьезно говорит он или смеется над собой.
Новый звонок прервал красноречие скульптора. Он заковылял к порогу, скрывшись за занавеской. В мастерской послышались два новых мужских голоса.
— Так это и есть Гюго?
— Да, сэр.
— Здорово! Конечно, будет принято…
— Еще не готово.
— Вот это жаль! Эх, жизнь треугольная!
— Но вы обещали нам известного художника, — добавил другой голос, — а фамилии не сказали. Где он? Давайте нам его.
— Есть! — по-матросски ответил скульптор и, откинув занавеску, сказал: — Сэр, пожалуйте!
Валерьян вошел в мастерскую.
— Евсей! — радостно вскричал он, засмеявшись. — Абрамов!
— Опять встреча, — улыбаясь, сказал бывший давосский редактор, в то время как зоолог, растроганный, обнимал Валерьяна.
— Вот так сюрприз! Ах, жизнь треугольная! Ведь про тебя ни слуху, ни духу. Сказали — на Волге застрял. А как нужно-то тебя!
Птица улыбался самодовольно.
— Сэры! — с театральным поклоном сказал он. — Я все это устроил нарочно.
Все засмеялись.
— А это кто? Неужели Ленька? — удивился Евсей. — Студент?
— Уже! — сказал Ленька.
— Куда ни кинь… О, жизнь треугольная! Наконец-то ты сошлась удобным клином для нас. Ленька! помнишь Виллафранку?
— Еще бы! И ваши рассказы про океан и медведицу.
— Ну, а где твоя семья, Валерьян: жена, последняя из тургеневских женщин, Митя, любитель бургундского, и вообще — что сталось с мрачным домом Черновых?
— Он погиб, — тихо сказал Валерьян.
— Мне жаль из них только твою жену, Валерьян, — сказал Евсей, — этот цветок прошлого. Но и то сказать: не жилица она была по нынешним временам.
Он тряхнул головой, выпрямился.
— Итак, ты один, свободен, еще не старик, и уж теперь-то не эскизы будешь писать! Много сил своих погубил ты, но вижу по глазам и сединкам на висках — все, что ты выстрадал, — выльется!
— Начнем с начала, — спокойно улыбаясь, иронически ответил Валерьян.
— Мы тебе дадим хороший заказ: фигуру рабочего в восемь сажен вышины и декорации в Большом театре. Сегодня в семь часов являйся на заседание комиссии, там все и обсудим. — Он взглянул на часы. — Ну, а теперь — пора! Товарищ Абрамов, едем! Скульптора с собой захватим: надо съездить на литейный завод.
— Я готов, — заявил Птица, сбрасывая рабочий костюм.
Все поднялись с мест к выходу.
— А я здесь поработаю до твоего возвращения, — сказал Валерьян скульптору. — Дай бумагу и карандаш!
— Валяй! Я — скоро! Ты куда, Леня?
— В институт. У нас тоже собрание.
— Люблю жизнь! — весело воскликнул скульптор и неожиданно сделал балетное па, повернувшись на своей хромой ноге.
Когда мастерская опустела, Валерьян подошел к окну, растворил его и остановился, пораженный величественной панорамой.
Вся Москва была как на ладони. Сиял ясный, тихий, солнечный день. Солнце играло на бесконечных, уходивших за горизонт зеленью, эмалью, синью и золотом бесчисленных куполах церквей, колоколен и башен. С громадной высоты казалось, что Кремль со своими соборами и Иваном Великим стоит где-то внизу, как сказочное видение. Игрушками казались разноцветный храм Василия Блаженного, Красная площадь с Лобным местом, откуда когда-то Грозный кланялся народу.
Трехсотлетние, уходившие в землю златоглавые церкви, возвышавшиеся когда-то над бревенчатыми теремами древней Москвы, теперь казались задавленными многоэтажными громадами. Московская старина доживала свой век, теснимая грандиозной, быстро катившейся новизной. Еще недавно блистала здесь родовая и денежная аристократия, кипела жизнь верхов.
Теперь пришел рабочий и сразу занял верховное место. Что-то произошло небывалое, серьезное. Это видно по обгорелым многоэтажным домам, исцарапанным снарядами, по рабочей толпе, хлынувшей во дворцы и палаты, по деловым учреждениям вместо прежних увеселительных мест, по плакатам, где преобладает новый властитель жизни — рабочий. О нем пишут, о нем говорят. Он — мировая сила! Богачи, цари и вельможи, еще недавно властные, вынуждены были уступить ему дорогу.
Мрачное прошлое, умирая, еще дышит в этих толстых, несокрушимых стенах! Вот палаты бояр Романовых, сохранившиеся так, как будто Романовы только что оттуда выехали. Чудится, что еще совсем недавно Гришка Отрепьев с кремлевской стены разбился, а из Красных ворот, того и гляди, появится на коне царь Петр в зеленом камзоле.
Вот кряжистое здание Московского университета, напоминающее о бесчисленных поколениях русской молодежи, прошедших через эти старые, низкие двери. Вспоминается вся история русской интеллигенции…
Валерьян долго смотрел на этот ни с чем не сравнимый, полуазиатский, красочный, нелепо-разнообразный, неправильно раскинувшийся древний город, и в его воображении вставала тысячелетняя история России. Многое прошло здесь через душу русского человека, одаряло, обогащало или терзало ее.
Теперь пришла революция. Жизнь забилась с необычайной полнотой и силой.
Москва, как магнит, могучим своим притяжением втягивает в себя наиболее живые силы, все лучшие материалы страны, выковывает, переплавляет их. Скопляется небывалая энергия, растекается и вновь приливает. Мощный гул великого города напоминал тяжко бьющееся гигантское сердце.
Скиталец (С. Г. Петров)
Имя Скитальца прочно вошло в историю русской литературы. В приветствии Президиума Правления ССП СССР в 1939 году, по случаю 70-летия Скитальца, дана высокая оценка творческой деятельности писателя-реалиста: «В тяжелых условиях царского самодержавия вместе с демократическими писателями „Знания“ под непосредственным руководством Алексея Максимовича Горького, в борьбе с реакционным писательским лагерем создавали вы передовую русскую литературу, связанную с трудовыми низами общества. Гуманистическими, демократическими тенденциями, горячим интересом и сочувствием к трудящимся и обездоленным проникнуто все ваше творчество»[1]. Лучшие произведения Скитальца, друга и литературного соратника Максима Горького, тесно связаны с первой русской революцией.
Степан Гаврилович Петров-Скиталец родился 28 октября 1869 года (по старому стилю) в селе Обшаровке, Самарской губернии, в семье отставного солдата, бывшего крепостного столяра.
Жизнь, по словам самого писателя, прошла по нему всеми своими колесами и научила многому. С 1885 по 1887 год Скиталец учился в Самарской учительской семинарии.
В двухклассном училище Скиталец прочел почти всех русских классиков, а из иностранных — Шекспира и Байрона. Перед пытливым взором открылся новый мир, пробудилось желание писать. В своих ранних поэтических опытах он подражал Некрасову, Никитину и Кольцову. Прочел Скиталец также Чернышевского, Михайловского и Щедрина. В годы «безвременья», 1885–1887 гг., Скиталец увлекается Надсоном, стихи которого произвели на него сильное впечатление[2].
Влияние этого поэта-демократа чувствуется во многих стихах молодого Скитальца. Ему близки были идеи демократизма, гражданственность призывов, свойственные поэзии Надсона, идущей от традиций поэтов-шестидесятников.
После исключения из последнего класса семинарии «за политическую неблагонадежность» Скиталец исколесил Поволжье, Украину, Крым, Бессарабию, Западный край в поисках не только работы, но и новых жизненных впечатлений. Он видел не только интересное, но жестокое и страшное в жизни. В 1888 году он впервые привлекается к допросу за политическую пропаганду среди рабочих[3].
В годы скитаний ему пришлось перепробовать самые различные специальности: он был архиерейским певчим и оперным артистом; голодал и замерзал в Самаре и Харькове. Однажды, зимой 1895 года, оставшись без всяких средств к существованию, сидя в холодной комнате, дрожа от холода, в шапке, пальто и чуть ли не в рукавицах, Скиталец написал свой первый фельетон и отнес в редакцию харьковской газеты «Южный край». В канцелярию редакции он постеснялся зайти «по оборванности своего костюма», а передал рукопись швейцару редакции. Фельетон был напечатан, автору заплатили гонорар и в лестных выражениях просили писать еще. Так началась литературная деятельность Петрова, будущего Скитальца, в «Южном крае», который им самим назван «литературным балаганом». Но писатель не подделывался под направление этой газеты. «Я ничего общего не имею с направлением этой газеты, в которой участвую, я пишу совершенно в своем направлении… я ясно вижу, что мое участие вносит свежую струю в вонь „Южного края“», — заявлял он[4].
Вернувшись в Самару, писатель с 1897 по 1900 год сотрудничает в «Самарской газете», где еженедельно печатались его большие злободневные стихотворные фельетоны под псевдонимом Скиталец, под общим названием «Самарские строфы». В этой же газете печатаются его лирические стихи, поэмы, сказки, легенды, рассказы и статьи за подписью «С. Петров». С «Думой» поэта, напечатанной в «Самарской газете» 20 июня 1897 года, связано рождение его псевдонима.
В «Самарских строфах» Скиталец, вслед за Горьким, которого он заменил как фельетониста «Самарской газеты», обличает самарских толстосумов, наживающихся на голоде, «отцов города», «кривду толстопузую», дает описание пьяных дебошей в трактирах, где «резвились кони-люди или саврасы без узды».
Встреча в 1899 году с Горьким и дружба с ним оказали решающее влияние на жизнь и творчество «поэта и певца Самары», как называл себя Скиталец. Эта дружба ободрила и вдохновила его, Горький был для молодого писателя, по его словам, другом, воспитателем, старшим братом и вдохновителем.
Ты освещаешь путь твоим горящим сердцем Всем, кто идет из тьмы к заре святой свободы…Так определил Скиталец роль Горького. Его творческая помощь, вовлечение в литературные объединения («Среда», «Знание») способствовали идейному и художественному развитию Скитальца[5].
До встречи с Горьким Скиталец напечатал почти все рассказы, вошедшие в первый том. Появление повести «Октава», напечатанной в легальном марксистском журнале «Жизнь», означало, что в большую русскую литературу пришел значительный писатель горьковского толка. Вслед за этой повестью печатается его «Ранняя обедня» в «Журнале для всех» и «Сквозь строй» — в «Мире божьем». После этого Скиталец большею частью печатается в горьковских сборниках «Знание». В 1902–1907 гг. «Знание» издало три тома рассказов, повестей и стихов Скитальца. Примкнув к «знаньевцам», Скиталец включается в активную революционную деятельность.
В 1901 году Горького и Скитальца арестовывают за пропаганду среди сормовских рабочих и заключают в Нижегородскую тюрьму. Через несколько месяцев Скитальца освобождают и высылают в Обшаровку, под гласный надзор полиции, «впредь до окончания дела». Прошел год, и Скиталец опять заключен за революционную деятельность в Таганскую тюрьму в Москве.
Участие в революционной работе обогатило Скитальца как писателя. В эти годы он пишет автобиографическую повесть «Сквозь строй», рассказ «За тюремной стеной», повести — «Полевой суд», «Лес разгорался» и др. В этих произведениях рассказывается о революционном пробуждении трудящихся. Его революционные песни и стихи («Колокол», «Нет, я не с вами», «Кузнец», «Алмаз», «Гусляр», «Я и меч» и др.) являются составной частью поэзии 900-х годов. Это цикл боевых гражданских произведений, широко известных революционной России тех лет. Поэт выражает в своих лучших стихах буревестнические настроения людей, зовущих бурю, жаждущих ее. Говоря о представителях господствующего класса: «Я ненавижу глубоко, страстно всех вас; вы — жабы в гнилом болоте», поэт с чувством восхищения воспевает народ:
Солнце выйдет, смеясь, из-за туч И народ-то, как солнце — могуч![6]Повесть «Огарки» (1906), так полюбившаяся и автору и демократическому читателю того времени, была «талантливой повестью совсем горьковского типа» (Блок). Сборник «Знание», вышедший с этой повестью, разошелся в несколько месяцев в 60 тысячах экземпляров. Вся провинциальная Россия нарасхват читала «Огарки», а буржуазная петербургская литературная критика, во главе с Амфитеатровым, «яростно ругала автора этого произведения „отборными словами“ за непочтительность героев повести к интеллигенции». Демократического читателя привлекали образы талантливых, остроумных и бодрых духом «поднадзорных» из рабочих и крестьян: кузнеца — с широкой натурой волжского атамана, слесаря из петербургских подпольщиков — человека щедринского остроумия и их буйных сотоварищей. Картины их жизни на грани «подонков общества» обличали собственнический мир, который уродовал, коверкал и душил талантливых люден из народа. В своей статье «Интеллигенция и „Огарки“» (литературное воспоминание), написанной, по-видимому, в 1918 году, Скиталец говорит об «огарничестве» как о социальном явлении, проявлявшемся в различных вариантах в жизни молодежи того времени… Это была форма борьбы с «по степеновщиной», непринятие «тусклого безвременья царствования Александра третьего».
Рассказывая историю создания «Огарков», автор подчеркивает самостоятельность в разработке этой трудной и большой темы и указывает на ее родственность и одновременность с горьковской темой «На дне». По мнению Скитальца, «огарничество» — детская болезнь роста возникающего рабочего движения в России, «гримаса боли, когда еще слабые, нежные побеги кто-то пытался затоптать или вырвать с корнем».[7] В этой попытке связать «огарничество» с рабочим движением проявилась слабость мировоззрения писателя.
В 1902 году вышел том «Рассказов и песен» Скитальца, подготовленный и отредактированный Горьким. Эту книгу «с очень большим интересом» читал В. И. Ленин. «Сам читал и другим давал», сообщает Владимир Ильич своей матери, приславшей ему книгу Скитальца за границу[8]. В годы первой революции Скиталец печатался в большевистской печати («Новая жизнь», «Молодая Россия»), что дало ему возможность встречаться с В. И. Лениным.
Знаменателен следующий факт. 3 декабря 1905 года на квартире Скитальца в Петербурге Ленин и Горький провели экстренное заседание сотрудников закрытой в этот день легальной большевистской газеты «Новая жизнь»[9]. Не удивительно, что В. И. Ленин использовал в своей работе «Победа кадетов и задачи рабочей партии» (1906) стихотворение Скитальца «Тихо стало кругом» для характеристики «обожравшегося зверя» — самодержавия и «могильных червей революции» — кадетов[10]
Как видим, произведения Скитальца девятисотых годов насыщены боевым революционным духом; они звучали в свое время колоколом, зовущим к борьбе.
Поражение первой русской революции Скиталец переживал очень тяжело. Его настроение находит выражение в «Этапах» — хроникальной повести о трагических переживаниях растерявшегося в связи с поражением революции героя-интеллигента. не связанного с народом. Повесть была напечатана в 1908 году в «Знании» вопреки желанию Горького, осудившего Скитальца за создание этого пессимистического произведения. «Три года тому назад, — писал Горький Скитальцу, — наша страна пережила великое сотрясение своих основ, три года тому назад она вступила на путь, с коего никогда уже не свернет, если бы даже и хотела этого. Неужели этот поворот, историческое значение которого так огромно и глубоко, прошел для вашего героя незамеченным, не оживил, не расширил, не взволновал вашей души радостным волнением, не зажег огонь вашей любви к родине новыми, яркими цветами? Повесть говорит нет…»[11]
С повестью «Этапы» и этим суровым письмом Горького обычно связывают отход Скитальца от горьковских позиций и разрыв со «Знанием». В действительности же это было значительно сложнее. Самого Скитальца «вопрос об „отказе“ от Горького» сильно волновал, и он рассказал об этом в своих записках, относящихся к тридцатым годам, когда работал над воспоминаниями о Горьком. Нам известны два его объяснения на эту тему: «Судьба книгоиздательства „Знание“». Из «дневника» и «По вопросу „об отказе от Горького“. Годы реакции»![12] И в том и в другом объяснении рассказывается о конфликте не с Горьким, а с Пятницким, фактическим хозяином деловой стороны «Знания». Пока был Горький, все доверяли ему, но с его отъездом за границу во главе самого большого издательства в России остался заведующий «Знанием» Пятницкий, — пишет Скиталец. «Знаньевцы», недовольные денежной стороной порядков книгоиздательства, потребовали от Пятницкого отчета в денежных делах издания и предложили организовать «Знание» на товарищеских началах, как это уже давно предполагалось. Для переговоров с Пятницким была избрана делегация, в которую вошли Л. Андреев, Бунин и Скиталец. Издатель, не желая разговаривать по щекотливому вопросу с делегацией, сказал: «передайте писателям: все останется по-старому, недовольные могут не сотрудничать в „Знании“. — И добавил: был бы у меня Горький, а вместо всех вас можно других набрать». «После такого ответа, — заканчивает Скиталец, — „знаньевцы“ демонстративно ушли из „Знания“ и рассыпались кто куда!..»[13]. Ушел и Скиталец. Неблаговидная роль Пятницкого была до конца раскрыта Горьким, заставившим отчитаться компаньона. При этом отчете выяснилось, что Пятницкий скрыл истинные размеры колоссального тиража «Знания», что сам Горький оказался в неоплатном долгу у него, что само издание числилось частной собственностью того же Пятницкого. Горький также порвал с издательством, которое вскоре захирело. Таково объяснение самого Скитальца о причинах разрыва с издательством «Знания». Следует заметить, что не совсем убедительно его объяснение причин, приведших к разрыву. Так, Скиталец ни словом не обмолвился о том, что Горький, вынужденный жить за границей, требовал, чтобы «Знание» усилило борьбу за высокоидейную литературу. В этом плане, в частности, высказывался Горький и об «Этапах» Скитальца. Но этого требования не мог осуществить Пятницкий, буржуазный демократ, что и привело к разрыву Горького с издательством. Учитывая этот недостаток в объяснениях Скитальца, мы не можем не считаться с теми фактами, которые он освещает в своих объяснениях «Судьба книгоиздательства „Знание“».
После «Этапов» Скиталец отходит от активной литературной деятельности. В этом проявилось чувство растерянности в связи с реакцией в стране, в связи с тем, что опять поднял голову «дракон, обожравшийся человеческой крови», но поэт все же верит, что «там — внизу — побежденные точат мечи» («Тихо стало кругом»). Без того тяжелое состояние писателя усугублялось обострением его личной драмы — трагической болезнью и смертью любимой жены (1907–1917). Это была «чугунная ноша жизни» Скитальца. «До крови врезалась она в мои плечи, вся душа моя в крови», — говорил он сам об этой «чугунной ноше». В письме к брату А. Г. Петрову Скиталец прямо указывает на связь этой драмы с творческой деятельностью: «„Незаметная драма“ конфликта личности и семьи, пережитая мною сначала в ранней юности, а потом повторившаяся в расцвете сил, дала отрицательные результаты в моем творчестве»[14].
В 1909–1910 годах Скиталец живет за границей, где лечилась его жена. Затем живет в Крыму. Но заграничное лечение и Крым не помогли Александре Николаевне Ананьевой-Петровой — она болела неизлечимой болезнью, ее потянуло на родину, на Волгу. В 1913 году Скиталец с женой и маленьким сыном приезжает в Симбирск и поселяется на Старом Венце, в деревянном домике. Здесь в 1917 году умирает жена. Писатель живет в Симбирске до 1921 года. Симбирский период жизни Скитальца подтверждает, что писатель остался верен своим демократическим убеждениям. Начавшийся в 1912 году подъем революционного движения в стране помог ему осознать ошибочность своей позиции в «Этапах» и глубже воспринять наказ Горького.
В Симбирске зреют замыслы произведений о том новом историческом повороте, на который указывал Горький в своем письме по поводу «Этапов». Связи Скитальца с Симбирском многообразны. В Симбирске он бывал наездами у родных жены. Один из его приездов вошел в историю революционного движения нашего края. В начале 1905 года Скиталец по просьбе Симбирской организации РСДРП выступил на платном вечере с чтением своих стихов. Собранные деньги поступили в партийную кассу. Вечер, на котором Скиталец читал лучшие свои произведения «Гусляр», «Кузнец», «Нет, я не с вами», закончился пением «Марсельезы» и демонстрацией по городу с пением «Варшавянки», «Интернационала». Полиция пыталась разогнать демонстрацию, но демонстранты держались стойко. Это была первая демонстрация в Симбирске[15].
Более глубокие связи Скитальца с нашим краем устанавливаются с 1913 года. В 1915 году им была написана на основе повести «Огарки» пьеса «Вольница», запрещенная царской цензурой. Эта пьеса с участием автора впервые поставлена в 1918 году на сцене Симбирского Дома народного творчества. В печати «Вольница» появилась в 1923 году, она была издана в Рязани Русским театральным обществом. Пьеса имела большой успех. Скиталец выступал с нею не только в Симбирске и Сызрани, но и в других городах Поволжья. Неоднократно выступал он в Симбирском городском театре и на студенческих вечерах (1914–1916) с чтением своих стихотворений «Кузнец», «Гусляр». Исполнение этих произведений, а также песен «Колокольчики-бубенчики», «Дубинушка», чудесная игра Скитальца на гуслях покоряли слушателей.
Сохранилась печатная программа его выступления в театре в августе 1917 года. В программе сказано, что в театре будет исполнен «Очерк Скитальца „Волжские песни и сказания о Стеньке Разине“». Очерк читал автор, он же исполнял под аккомпанемент гуслей народные песни: «Любовь Стеньки Разина», «Стенька Разин и княжна», «Меж крутых бережков», «Волжские частушки»[16].
В Симбирске писатель подготовил к печати «Огарки» (1917 и 1918 гг.), восьмитомное собрание сочинений, вышедшее в 1918 году в Петрограде, и «Песни Скитальца», изданные в 1919 году в Москве. Здесь же в 1918 году были написаны «Воспоминания», «Семинария», «Юность». В Симбирске Скиталец начал работать над двумя крупнейшими произведениями. В декабре 1919 года в симбирской газете «Заря» был напечатан рассказ Скитальца «Лаврентий Щибраев» (Вожди революции 1905 года)[17]. Этот рассказ лег в основу исторического сказа «Кандалы», над которым писатель работал последние двадцать лет своей жизни. В Симбирске же был написан рассказ «Старый Венец (эпизод из событий 1918 года)»[18], вошедший в роман «Дом Черновых» как заключительная глава романа.
Таким образом, в Симбирске восстанавливается творческая деятельность Скитальца, создаются произведения, свидетельствующие о том, что писатель стоит на позициях реализма, что он продолжает работать над темой революционного пробуждения трудящихся масс.
14 мая 1921 года Скиталец выехал во Владивосток с группой писателей, направленных Луначарским для организации советской газеты. В мандате, выданном Скитальцу литературным отделом Наркомпроса, за подписью А. Серафимовича, сказано, что писатель командируется в Дальневосточную республику для организации отделения ЛИТО в крупных центрах ДВР, для связи с местными литературными организациями и для собирания образцов народного революционного творчества. Был указан и срок действия мандата — до сентября 1921 года[19].
До Владивостока Скиталец не доехал. Когда его группа прибыла в Читу, Владивосток заняли белые. Писатели остались в Чите, где организовали газету, которая выходила до конца 1921 года. Скиталец также участвовал в работе газеты. В том же году в Благовещенске было организовано кооперативное издательство «Утес» и издан литературный альманах под тем же названием. В «Утесе» были напечатаны рассказы Н. Ляшко, А. Новикова-Прибоя, Скитальца, М. Сивачева и Б. Зайцева, а также стихи С. Обрадовича, М. Герасимова, А. Дорогойченко, Г. Шпилева и Ф. Чудакова.
Следовательно, группа писателей, командированная Луначарским во Владивосток для издания советской газеты, эту задачу выполнила в Чите. Кроме этого, ими было создано кооперативное книжное издательство «Утес», которое «взяло на себя трудную задачу по возрождению родной литературы». Издательство обратилось к русским писателям с просьбой поддержать его в выполнении поставленной задачи как распространением изданий «Утеса», так и вступлением в члены кооператива.
Кроме участников первого выпуска, названных выше, дали согласие участвовать в отделе художественной литературы: Иван Вольный, С. Подъячев, Павел Низовой, А. Бибик, С. Есенин, Брюсов, В. Казин, Г. Нечаев. В обращении «От кооперативного книгоиздательства „Утес“» сообщалось, что ведутся переговоры с видными писателями и поэтами, находящимися в Советской России, о сотрудничестве их в «Утесе». Книгоиздательство намеревалось также объединить вокруг себя всех наиболее талантливых молодых писателей и поэтов Дальневосточной республики и Сибири.
Таким образом, можно сказать, что в 1921 году в Благовещенска возник литературный центр Дальневосточной республики, в создании которого принял участие и Скиталец. В «Утесе» был напечатан его очерк «Лаврентий Щибраев», что говорит о литературных интересах писателя. Здесь Скиталец продолжает работу, начатую в Симбирске. Готовился к изданию второй номер «Утеса», но в свет не вышел.
В конце декабря 1921 года Скиталец, по его словам, был командирован правительством ДВР в Харбин для постановки пьесы «Вольница», куда прибыл в январе 1922 года. Постановка этой пьесы, с участием автора, действительно была осуществлена в Харбинском «Рабочем клубе» и драматическом театре[20]. Скиталец остался в Харбине. С декабря 1927 года он пытается вернуться в Советскую Россию, но только в 1934 году ему удалось осуществить это желание.
Нужно сказать о том, что произведения Скитальца издавались и печатались в советских изданиях и журналах и в годы жизни писателя в Харбине. В 1923 году в Москве были изданы его повесть «Юность» и «Воспоминания», а в 1924 году — «Полевой суд», В 1925 году в Москве вышло второе издание этого рассказа, а в 1926 году — повесть «Лес разгорался», в Харькове — «Полевой суд». В 1923 году — «Вольница» в Рязани. С 1928 года произведения Скитальца стали печататься в журнале «Красная новь»; с 1934 года печатаются в «Новом мире» отрывки из «Дома Черновых».
Живя за границей, писатель сохранял связь со своей Родиной. Его переписка, произведения свидетельствуют о том, что с 1927 года Скиталец не только напряженно следил за жизнью Советской России и молодой литературы, но включился в эту жизнь и литературу. В свете изложенных фактов правдиво и искренне звучат его слова, сказанные в 1934 году, в связи с возвращением на Родину: «Ураганом событий надолго оторванный от моей страны, я сердцем, мыслью не отрывался от нее, взоры мои всегда были прикованы к ней»[21].
В Советскую Россию Скиталец возвращался без сомнений в душе, он верил в великое дело, совершаемое на его Родине, он ехал «жить и работать в советской литературе»[22]. Готовясь к выступлению в связи с возвращением на Родину, Скиталец писал в вагоне, по дороге из Маньчжурии в Москву: «Я не экономист, и не политик, я обыкновенный наблюдатель жизни, поэт, бродящий по миру, но и для меня ясно, что настала великая эпоха, когда жизнь властно требует для всего мира совершенно нового строя, иначе при старом строе вечной войны всех со всеми, борьбы труда с частным капиталом и неизбежно враждующих государств — весь мир погибнет… Наша страна идет к необъятно великому будущему. За победный исход нашей борьбы всегда трепетало мое сердце»[23].
В Москве, куда он приехал 17 июня 1934 года, Скитальца встретили представители писательской общественности, во главе с Телешовым, близким Скитальцу по совместной деятельности в «Знании». Тотчас же по приезде Скиталец навестил Горького. Встреча была трогательной. Обнимая друга, Горький прослезился и «старая дружба возродилась почти с такой же силой, как в молодости»[24].
Скиталец приехал в Москву в то время, когда шла деятельная подготовка к первому съезду писателей. Горький, стремясь помочь Скитальцу активно включиться в жизнь советской литературы, предложил ему выступить на съезде писателей. Скиталец подготовил доклад «Эмигрантская литература» и представил в президиум съезда[25].
На съезде писателей Скиталец присутствовал как делегат съезда от Московской организации. В своем выступлении он с энтузиазмом говорил о величии наших дней, о нашей эпохе — эпохе героизма, о бодром и радостном чувстве, «вере в лучезарное будущее». Восторженно отзывался писатель и о «юной советской литературе, рожденной в горниле революции»[26].
Имя Скитальца не было забыто советскими читателями. Редакции газет и журналов, по словам Скитальца, отнеслись и теперь к нему хорошо, наперебой просили рукописи, а издательства вели с ним переговоры об издании книг. И действительно, в ближайшие годы после приезда Скитальца в Москву вышли в свет: «Дом Черновых» (1935), «Этапы» (1937), четырехтомное собрание сочинений (1935–1937), а также однотомники его избранных рассказов, стихов и песен (1935, 1936, 1939 гг.).
Вместе с тем Скиталец продолжал работать над очерками «Максим Горький», «Ульянов-Ленин. Встречи», «Гений Ленина» и над историческим сказом «Кандалы». Очерк «Ульянов-Ленин» был напечатан в 1939 году в сборнике «О Ленине».
В сентябре 1935 года Скиталец получил от Союза писателей литературную командировку по Волге. Побывал он во время этой поездки в родной Обшаровке, Царевщине и в Ульяновске. «И всюду, где я был, — заявил писатель в Ульяновске, — я видел интересную захватывающую картину строительства новых заводов, фабрик и многоэтажных домов. Волга живет сейчас такой цветущей жизнью, какой она никогда не жила»[27]. После этой поездки Скиталец с новой силой и энергией принялся за работу над «Кандалами». Он устанавливает связь с оставшимися в живых деятелями Старо- Буянской республики, история которой рассказана в историческом сказе, собирает их воспоминания, материалы о Л. Н. Щибраеве. Записывает Скиталец пословицы, нужные ему для «Кандалов».
Поездка по Волге, живые впечатления, встречи с героями книги оказали благотворное влияние на писателя. Произведение, над которым он работал двадцать лет, было закончено: в 1940 году в журнале «Октябрь» опубликован исторический сказ «Кандалы». Скиталец подготовил этот роман для отдельного издания, но не увидел его. Тяжелая и продолжительная болезнь (рак печени) сковала силы писателя и свела его в могилу. 25 июня 1941 года Скиталец умер.
«Кандалы» — последний роман писателя. Окончания работы над этим романом с интересом ждал Горький. В этом произведении, как справедливо отмечалось 11 сентября 1939 года в приветствии Президиума Союза писателей Скитальцу, по случаю его 70-летия, писатель остался верным своей кровной теме — изображению жизни народных низов, изображению революционизирующейся деревни. «Кандалы» — достойное завершение творческого пути Скитальца.
Произведения Скитальца известны не только русскому читателю, они были переведены на иностранные языки: «Сквозь строй» и «Полевой суд» на немецкий язык, в 1903 и 1905 гг.; «Полевой суд» на английский язык, в 1905 году; мелкие рассказы переведены на болгарский язык; на японский переведены и изданы все главнейшие произведения Скитальца, написанные до 1935 года[28].
По отношению к этому писателю совершена явная несправедливость. Называя его «бытописателем эпохи первой революции», историки советской литературы замалчивают его деятельность в советской литературе Имя Скитальца не называется даже в обзорах. А между тем его романы «Этапы», «Дом Черновых», «Кандалы», очерки о Горьком («Максим Горький», «Наши встречи», «Питомец славы», «Воспоминания о Горьком», «Литературные встречи») и очерки о В. И. Ленине вошли в литературу 20—30-х годов. Скиталец действительно жил и работал в советской литературе.
Роман «Дом Черновых» написан Скитальцем в 1929 году. Над этим произведением автор работал около тридцати лет, собирая материалы и печатая отдельными рассказами в периодической печати. К таким рассказам относятся «Разлив», «Шелька», «Давос», «Виллафранка», вошедшие в седьмой том восьмитомного собрания сочинений Скитальца, вышедшего в 1916–1919 гг. Это рассказы о загранице, где Скиталец был с женой в 1909–1910 годах. В его тетради сохранился автограф рассказа «Виллафранка» (Золотой дом на Ревьере), датированный 1 апреля 1911 года[29]. Это примерная дата начала работы над будущим романом. Возникновение же замысла надо отнести к более раннему времени.
Советские исследователи (А. Селивановский и др.) отмечали автобиографичность творчества Скитальца. Творчество Скитальца — его автобиография, — утверждал А. Селивановский. Речь, конечно, идет о поэтической автобиографии. Это утверждение первого советского исследователя творчества Скитальца можно, в известной мере, принять и при рассмотрении истории создания «Дома Черновых».
Работая фельетонистом «Самарской газеты», Скиталец наблюдал жизнь самарских толстосумов. Свое отношение к ним он выразил в «Самарских строфах», в которых сказано о моральном опустошении и вырождении «хозяев» Самары. Но это были отдельные наблюдения, в них нет еще широких обобщений. В 1903 году Скиталец женится на дочери симбирского купца Н. К. Ананьева. Жизнь в д. Стоговке Майнского района, в имении тестя, а также в Симбирске дала богатый материал для наблюдательного и вдумчивого писателя.
Н. К. Ананьев — миллионер и банкир был председателем правления Симбирского общества взаимного кредита, председательствовал в биржевом комитете, т. е. был одним из руководителей коммерческой жизни края. Он же был гласным городской думы, членом совета Симбирского коммерческого училища[30]. Ананьев был либерально настроенным купцом. По просьбе И. Н. Ульянова он построил в селе Лукино Майнского района школу. Инспектируя школу, И. Н. Ульянов бывал у Ананьева[31]. В Ульяновском архиве, в бумагах Симбирского губернского жандармского управления, сохранилось дело по обвинению купеческого сына Н. Н. Ананьева за распространение в ноябре 1906 года среди крестьян материалов «противоправительственного характера». В процессе дознания выяснилось, что эти материалы печатались в Стоговке, в доме Ананьева[32].
Близок к дому Ананьева был Аладьин А. Ф., родом из зажиточных крестьян, связанный в студенческие годы с нелегальными казанскими кружками, отсидевший в тюрьме и исключенный за это из Университета, эмигрант, а с 1905 года член 1-й государственной думы от крестьянской курии Симбирской губернии. Аладьин А. Ф. вошел в состав «Трудовой группы» думы и был одним из наиболее популярных думских ораторов. В числе близких к Ананьеву лиц были крупные симбирские купцы Железовы, Пироговы и др. По своей работе во Взаимном кредите и в Биржевом комитете Ананьев общался также с представителями дворянства — князьями Баратаевым, Хованским и др.
Общение Скитальца с домом Ананьева и его кругом дало возможность ему, как писателю, ближе познакомиться с жизнью и людьми господствующего класса. Здесь, в этом окружении, писатель нашел прототипов героев своего романа: Гордей Силыч Чернов и его дети — это Н. К. Ананьев и его семья; Блинов, с которым породнился Чернов, — симбирский купец Пирогов С. Д., член комитета Симбирского отделения Волжско-Камского коммерческого банка; честолюбивый краснобай, авантюрист по натуре Пирогов — депутат 1-й государственной думы А. Ф. Аладьин; деятельный и умный защитник капиталистического общества Крюков — Железов, не менее значительное в поволжском финансовом мире лицо, чем Н. К. Ананьев. Характеристика Ананьева и его окружения дает представление о том жизненном и бытовом материале, который творчески осмыслен писателем, уже имевшим запас самарских наблюдений и впечатлений в этой области, вошедших в ткань «Дома Черновых». Но это были впечатления и наблюдения писателя, которые пока еще не нашли своего целевого, тематического назначения. Возникновение замысла романа нужно отнести к письму Горького в связи с творческой неудачей с «Этапами» в 1908 году. Письмо Горького помогло Скитальцу не только понять ошибочность авторской позиции в «Этапах», но глубже раскрыло перед ним значение и величие исторического поворота в развитии страны в 1905–1907 гг. Работая над «Этапами» в этом горьковском плане, Скиталец в то же время задумывается и над другим произведением, тематически связанным с «Этапами», но продолжающим и углубляющим горьковскую тему, — это был «Дом Черновых».
Процесс создания этого романа был длительным. Его рассказы о загранице, названные выше, показывают, что автор сначала идет своим излюбленным путем — они автобиографичны. Появление главы «Старый Венец (эпизод из событий 1918 года)»[33], в которой рассказывается о захвате Симбирска белогвардейцами и чехами, означает, что Скиталец расширил рамки своего повествования, задумал дать широкое художественное обобщение. Основная работа над романом проходит в двадцатые годы, в Харбине. Здесь Скиталец переработал «Этапы», закончил работу над «Домом Черновых» и подготовил черновик романа «Кандалы».
С особым увлечением Скиталец работал над «Домом Черновых» в 1927–1929 гг. В мае 1928 года Скиталец отказался даже от поездки в Москву по командировке КВЖД, так как был занят окончанием «Дома Черновых». Роман был окончен 15 июля 1929 года, но еще в мае 1928 года, в процессе работы над ним, Скиталец связывается с журналом «Красная новь», который печатает в 1928 (кн. 9) и в 1929 (кн. 6, 11) годах отрывки из романа. В 1934 году главы из «Дома Черновых» появляются в «Новом мире» (кн. 10, 11). Таким образом, советский читатель знакомится с «Домом Черновых» еще до приезда Скитальца в Москву.
Скиталец не переставал работать над своим произведением, совершенствуя его, и в 1935 году роман «Дом Черновых» был издан ГИХЛом отдельной книгой. Настоящее издание включает дополнительные поправки автора и дополнения в соответствии с рукописью автора. Этот роман удовлетворял Скитальца больше, чем последний вариант «Этапов». После окончания работы над «Домом Черновых» Скиталец 31 января 1930 года писал брату Аркадию о том, что над романом работал добросовестно, в художественном отношении он кажется ему удовлетворительным, «в идеологическом отношении тоже как будто подходящим»[34].
Скиталец настолько увлекся «Домом Черновых», что на его основе начал писать пьесу «Падение дома», сохранилось два варианта этой неоконченной пьесы[35].
Работа Скитальца над «Этапами», «Кандалами» и «Домом Черновых» в Харбине проходила в своеобразных и сложных условиях. Оставшись в Харбине, Скиталец попытался установить связь с газетой «Новости жизни», советской ориентации. В ней был напечатан только один рассказ. Не поладив с редакторами этой газеты, людьми далеко небезупречными в политическом отношении, Скиталец начал работать в «Русском голосе» и в «Русском слове». По его словам, — первая — «газета интеллигентская, критикующая события по своему разумению, „враждебная“, как крайним правым, так и крайним левым»[36]. Скиталец примкнул к этой газете и работал в ней постоянным сотрудником в 1922–1926 гг. В этой газете печатались его воспоминания о Л. Андрееве, Ф. Шаляпине и др. Он даже предполагал печатать «Силуэты русской революции», в которых даны художественные характеристики Ленина и Плеханова. Скиталец был уверен — газета будет печатать «что написал прежде и что пишет теперь». Жизнь развеяла и это заблуждение писателя.
Успехи социалистического строительства в Советской России, развитие советской литературы и се успехи оказывают благотворное влияние на Скитальца. Он начинает понимать, что «интеллигентская» позиция газет есть не что иное, как маска их эмигрантской сущности. Намечаются идейные расхождения с газетами, которые к десятилетию Октябрьской революции становятся совершенно определенными. Статья Скитальца, посвященная славному юбилею, в которой сочувственно подводились итоги за десять лет Советской власти и высказывались восторженные прогнозы ее будущего развития, была отвергнута. Скиталец нашел в себе силу, чтобы сделать правильный вывод. Второго декабря 1927 года он заявил о своем уходе из «Русского слова». В письме на имя редактора газеты сказано: «Г. редактор! Ввиду расхождения моих взглядов с взглядами редакции по общественно-политическим вопросам я не нахожу более возможным продолжать мое сотрудничество в „Русском слове“ и с настоящего числа выхожу из состава сотрудников „Русского слова“»[37]. Письмо Скитальца «Разрыв с эмиграцией» было опубликовано также в харбинской «Новой жизни», газете советской ориентации, и перепечатано в выдержках в «Вечерней Москве» 27 декабря 1927 года. Это настолько выразительный человеческий документ, характеризующий состояние Скитальца, что его стоит привести: «Я был в числе тех писателей, произведения которых задолго до революции возбуждали в читателях жажду полноты жизни. В сущности не мы поднимали волну, а нараставшая волна поднимала нас: в этом была разгадка шумного успеха писателей сборников „Знания“. Но когда эта волна возросла до гигантских размеров, она настолько превысила первоначальное настроение, что, обрушившись, сбросила нас, и мы, исполнив свое назначение в литературе, разлетелись мелкими брызгами в начавшейся великой буре… Не по книжным убеждениям, а по натуре своей, по крови, по близости миллионным низам народным, я всегда был и есть сторонник рабочего и крестьянского сословия не потому, что я им брат или сват, но потому, что я хотел для них лучшего будущего… Революция не случайный эпизод русской истории и созданная ею власть, очевидно, является вполне закономерным этапом… Мне незачем больше оставаться здесь, — в рядах политической эмиграции, — заявляет в заключение Скиталец, — вследствие давно назревшего коренного расхождения во взглядах на судьбы современного большевизма. Отныне я разрываю с ней и возвращаюсь к работе во имя возрождения будущей России, к новой молодой советской художественной литературе»[38]. Это письмо можно назвать подлинной исповедью, в которой писатель честно сказал о своих колебаниях и ошибках и засвидетельствовал, что, живя в Харбине, сохранил свои демократические настроения и симпатии, что на его совести не было подленьких и непристойных выступлений. Вслед за этими письмами в январе 1928 года была напечатана в «Известиях» статья «Разрыв Скитальца с эмиграцией», в которой приведено письмо Скитальца, присланное им из Харбина в одну из московских редакций[39].
Порвав с «Русским словом», Скиталец с 1928 года устанавливает связь с «Красной новью», первым толстым советским журналом, где печатаются его «Воспоминания о Горьком» (кн. 5), затем отрывки из «Дома Черновых» и «Встречи» (Лев Толстой, Гарин-Михайловский, Леонид Андреев). В этом же году Скиталец высылает рукопись романа «Этапы». В 1930 году Скиталец посылает в этот журнал статьи «О Маяковском» и «Купеческий декаданс», о романе Рукавишникова «Проклятый род», вышедшем в московском издательстве в 1928 году. Таким образом, с 1928 года Скиталец принимает участие в советской периодической печати. Его обращение в «Красную новь» было встречено положительно. Редактор журнала Раскольников в марте 1928 года ответил Скитальцу «очень дружественным письмом», в котором сообщал, что рукопись о Горьком будет напечатана в ближайшем номере[40]. Речь шла о «Воспоминаниях о Горьком», напечатанных в майской книжке журнала. Очерк Скитальца о Горьком был напечатан в связи с юбилеем Горького в марте 1928 года и его приездом в СССР в мае того же года. Эти два события широко отмечались советской общественностью и печатью. «Известия» и «Правда» посвятили Горькому специальные юбилейные номера. 30 марта 1928 года в «Правде» было опубликовано Постановление Совета Народных Комиссаров СССР об ознаменовании заслуг М. Горького в связи с его юбилеем. В постановлении сказано: «Яркими образцами своего творчества подготовил он рабочий класс к первому штурму твердынь царизма и капитала, к нашей первой революции, славным „Буревестником“ которой он был. Максим Горький не только как писатель, но и как революционный деятель принимал личное участие в революционном движении».
Приезд Горького в Советскую Россию, статьи о нем, а также Постановление Совета Народных Комиссаров о заслугах Горького раскрыли перед Скитальцем новую для него сторону в жизни Родины, коснулись его самого, окрылили писателя-знаньевца, одного из соратников Горького в годы первой русской революции. И ему захотелось «тотчас же выехать в Москву», в марте — апреле, — благо работа над «Домом Черновых» подходила к концу.
С 1929 года Скиталец хлопочет о визе, но у него — «туго с китайской визой», туго у него со средствами: он сам «полгода без шпаги», жена оказалась без работы. Запрещение выезда из Харбина советским подданным, конфликт на КВЖД в 1929–1933 гг, отсутствие средств задержали выезд в Москву[41]. Только в 1934 году осуществляется желание Скитальца: он возвращается на Родину.
Установив связь с «Красной новью» и московскими газетами, Скиталец в то же время начинает сотрудничать в харбинской советской печати. 3 ноября 1930 года он сообщил об этом брату, добавляя, что скоро он отправится от газеты в трехмесячную литературную поездку по Китаю и Японии Но уже 25 апреля 1931 года Скиталец с сожалением сообщил Аркадию: «Здешнюю советскую газету китайцы поспешили закрыть»[42]. Поездка в Китай и Японию не состоялась. В очерке Скитальца «Эмигрантская литература», написанном в 1934 году, названы «Трибуна» и «Герольд Харбина» как газеты советского направления, против которых велась жестокая полицейская борьба и которые были насильственно закрыты. Названы также «Новости жизни», которые, по словам автора, за последние годы также принимали «определенно советский облик». Эта газета также была насильственно закрыта[43]. С названными газетами и был связан Скиталец с 1929 года. В каком направлении шла его деятельность в харбинских газетах советского направления, можно судить по таким его произведениям, как «Путь революции», «Питомец славы», «Новые люди» и «Будни быта».
Очерк «Путь революции» был напечатан 7 ноября 1930 года в «Герольде Харбина». Скиталец с чувством восхищения говорит в этом очерке о вооруженной борьбе народа, авангардом которого был рабочий класс, о победе революции. В начале очерка сказано о том, как «создавалась в России власть рабочих и крестьян под водительством организованной партии». Большевизм оказался не только теоретическим учением, но больше всего «реальным настроением широких народных масс. Железная организованность партии спасла Россию от жесточайшей анархии, казавшейся неизбежной в исторический момент разбушевавшихся стихий народного гнева». Скиталец дальше говорит в очерке о том, что «весь мир с затаенным дыханием следит за грандиозной, ожесточенной борьбой», с недремлющим врагом. «Борьба шла на многих фронтах, в снежных просторах Сибири, в заволжских, донских и крымских знойных степях. Десятки тысяч „бедных людей“ сложили свои головы „за власть Советов“. Железным потоком шли они на смерть и гибли, но ничье сердце не дрогнуло боязнью и сомнением в правоте народного дела — так велика была вера!
Это был героический эпос революции… Мир их „безумству“: их кровь пролилась не напрасно. „Бедные люди“ победили!.. Революция победила!»
Эти строки о величии подвига народа и партии написаны писателем, «возвратившимся к работе во имя возрождения будущей России». Скиталец заявил также и о том, что он возвращается «к новой молодой советской художественной литературе». Это возвращение надо видеть не только в его произведениях, напечатанных в «Красной нови», но и произведениях, напечатанных в харбинских газетах. Эти произведения названы выше, вместе с очерком «Путь революции». Очерк «Питомец славы», напечатанный в 1932 году, посвящен жизни и кипучей деятельности «первого большого пролетарского писателя», «богатыря из низов народных» — А. М Горького.
Скитальца и Горького связывала многолетняя дружба, зародившаяся в девятисотые годы. Горький был для Скитальца другом, суровым воспитателем, старшим братом и вдохновителем.
Обращение Скитальца в 1927–1932 гг. к воспоминаниям о Горьком имеет немаловажное значение для писателя. А. М. Горький, его жизнь и деятельность в советской литературе помогли Скитальцу понять Октябрьскую революцию и молодую советскую литературу. Скиталец внимательно следил за жизнью и развитием молодой литературы. Его привлекали новые явления в советской литературе. Вслед за очерком о Горьком он пишет статью о Маяковском. Восторженно отзывается Скиталец о «Цементе» Ф. Гладкова и «Лесозаводе» А Караваевой. Этим произведениям он посвящает статью под названием «Новые люди», написанную в 1929 году. В статье «Новые люди» говорится о том, что «Цемент» открывает новую страницу в молодой литературе страны Советов. Автор статьи защищает новаторство, он борется с враждебными выпадами против советской литературы, против «Цемента». Один из критиков (Теффи) заявлял, что «в восстановлении завода нет ничего такого, о чем стоило бы писать роман: строили заводы и прежде и не делали из этого романов». Говоря о неискренности критика, Скиталец указывает на то, что «Цемент» является программным произведением молодой советской литературы, в котором показаны новые сильные люди и новое отношение к труду[44].
Положительное значение выступлений и деятельности Скитальца в Харбине в 1927–1932 гг. несомненно. Он возвратился к советской литературе. Это было время, когда активизировались антисоветские выступления в эмигрантской печати.
Приведенные выше факты дают представление о жизни, деятельности и настроениях Скитальца в годы создания романа «Дом Черновых».
С этим произведением связаны думы писателя о Родине. В 1927 году Скиталец заявил в открытом письме. «Революция не случайный эпизод русской истории, и созданная ею власть является вполне закономерным этапом». Появление «Дела Артамоновых» (1925 г.) Горького помогло Скитальцу в окончательном оформлении его замысла, возникшего в связи с письмом Горького по поводу «Этапов», в раскрытии мысли, высказанной им в открытом письме.
В «Доме Черновых» он разрабатывает горьковскую тему. В романе раскрывается историческая неизбежность гибели буржуазного строя, где властвовали Черновы, и неизбежность прихода новой силы — рабочего класса, Октябрьской революции. «Дом Черновых» начинается с описания Волчьего логова — усадьбы Черновых, из которой нет выхода в жизнь. В этом логове вырождаются и гибнут Черновы. Процесс разложения захватывает и тех, кто соприкасается с ними. Заканчивается же это произведение величественной панорамой Москвы, раскинувшейся перед художником Валерьяном Семовым, включившимся в творческую жизнь преображенного революцией народа: «Московская старина доживала свой век, теснимая грандиозной, быстро катившейся новизной. Еще недавно блистала здесь родовая и денежная аристократия, кипела жизнь верхов. Теперь пришел рабочий и сразу занял верховное место. О нем пишут, о нем говорят. Он мировая сила! Богачи, цари и вельможи, еще недавно властные, вынуждены были уступить ему дорогу… Пришла революция. Жизнь забила с необыкновенной полнотой и силой». В этих словах главный пафос романа, в этом его злободневность.
Роман «Дом Черновых» охватывает период в четверть века, с 90-х годов XIX века и заканчивается Великой Октябрьской социалистической революцией и первыми годами жизни Советской России. Его действие развивается в Поволжье, Петербурге, Киеве, Крыму, за границей. Роман охватывает события, связанные с 1905 годом, с войной 1914 года, Октябрьской революцией и гражданской войной. Автор рассказывает о жизни различных классов и групп, об их отношении к историческим событиям. Большая социальная тема, размах событий и огромный материал определили и жанровую форму — Скиталец обратился к большой «всеобъемлющей» жанровой форме, к роману.
Основным содержанием романа является рассказ о вырождении и гибели семьи миллионера Силы Гордеича Чернова. Параллельно истории рода Черновых рассказывается о судьбе талантливого выходца из низов — художника Валерьяна Семова. История падения и разложения дома Черновых раскрыта в судьбе трех поколений: Силы Гордеича, его детей и внуков.
В словах художника Валерьяна, сказанных Наташе, дочери Чернова, при посещении Волчьего логова, выражена идейная направленность романа: «Деньги, как цель жизни, мстят за себя; кровь и слезы людей, превращенные в золото, становятся проклятием для тех, у кого их слишком много. Сердца каменеют, души мертвеют».
Слезы людские, превращенные в золото, отозвались в жизни самого Чернова. В проклятом доме он «сидит, как паук, запутавшийся в собственных тенетах». Но в тенетах запутался не только сам Чернов, в паутине бьются его дети. В их судьбе, второго поколения дома Черновых, процесс разложения проявляется с неумолимой беспощадностью. Здесь отозвались слезы людские, здесь «кровь чужая, что в деньгах заключается, вопиет». Это «конченные люди». Они «конченные люди» не только потому, что родились безжизненными, но и потому, что на них печать физического и морального вырождения.
Стремясь полнее раскрыть социальную тему романа — вырождение и обреченность семьи Черновых, Скиталец соответственно строит композицию романа. Вся первая часть романа посвящена только жизни в усадьбе Черновых. Жизнь этой семьи показана вне жизни страны. Стяжательские интересы живут в ней, глухая ненависть и злоба клокочет в проклятом доме. Из него нет выхода в настоящую жизнь, говорит автор.
Мысль о разрушительной силе денег, об омертвлении человеческих чувств, приводящем к нравственной катастрофе, раскрывается Скитальцем не только в истории дома Черновых, но и в рассказе о семье Блиновых. Михаил Блинов буйствует на свадьбе сестры, в доме Черновых. Он бросает в лицо родителям гневные слова: «Вы нас учили всех презирать, кто денег не имеет. Вам только деньги дороги, будьте вы прокляты с вашими деньгами! Изуродовали, изломали нас!.. Вам наплевать на душу». Да, Черновым и Блиновым, отцам, — «наплевать на душу». Им важно одно: «деньги к деньгам».
В богатой системе образов романа «Дома Черновых» есть еще один образ, углубляющий идейное звучание произведения, — это образ Волчьего логова. Волк, живущий в усадьбе Черновых, как бы символизирует хищническую натуру своих хозяев и разделяет их судьбу. В начале повествования — это сильный крупный зверь — Белый клык. В конце повествования, когда наступает конец Волчьему логову, — это старый, седой, облезлый волк, он еще лязгает клыками, ощетинивает шерсть, но нет былой силы. Под стать своим хозяевам.
Скиталец всей системой образов романа показывает, что его интересуют не деятельные силы буржуазии, а деградация и неизбежный крах буржуазного общества. В решении этой задачи Скитальцу недостает глубины раскрытия социальных причин вырождения. История дома Черновых не показана во взаимосвязи с историей трудящихся. В раскрытии же социальных причин конца дома Черновых Скиталец оказался достойным последователем Горького. Он показывает, что конец дому дала революция. Она разрубила все узлы: черновский капитал превратился в дым, разрушен и сожжен дом Черновых Оставшиеся в живых дети Чернова «бежали к дальним берегам».
Сюжетная линия — история дома Черновых — занимает важное место в сложной композиции романа. Она наиболее всего удалась автору и во многом определяет художественную ценность произведения. Эта сюжетная линия тесно связана с другой, развивающейся параллельно, — с историей жизни талантливого художника Валерьяна.
Раскрывая историю этого характера, Скиталец решает вторую важную задачу — через восприятие героя показывает историю революционного подъема. В этом своеобразие творческого приема Скитальца, определившего стилевые особенности романа. Этот прием сузил эпический размах произведения, оправдал некоторую случайность в изображении исторических событий.
В романе показано, как Валерьян едва не погиб оттого, что был близок к умирающему дому Черновых. Только порвав с домом Черновых, связав свою судьбу с жизнью и борьбой народа, Валерьян находит в себе силы, возрождается его талант. Революция была концом для династии Черновых и началом подлинной творческой жизни для Валерьяна.
Ощущая приближение великой героической эпохи, наблюдая поступь истории, Валерьян начинает понимать ничтожность своих несчастий и страданий, он кажется себе «только ничтожной пылинкой, исчезающей в вихре наступающих грозных событий». Картины этих грозных событий показаны в Поволжье, но это картины конца дома Черновых, конца буржуазной России и утверждение законных наследников жизни. Революция дошла и до его родных мест, дошла до Волчьего логова. Но одряхлевший мир Черновых еще щетинится. Валерьян является свидетелем того, на какие преступления способен этот хищный мир. Картины кровавой расправы с большевиками, рабочими в Симбирске запали в душу художника.
Скиталец одной деталью подчеркивает прямую причастность Черновых к этим событиям. Их участником является внук Чернова, сын Варвары, Коля. С винтовкой в руках он пришел в родной город с белочехами. Молодой Чернов нашел свое место в этой борьбе, он с теми, кто убивает и казнит рабочих. Он еще верит в то, что вернется победителем. «Мы еще придем»! — бросает он дяде на бегу, но сам спешит к берегу Волги. Красные торопливо устанавливают орудия на Венце. Гремят орудийные выстрелы: рушится дом Черновых.
Таким образом, Скиталец дает широкие картины, раскрывающие исторические и социальные причины гибели старого, облезлого хищного мира и торжество нового мира. Заключительная глава романа посвящена Москве. Валерьян приобщается к новой жизни. «Все должны служить коллективу, все на фронт революции», — говорит скульптор Птица Валерьяну. И художник согласен с ним. Он видит и понимает, что большевики «упорно верят в творческие силы народа».
В расцвете нового искусства и через искусство, через приобщение Валерьяна к советскому искусству Скиталец показывает победу нового мира.
В «Доме Черновых» сложная система образов, композиционное строение, включающее разные сложные взаимосвязанные линии, подчинены одной цели — дать правдивое конкретно-историческое изображение действительности.
Скиталец в «Доме Черновых» изображает не только «эпоху, давно ушедшую в прошлое, но откуда начались истоки революции»[45], но раскрывает также обреченность и бессилие господствующего класса перед «железным потоком» революции. Утверждая, что «возврата к прошлому не будет — революция победила»[46], писатель тем самым придает произведению актуальное значение. Он вмешивается в идейную и политическую борьбу 20-х годов. Это были годы, о которых Горький сказал: «Русь никогда еще не переживала столь серьезных лет и литераторам пора уже понять это».
В середине двадцатых годов в основном закончилось восстановление народного хозяйства, — вырисовывались общие исторические масштабы социалистической стройки. Шла речь о перспективах дальнейшего развития страны… «Нужна новая литература, говорил Горький, к созданию ее и должны быть направлены все силы» Горький называет писателей, которые, по его словам, «начинают понимать это и создают большие картины. „Цемент“ Гладкова, „Барсуки“ Леонова, „Кюхля“ Тынянова, „Одеты камнем“ Форш, „Города и годы“ Федина — это уже, в разной степени, удачные начала новой русской литературы»[47].
В становлении и развитии этих «удачных начал новой русской литературы», т. е. нового советского эпоса, принимал непосредственное участие и сам Горький. Его «Дело Артамоновых», законченное в 1925 году, — этапное произведение нового советского эпоса. В этом романе Горький показал историческую обусловленность гибели буржуазии и неизбежность победы пролетариата. Другими словами, писатель системой художественных образов ответил на вопрос о перспективах дальнейшего развития страны.
К числу тех писателей, которые начали понимать особенности двадцатых годов и в связи с этим пытаются создавать большие картины, нужно отнести и Скитальца. Создавая «Дом Черновых», он шел вслед за Горьким, с новой русской литературой.
П. БЕЙСОВ,
кандидат филологических наук.
Примечания
1
«Литературная газета». 11 ноября 1939 г,
(обратно)2
«Ответы на анкету». Государственный литератур, музей, Москва, рукоп. отд., № 1650, 1911 г.
(обратно)3
Автобиографии, справка для «Словаря советских писателей», ф. 484, оп. 2, № 52, 2 нюня 1935 г.
(обратно)4
Письмо Горькому 1893–1894 гг. Центральный Государственный архив литературы и искусства (в дальнейшем — ЦГАЛИ), ф. 484. оп. 2, д. 18. 1893–1894, л. 60 обор.
(обратно)5
Подробнее о влиянии Горького см. П. Бейсов. Заметки о Скитальце (Горьковское влияние «Гусляр»). «Ученые записки» Ульяновского государственного педагогического института, в. VII, 1955.
(обратно)6
В одном из писем Горький сообщал, что газету «Курьер» закрыли за опубликование стихотворения «Гусляр», откуда взяты приведенные строки, и «говорят, что автору стихотворения сие даром не пройдет. Цензор сидит на гауптвахте», «Архив А. М. Горького», т IV, Гослитиздат, 1954, стр. 114.
(обратно)7
ЦГАЛИ, ф. 484, oп. 1, д. 40, 1930-е годы.
(обратно)8
В. И. Ленин. Письма к родным. Партиздат, 1934, стр, 284.
(обратно)9
Сборник «О Ленине», ГИХЛ, 1939, стр. 125–126.
(обратно)10
В. И. Ленин. Соч., т. 10, стр. 194.
(обратно)11
М. Горький Собр. сочинений, том 29. М., 1955, стр 82.
(обратно)12
ЦГАЛИ, ф. 484 (в дальнейшем номер фонда не называю), oп. 1, д. 47, 1930-е годы. «По вопросу „об отказе от Горького“» получено мною в ноябре 1955 года от Г. Г Петрова, брата Скитальца
(обратно)13
ЦГАЛИ, oп. 1, д. 47, л. 6.
(обратно)14
Письмо не опубликовано, написано в декабре 1900 г., хранится у Г. Г. Петрова, брата Скитальца.
(обратно)15
П. Бейсов. Литературный вечер Скитальца и первая демонстрация в Симбирске. «Ульяновская правда», 16 октября 1955 года, № 206.
(обратно)16
Архив Г. Ф. Аверьянова. Ульяновский областной архив, ф. 2928.
(обратно)17
«Заря», 1919 г. 3 сентября, №№ 163–166.
(обратно)18
ЦГАЛИ, оп. 2, д. 31, л. 7.
(обратно)19
Мандат литературного отдела Наркомпроса, 1921 г. ЦГАЛИ. оп. 2, д.7. Подчеркнутые слова выделены в мандате.
(обратно)20
ЦГАЛИ, оп. 2.
(обратно)21
Открытое письмо Скитальца. «Литературная газета», 24 апреля 1934 года.
(обратно)22
Из письма к брату А. Г. Петрову 2 августа 1934 г. «Фотографии, документы и книги из личного архива писателя С. Г. Скитальца и его брата Г. Г. Петрова, 1952 г.». Ульянов, краевед. музей, рукописн. отдел, № 1263.
(обратно)23
Выступление Скитальца в связи с возвращ. из-за гран. ЦГАЛИ, oп. 1, д. 45, 1934 г., л. 10.
(обратно)24
С. Скиталец. Наши встречи. «Волжская коммуна», 1936 г, от 21 июня.
(обратно)25
Письма Скитальца Горькому, 20 августа 1934 г., oп. 1. «Эмигрантская литература». ЦГАЛИ, оп. 2, №№ 64, 49.
(обратно)26
Стенографич. отчет о работе первого съезда писателей. М., 1935, стр. 602. Скиталец выступал 30 августа 1934 г., председательствовал А. Фадеев.
(обратно)27
Писатель Скиталец-Петров в Ульяновске. «Пролетар. путь», 9 сентября 1935 г.
(обратно)28
Автобиографическая справка для «Словаря совет. писателей», ЦГАЛИ, оп. 2, № 52, 2 июня 1935 г.
(обратно)29
Тетрадь стихотвор. (и рассказ.) Скитальца. ЦГАЛИ, оп. 2, д. 31, л. 80.
(обратно)30
Адрес-календарь Симбирской губернии на 1910 г., Симб., 1910, стр. 37, 44, 46, 147, 178. Книга постановлений Совета Симб. общества взаимного кредита на 1910 г. Ульянов. обл. архив, стр. 157, oп. 1, № 139.
(обратно)31
К. Селиванов. И. Н. Ульянов в Майнском районе. «Ульяновская правда», 1945 г. от 5 января.
(обратно)32
Ульяновский областной архив, ф. 895, д. 606, 1906 г.
(обратно)33
ЦГАЛИ, оп. 2, д. 31, л. 7, 1918 г.
(обратно)34
Письмо к брату Аркадию, хранящееся в ЦГАЛИ. Цитирую письма к Аркадию по рукописи Г. Г. Петрова «Письмо о писателе Скитальце», 25 декабря 1958 г., глава «Данные Центрального государственного архива литературы и искусства (ЦГАЛИ) о Скитальце», л. 47–67; л. 63.
(обратно)35
Пьеса Скитальца «Падение дома» по роману «Дом Черновых», oп. 1, д. 34, 52 л., сохранились действия — 1-ое, 2-ое и начало 3-го.
(обратно)36
Письмо к брату Аркадию от 22 марта 1922 г., л. 55–56.
(обратно)37
«Заметки о разрыве Скитальца с эмиграцией». ЦГАЛИ, oп. 1, № 101. Скиталец опубликовал в конце 1927 г. письмо о разрыве с белой эмиграцией также в харбинской газете «Молва», заявив о своем желании вернуться в СССР. Ж. «На литературном посту», 1928, № 1, стр. 31.
(обратно)38
ЦГАЛИ, oп. 1, д. 10, № 104, «Исповедь „Буревестника“» (Писатель Скиталец об эмиграции), «Вечерняя Москва», 1927 г., от 27 декабря, № 295.
(обратно)39
ЦГАЛИ, oп. 1, № 104.
(обратно)40
Письмо к брату Аркадию от 24 апреля 1928 г. «Рукопись Г. Г. Петрова», л. 59.
(обратно)41
Письма к Аркадию от 18 октября, 21 октября 1929 г., от 27 января 1930 г. и др. «Рукопись Г. Г. Петрова», л. 61–63.
(обратно)42
Письма к Аркадию от 18 октября, 21 октября 1929 г., от 27 января 1930 г. и др. «Рукопись Г. Г. Петрова», л. 64–65.
(обратно)43
ЦГАЛИ, оп. 2, № 45, 1934
(обратно)44
ЦГАЛИ, оп. 1, № 43, 1929, л. 3.
(обратно)45
Из письма Скитальца к К. С. Номоконовой-Сибирячке от 17 июня 1937 г. Скиталец, как это можно понять из содержания письма, связывает «Этапы» и «Дом Черновых». Он пишет: «Дом Черновых» меня лично больше удовлетворяет, чем «Этапы».
(обратно)46
«Путь революции», «Герольд Харбина» от 7 ноября 1930 г.
(обратно)47
«Литературная газета» от 5 сентября 1957 г.
(обратно)


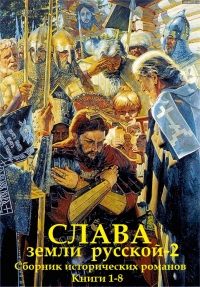

Комментарии к книге «Дом Черновых», Скиталец
Всего 0 комментариев