Олег Михайлов Кутузов. Книга 1. Дважды воскресший
Смерть сквозь главу твою промчалась.
Г. ДержавинЧасть I
Глава первая Юность героя
1
Самое дорогое для мальчика – вечера в большом батюшкином кабинете. Набегаешься всласть, накатаешься в салазках с ледяной горки, наиграешься в снежки, в гуська, в салки, в крепость. Разрумянишься, наберешь в валенки снегу, весь иззябнешь. Но все равно чуть не силком, иногда с горькими детскими слезами, уводит тебя мамка домой.
Недолго ребячье горе. После ужина залезешь с ногами на скользкое кожаное аглицкое кресло и слушаешь, слушаешь батюшку. Чудо как хорошо!
Чего только не знает Ларион Матвеевич! Ведь недаром называют его в Петербурге «Разумною книгою».
И про полуденные страны знает, где люди круглый год ходят нагишом и зело черны и где обитают в степях диковинные птицы. И среди них птица, величайшая в свете, именуемая Строус, которая бегает как конь. На этом Строусе, усевшись верхом, римляне учреждали скачки, наперегонки с лошадьми…
И про Индию, царство чудес, в котором вельможи в одеяниях, изукрашенных адамантами и сапфирами, восседают под балдахинами на звере-горе, называемом Элефант. И тот Элефант на рыле имеет мускулистую длинную трубку. Он ее сжимает и распускает, ею пьет, берет разные вещи и обороняется от врагов…
И про дерзких мореходов, из которых один, гишпанец Колумбус, открыл Вест-Индию, или Новый Свет. И в сем Новом Свете спрятана от пришельцев Золотая Страна – Эльдорадо. Собраны в ней бессчетные сокровища вождей и жрецов индейских – из червонного, красного и белого золота. И многие рыцари и простые люди пытались отыскать Эльдорадо, уходили в леса дремучие, поднимались в горы поднебесные, где ужасные дыры огонь из преисподней мечут. Но никто не возвращался с удачей. Или не возвращались вовсе…
– А с песьими головами люди где обретаются? Мне мамка вечор сказывала… – решается озадачить Миша своего батюшку.
– Сие выдумки от темноты да невежества. Песьи головы, Мишенька, привязывали к седлу опричники царя нашего Грозного Иоанна. Ибо называли себя его верными псами…
Как рассказывает батюшка – век бы слушал! Сколько земель на белом свете, сколько чудес! Но милее всего Мишиному сердцу истории воинские, ратные подвиги и фамильное прошлое древнего рода Голенищевых-Кутузовых.
– Сам святой Александр Невский, князь Новгородский и великий князь Владимирский, день кончины коего все мы, православные, отмечаем четырнадцатого ноября, благословил родоначальника нашего…
Историю эту Миша слушал едва ль не в десятый раз. Но каждый раз словно наново. Шаловливый, резвый и даже проказливый, мальчик затихал, впивался большими живыми глазами в отца. А тот не без торжественности повествовал:
– Было это в тысяча двести сороковом году от Рождества Христова. К новгородским границам подошли шведы с их гордым вождем Биргером. И Биргер сей послал князю Александру надменную грамоту: «Се уже есть зде и пленю землю твою». Тогда собрал князь Александр Ярославич свою дружину и встретил шведов. У речки Ижоры, притока нашей Невы. Храбрые новгородцы в лоск разбили врага. А князь Александр собственным копьем возложил печать на лицо Биргера. За эту битву он и наречен был в народе Невским. Так вот, рука об руку со святым Александром сражался праотец наш Гавриил, верный его сподвижник…
Тихо потрескивают свечи в шандале на дубовом столе; за небольшими, заросшими льдом оконцами тьма и холод – люты морозы были в восемнадцатом веке. И шли они, с перерывами, дружной и грозной чередой. Порой по две-три недели держалось поболе тридцати градусов. Как начнет Юрий холодный оброк собирать, так за порогом уже стучится студень, или декабрь. И идут сперва варварины морозы: трещит Варюха, береги нос да ухо! Варвара заварит, Савва засалит, Никола загвоздит. Варвара ночи урвала, украла, день приточила. А за Варварой – Савва. Савва снегом стелет, гвозди острит, льдом засалит. Савву сменяет Никола Зимний. Два их, Николы: один с травой, другой со снегом. Зима на Николу заметает – дороги не бывает.
Но вот Спиридона поворот: солнце на лето, а зима на мороз. В этот день медведь в берлоге поворачивается и корова на солнце успевает нагреть один бок. С солнцеворотом дня прибудет хоть на воробьиный скок. А там пост холодный – рождественские морозы. Январь – всем зимним месяцам отец. Трещат крещенские морозы: трещи, трещи, пока не пришли водохрящи. После холодов на Татьянин день – афанасьевские морозы: Афанасий и Кирило забирают за рыло. Их сменяют тимофеевские: в день Тимофея Полузимника – ползимы миновало.
Дождались и Сретенья: зима с летом встретились. Коли на Сретенье метель дорогу замела, то весь корм подберет. За ним грядет Власьев день – власьевы морозы. И март на нос садится, и в нем морозит…
Но тепло и покойно в кабинете с круглыми натопленными голландками, с длинными полками русских и иноземных книг в телячьей коже и сафьяне. Размеренно звучит глуховатый батюшкин басок:
– Праправнук Гавриила, сподвижника Александра Ярославича, был Федор Александрович, по прозвищу Кутуз. От него-то и пошли мы, Кутузовы…
– А что значит – Кутуз? – быстро спрашивает Миша.
– Подушка у кружевниц, – с готовностью отвечает Ларион Матвеевич, любуясь дотошностью сынишки. – Из кожи либо материи. Видно, были в нашем роду искусные мастерицы. Вязали украшения для семей московских князей и бояр…
Сметливый мальчик давно уже знает смысл этого слова от доброй бабушки, заменившей ему мать. Но просто хочет вопросом сделать приятное батюшке своему.
– Еще, расскажи еще! Про князей московских… – просит Миша.
– Много чудесного и страшного происходило в те годы. Нравы были крутые. Внук Дмитрия Донского, победителя татар на Куликовом поле, князь Василий Васильевич[1] боролся с дядей своим Юрием Галицким за московский стол. Ты хоть и мал, да знать должен, как жестоко поступали тогда князья в споре за власть. Никого не щадили. Да! Не нынешнее просвещенное время благословенной Елизаветы Петровны! – простодушно восклицает он, как и все люди на земле, уверенный, что время, в которое он живет, самое просвещенное и самое значительное. Хотя бы потому, что в нем уместилась малая его жизнь.
Ларион Матвеевич крестится на темный угол, где должны быть иконы, и продолжает:
– Так вот. Желал князь Василий избавиться от одного из главных своих соперников. Заманил и ослепил старшего сына Юрия – Василия Косого. А через шестнадцать лет последовала месть. Он сам лишен был глаз братом Косого – Дмитрием Шемякой. После этого и прозвали его: Темный. И во всех тяжких испытаниях сопровождал князя Василия Васильевича верный его боярин Василий Федорович Кутуз…
– Сын Федора Александровича, батюшка? – вставляет Миша.
– Он, он самый. – Ларион Матвеевич гладит мальчика по стриженой головке: памятлив, умен, – и продолжает: – А Шемяка тем временем сел в Москве. Да сидел недолго. Правил он, Мишенька, не имея ни стыда, ни совести. С той поры люди говорят о бесчестном: Шемякин суд. И москвичи стали звать к себе слепого князя Василия. С многочисленной ратью двинулся он к первопрестольной. Бесславно бежал от него Шемяка в Каргополь. И по пути, как подлый тать, захватил в заложницы мать Василия Васильевича – Софью. Дочь могущественного князя Литовского Витовта. Князь Василий Темный вернул себе великий московский стол. И стал горевать: что с матерью? не извел ли ее кат Шемяка? Вызывает он Василия Кутуза и речет ему: «Поезжай, верный мой слуга, в Каргополь. И если жива моя матушка, упроси Шемяку вернуть ее…»
– Ну и как? – сучит в нетерпении ножками в мягких бурках сынишка.
– С превеликим трудом, но выполнил Василий Федорович препоручение великого князя. То-то было радости в кремлевских палатах…
Ларион Матвеевич встает с кресел, щипцами снимает со свечек нагар. Выступают из полумрака лики с икон Пресвятые Богородицы и батюшкиного святого – Иллариона, епископа Меглинского; строго глядит – усы торчком – из вызолоченной бронзовой рамы Петр Великий.
– Батюшка! Скажи о чем-нибудь еще! – молит Миша.
Ларион Матвеевич утверждается в креслах, пухлая рука сама находит фарфоровую табакерку с лицеизображением государыни Екатерины, супруги преобразователя России. Со щелком отворяется крышка, щепоть доброго гамбургского табаку отправляется сперва в левую, затем в правую ноздрю. Орлиный батюшкин нос завостряется от щепотки, мальчик приготавливается слушать, как с мортирным звуком чихнет батюшка в батистовый с кружевами платок. Вот пухлое батюшкино лицо вновь распускается, белеет, выпуклые глаза открываются, приятная важность вновь исходит от него.
– А знаешь ли, Мишенька, что родственница наша называлась женой царя и великого князя Московского?
Нет, мальчик не знает об этом и весь обращается в слух.
– Когда разваливалась грозная Золотая Орда, осталось враждебное Руси Казанское царство. Наш государь и великий князь Иоанн Грозный желал вернуть балтийские земли, завоеванные шведом. Но как сие сделать? Пойдешь на запад – татары ударят тебе в спину! Надобно прежде завоевать Казань. Орешек сей, однако, оказался зело крепок. Удалось было Иоанну посадить на казанский стол верного ему Шиг-Али-хана. Но возмутились татары, скинули его и назвали главой своей астраханского царевича Едигера-Махмета. Он дал казанцам клятву быть неумолимым врагом России. И вот Иоанн Грозный самолично явился под стены Казани. Битвы происходили почти ежедневно. Русским удалось взорвать тайник, откуда татары запасались водой. Были подведены главные подкопы. Настал день решающего штурма. Было это[2] второго октября тысяча пятьсот пятьдесят второго года…
Миша спал с открытыми глазами: с грохотом рвались в подкопах бочки с порохом; в дыме пожарищ рушились стены Казанского кремля; шли с тяжелыми пищалями государевы стрельцы.
– Казанцы отчаянно защищались на улицах. – Ларион Матвеевич разволновался от собственного рассказа и грозно чертил перстом в воздухе. – Они удвоили усилия и почти вытеснили наших. Но вот сам Иоанн схватил знамя, стал в городских воротах и удержал бегущих. Царь Едигер был взят в плен, защитники его пали…
– И государь ослепил его, как Василия Темного? – ужасается мальчик.
– Нет, грозен и жесток, но справедлив был Иоанн Четвертый, – качает голой (пусть отдохнет от парика) головой Ларион Матвеевич. – Едигер был отправлен в Москву. Там он принял святое крещение под именем Симеона. Ему оставили титул царя. Жил он в Кремле, в особенном большом дворце. Имел боярина, чиновников и множество слуг. Понимал наш государь, сколь важно привязать Едигера-Симеона, склонить его на верность Руси. И стал подыскивать ему невесту. А у боярина московского Андрея Кутузова, нашего сородича, была дочь Мария. Всем хороша – и на личико нежна, и нравом кротка и послушлива. Вот в тысяча пятьсот пятьдесят третьем году повенчал Иоанн Грозный Симеона с Марией и пожаловал им в отчину город Рузу. А далее вышло, как он задумал: сей Симеон всегда был преданным слугой Иоанна. Ходил с ним на хана крымского, сражался в войне Ливонской и Польской. А при учреждении опричнины и земщины Иоанн главой последней сделал Симеона[3]. Так говорят наши летописи.
Про опричников Миша уже знает. А что такое земщина?
Умиленный любознательностью мальчика, Ларион Матвеевич даже утирает платочком уголки повлажневших глаз.
– Случилось то в декабре тысяча пятьсот шестьдесят четвертого года, – таинственно объясняет он. – Царь Иоанн Васильевич вместе с приближенными, стражей и женой Марьей Темрюковной внезапно исчезли из Москвы. Были с царем и Симеон с Марией. Они скрывались в монастырях и в конце концов остановились в Александровской слободе. Оттуда последовала грамота. В ней царь обвинил бояр в измене и даже выказал желание оставить престол. Когда же Москва приняла его требования, Иоанн учредил земщину и опричнину. Он начал жестокую расправу с крамольными боярами. Опричникам были отведены некоторые города, числом около двадцати. А в земщину, особое управление территорией, вошли остальные российские земли во главе с Москвой.
Ларион Матвеевич, увлекаясь рассказом, уже не замечает времени; еще меньше помнит об этом мальчик. Их возвращает к действительности бабушка.
– Хватит тебе Мишеньку-то своими страхами пужать! – выговаривает она сыну, появляясь в сопровождении дворовой мамки в кабинете. – Ведь сиротка! Некому его приголубить! А ты вместо ласки солдатскими побасенками его потчуешь!..
Она целует внука и просит:
– Пошли, Мишенька, спать. Бона и глазоньки твои ясные уже слипаются…
– Батюшка! Разреши еще послушать! Расскажи еще хоть столечко! – хнычет мальчик.
– Ладно… Только иди в постельку. Да сотвори молитву святому своему – архистратигу Михаилу. Когда ляжешь, приду и… – тут батюшка укорно смотрит на няньку, – вместо глупой мамкиной сказки расскажу еще какую бывальщину…
И снова, несмотря на ворчание доброй бабушки, листает мальчик – страница за страницей – увлекательную «Разумную книгу». Он засыпает, но и во сне длится рассказ отца – про диковинные земли, про воинские подвиги, про богатыря Гавриила…
2
– Дядюшка! Приехал дядюшка!..
Иван Лонгинович Голенищев-Кутузов, двадцатипятилетний морской офицер, худощавый, с обветренным лицом – рот плотно сжат, желваки ходят под кожей – и мозолистыми ладонями. Он не из книг знает то, о чем рассказывает батюшка. Правду сказать, своим фрегатом правит Иван Лонгинович одним и тем же курсом: из Петербурга в Архангельск и обратно. Но и то в его лета немало – на небольшом паруснике аж через все Балтийское море, да вокруг Скандинавии, да через Белое море до устья Двины – путь опасный и долгий.
Миша бежит навстречу моряку, и тот подхватывает его сильными руками, прижимает к жесткому суконному мундиру, пахнущему табаком, океанским йодом, жженым порохом. Из бесчисленных карманов достаются подарки: кусок диковинного китового уса, черный блестящий медвежий коготь, прозрачный камень янтарь, а в нем навсегда застыла, распустив крылышки, желто-полосатая оса. И наконец, аглицкая медная игрушка: пушчонка, которая может ядра с копейку метать…
За столом, после первой чарки, Иван Лонгинович пускается в мореходные рассказы, пересыпая их волнующе-непонятными словами: «ганшпуг», «вымбовка», «квадрант», «юферс», «рубка», «галс», «крюйс-марс», «фокзейл», «шканцы», «ростры»…
– Всему свой черед, – смеется он, обнажая плотные белые зубы, в ответ на Мишины просьбы объяснить их значение. – Придет срок – узнаешь…
А после обеда, в кабинете, дымя трубкой, Иван Лонгинович слушает Лариона Матвеевича, опытного инженера, который в очередной раз собирается уезжать для возведения фортеций на юго-западные рубежи России…
– Меня назначили состоять при особе главного командира Кронштадта Захария Даниловича Мишукова, – сказал Иван Лонгинович однажды. – Теперь какое-то время я буду моряком сухопутным. И хочу взять Мишеньку к себе. А то, Ларион Матвеевич, без тебя как бы здешнее бабье царство его в красну девицу не обратило…
На том и порешили. К великому огорчению бабушки, засобиравшейся после того в свое имение Печатники под Москву…
3
Усадив мальчика рядом с собой, Иван Лонгинович читал ему «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению»[4]:
– «Не хватай первым блюдо и не дуй в жидкое, чтобы везде брызгало.
Не сопи, егда еси…»
Голенищев-Кутузов назидательно поднимает указательный палец с перстнем, украшенным серебряной Адамовой головой, и торжественно продолжает:
– «Когда что тебе предложат, то возьми часть из этого, протчее отдай другому.
Руки твои да не лежат долго на тарелке, ногами везде не мотай, не утирай губ рукою и не пей, пока пищи не проглотил…»
Он кладет жесткую моряцкую руку на стриженую голову воспитанника:
– Ну-ка, продолжай теперь сам, Мишенька!..
Мальчик читает бегло, только от усердия иногда глотает слова.
– «Не облизывай перстов и не грызи ногтей, но обрежь ногти.
Хлеба, приложа к груди, не ешь: ешь, что пред тобой лежит, а инде не хватай.
Над ествою не чавкай, как свинья… – Миша лукаво глядит на невозмутимо восседающего с неизменной трубкой моряка и, подмигнув заговорщически, продолжает: – и головы не чеши. Не проглотив куска, не говори.
Около своей талерки не делай забора из костей, корок хлеба и протчего…» – Миша поднимает от книжки голову и скороговоркой спрашивает: – Кстати, дядюшка, что у нас нынче на обед? Больно уж каша гречневая надоела… – И снова читает: – «Неприлично руками по столу везде колобродить, но смирно ести. А вилками и ножиком по талеркам, по скатерти или по блюду не чертить и не стучать, но должно смирно, прямо, а не избоченясь сидеть…»
– Да ты, мой друг, читаешь уже не хуже моего! – ободряюще говорит Иван Лонгинович. – Идем теперь к обеденному столу. Посмотрим на деле, как ты усвоил урок. Я, кстати, уже заглядывал на камбуз. Полагаю, что за труды твои мой кок угостит тебя чем-нибудь особливо вкусным…
В доме прекрасно образованного, твердого характером моряка мальчик провел несколько лет и в 1757 году был определен в Петербургскую инженерную школу. Красивый, веселый, даже лукавый, сметливый и понятливый, Михаил Кутузов сразу же обратил на себя внимание капитана Мордвинова, помощника Петра Ивановича Шувалова[5] по заведованию школой.
Михаил Иванович Мордвинов не мог надивиться способностям юного Кутузова, очень скоро выказавшего отличные познания в математике, фортификации, инженерном деле, истории, богословии и философии. Мальчик не ограничивался предложенной в школе программой. Он самостоятельно изучал русскую и немецкую словесность, юридические и общественные науки, особое влечение проявив к языкам – французскому, немецкому, польскому. Впоследствии Михаил Илларионович мог изъясняться еще и на шведском, финском, английском и турецком, знал несколько и латынь.
Сам всесильный генерал-фельдцейхмейстер, управляющий артиллерийской и оружейной канцелярией граф Петр Иванович Шувалов пожелал познакомиться с талантливым учеником и проверить его знания. Юный Михаил Кутузов, в свой черед, увидел реформатора, с которым связывались перемены в русской артиллерии и изобретение знаменитых уже единорогов. В возгоревшейся Семилетней войне[6] шуваловские гаубицы наводили панику на пруссаков.
Нам слава, страх врагам в полках твои огни; Как прежде, так и впредь: пали, рази, гони. С Елисаветой Бог и храбрость генералов, Российска грудь твои орудия, Шувалов, –слагал в его честь стихи Ломоносов…
10 октября 1759 года четырнадцатилетний Кутузов был произведен в капралы артиллерии, 20 октября, «за прилежность к наукам», – в каптенармусы – унтер-офицеры, а 1 января 1760 года, «за особую прилежность и в языках, и в математике знание, а паче, что принадлежит для инженера, имеет склонность, в поощрение прочим», – в кондукторы 1-го класса (чертежники). Он был оставлен при Инженерной школе «к вспоможению офицерам для обучения прочих». Кутузов преподавал кадетам арифметику и геометрию.
Здесь он подружился с унтер-офицером Василием Бибиковым, братом уже прославившегося своей храбростью в битве при Кунерсдорфе[7] командира 3-го мушкетерского полка Александра Ильича. Не только артиллерийское дело и математические науки сближали их. Василий, который был моложе Кутузова на два года, так же горячо увлекался изящной словесностью, а пуще того – театром. Вместе они не пропускали ни одного представления в Сухопутном шляхетском корпусе и сами разучивали пьесы.
Им с увлечением помогал Иван Лонгинович Голенищев-Кутузов, отдававший досуг переводам любимого Вольтера.
Иван Лонгинович к этой поре был уже капитаном 2-го ранга и командовал кораблем «Москва», а затем – «Северный орел». Он служил в подчинении у брата Михаила Ивановича Мордвинова – адмирала Семена Ивановича, который заменил Мишукова на посту коменданта Кронштадта.
В свободные вечера у Голенищева-Кутузова часто собиралась молодежь. Иван Лонгинович читал только что переложенные им на русский язык отрывки из славного сочинения Вольтера «Задиг, или Судьба». Вольтер, его смелые мысли, его увлекательные романы, философские трактаты, душещипательные трагедии кружили голову. Остроумный и насмешливый, он вызывал восхищение.
«Во времена царя Моабдара был в Вавилоне юноша именем Задиг, одаренный благополучною природою, которая укреплена была добрым воспитанием. Хотя богат и молод, однако знал он умерять свои страсти, никогда не потворствовать, ничем над другими не превозносился и умел снисходить человеческим слабостям…»
Иван Лонгинович оглядел юных слушателей: смазливый, точно девушка, франт и высок Васенька Бибиков, рядом с ним Миша, Мишенька, – в глазах и в уголках губ затаенная улыбка, готовность в любой момент взорваться шуткой, насмешкой, веселым смехом. Только Бибиков и может сравниться с ним живостью и пылкостью нрава. Для них, в назидание их нетерпеливому характеру и колкому уму, читает теперь Голенищев-Кутузов фантастическую сказку о Задиге.
«С удивлением на него взирали, что, имея острый разум, удержался он от ругательного насмеяния оным разговорам без разума, смешанным, прерываемым, оному дерзновенному злословию, глупым злоключениям, язвительным шуткам, оному пустому звуку слов, которыя почитались приятным собеседованием в Вавилоне…»
– Внемлите, мои друзья, тому, что пишет сей знаменитый муж, – не удержался Иван Лонгинович. – Он воистину учит всех нас мудрости житейской…
«Он научился из первой книги Зороастра, что самолюбие подобно заключающему в себе ветры меху, из которого вылетают бури, когда его прокалывают. Паче всего Задиг никогда не тщеславился ни презрением, ни покорением себе женщин. Он был щедр, не боялся добро делать и неблагодарным, последуя великому правилу Зороастра: когда ты ешь, корми псов, хотя они тебя и угрызть могут…»
Васенька Бибиков, мастер обезьянничать и передразнивать других почище Миши Кутузова, не мог подолгу спокойно сидеть и слушать. Он вскакивал, переспрашивал непонятные хместа, критиковал слог, пытался тут же разыграть роман в лицах, зааплодировал, когда наконец Задиг сделался царем и мужем прекрасной Астарты, А после предложил поставить дома у Ивана Лонгиновича вольтеровскую трагедию «Заира».
Все было как в дворцовом театре: костюмы, сцена, занавес. Иван Лонгинович выбрал себе роль жестокого султана Иерусалимского Оросмана, влюбленного в свою невольницу и считающего себя обманутым. Михаил Кутузов взялся изобразить благородного французского кавалера, мнимого любовника Заиры и ее брата Нарестана. Ну, а Васенька согласился сыграть прекрасную Заиру; в театре шляхетского корпуса все женские роли в те времена обычно исполнялись кадетами. Он нарядился в богатое платье своей сестрицы Дуняши, Авдотьи, к которой, кстати, был неравнодушен Иван Лонгинович, и безбожно набелил и нарумянил свое хорошенькое лицо.
– Дрожу я идучи, душа моя вострепетала… Не ты ли, Нарестан, кого я ожидала… –томно и страстно, заведя свои красивые ореховые глаза, не проговорил – пропел Бибиков.
– Да, я, ты коего, злодейка, предала, Пади теперь, когда неверна так была! –зычно, словно он находился на капитанском мостике «Северного орла», проревел Иван Лонгвинович и выхватил картонный кинжал.
– О Боже! Смерть моя! –со слезой ответил Бибиков и упал на кулису, из-под которой выполз, потирая ушибленное темя, французский кавалер Нарестан.
Иван Лонгинович вперил в него сверкающий взор и заревел еще страшнее и громче:
– Приближься ты, ты, кой того меня лишил, Что более всего на свете я любил! Презренный мой злодей с проклятою душою, Еще ль тщеславишься ты честностью своею? Чтоб посрамить меня, не толь ты строил ков, Поди, во мзду тебе подарок уж готов. Твои несчастия сравняются с моими, Ты в кои вверг меня коварствами твоими, Ответствуют они злодейству твоему, Что приказал и ты готовить казнь ему…Михаил Кутузов закрыл руками лицо от отчаяния и с рыданием в голосе повел партию Нарестана:
– Ах, что ты представляешь?Иван Лонгиновнч толкнул его на лежащего недвижно Васеньку:
– Вот здесь, я говорю, коль зреть ее желаешь,Кутузов отшатнулся с новым стенанием:
– Кого я зрю?.. Сестру… Заира… Что за страх! Ах, нет тебя! Уж свет померк в твоих очах!Теперь пришел черед рыдать и стенать Ивану Лонгиновичу:
– Возможно? Боже мой! Сестрою он назвал!
Мишенька горделиво выпрямился, стуча себя кулаком:
– О варвар! О тиран! То истина вещей! Пронзи уж грудь мою, пронзи, о лютый зверь! Во мне искорени весь царский род теперь!..Иван Лонгинович упал ничком с яростным воем:
– Как? Я любим Заирой был неможно? Он брат? Любим я был? Ах, все сие возможно!..Трагедия имела оглушительный успех. Ларион Матвеевич отбил себе ладони и охрип, крича «бис». Авдотья Бибикова кинула к ногам султана Иерусалимского букет фиалок. А старая Мишенькина мамка, допущенная на барское представление за свои заслуги, когда Иван Лонгинович обнажил бутафорский кинжал, со страху за своего ненаглядного свалилась ничком на пол…
4
Приглашение на маскарад в Зимний дворец было полной неожиданностью.
Прапорщик Астраханского пехотного полка Кутузов рассматривал маленький, изящный билетик, таинственным образом переданный ему. Какая кокетка держала его в своей маленькой ручке? Быть может, надевая на себя неуклюжие фижмы и тяжелый парик, она думала о молодом офицере и, когда наклеивала на свое лицо маленькую мушку из тафты – условный знак любовного свидания, – мечтала о нем…
От сладких мечтаний юношу отвлек вошедший в комнату Иван Лонгинович. Он держал небольшой плотный конверт.
– Передашь это особе с белой розой в волосах и в голубой бархатной маске…
Молодой человек почувствовал, что таинственное приглашение связано с этим конвертом.
– Только не вздумай перепутать! – строго добавил Иван Лонгинович. – Ибо тогда нам обоим не сносить головы…
– А кто сия особа, дядюшка, смею спросить? – решился Кутузов.
Иван Лонгинович колебался. Он оглядел своего любимца с головы до пят, его широкое домино в шахматную клетку, встретил открытый взгляд больших темных глаз и, испытывая полное доверие к юноше, сказал:
– Знай же: ее высочество великая княгиня Екатерина Алексеевна…
…Пышный маскарад увлек и зачаровал Кутузова. Сколько музыки, танцев, веселой сутолоки! Вон суровый капуцин кружится, обняв резвую пастушку. А тут напудренный Пьеро пляшет об руку с грациозной Коломбиной. Там прекрасный Аполлон в сопровождении легконогих нимф вертится в бурном хороводе. Многие дамы, по тогдашней маскарадной моде, надели мужские костюмы и щеголяли в зеленых гвардейских мундирах, а кавалеры обрядились в широкие платья с робронами.
Надвинув поглубже капюшон на лоб, Михаил искал женщину с белой розой, но смуглые арапчата и голубые наяды с веселым смехом окружили его, не давая выйти из живого кольца. Рядом с Кутузовым оказался звездочет в остроконечной шапке, черном с серебряными блестками балахоне и с огромным картонным носом.
– Какой прекрасный цветник! Благоуханная оранжерея! – позабыв осторожность, обратился к нему Кутузов и услышал ворчливый голос:
– Я бы скорее сравнил этот зал с садком для птичек…
– Сударь, вы циник! – не выдержал юноша.
– О нет, мой юный друг, – отвечала маска. – К сожалению, я и сам все еще поддаюсь чарам тех, в ком нет ни глубокого ума, ни знаний, а есть лишь искусное притворство и в том и в другом. Зато если вы послушаете этих очаровательных попугайчиков, то узнаете все или почти все о нашем свете. Впрочем, вас ждет более серьезное дело. Идите же к главной лестнице…
И звездочет решительно отстранил двух прелестных наяд, державших Кутузова за полы домино.
В смущении юноша пересек весь огромный беломраморный зал, залитый светом тысяч свечей в переливающихся хрустальных люстрах. И кажется, успел вовремя.
Его здесь ожидали! И узнали!
Вниз по лестнице спускалась стройная молодая женщина в синей полумаске. Она была одета подчеркнуто скромно: корсаж из белого гродетура и белая юбка на маленьких фижмах – китовых обручах, поддерживающих платье. Длинные, роскошные темно-каштановые волосы зачесаны назад и перехвачены белой ленточкой; в простой прическе только белая роза с бутоном и листьями – точно живая; другая роза приколота к корсету. Белый газовый шарф, газовые манжеты и газовый передничек дополняли наряд.
«Что за чудо и что за простота! – сказал себе Кутузов – И это она?..»
Темные глаза блеснули в прорезях голубой маски. Женщина остановила мимолетный взгляд на Кутузове и вошла в толпу. И вслед за ней в толпе оказался молодой человек. В тесноте он нашел ее дрогнувшую маленькую ручку и вложил конверт. Послышался тихий, но спокойный голос:
– Домино! Как вас зовут?
И теперь уже без колебаний он назвал себя.
– Мы не забудем вас… – раздалось в ответ.
Близость с Иваном Лонгиновичем, которого решено уже было сделать наставником по морскому делу при малолетнем внучатом племяннике Елизаветы – Павле, и дружба с Васенькой Бибиковым, любимцем лихих гвардейских офицеров братьев Орловых, рано втянули Михаила Кутузова в круг большой политики.
5
Часы на мраморной каминной подставке пробили два пополуночи. Вызолоченный вепрь, несший циферблат, мчался, выгнув мощную спину, сквозь золоченый же кустарник. Соснуть так и не удалось. Поправляя стекающую с рыхлого плеча сорочку, Елизавета Петровна подошла к одному из трех уборных столиков. Овальное зеркало, освещенное шандалами, отразило ее отекшее лицо, выцветшие глаза. Только рот, твердо очерченный и алый, напоминал прежнюю Елисавет.
«Ах! уж покою томну сердцу не имею никогда; мне прошедшее веселье вспоминается всегда…»
Воспоминания невольно перенесли стареющую государыню во дни ее бедной и незабвенной юности, когда в полуопале, ненавидимая покойной царицей Анной Иоанновной уже за свою красоту, а более всего за право на престол, Елизавета Петровна могла беспечно отдаваться радостям любви: то водила хороводы в Александровской слободе; то без стыда проделывала вещи, которые заставляли краснеть даже наименее скромных; то горячо молилась перед образом Знамения Пресвятые Богородицы…
Точно в сладком сне, точно не бывшие с нею, прошли перед императрицей очарованные ею избранники: первый раб ее сердца – любимец Петра Великого гвардеец Бутурлин, красавец Шубин, конюх Андреян Вожжинский, паж Ляпин… Как хороша она была тогда – стройная, с густой каштановой косой и темными бровями, оттенявшими большие голубые глаза, всегда с улыбкой, легко переходившей в шаловливый смех!
А сколько претендентов на ее руку появилось в те поры – не счесть! И каких претендентов!
Французы – Людовик XV, герцог Шартрский, принц Конде, герцог Бурбонский, немцы – принц Карл-Август, епископ любский, курляндский герцог Фердинанд, принц Морис Саксонский, принц Фридрих Зульбахский, маркграф Карл Бранденбургский-Байрейтский, – самые громкие фамилии в Европе! Не отставали и русские: в красавицу тетку был влюблен четырнадцатилетний император Петр II, ее руки добивались князья Долгоруков и Меншиков. Но всем она предпочла певчего Алексея Разумовского, с которым тайно обвенчалась…
Тяжело ступая отекшими ногами, Елизавета Петровна добралась до белых, под цвет уборной залы, кресел.
Она сознавала, что конец близок. Первый роковой припадок произошел четыре года назад. 8 сентября 1757 года, в праздник Рождества Богородицы, царица отправилась из царскосельского дворца в приходскую церковь, рядом с дворцовыми воротами. Но едва началась служба, как Елизавета почувствовала себя дурно, вышла из церкви, спустилась с крыльца и, сделав два шага, упала без чувств на траву. Ее обступила толпа крестьян, сошедшихся из окрестных сел к праздничной обедне.
Извещенные дамы прибежали на помощь не тотчас и нашли государыню все еще на траве, без сознания, посреди народа, который глазел на нее, но не смел притронуться. Ее покрыли белым платком и послали за доктором. Первый прибыл хирург Фусадье, французский эмигрант. Он тут же, на траве, в присутствии простого народа, пустил ей кровь, однако императрица не приходила в себя. Долго ждали доктора Кондоиди, грека, – он был болен, и его принесли в креслах.
Наконец доставили из дворца ширмы и кушетку, положили императрицу, терли мазями, давали нюхать всевозможные спирты – она не открывала глаз. Такой, в бесчувственном состоянии, и перенесли ее во дворец. Во время этого припадка она так прикусила себе язык, что несколько дней не владела речью, а после того долго еще говорила невнятно…
С того, уже далекого, дня здоровье ее медленно, но верно шло на убыль. Государыня стала больше времени проводить в молитвах, поститься, уединяться от веселий. Теперь ее по целым дням лихорадило, кровь шла носом, слабость валила в постель. А в июле нынешнего, 1761 года припадок повторился – она снова несколько часов пролежала без чувств.
Смерть стоит за дверями. А на кого оставить Россию? На племянника Петра Федоровича[8]? Хуже не придумаешь! Недавно, после театрального представления, когда Елизавета Петровна сидела в ложе с шестилетним Павлом, в зал вбежали караульные гвардейцы. Преображенцы, семеновцы, измайловцы теснились к ней с криком: «Матушка наша! Защита наша! Надежа!..» Среди них было немало и ветеранов-усачей, которые двадцать лет назад возвели Елизавету Петровну на трон, свергнув ненавистное немецкое правление. И вот теперь новое иноземное засилье угрожает России. Конец победоносной войне с Фридрихом II! Конец всему!..
Она понимала, что стоило только тогда сказать: «Вот ваш император!» – и судьба престолонаследия была бы решена. Павел Петрович, резвый, премилый мальчуган, сделался бы ее наследником, будущим русским царем. А кто при нем регентом? Или регентшей?..
Елизавета Петровна очнулась, провела рукой по лицу, отгоняя черные мысли. Сама, не вызывая камер-фрау, оделась. Снова перечитала перехваченную депешу французского посланника Бретеля о разговорах, которые вела великая княгиня Екатерина Алексеевна с датским министром Остеном, положила бумагу в вазу.
Гоффрейлина доложила о прибытии Ивана Шувалова[9].
– Ваше императорское величество! – Тридцатитрехлетний генерал-адъютант и конференц-министр, ее фаворит, ловко отвесил поклон. – Их высочества Петр Федорович с супругой направляются для получения аудиенции…
Елизавета не обладала государственным умом и сама понимала это. Легкомысленная, нервная, она лишь по необходимости терпела до поры до времени Алексея Петровича Бестужева[10], сознавая превосходство ныне опального канцлера надо всеми Шуваловыми и Воронцовыми или иностранными министрами при петербургском дворе. И Екатерину Алексеевну царица не любила как раз за ум, к чему с некоторых пор прибавилось и ее политическое интригантство. Но Петра Федоровича!.. Великого князя Елизавета просто не могла терпеть, и чем дале, тем более, называла его не иначе как «великим дураком», «уродом» и т. п. А ведь какие надежды возлагала она на него поначалу! Мечтала, что он-то и станет настоящим Петром Третьим и приумножит славу и могущество России!..
– Иди-ко, Иван Иваныч, за ширмы да посиди там, покудова мы с канцлером учиним допрос ее высочеству…
Едва граф укрылся, как появился долговязый Петр Федорович, подошел к теткиной ручке и с надутым видом прислонился к стене. Чуть позже, опередив сопровождавшего ее Воронцова, вбежала Екатерина Алексеевна и бросилась к ногам государыни со словами:
– Молю вас, отошлите меня к моим родным!
– Как же мне отпустить тебя? – сказала императрица. – Вспомни, что у тебя есть сын!..
– Сын мой у вас в руках, – опустив голову, тихо ответила Екатерина Алексеевна, – и ему нигде лучше быть не может. Я надеюсь, вы его не покинете…
Елизавета с трудом подавила в себе невольную симпатию к этой не то тонко игравшей, не то глубоко переживавшей женщине.
– Ты просишься уехать уже не в первый раз. Но что я скажу обществу? Какая причина этого удаления?
– Ваше величество! Объявите, если найдете это приличным, причины, по которым я навлекла на себя ваши подозрения и ненависть великого князя!
Императрица положила руку ей на голову:
– Где же ты будешь жить? Твоя мать умерла. Цербст занят пруссаками…
Сдерживая рыдания, Екатерина Алексеевна ответила:
– Поеду в Париж. К брату Фридриху-Августу.
На деле она, конечно, и не помышляла ни о каком отъезде. Да и братцу, цербстскому князю без княжества, не до нее. Екатерина лихорадочно искала, на кого можно было бы опереться в это трудное время. Ведь приход к власти Петра Федоровича означал бы для нее скорую или медленную, но неизбежную погибель. Но с кем посоветоваться? Все ее старые друзья изгнаны или в отлучке: бывший канцлер Бестужев-Рюмин в опале, лапушка Салтыков отослан в Гамбург, сердечный приятель граф Понятовский выехал из Петербурга по требованию императрицы, Захар Чернышев на войне. На душе пусто. Маленькая дочь Анна умерла, а сына она почти не видит. Надобно что-то предпринимать. Вот отчего она решилась, казалось бы, на неосторожный шаг – рассказала барону Остену, что сочла бы счастливейшим днем в своей жизни тот, когда императрица пожелала бы отстранить от престолонаследия ее мужа и завещать корону наследника сыну. «Я предпочла бы быть матерью императора, чем супругой», – заявила она датскому посланнику. Расчет простой: это вызовет понимание и сочувствие; в Дании знают, что воцарение Петра Федоровича неминуемо означает войну с Россией из-за Голштинского княжества…
Елизавета приказала Екатерине Алексеевне встать; та повиновалась. В задумчивости императрица отошла к кушетке. Да, племянник спит и видит, как бы избавиться от ненавистной супруги. Он тотчас же женился бы на своей любовнице – толстой Лизке Воронцовой, которая открыто живет в его ораниенбаумском дворце…
Принцесса тем временем быстро оглядела комнату. Она не первый раз бывала на ночных аудиенциях у государыни. «Кто на сей раз из Шуваловых спрятан за ширмами? Иван, как это было на прошлом допросе, или его двоюродный брат Петр? А может быть, сам управляющий Тайной канцелярией граф Александр Иванович?» Затем она приметила вазу со свернутой бумагой. Как хорошо, что появились два новых лица, на которых она может положиться! Двадцатипятилетний красавец, бретер и гуляка, отважный поручик Григорий Григорьевич, Гриша Орлов[11] готов за нее в огонь и в воду. И сорокадвухлетний обер-гофмейстер при Павле Никита Иванович Панин[12] тоже нацежен. Это он предупредил принцессу запиской о своем разговоре с канцлером Воронцовым насчет злосчастной депеши…
Елизавета заговорила снова:
– Бог мне свидетель, сколько я плакала, когда ты была при смерти по приезде в Россию… Если бы я тебя не любила, то никогда не оставила у себя… – Она приблизилась к принцессе вплотную и нахмурилась, вспомнив все, что ей наговорили. – Но ты чрезмерно горда! Вспомни, как однажды в летнем дворце я подошла к тебе и спросила, не болит ли у тебя шея. Потому что ты едва поклонилась мне.
– Господи! – воскликнула Екатерина Алексеевна, глядя в глаза царице. – Как ваше величество могли думать, что я захочу гордиться перед вами! Клянусь, я и не подозревала, что вопрос, заданный четыре года назад, мог иметь подобные последствия…
Елизавета перебила ее:
– Ты воображаешь, что на свете нет человека умнее тебя!
– Если в я так думала о себе, – кротко проговорила Екатерина Алексеевна, – то мое теперешнее положение и самый этот разговор лучше всего способны вывести меня из этого заблуждения. Я до сих пор по глупости своей не понимала того, что угодно было вам сказать мне четыре года назад…
Слушая принцессу, Елизавета приметила, что Петр Федорович все время о чем-то шушукается с канцлером Воронцовым. Она подошла к ним и стала тихо увещевать великого князя примириться с женой. Петр Федорович сперва возражал вполголоса, но затем не вытерпел, притопнул ногой и вскрикнул:
– Ее надобно немедля выслать! Она ужасно зла и страшно упряма!
Екатерина Алексеевна, слыша это, обратилась к великому князю:
– Я рада случаю объяснить вам в присутствии ее величества, что я действительно зла – зла на тех, кто советует вам делать несправедливости. Да, я стала упрямой. Потому что моя угодливость навлекла на меня только одну вашу неприязнь.
– Дрянь! Дрянь! – Тридцатитрехлетний великий князь заплакал, громко и безутешно, словно обманутое дитя. Обе женщины отвернулись.
– Ладно… Иди… – после недолгого молчания приказала племяннику, не оборачиваясь, императрица.
Вслед за Петром Федоровичем, повинуясь знаку Елизаветы, вышел и граф Михаил Ларионович Воронцов, великий канцлер.
– Теперь мы одни, и я могу сказать тебе правду, – негромко, но грозно молвила она.
– Я догадываюсь, ваше величество! Вы хотите попрекнуть меня за разговоры о наследнике Павле Петровиче с бароном Остеном и французским посланником Бретелем, – потупив глаза, как бы из глубины души, ответила Екатерина Алексеевна. – Но, свидетель Бог, я говорила это, думая лишь о благе России…
Елизавета невольно протянула руку к вазе. Граф Иван Иванович Шувалов пытался из-за ширмы змеиным шипом или птичьим чиканьем, наподобие воробьиного, удержать императрицу от преждевременного шага, но понимал, что игра разгадана. «Экая филя, право, – ворчал он про себя. – И куда ей до молодой княгини! Ведь обвела, и не в первый раз обвела вокруг пальца. Как будто Екатерина Алексеевна умудрена жизнью, а матушка-царица – молодая, неопытная простушка…» Втайне он сочувствовал принцессе и надеялся, что допрос приведет к доверительной беседе о престолонаследии. Ведь не далее как на прошлой неделе сама государыня размышляла, что надо бы объявить наследником Павла, а его отца либо обоих родителей выслать из России…
– Я не виню тебя, – наконец тихо сказала Елизавета Петровна. – Я сама не знаю, что делать… Иди!
«Поздравляю себя с рождающейся милостью, – подумала принцесса. – Впрочем, не столько довольны мной, сколько недовольны великим князем. Да, как же звали того мальчика-офицера, который передал мне предупреждение Панина? У него такая трудная русская фамилия… А, Михайло Голенищев-Кутузов! Надобно при случае вознаградить его…»
Она низко поклонилась и покинула покои царицы.
…Куранты прозвенели три пополуночи. Вызолоченный вепрь нес на могучей спине Время, отмеряя последние часы в жизни государыни Елизаветы Петровны.
Глава вторая «…Я – русский…»
1
Шестнадцатилетний прапорщик Кутузов скучал у бронзовой решетки Большого Ораниенбаумского дворца.
Плоская равнина незаметно становилась морем, серое зеркало которого было до зевоты пустынно: не на чем глаз остановить – ни птицы, ни паруса. Лишь на горизонте обозначалась слабым контуром морская крепость Кронштадт на острове Котлин.
Начало обычного развода неопределенно затягивалось – накануне император Петр Федорович засиделся за ужином до пяти пополуночи, крепко перебрав в служении Бахусу. Впрочем, в Ораниенбауме, как примечал Кутузов, царил полный разгул: каждодневные разводы голштинских батальонов, а после – шумные застолья, пьяные ужины, невоздержанные речи и неисполнимые распоряжения государя. Сюда, в летнюю резиденцию Петра Федоровича, съехались его немцы-родственники, чтобы отметить 29 июня тезоименитство императора – день святых Петра и Павла.
Среди них был и дальний родич Петра Федоровича по Голштинскому дому, генерал-губернатор Санкт-Петербурга и Эстляндии, фельдмаршал, принц Петр-Август-Фридрих Голштейн-Бек, при котором обязанности флигель-адъютанта выполнял Кутузов.
Назначение на эту должность, совершенно неожиданное для молодого офицера, последовало 1 марта 1762 года. Лишь позднее Кутузов узнал, что за него просила сама Екатерина Алексеевна. Для юного прапорщика Астраханского полка подобный пост был чрезвычайно лестным, хотя сам он тяготился своими обязанностями при особе генерал-фельдмаршала. Зато приобретенные в эту пору навыки очень помогли Михаилу Илларионовичу в дальнейшем – в годы его генерал-губернаторства в Киеве и Вильне…
Когда к прапорщику подошел двадцатичетырехлетний франт – флигель-адъютант Петра Федоровича князь Барятинский, от увенчанного императорской короной дворца послышались пьяные крики, смех, немецкие восклицания. По желтым дорожкам, меж померанцевых деревьев в кадках и мраморных статуй, вдоль канала скакали с десяток разряженных в узкие цветные мундиры молодых людей. Иные с хохотом становились на четвереньки, прочие прыгали через них. Кое-кто и в чехарде не выпускал изо рта глиняных трубок, издавая довольно громкое мычание и немилосердно дымя вонючим дымом. Впереди же всей честной компании неслась и ловко кружилась, несмотря на дородность, краснолицая женщина в богатой робе на немецкий лад.
– Кажется, Елизавета Романовна сегодня в хорошем настроении, – кивнул в сторону фаворитки царя Воронцовой Кутузов.
– Чего нельзя сказать о государе, – озабоченно отвечал князь Барятинский. – Он встал поздно и с головной болью. Бог даст, экзерциции на разводе развеселят его…
Разговор велся на немецком языке, хотя оба собеседника были русскими. Впрочем, немецкая речь господствовала при дворе нового императора, ибо почти все его приближенные принадлежали к природным голштинцам или пруссакам: дядя Петра принц Георг-Людвиг, граф Миних, правая рука государя – прусский посланник Гольц, начальник голштинского войска генерал-лейтенант Ливен, граф Петр Антонович Девьер, принц Голштейн-Бек и его двенадцатилетняя дочь Екатерина, которую уже прочили в невесты князю Барятинскому…
– Смотрите! – воскликнул флигель-адъютант. – Его величество!
Посреди толпы длинный голштинец с маленьким, детским лицом, размахивая руками, закричал по-немецки:
– Братцы! Кто свалит с ног первым? – и заскакал по аллее на одной ноге.
Прочие запрыгали за ним, норовя наддать его величеству коленом по мягкому месту, однако никто не преуспел. Тогда Елизавета Романовна сама набежала на него сзади и сшибла на газон с визгом и хохотом.
– Вижу, что его величество уже успел несколько поправиться, – с самым невинным видом заметил Кутузов.
– Да, государь предпочитает с утра аглицкое пиво, до которого он превеликий охотник, – не чувствуя насмешки, пояснил Барятинский.
Глядя на забавы Петра Федоровича, Кутузов невольно вспомнил о той игре, какую учинил император на похоронах своей тетки Елизаветы Петровны. Он был в тот день чрезмерно весел и, шествуя за катафалком, то замедлял шаг свой настолько, что отпускал лошадей с гробом на тридцать сажен, то пускался за ним бегом вприпрыжку. Несшие его шлейф старшие камергеры пытались не отстать, но выронили концы. Шлейф развевался по ветру, Петр Федорович хохотал. Процессия мало-помалу расстроилась, а после и встала. Сколько пересудов и толков в гвардии и при дворе вызвали шалости нового самодержца!..
Ропотом встречены были и первые же указы Петра Федоровича. Он тотчас заключил с Пруссией оскорбительный для России, как страны-победительницы, мир и готовился развязать совершенно нелепую войну против Дании из-за мелких голштинских амбиций. Принц Георг-Людвиг был послан в Петербург для последних приготовлений к походу. От Васеньки Бибикова Кутузов слышал, что в полках, особенно в гвардейских, не скрывают недовольства, произносятся пылкие возмутительные речи. Шло брожение и в Астраханском полку, в составе которого числился юный поручик…
Из-за темно-зеленых кущ, с невидимого отсюда плаца, прозвучал сигнал трубы: начинался вахтпарад. Кутузов с князем Барятинским шли, перекидываясь фразами. Со стороны их можно было принять за добрых приятелей. Однако Михаил Илларионович едва терпел князя, а тот страшился его колкого языка и насмешливого ума.
– Нам предстоят героические дела, – говорил Барятинский. – Сам великий Фридрих благословил государя покарать Данию. А кто бы мог сравниться в военной истории с сим знаменитым мужем!..
Кутузов вспомнил о славном роде Барятинских: Рюриковичи, потомки князя Михаила Черниговского, они храбро воевали со шведами и поляками, а дед теперешнего собеседника отличился в Полтавской битве и в Персидском походе Петра Великого.
– Знаете, князь Иван Сергеевич, – с самой обворожительной улыбкой сказал Кутузов, – вы не носите свою знаменитую фамилию – вы тащите ее за собой…
После развода, где генерал-лейтенант барон фон Ливен по глазам угадывал все желания императора, Петр Федорович окончательно обрел беззаботную веселость. Предстояло отправиться в Петергоф, где находилась на положении полуссыльной императрицы Екатерина Алексеевна. Для соблюдения приличий накануне Петрова дня во дворце Монплезир у государыни был назначен большой обед.
Впереди поскакали голштинские гусары, за ними – Петр Федорович с самыми близкими придворными в каретах и колясках. Адъютант принца Голштейн-Бека вместе с несколькими офицерами и многочисленной челядью трясся на одной из длинных линеек.
От Ораниенбаума до Петергофа путь недолог. Весело болтая, путники добрались к двум часам пополудни.
Дамы и кавалеры праздно рассыпались по парку, направились к Драконову каскаду и римским фонтанам, к Самсону, раздирающему пасть льва (тогда еще не бронзовому, а свинцовому). Но что это? От Монплезира послышались тревожные крики, а затем и женский плач.
Дворец, где должна была находиться Екатерина Алексеевна вместе с дамами и придворными кавалерами, был найден пустым!
Прислуга рассказала, что императрица еще ранним утром поспешно уехала в Петербург с двумя офицерами. Полчаса прошло в тупом недоумении. Самые опытные из царедворцев – генерал-прокурор князь Трубецкой, граф Александр Иванович Шувалов и великий канцлер Воронцов предложили Петру Федоровичу отпустить их в столицу, чтобы выяснить, что там делается, и привезти необходимые сведения. Вскоре после их отъезда появился поручик-преображенец с фейерверком для готовящегося торжества. Он сообщил, что при выезде из Петербурга слышал большой шум, видел, как многие солдаты бегали с обнаженными тесаками и провозглашали государыню царствующей императрицей…
Для Кутузова это было похмельем в чужом пиру.
С холодным, чуть насмешливым любопытством наблюдал он, как паника мало-помалу охватила недавно еще развеселую компанию. Женские всхлипывания перешли сперва в рыдания, а затем и в громкий вой. Растерялись и вельможи: обер-гофмаршал Александр Александрович Нарышкин и его брат обер-шталмейстер Лев Александрович, отец фаворитки Роман Илларионович Воронцов. Однако кое-кто и тут не потерял головы. Бабьи крики скоро перекрыл резкий тенор генерал-лейтенанта Ливена. Он тотчас разослал адъютантов, ординарцев и гусар по дорогам, ведущим в Петербург, для разведки. Шеф астраханцев Измайлов и шеф ингерманландцев Мельгунов отправили офицера с приказом немедля привести оба полка в Ораниенбаум.
Непривычная деятельность, видимо, утомила Петра Федоровича, которому приходилось подписывать множество бумаг. Со всех сторон между тем сыпались советы: скакать на перекладных в Нарву, где находятся войска, выступающие в датский поход; бежать еще далее – в отчину государя Голштинию; отплыть в Кронштадт. А престарелый Миних предложил даже явиться в Петербург и выступить перед народом и гвардией, заявив о своих законных правах на престол…
Но сам Петр Федорович не мог ни на что решиться. Наконец он почувствовал острый голод и вместо предполагавшегося праздничного пиршества наскоро пообедал прямо на деревянной скамейке у канала жарки́м с бутербродами, выпив изрядное количество бургундского и шампанского.
Наступил вечер 28 июня. Никто из посланных гонцов так и не возвратился. Ни слуху ни духу не было и об отправившихся увещевать Екатерину Алексеевну первых вельможах государства. Лишь князь Барятинский, посланный на шлюпке в Кронштадт, привез утешительную весть: комендант крепости Нуммерс ожидает своего императора.
Это был последний шанс.
Кутузов наблюдал с берега, как лихорадочно грузилась на галеру и яхту провизия, как прыгали с берега в шлюпки сам Петр Федорович с Лизкой Воронцовой, принцесса Екатерина Голштейн-Бек, ее отец со своей невестой – толстой принцессой Каролиной, голштинцы фон Румор, Штелин, Ливен, пруссаки барон Гольц, граф Штейнбок, немногочисленные оставшиеся при особе государя русские вельможи…
Была ночь, и не было ночи.
Серебристый, рассеянный свет позволял видеть словно днем. Михаил Илларионович, сидя на скамейке, покинутой императором, глядел на удаляющиеся суда и размышлял о возможных последствиях необыкновенного дня…
Трудно было нарочно придумать такие две противоположные фигуры, такие характеры-антиподы, как Петр Федорович и Екатерина Алексеевна. Даже внешне они казались несовместимыми: он – длинный, с маленьким, злобным и довольно живым лицом, в смешном прусском наряде и штиблетах, не позволяющих даже сгибать ноги при ходьбе; она – крепкая и здоровая, с гордой поступью и приятным станом, с открытым лицом, с каштанового цвета волосами и черными глазами, которые, отражая свет, приобретали голубоватый оттенок, и с ослепительно белой кожей. Он болтлив, непоследователен, вспыльчив и зачастую неуправляем; она внимательна, кротка, внешне послушлива, с огромной внутренней работой ума и сердца. Здесь контраст духовный был еще разительнее физического.
В то время как муж, будучи наследником престола, играл в солдатики и судил военно-полевым судом крыс, а во время православного богослужения, в церкви, показывал язык дьяконам и священникам, жена читала Плутарха, Монтескье, Бейля и управляла за него Голштинским герцогством, самолично рассматривая деловые бумаги. Великий князь, а затем государь «всея Великия, Малыя и Белыя Руси», в жилах которого текла кровь Петра Великого, каждым своим шагом оскорблял русское национальное достоинство; напротив, Екатерина Алексеевна во всем подчеркивала верность древним заветам и во время болезни просила врачей выпустить из нее немецкую кровь, чтобы заменить ее на русскую…
Михаил Кутузов сидел белой июньской ночью, вглядываясь в море, и думал о превратностях судьбы. Но вот на горизонте обозначился силуэт: к берегу шло какое-то судно. Это возвращалась галера императора (все еще императора!) Петра Федоровича.
Теряясь в догадках, молодой офицер не мог, конечно, знать, что, пока Петр III мешкал, в Кронштадт примчался вице-адмирал Талызин, немедля привел гарнизон к присяге новой государыне и приказал не допускать на остров и в крепость ни единой души. Когда галера и яхта подошли к Кронштадту, в ответ на приказы и даже мольбы Петра Федоровича было сказано, что в него будут стрелять. Потрясенный, император опустился в каюту, и галера убралась восвояси…
Уже унылыми тенями проплелись мимо Кутузова незадачливые мореплаватели. Михаил Илларионович был рад, что Голштейн-Бек, в полной прострации, не обратил внимания на своего адъютанта. Он пошел в парк, уже понимая, что присутствует при последнем акте драмы или, скорее, трагикомедии.
Кутузов кружил по аллеям, когда со стороны Петербургского тракта заворковал ружейный огонь и тотчас смолк. Он выбежал ко дворцу: толпа лейб-гусар, весело переругиваясь, разоружала голштинцев. От толпы отделился гвардейский офицер, в котором Михаил Илларионович не сразу признал Васеньку Бибикова. В величайшем возбуждении он кричал, обнимая и целуя Кутузова:
– Поздравляю с государыней!.. Мы с Алексеем Орловым вчерась спозаранок отвезли ее величество из Петергофа в Питер!.. Она – сущий ангел!.. Теперь немецким порядкам – конец!
Петр Федорович на глазах у Кутузова под сильным конвоем был отправлен под арест в Ропшу. Через несколько дней он внезапно скончался там, как было объявлено, «от геморроидальных колик». Тело усопшего на утренней заре перевезли в Александро-Невскую лавру и поставили в зале скромных деревянных покоев архиепископа. Три дня приходили туда вельможи и простой народ; улучил время проститься с государем и Михаил Илларионович.
Петр III лежал в бедном гробу, четыре свечи горели по сторонам. Сложенные на груди руки одетого в поношенный голштинский мундир покойного были в больших белых перчатках, на которых запеклась кровь. Как говорили, от следов небрежного вскрытия.
Екатерина почла за лучшее не являться в лавру. Кутузов слышал, будто сенаторы убедили ее не ходить на погребение мужа…
2
– Ты, мой друг, должен теперь помочь мне и позаботиться о достойном приеме ее величества. Мы все есть верные рабы нашей всемилостивейшей государыни. Итак, во-первых…
Генерал-губернатор Эстляндии Петр-Август-Фридрих Голштейн-Бек стар, брюзглив, мокрогуб. По своей беззубости на родном немецком языке говорит хоть и быстро, но до крайности шепеляво. Иногда – к месту и не к месту – вставляет русские словечки и речения.
Крестник Петра Великого, он вступил в российское подданство только при императрице Анне Иоанновне и был возведен в чин генерал-фельдмаршала покойным Петром Федоровичем. Принц не любил свою вторую родину; старший сын Голштейн-Бека пал при Порндорфе, находясь под знаменами Фридриха II. Дурной нрав Голштейн-Бека и нежелание учиться русскому языку отмечал еще граф Миних, в армии которого принц Петр-Август-Фридрих сражался против турок.
– Запомни хорошенько, мой друг, – бубнил фельдмаршал, утонув в глубоком кресле, своему адъютанту, почтительно стоявшему перед ним. – В важных делах мелочей не бывает. Вникни во все до тонкости…
Капитан Астраханского пехотного полка Кутузов привычно изобразил внимание, пропуская мимо ушей многословные поучения принца.
– Привези от графа Румянцева точное расписание, когда и где его дивизия будет учинять маневры в честь ее величества. И в какой день и час государыня соизволит посетить мызу графа Петра Александровича…
Заведуя два с лишним года канцелярией генерал-губернатора, Михаил Илларионович хорошо изучил характер Голштейн-Бека и уже успел распорядиться обо всем нужном.
– Да проверь, – монотонно шепелявил генерал-губернатор, – изготовил ли обер-фохт[13] Весель приветственные стихи ее величеству. Прочти, хороши ли они, прикажи от моего имени отвезти в типографию и немедля их напечатать. И еще узнай, все ли подготовил гауптман Ульрих в рыцарском доме для торжественной встречи…
Кутузов побывал к этому часу и в штабе дивизии графа Румянцева, который выслал навстречу императрице три эскадрона кирасирского и карабинерного полков, и в рыцарском доме, и еще в десятке других мест, о которых позабыл принц Петр-Август-Фридрих. Михаил Илларионович несколько раз обошел все покои Екатеринтальского дворца, где должна была расположиться со свитой государыня, поднялся на яхту «Святая великомученица Екатерина», над которой развевался кормовой генеральс-флаг, и уточнил, когда флот адмирала Полянского изобразит государыне баталии морского сражения.
Михаил Илларионович думал теперь о том, что вечером его ожидает приятное свидание с Гретхен, белокурой и пригожей, словно фарфоровой, дочкой председателя ревельского магистрата. Скосив глаза, он видел за готическим окном губернаторского кабинета, с высоты Вышегорского замка, веселую июньскую зелень, стрельчатые крыши кирх, а за ними – встающее на полнеба, густозеленое, усеянное, словно чайками, парусами море.
– Я так беспокоюсь, мой друг, – бубнил Голштейн-Бек, – потому что ее величество обратила свои взоры на Эстляндию, Лифляндию и Курляндию[14], имея какие-то важные цели…
Кутузов снова изобразил на лице крайнюю степень внимания.
Продолжая числиться в Астраханском полку, он, подобно множеству других офицеров в русской армии, только приписанных к полкам, там даже не появлялся. Это подтверждается документально. Так, ко времени назначения командиром Астраханского полка Суворова, в августе 1762 года, в полковом списке значилось шестнадцать капитанов, но лишь восемь из них, как сказано в документе, были «при полку в комплекте». Остальные находились в отпуске или в долгосрочных командировках. Понятно, что первыми перечислялись офицеры, действительно несшие службу. Кутузов поименован в списке капитанов последним, шестнадцатым. Иначе сказать, он отсутствовал.
Такое положение, кстати, было характерно во все время царствования Екатерины II, а затем и при Александре I. Сам Кутузов впоследствии имел адъютантов, лишь числившихся в лейб-гусарском, гвардейском Семеновском, кирасирском, Изюмском гусарском и ряде других полков.
…Едва лишь Голштейн-Бек закончил свой бубнеж, Михаил Илларионович, словно он впитал каждое слово принца, быстро затараторил по-немецки:
– Не волнуйтесь, ваша светлость! Все распоряжения вашей светлости будут исполнены в точности. Извольте, ваша светлость, рассмотреть и подписать эти бумаги, в коих составлен подробный ход церемониала…
Принц Петр-Август-Фридрих поднялся с кресел, подобрал нижнюю губу, распростер для объятия свои подагрические руки и с умилением воскликнул:
– Друг мой! Каждый раз, слушая тебя, я думаю: ты удивляешь меня! Да и как не дивиться тому, что ты говоришь истинно как природный немец!..
Кутузов наклонил голову, чтобы фельдмаршал не увидел насмешки, пробежавшей по его лицу, и полушутливо, но твердо ответил:
– Ваша светлость! Я только с немцами – немец. С русскими – я русский!
3
Триумфальные арки, пушечная пальба, фейерверки, восторженные крики встретили государыню, едва она вступила в пределы Эстляндии.
Михаил Илларионович, в числе лиц, ожидавших императрицу, находился в Ехлегте, на последней от Ревеля почте. Здесь уже были члены ландрата, рыцари, знатные мещане и представители магистрата. Под городским штандартом, на конях, поротно расположились вооруженные горожане, разодетые в богатые кафтаны, с литаврами и трубами. В дорогих нарядах были их жены и дочери, стоявшие с букетами цветов.
Да, как подмечал Кутузов, здесь жилось лучше, сытнее, богаче, чем в России. И не только мещанам и ремесленникам, но и простым землепашцам.
Но вот ударили колотушки литавристов, запели трубы, забурлила толпа. На дороге показался огромный – из 57 экипажей – поезд русской государыни. Возле парадной кареты ехали верхами в окружении гвардейских офицеров граф Алексей Орлов и обер-шталмейстер Лев Нарышкин. Когда же в окошке кареты показалась царица, восторг толпы достиг предела.
Не останавливаясь, поезд двинулся в Екатеринталь, увеселительный дом близ Ревеля, заложенный еще Петром I.
Ревель, или по-русски Колывань, перешел к России при Петре. В течение многих столетий земли эти усиленно онемечивались: в XIII веке меченосцы разрушили эстонскую крепость Линданиссе на Вышегорской горе и построили на ее месте мощный замок. Различные пришельцы – датчане, ливонские рыцари, шведы – жестоко подавляли стремление местного населения к независимости.
Придя к власти, Екатерина II не скрывала озабоченности прусским натиском на Прибалтику. Речь шла прежде всего о судьбе Курляндии, формально независимом герцогстве, владение которым Петр III передал своему дядюшке – пруссофилу принцу Георгу-Людвигу. Применив посулы, угрозы и даже открытую силу, Екатерина удалила принца и поставила на его место возвращенного из ссылки Бирона[15]. Это был тонкий ход: убивались сразу два зайца – из России удалялся ненавистный временщик Анны Иоанновны, а в Митаве оказывался послушный Петербургу вассал.
Капитан Кутузов следовал в процессии за каретой императрицы.
Едва поезд приблизился к Екатеринталю, как ухнула сигнальная пушка. Тотчас открылась пальба со всех городских укреплений Ревеля и с кораблей стоящего на рейде флота. Гром выстрелов заглушил торжественный колокольный перезвон…
Со следующего дня пошли непрерывные празднества, увеселения и балы: прием в Екатеринтальском дворце для знатных персон, генералитета и всех находящихся в Ревеле русских офицеров, для членов магистрата, для православного и лютеранского духовенства и знатного мещанства; шествие русской самодержицы в Ревель; посещение соборной церкви Казанской Богородицы; торжественный обед в ратхаузе[16]; смотр в военном лагере дивизии графа Румянцева (Екатерина для этого случая надела армейский мундир); наконец, маскарад во дворце генерал-губернатора.
В Вышегорском замке, где некогда пировали свирепые меченосцы, собрался, кажется, весь город.
Кутузов шутил в уголку залы с очаровательной Гретхен, которая искусно смущалась и вспыхивала от его изящных двусмысленностей, что радовало наблюдавшего за ними начальника магистрата, гордившегося своей скромной дочерью. А Михаил Илларионович, глядя на нее, думал: «Да! Вот женщины! Воистину, это о них сказано: в тихом омуте черти водятся…» В наряде пастушки, с бутафорской овечкой на руках, голубоглазая Гретхен казалась воплощением невинности и знаменитой германской добродетели…
Но вот гауптман Ульрих стуком серебряного жезла возвестил о том, что повелительница России явилась на маскарад.
По странному совпадению Екатерина Алексеевна, как и тогда, четыре года назад, была в голубой полумаске, но Кутузов теперь мог довольно близко рассмотреть ее. Совсем иная, чем в ту встречу, в Петербурге, женщина предстала в ревельской зале: самоуверенная, гордо несшая порфиру самодержицы и одновременно приветливая, доброжелательная и умеющая слушать своих подчиненных.
Михаил Илларионович поспешил на помощь генерал-губернатору, который в растерянности лепетал что-то царице. Он смело вступил в разговор, пособляя Голштейн-Беку отвечать на расспросы о крае и его жителях.
Услышав фамилию офицера, Екатерина поинтересовалась, не сын ли он генерал-поручика Лариона Матвеевича, и затем сказала:
– По проекту батюшки вашего заканчивается строительство Екатерининского канала. Он столь нужен жителям Петербурга. Отныне они будут предотвращены от гибельных последствий разливов Невы…
Она еще раз поглядела на молодого капитана в мундире Астраханского полка, и феноменальная память подсказала царице что-то. Внезапно Екатерина Алексеевна положила маленькую, изящную руку на его сильную мужскую кисть и спросила:
– А каково ваше заветное желание?
– Как можно скорее отличиться на поле брани! – тотчас ответил Михаил Илларионович. Ему уже довольно надоела канцелярская служба у Голштейн-Бека и однообразие светских развлечений.
– Желание ваше будет непременно исполнено, – продолжая задумчиво глядеть на офицера, проговорила государыня.
Вскоре после отъезда Екатерины в Петербург пришел приказ о назначении Кутузова в корпус генерала Веймарна, расположенный в Польше.
4
Чувственным и легкомысленным был пышный екатерининский век. Процветало и даже поощрялось то, что Пушкин с улыбкой снисхождения именовал как «похоти боярские». Чреда незамужних цариц-женщин на российском троне – Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, наконец, Екатерина II – самим своим личным статусом, не говоря уже об интимной жизни, не способствовала святости семейных уз. Фаворитизм скоро сделался при дворе обычной нормой, а следовательно, не мог не сказаться на воспитании чувств дворянства. Провинция и столица жили остренькими сплетнями, что госпожа такая-то де забрюхатела и выкинула, и сверяли по календарю, где находился в положенный срок ее законный муж.
В деревенских имениях, в губернских и уездных городах, в высшем петербургском и московском свете у дворянства оставалось слишком много свободного времени, за вычетом хозяйствования, обязанностей чиновников у мужчин и неизбежных материнских забот. Особенно легкомысленные нравы царили в высшем придворном кругу, в атмосфере балов и маскарадов, банкетов, празднеств, каруселей и спектаклей. С ранней юности начинали привыкать к любовным похождениям «российские фобласы», в 14 и 15 лет посещавшие уже куртаги и балы. Из камер-фурьерских журналов мы узнаем о правиле, по которому запрещался вход на придворные маскарады только лицам моложе 13 лет! Празднества и праздности имеют один корень; тогда в глазах света они совпали.
Исключением оставалась военная служба.
Выезжая в поле, перед лицом неприятеля дворянин-офицер уравнивался с мужиком-солдатом. Правила сословной чести и достоинства ставили трусость в бою в разряд самых гнусных пороков. Трус был презираем хуже шулера и вора. Образовался постепенно тот слой служилого военного дворянства, из которого складывался русский офицерский корпус – незабвенные Гриневы, Максим Максимычи, Тушины или тот герой Бородина – «слуга царю, отец солдатам», уже полковником сложивший голову со словами «не Москва ль за нами», сдержав «клятву верности».
С 1764 года, с открывшихся военных действий в Польше, Кутузов начинает почти непрерывное, едва ли не тридцатилетнее огневое поприще – от схватки с отрядом князя Радзивилла у стен Вильны до штурма Измаила и кровопролитного сражения при Мачине.
Часть II
Глава первая Заново рожденный
1
Представим себе крымский берег двести с лишним лет назад, когда не существовало курорта Алушта, а была лишь Алуштинская пристань у поселка и маленькая татарская деревушка Шума.
Ничего не изменилось с тех далеких по нашим меркам пор ни в очертаниях диких скал, растущих прямо из моря, ни в береговом рельефе бухты, ни в равнодушном величии гор Чатырдага, Демерджи, Кастели, ни в цвете июльского, неподвижного от зноя сапфирового неба, ни в медленном и безостановочном – взад-вперед – движении ленивого летнего моря. Иным был лишь ближний пейзаж. Горстка низких, беленных известью домиков под черепицей, с глухими по-восточному фасадами и саманными заборами: в центре – татары, а по окраинам деревушки, в сплошном оазисе виноградников, яблонь, груш, персиков, слив, каперсов, – греки, армяне, болгары. Они главные садоводы-труженики Крыма, данью которых богатеет в Бахчисарае хан Сагиб-Гирей.
Уже окончена кровавая русско-турецкая война и подписан победный мир в деревушке Кючук-Кайнарджи[17]. Но ни русские здесь, в Крыму, ни турки, высадившиеся на пристани и окопавшиеся у Шумы, об этом не подозревают. Двенадцать дней для той поры срок слишком малый, чтобы курьеры, стремглав доставившие эту весть в Петербург, поспели из столицы донести ее до губернаторов.
Генерал-поручик граф Мусин-Пушкин, толстяк и брюзга, которого царица за слабохарактерность прозвала «нерешимым мешком», дал противнику укрепиться, колебался в обычных сомнениях, но 24 июля приказал: штурмовать. Под шквальным огнем солдаты замешкались. Бывший в голове атакующих подполковник выхватил у рослого мушкетера белое с синим крестом и золотыми наугольниками на красном древке знамя и увлек всех за собой. Роковой выстрел грянул почти в упор: пуля из гладкоствольного ружья, весящая около восьми золотников[18], ударила подполковника в левый висок и вылетела у правого глаза. Он уже не видел, как солдаты преодолели окопы и опрокинули турок.
И офицеры-однополчане, и врачи, и сам граф Мусин-Пушкин, удивляясь, что раненый еще жив, были уверены, что Михаил Илларионович Кутузов не дотянет и до утра. Доктор запретил переносить подполковника: малейшее сотрясение могло непоправимо повредить мозг. Кутузову лишь перебинтовали голову и оставили там, где его настигла пуля…
Он лежал на овечьих шкурах, устремив вверх немигающий взгляд. Он видел и не видел. Толчками, с неистовой, сатанинской болью, возвращалось сознание. И тогда он замечал, как из-за быстрых туч переливами бежал свет луны. И снова и снова кто-то натягивал ему на голову тесный черный мешок и он падал в бездну, на дне которой скалил зубы турок, разрядивший свою фузею[19] прямо ему в голову. Турок подымался в месиве тел, и Кутузов узнавал тех, кто, сражаясь вместе с ним при Рябой Могиле, на реке Ларге, при Попешти, пал от пули, сабельного удара, пики, ядра или скончался от ран в Молдавии и Валахии. Тихими просьбами, жалобным воем звали они его к себе – с протянутыми руками, призывными стонами, нежными заверениями отдохнуть, заснуть вместе с ними.
И, чувствуя, как вытекает из него жизнь, как смертной истомой напитывается немощное и неподатливое тело, Михаил Илларионович силился оторвать свинцовую голову от ложа, зная, что иначе – конец.
И вновь огненные когти рвали в клочья мозг, и от боли не хотелось жить, и на сумрачном западе чернели пирамидальные тополя, и слышался равнодушный плеск моря. Но Кутузов не давал натянуть на себя черный мешок, он не желал встречи с теми, кто там, внизу, на дне, ждет его, хочет увести с собой.
– Рано, рано! – бормотал он, споря с ними и возражая им. – Отец! – звал он. – Отец! Да помоги же мне! Приди…
Был ли это Ларион Матвеевич, или названый отец – Иван Лонгинович, или даже отец иной – всеобщий, родивший все сущее на земле, сам Кутузов не знал. Не знал и того, сколько времени пробежало с того рокового мига, когда из-под тюрбана грянул выстрел…
Все еще стояла ночь, но уже размело тучи. В небе выткался золотой узор – вон дрожит, как раздавленный бриллиант, в созвездии Большого Пса Сириус, вон Ковш, а вон Полярная звезда указывает прямо на Петербург…
Так что же такое наша жизнь? В чем ее смысл? В тех наслаждениях, которым так легкомысленно предавался он, в лукавой женской любви, в веселости и удовольствиях? В бесшабашной, в азарте и безоглядности отваге и в неосторожности поступков – с колкой шуткой, издевкой, бретерством? Или смысл в тех страданиях, которые теперь, если он выживет, будут сопровождать его до гробовой доски? И где мера, предел терпению человека? Вот она, судьба! Не клянись больше всуе. Ни животом своим, ни головою не клянись, ибо, как сказано в мудрой книге, не можешь ни одного волоса сделать белым или черным…
Каждому свое. Подполковник Анжели падал в обморок при одном виде крови. А он с двумя ротами легких войск, посланный Анжели на помощь, стоял несколько часов под непрерывной пальбой на реке Ларге, и даже тогда, когда рядом черепком чиненого ядра солдату снесло голову, Михаил Илларионович силою печальных обстоятельств и несправедливости был переведен в спокойный Крым. Анжели сам напросился уехать с главного театра военных действий туда, где не свистят пули. А Кутузов искал любой возможности выказать свое мужество – у села Цецоры, на Ларге и при Кагуле, под стенами Измаила. И наконец, при штурме лагеря у Алуштинской пристани…
– Месье, месье, взгляните! – посыпалась быстрая французская речь, послышался знакомый и даже как будто бы недовольный голос. – Да он еще жив! Невероятно!..
«Анжели – легок на помине…»
И в наступившем раннем крымском утре Кутузову померещилась на месте чернявой головы вздорного вертлявого французика, принципиально не желавшего выучиться русскому языку и знавшего одно лишь слово – «водка», голова другая, на тучном теле. Полное курносое лицо с надменно выпяченной пухлой нижней губой: всесильный главнокомандующий Молдавской армией граф Петр Александрович Румянцев[20].
2
Румянцев хохотал.
От сотрясающего все его большое, полное тело смеха сполз набок завитой парик и выступили крупные, как градины, слезы. Любимец графа капитан Замятин, державшийся с той развязностью, какая свойственна штабным офицерам, находящимся все время на виду у главного начальника, с беспокойством глядел на своего благодетеля: не будет ли ему вместо ожидаемой милости за проявленную заботу отставка с одновременным утверждением нового фаворита?..
– Нет, ей-ей, не могу! Уморил, батюшка, уморил! – постанывал Румянцев, утираясь огромным, словно простыня, платком. – А ну-ка, покажи еще. Как я хожу, как разговариваю, как морщусь. Валяй, валяй…
Подполковник Кутузов невозмутимо выходил на середину просторной горницы и, слегка надув худые щеки, начинал медленно и важно шествовать к креслу графа. Затем, остановившись, делал вид – «Пуф! Пуф!» – будто вынимает изо рта трубку. (Румянцев был великий охотник курить из глиняных трубок и сейчас сжимал пипку в пухлом кулаке.) И вот уже Михаил Илларионович начинал отдавать повеления, преувеличенно акая на московский манер и с нерусской четкостью выделяя каждый слог.
«Да что же это деется? – в смятении рассуждал Замятин. – Я доложил его сиятельству, что подполковник Кутузов в компании офицеров дерзко передразнивал его, а граф аплодирует теперь насмешнику! Хотя, может быть, чему удивляться? Ведь назвал же я его сиятельство принародно плутом!..»
Замятин побился крупно об заклад, что сделает это, и своего добился. Как-то за обеденным столом сказал, обращаясь к Румянцеву: «Давно тревожит меня мысль, ваше сиятельство, что в человеческом роду две противоположные крайности». «Какие же?» – поинтересовался граф. «Или дурак, или плут», – последовал заготовленный ответ. Главнокомандующий рассмеялся: «К какому же классу людей, мой батюшка, меня причисляешь?» «Конечно, ко второму!» – выпалил проказник. Румянцев оценил бойкость и остроту языка своего адъютанта, и тем дело кончилось…
– Похож! Ох как похож! – сквозь смех приговаривал между тем главнокомандующий.
«Но есть же мера!» – возмущался Замятин, вспоминая непристойные подробности веселой офицерской пирушки после очередной виктории, одержанной над турками.
…Пили арак – водку, выгнанную из изюма. Молодые офицеры громко рассуждали о видах на войну, вспоминали эпизоды последней речи. Но особенно шумел подполковник Анжели, перебивавший всех и каждого, хоть сам и не участвовал в деле. Он трещал по-французски:
– А я, господа, готов служить и Богу, и дьяволу. Кто больше заплатит. Я продаю, господа, не только свою шпагу, но и все то, что составляет мою живую требуху. Берите же! Кто даст больше? Что? Загробная жизнь? Душа? Грехи? Бога нет, господа, это доказал уже Вольтер…
– Хватит болтать! – крикнул ему премьер-майор, гигант с красным, заросшим шерстью лицом. – Замолчи, петрушка! Только занудил! Пусть Кутузов покажет свое искусство! Право, он любого актера на театре за пояс заткнет!..
Михаил Илларионович не заставил долго просить себя. Вспомнился принц Голштейн-Бек, генерал-губернатор ревельский, часто изъяснявшийся на смеси немецкого и русского языков, старец, у которого губа нижняя мокра и отвисла, даже руками ее подбирал. Кутузов, притворно покашливая, вышел из-за стола, выпустил губу и важно, церемонно промаршировал по комнате, вытягивая по-журавлиному, на прусский манер, ноги. Потом, подбирая губу рукой, заговорил:
– Где есть майн адъютант Голениш-шев? Вас? Што? Не понимайт! Повторяйт – видерхолен! Ах, это ты есть майн адъютант? Гиб мир кусош-шек этого, как это? Забывайт чего. Принеси мне кусош-шек того, што я забывайт…
Под смех офицеров он изобразил затем вельмож и братьев графов Паниных, но особенно удачно – покойного государя Петра Федоровича.
– Браво, Михаил! Браво! «Лебедя»! «Лебедя» ему!.. – гремело за столом.
Усадив Кутузова, офицеры поднесли ему «лебедя» – в огромной посудине слили водку, пунш и виноградное вино. Под хлопки в ладоши он запрокинул лицо и медленно влил в себя пойло, сразу ощутив вертеж в голове. Кто-то (уж не Замятин ли?) предложил:
– Михайла Ларионович! А нашего главнокомандующего сможешь показать?
– Его сиятельство? – с хмельной улыбкой переспросил подполковник. – Нет ничего легче…
Он поднялся с лавки и, тщательно выделяя каждый слог, отчеканил:
– Е-го си-я-тель-ства в сва-ем га-ре-ме… – Кутузов сановито оглядел притихших офицеров. – А па-дай-те-ка мне в на-ту-раль-нам ви-де тур-чан-ку, что вчерась ат-би-ли у ви-зи-ря…
Молва о том, что славный полководец был примером непостоянства, ходила и в свете, и в армии. Супруга его, Екатерина Михайловна, статс-дама ее величества, свято хранившая верность мужу, присылала из Петербурга множество подарков. И не только ему и его камердинерам и приближенным, но подарила как-то несколько кусков шелка на платье его очередной любезной. Кутузов слышал, что добрый сердцем граф Петр Александрович был тронут до слез и сказал адъютантам: «Она человек придворный, а я солдат. Ну, право, батюшки, если бы знать ее любовника, нынче же отправил ему с курьером самые дорогие подарки!..»
– О-хо-хо! А-ха-ха!.. – плакал от смеха Румянцев, словно бы продолжалась веселая пьяная вечеринка и сам главнокомандующий был ее участником.
Внезапно граф Петр Александрович покосился на кусавшего губы Замятина:
– Говорят, батюшка, и насчет баб моих проходился?
Кутузов молчал, шире раскрыл свои большие темные глаза и выразительно поглядел в сторону адъютанта, только теперь догадавшись: «Ах ты, шпынь, доносчик!..»
Тогда Румянцев просох лицом, хватил трубкой о край стола, так что брызнули осколки, и заорал, наливаясь кровью:
– Меня? Передразнивать? Перед а-фи-це-ра-ми? За пуншем? У-нич-то-жу!..
В славном полководце еще жили болезненные воспоминания о пережитом в молодости из-за прекрасного пола. Чего он только не выкидывал! На двадцатом году, в чине полковника, в чем мать родила обучал верхом на коне батальон перед домом одного ревнивого мужа, а другому заплатил двойной штраф и в тот же день заметил ему, что тот не может жаловаться, ибо получил уже удовлетворение вперед. Государыня Елизавета Петровна, которой наконец надоели эти проказы, отправила Румянцева к отцу, чтобы тот сам примерно наказал его. Любимец Петра Великого тотчас велел принести пук розог. «Я полковник», – возразил сын. «Знаю и уважаю мундир твой, – ответил отец. – Но ему ничего не сделается. Я буду наказывать не полковника». Молодой граф Петр Александрович повиновался, не дозволив, однако, конюхам руками прикасаться к его мундиру. Когда его порядочно припопонили, закричал: «Держите! Держите! Утекаю!..»
Теперь Румянцев не мог остановиться в гневе.
– Из армии вон выкину! Раз-жа-лу-ю! – ревел он. Кутузов был переведен в Крым к генерал-аншефу князю Долгорукову. От участия в серьезных кампаниях честолюбивому офицеру пришлось отказаться…
3
– Месье! Месье! Он все еще жив! – повторил Анжели.
Лекарь повернулся к говорящему и сухо возразил:
– Наука утверждает, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!
Затем он наклонился над раненым, заглянул ему в лицо, медленно поднялся и развел руками:
– Феноменально!
– Но кому нужна жизнь развалины? Кому полезен рамоли – слабоумный? – продолжал трещать Анжели. – Какой в этом смысл?
И тогда Михаил Илларионович приподнял голову и тихо, но внятно произнес:
– Смысл… жизни… в терпении…
4
Весть о чуде, которое равно воскрешению, достигла Петербурга. Екатерина II помнила Кутузова. Она сама завернула ему в коробочку знаки ордена Святого Георгия 4-го класса.
Осенью 1774 года Михаил Илларионович вернулся в столицу. Отец, инженер-генерал, всю войну находившийся в Молдавской армии, приехал в Петербург несколько раньше. В долгих беседах с сыном Илларион Матвеевич наставлял его, убеждая навсегда избавиться от слабостей ветреной молодости – излишней доверчивости и откровенности, злоязычной насмешливости. Почти каждый день Кутузов навещал своего воспитателя и второго отца – Ивана Лонгиновича.
К той поре И. Л. Голенищев-Кутузов, уже капитан 1-го ранга и директор Морского кадетского корпуса, был назначен генерал-казначеем флота. Он женился на Авдотье Ильиничне Бибиковой, сестре Васеньки и знаменитого вельможи генерал-аншефа Александра Ильича. Прекрасная хозяйка, она самолично солила грузди, квасила капусту, варила всевозможные варенья, парила, жарила, пекла, – и дом их был полной чашей. Но не только усладительные беседы с хозяином и обильный русский стол привлекали Михаила Илларионовича. Главным, хотя и тайным, магнитом была надежда встретить двадцатилетнюю Катю Бибикову, сестру Авдотьи Ильиничны по отцу.
Веселая, находчивая и в то же время застенчивая брюнетка с большими черными глазами, Катя все больше нравилась подполковнику. Не то чтобы он потерял голову, нет, ведь уже далеко не юноша. Но трезво оценивал: хороша, сметлива, даже умна, начитанна, набожна, скромна. И если бы не тяжкое ранение, которое почасту, особенно ночами, давало о себе знать мучительными приступами, Михаил Илларионович, верно, употребил бы все усилия, чтобы последовать примеру названого отца.
Однако пока не пришло полного исцеления, нельзя и думать о браке. Кому в радость муж, который днем, на людях, неистощимо остроумен, владеет редкостной способностью пьянить собой других – своими занимательными рассказами и бывальщинами, а оказавшись в спальне, один, не находит себе места от головных болей и, словно лунатик, до рассвета бродит по дому? К тому же семья Бибиковых все еще носила траур: 9 апреля 1774 года внезапно скончался Александр Ильич Бибиков. Безутешный отец, инженер-генерал-поручик Илья Александрович, переживший двух жен – мать Авдотьи Ильиничны, урожденную Писареву, и Катину мать, урожденную Шишкову, – дал обет отложить на год все празднества и увеселения…
Кутузова пожелала видеть императрица. Она милостиво беседовала с ним о военных и государственных делах и, приметив его слабость, посоветовала ехать за границу – как для поправления и совершенного восстановления здоровья, так и для того, чтобы поглядеть мир. Казначею для этого велено было выдать тысячу червонных. Вояж предстоял интересный и долгий: Германия, Англия, Голландия, Италия, Австрия…
Отправляя героя в чужие края, Екатерина говорила:
– Надобно беречь Кутузова. Он будет у меня великим генералом…
В Пруссии Михаил Илларионович на короткое время присоединился к свите князя Репнина[21], своего бывшего начальника в Польше и Молдавии.
5
Сан-Суси в Потсдаме, на виноградной горке, – второй Версаль, летнее прибежище государя-философа, друга Вольтера, писателя – автора трудов «Анти-Макиавелли» и «История Бранденбурга», поклонника живописи, ваяния, страстного музыканта. Сан-Суси означает «без забот», но рядом – военный лагерь, где не прекращаются плац-парады, где всякая сволочь, силой, обманом или деньгами загнанная в казарму, должна под палкой капрала преобразиться в идеальное, вымуштрованное до степени автомата войско, где вынашиваются новые агрессии для приращения к королевству завоеванных земель.
Сан-Суси – доброе сердце Пруссии, откуда «Отец народа» – «старый Фриц», в своей неизменной треуголке и грубом потертом солдатском плаще, обходит, подражая отцу, благодарных подданных, спорит с упрямым мельником, ветряк которого своим скрежетом и шумом мешает королю размышлять, экзаменует в сельской школе вместе с пастором учеников и запросто пьет с бауэрами в трактире скромную «гальбу» – пол-литровую кружку пива. Сан-Суси – полигон Европы, куда, чтобы увидеть великого полководца, со всех ее концов съезжаются иностранные офицеры, изумленные его действиями в трех кампаниях – стремительностью передвижений войск, внезапностью предупреждающих ударов, сверхъестественной дисциплиной, царящей в двухсоттысячной армии…
– Все мы ученики этого славного короля-солдата! Сейчас, друзья, вы получите счастье увидеть его и, возможно, поговорить с ним!..
Генерал-аншеф Репнин, фанатически преданный Фридриху II и его идеям, не уставал воспевать военный гений прусского монарха. Его очень смуглое лицо с густыми красивыми бровями бледнело от волнения, едва князь Николай Васильевич вспоминал уже давний 1762 год, когда в качестве полномочного министра российского двора в Берлине он сблизился с Фридрихом и мог наблюдать его отличные воинские распоряжения в сражениях при Рейхенбахе и Швейднице.
Кутузов почтительно внимал горячим тирадам сорокалетнего князя. С группой русских офицеров они стояли в мраморном овальном зале с видом на дивный парк, уступами сбегающий к фонтану. Здесь все напоминало о контрастах, которыми были отмечены личность и вкусы «старого Фрица»: против мраморного Аполлона надменно вскинул мальчишеское лицо бронзовый Карл XII; на нагое изваяние Венеры непроницаемо взирал бронзовый Ришелье.
«Знаменитый французский кардинал и министр, вероятно, олицетворяет для Фридриха II любимую мысль об абсолютной монархии, – рассуждал про себя Михаил Илларионович. – Ну, а шведский король, безусловно, близок прусскому тем, что так же, как и он, любил поставить на карту все. Только его карта под Полтавой оказалась битой…»
По знаку шталмейстера прусские вельможи, генералы вперемежку с философами, гости из России через приемную с камином из белого итальянского мрамора проследовали в концертную комнату. Небольшое, рассчитанное на полтора десятка слушателей помещение казалось просторным из-за широких венецианских зеркал, в которых отражалась зелень и вода парка – природа словно вошла сюда.
Часы в деревянном корпусе прозвенели нежной мелодией. Четверо музыкантов заняли места. За пюпитром с черепаховой и перламутровой отделкой встал согнутый от ревматизма старик с флейтой. Начался концерт.
Квартет был слажен, сыгран давно, надежно. Каждый слышал другого так, словно одно существо пальцами, смычком, губами производило общую гармонию звуков. Флейта короля Пруссии нигде не нарушала этого согласия. Здесь не было повелителя народа, а был лишь такой же старательный исполнитель, как и виолончелист, пианист и скрипач.
– Музыка довольно изрядна… Только я не могу определить, кто автор… – шепнул Михаил Илларионович князю.
– Это сочинение, – не без гордости отвечал Репнин, – принадлежит перу его величества!..
Окна в парк были растворены, и майские ароматы жасмина, роз, сирени как бы продолжали ту же возвышенную, поэтичную тему. Кутузов, который после ранения стал слышать еще острее, чутким ухом уловил доносившиеся откуда-то издали слабые крики о пощаде и капральскую брань: «Ферфлюхте шайзе!»[22] Очевидно, в казармах под виноградной горкой истязали провинившихся солдат…
После концерта Репнин представил Фридриху II подполковника Голенищева-Кутузова.
– Как? Вы и есть тот знаменитый русский, который выжил после смертельной раны в голову? Юберра-шенд! Невероятно!..
Острый нос и глубоко запавшие глаза с их пронизывающим взглядом, сильная воля, несгибаемый характер, отталкивающая внешность и явные знаки уже подкрадывающейся старческой немощи – скручивающего суставы ревматизма, – таким запомнился Михаилу Илларионовичу король Пруссии.
– Мой отец, – между тем рассказывал Репнину Фридрих, – как известно, коллекционировал великанов-солдат и изгонял из королевства ученых и артизанов. Он распродавал вашему императору Петру произведения искусства, собранные дедом. Я же поступаю наоборот. Я распустил этот нелепый батальон двухметровых верзил и приобрел во Франции драгоценные полотна и скульптуры. Они мне не менее дороги, чем дружба с философами. Взгляните же на них. Вот прекрасный Буше…
Вокруг короля Пруссии прыгало несколько такс, с лаем хватая его за полы и обшлага мундира. Фридрих успевал погладить каждую из своих любимиц, к которым прислуге было строго наказано обращаться только на «вы»…
– Как успеваете вы, ваше величество, посреди стольких ратных дел уделять еще непрестанно внимание прекрасному! – восхитился князь Николай Васильевич.
– В моем королевстве гром пушек не заглушает пения муз, – с видимым удовольствием подтвердил Фридрих.
– Покровитель муз и великий полководец! – говорил Репнин. – А ведь в ваших баталиях тоже есть скрытая красота – красота правильности воинского искусства. Да вот хотя бы взять сражение, где так блистательно отличилась кавалерия генерала Зейдлица… Как оно…
– Кунерсдорф? – с самым невинным видом вставил Кутузов.
Репнин улыбнулся наивной бестактности молодого офицера: под Кунерсдорфом прусская машина вдребезги разбилась о русскую стойкость. Зато Фридрих впился обжигающим взглядом в Михаила Илларионовича и прочел в его реплике нечто иное, вызвавшее досаду и боль. Не желая бередить эту застарелую рану, он почел за лучшее перевести разговор на другое. Прусский король хорошо знал о масонских связях Репнина и принялся расхваливать достоинства братства вольных каменщиков.
– Но позвольте, государь! – удивился князь Николай Васильевич. – Как же понимать тогда известное всему миру ваше августейшее внимание к дерзкому вольнодумцу Вольтеру? «Братья» отвергают Вольтера и его безбожное учение, как и Вольтер жестоко высмеивает их…
– Гений в силах сочетать несочетаемое, – снисходительно улыбнулся Фридрих. – Любовь к моему фернейскому другу не исключает глубокого почитания мудрости масонской…
Король поднял худые старческие руки и большим пальцем правой руки надавил на ладонь левой. Михаил Илларионович не знал, что таким магическим жестом Фридрих II сообщил Репнину о своей принадлежности к ложе…
Разговор о масонстве неожиданно для Кутузова был продолжен во время их вечерней прогулки с князем Николаем Васильевичем в аллеях дворцового парка.
– Михаил Илларионович! – по своему обыкновению слегка гнусавя, говорил Репнин. – Вы чудесным провидением спасены от смерти. Это не просто счастье. Это перст судьбы!..
У сорокалетнего генерал-аншефа главное – глаза: они сверкают то улыбкой, то гневом под темными, проведенными красивой аркой бровями, резко выделяясь на очень смуглом лице. Князь ростом мал, суховат, изящен. В разговоре остроумен, порой желчен, а то и гневлив. Но в близком кругу обходителен и добр до крайности. Он удивлял Кутузова начитанностью, редкой памятью, способностью к языкам и почти юношеской пылкостью сердца.
– Я чувствую это, – невольно поддаваясь настроению собеседника, отвечал Михаил Илларионович. – Какая-то огненная черта подведена под частью жизни моей. Много думал я в последнее время о свободе человека…
– В чем же вы видите ответ? Неужто в сочинениях Вольтера и Гельвеция? – с жаром перебил его князь Николай Васильевич.
– Нет! – просто сказал Кутузов. – Я прошел в юности через искус вольтерьянства. Но вижу теперь, что оно вместо освобождения принесло мне безверие. А значит, безнадежность. Однажды, читая Вольтера, я ощутил, как рушится и уничтожается во мне само вещество нравственности. Он низвергает власть земных и небесных богов. Но не замечает, что вместе с ними низвергает и высшее существо в человеческой душе. Где же оно?..
– Во всеобщей любви, – тихо произнес Репнин. – В мире разлита любовь. Она соединяет нас в служении высшим идеалам. Эта невидимая материя, или, лучше сказать, дух, открывает нам свет конечной истины. К ней указывает нам путь братство вольных каменщиков!
Против воли в эту минуту Михаилу Илларионовичу вспомнилась досужая молва, ходившая в Петербурге о Репнине: сей умник предан масонству до глупости…
– Простите, князь, – уклончиво возразил он. – Ведь масонство, насколько известно мне, непосвященному, проповедует идеи братства и равенства всех перед Господним престолом…
– Да, это так! – пылко подтвердил Репнин.
– И ведь не только за гробом, но и здесь, на земле, – подчеркнул Кутузов.
– Верно. Ну и что же?
– Не понимаю, как вы, потомок святого Владимира, разделяете такие взгляды…
Михаил Илларионович не досказал, а лишь подумал о высокомерном аристократизме князя Николая Васильевича. Находясь в Польше, в ранге полномочного министра, Репнин от чистого сердца недоумевал, почему русское правительство должно заботиться об иноверцах в этом краю, раз среди местных православных нет дворян…
Смутно белели в полумраке, на фоне черно-зеленых кущ, античные богини и герои. Мраморные тела их теперь, в таинстве нисходящей ночи, казались живыми. Словно откуда-то издалека доносился глуховатый голос князя Николая Васильевича:
– Я нашел в сем ордене источник сил для борьбы со страстями и ключ от тайны бытия. А моя родословная? Да знаете ли вы, Михайла Ларионович, что мать моя даже не дворянка, а дочь бедного пастора!..
И Репнин стал рассказывать о том, как его отец в молодости находился в Ливонии и жил на квартире у бедного сельского пастора Поля, как он подружился с ним и стал ухаживать за его дочерью, как их взаимное расположение не укрылось от верного дядьки, который и уведомил обо всем генерал-фельдмаршала князя Аникиту Ивановича[23].
– Дед получил письмо и немедля собрался в дорогу, – тихо говорил Репнин. – Немало удивил он моего батюшку приездом. Отец поведал о службе, о знакомых, упомянул и пастора. «А что ж ты молчишь об его дочери? – спросил дед. – Разве не правда, что ты ей занят?» Батюшка был сконфужен и сознался, что она ему действительно нравится. «Ты думаешь на ней жениться?» – спросил опять дед. Он уверял его, что не забывал никогда, до какой степени подобная женитьба для него невозможна. «Как? – крикнул дед. – Ты не хочешь жениться и пользуешься гостеприимством и доверием отца девушки, чтобы вскружить ей голову и запятнать ее честное имя? Нет! Этому не бывать! Я требую, чтобы ты назавтра же сделал ей предложение…»
– Князь Аникита Иванович был истинный воспитанник прямодушного Петра Великого! – с искренним восхищением отозвался Кутузов. – Какой это прекрасный урок на все времена!
– И урок для меня тоже, – тихо молвил Репнин. – Я хочу попросить вас: прочитайте сию книгу. – Он вынул из кармана камзола маленький томик. – Возможно, она откроет вам на многое глаза…
6
«Итак, достижение премудрости, искусства и добродетели есть первая цель, к которой истинный свободный каменщик стремиться должен. Но какую премудрость, думаете вы, должны мы стараться приобретать? Ту ли, которую обыкновенно находим в чадах мира, которая учит стремиться к владычеству, богатству, пред другими величаться, ненавидеть добродетель, любить те же пороки, искать пышности и почестей, не хотеть сносить ради Господа никакого поношения и гонения, следовательно, служить миру, плоти и диаволу, то есть Мамоне и Велиару, более, нежели Богу, и предпочитать их Христу?
Нет! это не та Премудрость, к которой мы стремимся, которую ищем, которой стараемся постигнуть и которою хвалимся. Наша Премудрость есть та, которая соделывает нас чадами Божиими и обнадеживает нас в получении небесного наследия. Одним словом: это та, которую просил у Бога премудрейший из Царей и с которою вкупе получил он все прочие блаженства…»
Кутузов отложил немецкое сочинение Карла Губерта Лобрейха фон Плуменека «Влияние истинного свободного каменщичества во всеобщее благо государств, обнаруженное и доказанное из истинной цели первоначального его установления». Сильно болели глаза. Он смежил веки, осмысляя прочитанное, глядя в самого себя внутренним зрением. В туманной мистике и загадочных символах прозревалось нечто очень важное, хотя и ускользающее, как бы нарочито размытое. Отблеск истины?..
В Баварии, в древнем городке Регенсбурге, Кутузов вступил в ложу вольных каменщиков «К трем ключам».
7
Когда же произошло преображение и остроумный, изящный, быстронравный молодой офицер, храбрец, забияка и насмешник, перевоплотился в полнеющего, себе на уме молчуна, хорошо усвоившего, помимо всего прочего, что большинство людей ждет услышать вовсе не правды, а только того, что каждый из них ждет? Когда этот задира с острым языком, не пощадивший самого главнокомандующего графа Румянцева, обрел по-крыловски мудрую, хочется сказать, чисто народную хитрость? Иными словами, когда же он начал приобретать черты привычного нам Кутузова?
Простодушные биографы, писавшие житие фельдмаршала сразу после его кончины, относят перелом к результатам назидательного разговора с сыном отца Иллариона Матвеевича: «Дав слово отцу переменить свое поведение, он в короткий срок сделался чрезвычайно скромен: никого не пересуждал и не вмешивался в чужие дела. Случалось, короткие его знакомые, желая узнать образ его мыслей о ком-нибудь, заводили разговор, стараясь выведать его мнение. Кутузов тотчас переставал об этом говорить и начинал совсем другую речь, а иногда и прямо отзывался так: «Какое нам дело до других? Нет лучше того, как знать самого себя…»
Но сомнительно, чтобы это произошло именно так – по канонам сентиментального романа, завершающегося трогательным прозрением. Нет, скорее всего, резкая перемена в характере и поведении молодого офицера совпала со страшным потрясением – сквозным ранением в голову.
Тут, между прочим, существуют аналоги и чисто медицинские, физиологические: документы сохранили, к примеру, подробности «странного случая», приключившегося в середине XIX века с неким американским шахтером-взрывником, которому пробил голову железный стержень. Шахтер остался жив, но внезапно переменился его характер: подозрительный скупец вдруг сделался общительным и щедрым, что называется, широкой натурой. Он стал безалаберным, бестактным, своенравным. Так, по крайней мере, утверждает история медицины.
Однако помимо этих, быть может, несколько вульгарно-материалистических обоснований есть, конечно, более важные. Духовные, нравственные.
В долгом колебании между жизнью и смертью, заглянув глубоко в бездну и почитаясь уже совершенно безнадежным, молодой Кутузов точно вернулся с того света. И уж верно, прошел через немыслимые страдания и недоступные нам размышления – наедине с собой, со своими мучениями. Можно только догадываться, какие бури мыслей проносились через него, какие небеса над ним разверзались! И интерес молодого Кутузова к масонству не объясняется ли попыткой мысленно еще раз спуститься туда, откуда он только что телесно выкарабкался?..
С тех пор и до конца дней его не оставляли страшные головные боли, напоминая о бренности всего живого и о пережитых муках. Но в этом больном, израненном человеке кипели страсти, било жизнелюбие, гедонизм, желание черпать полную чашу бытия. Он смело шел наперекор судьбе, открывая лицо новым испытаниям.
8
Профессор был тощ, уродлив, желчен. Тощ, потому что общался только с книгами и разъятыми трупами. Уродлив, ибо это надежно охраняло его от житейских соблазнов. Желчен – от излишества знаний.
Знаменитый хирург и патологоанатом, он защищал в Антверпенском университете диссертацию, посвященную ранениям, которые случаются на войне. В ученом труде, между прочим, доказывалось, что рана, которую будто бы, как говорили, получил русский офицер Кутузов, есть не что иное, как сказка. Потому что с такой раной трудно остаться в живых и уж совершенно невозможно сохранить зрение.
Михаил Илларионович отправился слушать профессора.
Позади были Сан-Суси, Пруссия, встречи с Фридрихом II, германские княжества, Австрия, Вена, где Кутузов познакомился со знаменитыми полководцами Лаудоном и Ласси. Давно уже расстался он и с Репниным, который был назначен чрезвычайным и полномочным послом в Оттоманскую Порту и отбыл в Константинополь. И уже масонские идеи, еще недавно казавшиеся столь привлекательными, вызывали теперь сомнения. Он начал разочаровываться в них, как ранее разочаровался в мнимой смелости вольтерьянства, за которой не нашел ничего, кроме убогого безверия.
«Правду сказать, требуя безусловного равенства, масоны восстают против основ самой Природы, – размышлял он, сидя в средневековой аудитории, посреди рогатых париков и длинных мантий. – Именно Природа создала людей неравными. Что делать, если один рождается пригож, а другой дурен собой; тот здоров, а этот болезнен и хил; кто-то удачлив, а кто-то невезуч. Уж не говоря о том, что иной с колыбели богат и знатен, а иной беден и безроден. Неравенство воистину правит миром. Ум и глупость, талант и бездарность, красота и уродство, сила и слабость, благородство и коварство – разве не столкновение их только и приводит в движение все сущее! Кто же, какой умник возьмется уравнять все и вся? Ведь сама Природа возразит на это и найдет тысячу способов, чтобы опровергнуть неосторожного смельчака!..»
Сухой, как шелестящий пергамент, голос профессора, говорившего по-немецки, назвал его имя. Кутузов очнулся. Ученый грозно увещевал лгунов, распространяющих небылицы про русского офицера.
Едва стихли рукоплескания, Михаил Илларионович подошел к просвещенному науками мужу и сказал ему перед всей аудиторией:
– Господин профессор! Вот я здесь! И я вас вижу!..
9
Когда в далекой Бугульме, посреди решительных действий против скопищ Пугачева, скончался генерал-аншеф Александр Ильич Бибиков, Екатерина II осыпала семейство покойного своими щедротами. Вдова Анастасия Семеновна получила две с половиной тысячи душ в Белоруссии; старший сын Павел Александрович был произведен в полковники и назначен к государыне флигель-адъютантом; другой – десятилетний Александр – произведен офицером в гвардию; дочь Аграфена стала фрейлиной.
В своем горе Анастасия Семеновна была столь безутешна, что не могла расстаться с дочерью и, поблагодарив императрицу за оказанные милости, испросила у нее разрешения оставить Груню при себе. Это было первым нарушением строгого статуса: до тех пор фрейлины непременно должны были жить в Зимнем дворце. Впрочем, Аграфена неукоснительно являлась на положенные дежурства при особе государыни.
Время все лечит. Родные не забывали Анастасию Семеновну в ее несчастье. Частыми гостями были у нее Авдотья Ильинична с Иваном Лонгиновичем, уже вице-адмиралом. Приезжая в Петербург из полевых войск, Анастасию Семеновну навещал младший деверь – боевой офицер полковник Гаврила Ильич. Но особое оживление приносил с собой Васенька, Василий Ильич Бибиков, – франт в раззолоченном кафтане, так и сыпавший забавными историями, эпиграммами, цитатами из модных комедий. Дела его шли блестяще. За участие в перевороте 28 июня он получил 600 душ и звание камер-юнкера. Сама государыня, видя его страсть к театру, поставила Василия Ильича во главе управления русской труппой. И уже гремели овации в обеих столицах в честь написанной им пьесы «Лихоимец».
Постепенно в большом доме Бибиковых вновь стала собираться молодежь, зазвенел смех, зазвучала музыка. Кутузов пользовался любой возможностью, чтобы встретиться там с двадцатитрехлетней Катей, которая дневала и ночевала у невестки и относилась к осиротевшей Груне не как к племяннице, а скорее как к младшей сестренке. Да они и выглядели точно сестры, когда, уединившись в светелке, исповедовались друг дружке, обсуждали свои сердечные дела: у каждой уже был суженый.
Что до Кати, то тут все было ясно и просто: ее любви ничто не препятствовало. Ивану Лонгиновичу и Авдотье Ильиничне не пришлось даже убеждать престарелого Илью Александровича в том, что именно Кутузов ниспослан небесами для его младшенькой.
Главу рода Бибиковых, давно уже не выходившего из дому, навестил, на правах будущего свекра, и Илларион Матвеевич.
Старики были знакомы много лет. Они вместе некогда строили укрепленную Украинскую линию. Оба были вдовы. Оба обласканы Екатериной II: Илья Александрович в начале ее царствования был назначен начальником Тульского оружейного завода с производством в генерал-поручики; Илларион Матвеевич получил в 1765 году орден Святой Анны 1-го класса, а затем, когда завершилось строительство Екатерининского канала, государыня подарила ему богатую золотую табакерку с бриллиантовой осыпью. Правду сказать, боевых заслуг было побольше у Бибикова; он отличился еще в Семилетнюю войну, в битве при Кунерсдорфе, а при осаде Кольберга с успехом командовал всей кавалерией.
Теперь оба находились в отставке; оба были не просто стары, а дряхлы: Илье Александровичу шел семьдесят девятый год, а Иллариону Матвеевичу – восемьдесят третий.
Все шло к скорой свадьбе, и Катя примеряла уже подвенечное платье.
Совсем иные волнения мучили юную Груню Бибикову.
На одном из придворных балов она увидела статного красавца – адъютанта светлейшего князя Потемкина Ивана Рибопьера. Он приглянулся ей; она была им тоже замечена. Офицер стал появляться у Бибиковых, и уже все примечали, что они с Груней неравнодушны друг к другу. Против брака, однако, восстала надменная Анастасия Семеновна, урожденная княжна Козловская.
Не только страх, что дочь отдалится от нее, был тому причиной. Родниться с чужеземцами в то время не любили. А тут еще по городу поползли слухи, будто Рибопьер – это французский парикмахер Пьер Рибо, переменивший порядок имени и фамилии, чтобы скрыть свое плебейское происхождение, и очаровавший смазливой внешностью фрейлину Бибикову, дочь достославного вельможи Александра Ильича…
– Катенька, это гнусный поклеп! – горячо говорила Аграфена своей тетке-подружке.
– Ах, Грунюшка! – весело отвечала невеста Кутузова. – Да ежели кого полюбишь по-настоящему – не поглядишь ни на его происхождение, ни на звание…
– Но он никакой не парикмахер!
– Ей-ей, уж лучше умный и пригожий парикмахер, – засмеялась Катя, – чем какой-нибудь завитой парикмахером кочан капусты на плечах с золотым эполетом! Разве Руссо перестал быть великим только оттого, что он сын часовщика, а в молодости был лакеем?..
Екатерина Бибикова отличалась некоторой сентиментальностью и обожала книгу Руссо «Эмиль, или О воспитании», где воспевались простые, естественные чувства и бичевался свет с его растлевающим влиянием.
– Однако мой избранник хорош и душой, и лицом, и происхождением… – в сердцах, словно отвечая своим обидчикам, рассуждала Аграфена. – Он – швейцарец, из древней эльзасской фамилии. Вместе с князем Юсуповым и графом Апраксиным учился в Тюбингском университете. Сам Вольтер, близкий друг отца его, дал ему рекомендательное письмо к государыне Екатерине Алексеевне. Каково после этого выслушивать злобные наветы наших кумушек!..
– Подожди! Никак, колокольный звон! К чему бы это? – перебила ее тетка.
Девушки прислушались. Да, медленный и тяжкий, над столицей гудел медный перезвон. Груня подбежала к закрытому по-зимнему окну и отворила фортку. Вместе с гулом колоколов ворвался резкий весенний ветер и холодным дождем прошел по лицам. Внизу гулко стукнула дверь. Мягкий баритон, от которого захолонуло Катино сердце, мог принадлежать только Кутузову.
Он и предстал перед девушками, но в каком виде! Вода текла с треугольной шляпы, вымок парик, мундир и плащ.
– В городе наводнение! – радостно глядя на невесту, объявил Михаил Илларионович. – Нева затопила улицы. Повсюду гуляет волна.
– У меня же сегодня дежурство в Зимнем дворце! – всполошилась Аграфена.
– А как вы добрались? – с удивлением спросила Катя Кутузова.
– На лодке. Я ведь воспитывался в доме адмирала…
– Она будет и моим экипажем! – решительно заявила Аграфена. – Я не могу себе позволить пропустить дежурство при ее величестве!
Не помогли никакие увещевания. Груня села в утлую посудину. На носу примостился лакей с фонарем. Два гребца ударили веслами по воде, и лодка скрылась среди мрака и плеска.
Глядя вслед исчезающему пятнышку света, Кутузов сказал:
– Настоящая дочь непреклонного Александра Ильича! Впрочем, во всех вас бибиковская кровь. – Он прямо на крыльце, под сеющим дождем, обнял зардевшуюся невесту. – Моя ненаглядная Катенька! Я приехал сообщить тебе, мой свет, что родители наши назначили свадьбу на двадцать седьмое апреля…
Летом 1777 года Кутузову предстояло отправиться на юг России, под начало уже знаменитого генерал-поручика Александра Васильевича Суворова, командующего войсками в Крыму и на Кубани.
Глава вторая Под крылом Суворова
1
В своем военном лагере, близ Карасу-Базара, Суворов собрал полковых начальников, чтобы обсудить с ними положение в Крыму.
По Кючук-Кайнарджийскому миру Турция обязалась признать независимость Крыма; кроме того, русские получили ключи от полуострова – Еникале, Керчь и Кинбурн. Теперь зависимость Крыма от Порты выражалась лишь в том, что татары должны были принимать из Константинополя судей и чеканить монету с именем султана. Однако крутые меры хана Шагин-Гирея, стремившегося ввести преобразования на европейский лад, вызвали подогретое духовными фанатиками восстание. Оно было подавлено, в Крым вошли русские войска. Тогда и было решено, чтобы ослабить ханство экономически, вывести в Россию христиан – преимущественно армян и греков. Всего из Крыма в Азовскую губернию было переселено 31 098 душ обоего пола.
Это вызвало ярость дотоле верного России Шагин-Гирея.
Ведь в руках христиан находились и промыслы, и садоводство, и земледелие, и рыболовство. Короче, все, что составляло главные статьи его доходов. Вывод в Россию армян и греков подрывал и без того непрочный ханский престиж в глазах подданных и доказывал его бессилие. В татарской верхушке вновь поднялось глухое брожение. Одновременно турки направили к Крыму огромный, в сто семьдесят вымпелов, флот, который оцепил часть полуострова, держась ближе к Кафе, то есть к Феодосии. Неспокойно было и на Кубани, где агитаторы из Оттоманской Порты подговаривали восстать ногайцев и татар, а набеги немирных черкесов не раз застигали русские посты врасплох…
Суворов, легкий, стремительный, в распахнутом солдатском мундире, быстро расхаживал по палатке перед сидящими офицерами. В голубых глазах под высоко поднятыми бровями – озабоченность и строгость. На мундире – лишь один крест Святого Георгия 2-го класса.
– Ключ вредностей, – отрывисто говорил он, – скоропостижность без должных размышлений! Сила – в дружелюбии. А не в угрозах, недопущениях, насилиях. Низко то и вредно!..
Полковник Кутузов только что вернулся из полугодового отпуска, предоставленного ему для женитьбы. Екатерина Ильинична, его ненаглядная Катюня, приехала вместе с ним. Они ожидали ребенка, и Михаил Илларионович волновался, как бы беспокойная обстановка не отразилась на Катюнином здоровье. Однако сама Екатерина Ильинична решительно заявила, что желает разделить все тяготы его походной жизни.
«Да, бибиковская кровь у них у всех одна», – повторял себе Кутузов.
Но если на сердце у Михаила Илларионовича было тревожно, то у его любимого начальника настроение вовсе никуда не годилось. Очень мнительный и самолюбивый, Суворов рвался прочь из Крыма, терзая себя действительными и мнимыми неприятностями.
Правду сказать, неприятностей хватало.
Мучило двоеначалие. Как командир корпусов в Крыму и на Кубани, генерал-поручик подчинялся одновременно и малороссийскому генерал-губернатору, и главнокомандующему войсками на юге России генерал-фельдмаршалу Румянцеву-Задунайскому, и генерал-губернатору Новороссии и президенту Военной коллегии князю Потемкину. Оба вельможи едва терпели друг друга и с удовольствием ставили один другому палки в колеса. Если Потемкин требовал вывода из Крыма христиан, то Румянцев открыто выступал против этой затеи, не видя в ней ровно никакого проку.
Прямодушному Суворову невыносимо было находиться между двух огней. И каких жарких! Граф Петр Александрович из своего имения Вишенки допекал его ордерами, которые нередко во всем противоречили распоряжениям светлейшего князя Григория Александровича. А ведь Потемкин ныне в таком фаворе у государыни, какого не знавал и сам граф Григорий Григорьевич Орлов!..
И тут на тебе – неповиновение Шагин-Гирея, который демонстративно покинул Бахчисарай и грозился отправиться в Петербург, с жалобой на имя государыни. Вот они – когти ханского мщения!
Все ненадежно, сил мало. Даже генералов под рукой нет; все отсиживаются в отпусках. Единственный генерал-майор Викентий Викентьевич Райзер, отправленный командовать корпусом на Кубань, и тот уже успел наделать нелепых оплошностей сверх меры.
И это еще не все. В Полтаве маются в горячке жена Суворова Варвара Ивановна и трехлетняя дочурка Наташенька.
Впрочем, ни Кутузов, ни сидящий рядом с ним командир полтавских пикинеров Андрей Яковлевич Левалидов, ни остальные офицеры даже не подозревали, что на душе у Александра Васильевича скребли кошки. Суворов говорил, как всегда, убежденно, страстно, непререкаемо:
– Между тем хан тайно заводит тринадцать тысяч войска. Зачем ему столь много? Отвечаю. Он теперь раздражен против всех русских!..
– Мы готовы дать отпор, ваше превосходительство! – вставил пятидесятилетний ветеран, начальник Екатеринославского полка пикинеров Деев. – Держим порох сухим…
Деев, не дурак выпить, или, как говорили тогда, протащить, горлан и забияка, был, впрочем, как примечал Кутузов, дельный и храбрый офицер.
Суворов, казалось, ожидал его реплики.
– Вот-вот! Турки спят и видят, дабы мы дали отпор. То есть ввязались в потасовку, – отрезал он. – Что же делать надлежит? Удвоить, нет, утроить осторожность! Тут надобен мудрый советчик. А как я примечаю, – генерал-поручик погрозил Дееву сухоньким пальцем, – иные из полковых начальников ищут советчиков более в стакане пунша, чем в печатной мудрости. Боюсь, что кое-кто грамоту и вовсе позабыл. И посему рекомендую в ней поупражняться. Хотя бы на сей книжице…
Суворов подбежал к походному столу и поднял руки, держа в каждой по небольшому томику.
– Вот, внимайте! «Деяния господина Ионафана Вилда великого», сочинение господина Филдинга… – Он отложил один томик, а в другом нашел закладку: – «Врагу не должно никогда прощать, но и во мщении своем поступать с осторожностью и оное отсрочивать чаще до самого удобнейшего времени с довольным предрассуждением следствий». Лукав великий Ионафан. Лукав, но и мудр!..
Генерал-поручик изложил затем подробную диспозицию на ближайшие дни для каждого из полков, удостоверился, что все понято верно, и, прощаясь, сказал:
– Господина полковника и кавалера Голенищева-Кутузова прошу остаться…
Несколько месяцев совместной службы убедили Суворова, что Михаил Илларионович не просто храбрый и надежный офицер, но еще и искусный дипломат.
– Его светлость Шагин-Гирей в раздражении убежал из престольного своего города. Он ночует то в Эски-Крыму, то в Кафе, то в чистом поле, – без околичностей заговорил генерал-поручик, когда они с Кутузовым остались одни. – Нужно убедить его присутствовать в собственной столице и управлять врученными ему Богом народами!..
– Александр Васильевич! А что же господин резидент? – осведомился полковник.
– Хан после неоднократных отказов принял Константинова. Но, кроме обычных пустых учтивостей, ничего молвить не соизволил…
Суворов не договорил того, что было хорошо известно им обоим. Конечно, резидент при бахчисарайском дворе Андрей Дмитриевич Константинов Шагин-Гирея хорошо знает, вместе с ним жил в Полтаве (где, кстати, крестил дочь Александра Васильевича Наташу). Все обычаи татар, как и их язык, ему ведомы. Он умеет с ними ладить. Да уж больно склонен к корысти – в компании с калужским купцом Прокофием Хохловым тайно участвует в откупах, получает дутые векселя и вообще замечен в замашках к бесстыдному обогащению. Это сильно роняло его в глазах прямодушного Шагин-Гирея.
– В общем, Михайла Ларионович, прояви свое искусство! – совсем дружески напутствовал Суворов полковника. – Сейчас это, право, гораздо важнее выигранной баталии…
2
Кутузов нашел Шагин-Гирея на берегу речки Салгир, по дороге из Бахчисарая в Ак-Мечеть.
Хан вышел из своей походной юрты в окружении бешлеев – постоянной гвардии, которая была организована на европейский образец и одета в зеленые мундиры и кивера. Сам Шагин был высок, строен и не носил бороды. Он стоял спиной к Кутузову у оседланной гнедой лошади.
«Ах, какой конь! – позавидовал невольно Кутузов – Чистокровный араб!»
Михаил Илларионович спрыгнул с лошади и представился, стараясь подражать восточной высокопарности:
– Великому правнуку сотрясателя вселенной Чингисхана, светлейшему принцу и капитану лейб-гвардии Преображенского полка, повелителю Крыма полковник и кавалер Голенищев-Кутузов челом бьет!
Шагин-Гирей даже не обернулся на голос. Он взялся за луку расшитого жемчугом седла и вставил левую ногу в стремя.
«Грубости татарские надо презреть…» – вспомнил Михаил Илларионович совет Суворова.
Баскак в красной шапке посмотрел на русского офицера и прошептал что-то хану. Кутузов расслышал лишь два слова: «кюр-багадур» – «кривой богатырь». Так татары прозвали Михаила Илларионовича, уважая его храбрость, после ранения у Алуштинской пристани.
Уже собравшийся взлететь в седло, Шагин вынул из стремени ногу в мягком сапоге и резко, точно птица, повернул голову. Он встретил Кутузова открытым взглядом узких зорких глаз.
«Да, это настоящий сокол, – подумал Михаил Илларионович. – А ведь «шагин» и означает по-татарски «сокол»…»
Хан сделал несколько шагов навстречу Кутузову и заговорил так горячо и быстро, что толмач в высокой чалме едва успевал переводить:
– Я воле монаршьей не противлюсь. Все сделал, что от меня долг потребовал. Но что теперь? Шайтанга! Неприятели мои утешены моим несчастьем. В укоризну они будут вечно смеяться надо мной. У меня все отнято. Одна надежда – милость государыни…
– Ваша светлость! – вкрадчиво возразил Кутузов. – Мне хорошо ведомо, сколь неприятны вам обычаи рабства…
– Это так, эджегет орус – русский джигит! – твердо ответил Шагин-Гирей. – И, видит Аллах, я старался во всем просвещать моих не всегда благодарных подданных…
Михаил Илларионович невольно подумал о тех временах, когда предки этих татар уводили из Руси в полон – на беспросветные муки – целые селения и города.
– А кем, как не рабами, – еще мягче сказал он, – пребывали доселе христиане в Крыму? И разве не попирались их права и достоинство?..
Хан молчал. Быть может, он думал о том же, что и русский полковник. Шагин смотрел себе под ноги, и только желваки, ходившие на красивом смуглом лице, выдавали его волнение.
– Ваша светлость! – нарушил молчание Кутузов. – Друг ваш и доброжелатель, а мой начальник – генерал-поручик Суворов просит вас во имя мира и спокойствия в Крыму не покидать своих владений.
Шагин-Гирей резко поднял голову и снова посмотрел полковнику прямо в глаза.
– Хорошо! – наконец молвил он. – Вы можете передать Суворову, что я ожидаю его в Бахчисарае.
Хан слегка наклонил голову и пошел к своим бешлеям. Поклон ответный пришлось отдавать удаляющейся спине. «Горд, горд. Как все восточные люди», – сказал себе Михаил Илларионович.
Он ехал в русскую ставку дивной горной дорогой. Дубовый лес подымался темно-зеленой шапкой. Показался армянский монастырь – низкое саманное строение на бугре, брошенное монахами. Михаил Илларионович размышлял о судьбе этой земли, о бесконечной череде сменявших друг друга народов. Сарматы, тавры, скифы, гунны, греки, римляне, генуэзцы, армяне – чья только нога не ступала тут! Страстно любивший историю, Кутузов объездил весь Крым – от древнего Пантикапея до Херсонеса. Татары топтали эту землю, не подозревая, какие сокровища таятся под их бедными жилищами. Заросли и потрескались мраморные бассейны, равнодушный топор обрушивался на безмятежных эллинских богов, и гортанный крик муэдзина раздавался там, где некогда звучал язык Демосфена и Гомера… Горы незаметно переходили в долины, кругом простирались теперь брошенные, дичающие сады и виноградники: лихие наездники и превосходные пастухи, татары, с уходом христиан, не могли освоить их вековые ремесла…
Справа зеленой стеной уходило к горизонту море. Как и эти вечные горы, равнодушное к людям и их истории, оно бугрилось от ветра. Ни чаек, ни дельфинов. Лишь буревестник, или глупыш, носился над водой…
Михаила Илларионовича нетерпеливо ожидал в ставке Суворов. Выслушав доклад полковника, он сказал:
– Помилуй Бог! Рад! Рад! Не ошибся в выборе. И чует мое сердце, мы еще славно послужим вместе…
Предчувствие на сей раз, кажется, обмануло полководца. 10 марта 1779 года Оттоманская Порта признала наконец независимость Крыма. Екатерина II обязалась вывести из ханства русские войска и упразднить Кубанскую укрепленную линию. В следующем, 1780 году Суворов отправился в Астрахань для подготовки военной экспедиции за Каспий.
Кутузов со своим полком вступил под начальство генерал-поручика графа де Бальмена, с которым участвовал в штурме Бендер.
3
– Господа, господа! – горячился молоденький подпоручик Хвостов. – А когда же снова за дело? Как бы не заржаветь! Право, от нетерпения могу захворать или с курка спрыгнуть!..
Выдался день, посреди учений и боевых эпизодов, когда надлежало и отдохнуть: собраться и порассуждать.
Бригадир Голенищев-Кутузов, сидя посреди офицеров Луганского и Екатеринославского полков, только усмехался пылкости своего подчиненного. У подпоручика от волнения проступил вишневый румянец. А может быть, виною всему был пунш, от двух стаканов которого захмелел с непривычки юноша?
– Где же наш достопочтенный Андрей Яковлевич Леванидов? – спросил Кутузов у своего соседа, начальника екатеринославцев полковника Деева. – Отчего он опаздывает?..
Деев был уже, как говорили тогда, под каплей и не без веселости отвечал Михаилу Илларионовичу о приятеле-командире:
– Учтите, что Полтавским полком командует вовсе не Андрей Яковлевич, а его высокоблагородие Марфа Никитична. Я ведь помню Леванидова еще холостым, только произведенным в офицеры. А до своего чина он выслужился из унтер-офицерских детей…
– Очень уважаю таких командиров, – вставил Кутузов. – Они познали соленую солдатскую нужду. Самые надежные воины!..
– И вот, Михайла Ларионович, когда получил он офицерский чин, встретилась ему в Тамбове купеческая дочь. Девка свежая, нежная. Сущий розан! А от казарменного нашего молодца, нечего греха таить, – тут Деев подмигнул Кутузову, – ужас как несло порохом и сталью! Но девица тотчас поняла, с кем ей рок судил жить. Сперва окрутила героя. А потом умно и осторожно обошла в богатырской натуре центр и фланги. Подметила слабую сторону, атаковала да так в дефилеи прижала молодца, что он и не спохватился, как на победоносный штык его повесила чепчик. И теперь все зависит от резолюции Марфы Никитичны…
– Это путь многих, – миролюбиво молвил Кутузов. – Представьте, полковник, и я – правда, лишь вне боя – чту своим командиром Катерину Ильиничну…
Он гордился своей женой, которая с трехлетней Парашенькой сопровождала его во всех испытаниях.
– Ваша Катерина Ильинична само совершенство, – сказал худощавый, похожий лицом на монаха майор, однофамилец Кутузова Алексей Михайлович, самый близкий ему в полку офицер.
«Да, странно видеть майора, – подумалось Михаилу Илларионовичу, – который днем командует эскадроном, рыщет по полям с пикинерами, рассеивает возмутившихся татар и ногайцев, нимало не заботясь о том, что ему могут отсечь башку, а вечерами, у своего полкового начальника, рассуждает о правиле римского стоика Эпиктета: «Глупо прилепляться к вещам, от нас не зависящим…» Однако ведь прилепился – искренне, душевно – к семье Голенищевых-Кутузовых!»
– А вот и Андрей свет Яковлевич! Легок на помине! – воскликнул Деев.
Огромный и уже седой полковник с серебряным одинцом[24] в ухе подходил к ним, надувая щеки, словно играл сам себе встречный марш. Он втиснул большое свое тело между двумя Кутузовыми и, широко, по-детски улыбаясь, сказал:
– Хочу загадать желание. Чтобы вам, Михайла Ларионович, была самая приятная весточка. – Леванидов сунул ручищу за отворот белого легкоконного мундира и вынул узкий конверт. – Я получил из Петербурга почту. С надежной оказией, – подчеркнул он. – И там письмо на ваше имя…
Кутузов тут же, за столом, пробежал послание дорогого Ивана Лонгиновича. Бог мой! Несчастье стряслось, и с кем – с племяшом Екатерины Ильиничны! Флигель-адъютантом государыни и любимцем наследника Павлом Бибиковым! Великий князь Павел Петрович путешествовал в это время за границей под именем графа Северного. Как писал Иван Лонгинович, великий князь поручил Бибикову сообщать ему обо всем важном. И вот рижский губернатор Броун перехватил тайную депешу Павла Бибикова, резко порицающую действия Потемкина. Она была спрятана в подошве сапога у бибиковского адъютанта д'Огерти. Павел Александрович брошен в Петропавловскую крепость…
«Вот она, столичная жизнь! – сокрушенно размышлял Кутузов. – Быть близко к трону и остаться необожженным! Возможно ль сие? Да и нужно ли теперь расстраивать Катеньку? Ведь она на сносях. Неровен час, выкинет! Нет, уж лучше не буду ничего говорить…»
– Ну как, Михайла Ларионович? Вижу, вижу по лицу, что вы довольны письмом, – все еще улыбаясь, молвил Леванидов.
– Угадали, Андрей Яковлевич, – ответил Кутузов, пряча конверт. – Спасибо! Очень удружили!
Обрадованный, что оказал услугу всеми любимому бригадиру, Леванидов принялся вспоминать недавние эпизоды русско-турецкой кампании. Рассказы трогали полковых командиров. Судьба сводила Кутузова с Леванидовым и Деевым не раз – под знаменами генералов Панина, Эссена, Бауэра, Текелли, Вейсмана. Андрей Яковлевич с жаром говорил о Вейсмане, о его походе за Дунай и взятии крепости Исакча, о сражениях у Карасу и Гуробала.
– Его называли Ахиллом русской армии… – вспомнил Михаил Илларионович.
– А вы знаете, господа, что в гибели его косвенно повинен Репнин? – спросил Деев. – От графа Румянцева предписано было князю Николаю Васильевичу идти на помощь Вейсману. Но тот не успел подкрепить генерала. Вейсман пал на поле сражения. Как рассказывают, главнокомандующий тогда сгоряча написал Репнину: «Прибавляйте силы вашему ползущему корпусу. Если бы вы это сделали при Минихе, вас повесили бы! Не подумайте, что я не могу сделать подобного. Но мое великодушие вас прощает…»
– Так ли это? – заметил Кутузов. – Впрочем, чего только не нагородит молва! Тем паче что Репнин, мне помнится, к тому времени отбыл из армии. Когда случилось несчастье с Вейсманом, там находился его брат – князь Петр Васильевич…
– Но вот вам случай из первых уст, – перевел разговор словоохотливый Леванидов. – Моему тестю, купцу Михайлову, случилось быть в Крыму, как раз накануне турецкой кампании, с товарами. Однажды слышит он на берегу шум и крики. Глядит, под наблюдением хана крымцы выгружают пушки, доставленные турками. Хан Сагиб-Гирей и говорит тестю: «Это все вам гостинцы готовятся». Узнаете, дескать, почем фунт лиха. Тот, ничего не отвечая, начал мерить пушки пядью. Хан удивился: «На что ты пушки меряешь?» «Да на то, – объясняет тесть, – чтоб узнать, улягутся ли они на наши сани, когда придется нам их к себе отвозить». Хан ну плеваться, ну плеваться…
Шум в прихожей прервал веселую беседу. Забрызганный грязью курьер с пакетом встал в дверях. Как старший в чине, Кутузов вскрыл пакет.
– Приказ графа де Бальмена! – громко сказал он. – В Крыму волнения. Шагин-Гирей бежал под защиту русских штыков. В поход!
4
Татарская конница шла с большой смелостью, в две толпы. На прекрасных лошадях и в ярком убранстве всадники показывали свои проворство и ловкость, а громким «Алла!» старались вселить в противника страх. Подъехав на ружейный выстрел к луганцам, они произвели сильную стрельбу и с криком пустились в атаку.
Кутузов, при распущенных полковых знаменах, просил пикинеров атаковать врага храбро и не устыдить своего начальника.
– Во всех опасных случаях я буду неотлучно с вами! – закончил он короткое напутствие.
– Умрем или составим тебе славу! – раздалось из рядов.
Бригадир обнажил саблю:
– Вперед! Ступай!..
Луганцы в лаве ударили на толпы татар. В бешеном беге все смешалось – слышался только конский топ, лязг металла, редкие вскрики. В грудь бригадира уперлась трость с железным наконечником, но он саблей успел отбить удар копья.
Татары выдержали первый натиск и не обратились, как бывало не раз, в бегство. Бой шел уже между всадниками или небольшими группами. Дрались молча, яростно. Кутузов увидел неподалеку юного подпоручика Хвостова.
Он только что сразил одного всадника, как другой наскочил на него сбоку. Хвостов ударил его дротиком, но сделал промах: попал только в толстый халат, который пробил. Татарин остановил свою лошадь и громко кричал: «Алла!» Хвостов, видимо сам не понимая зачем, также остановился. Дротик его торчал в халате врага. Подпоручик искал рукой саблю, но не мог найти ее и оробел. Когда Кутузов подскакал к ним, татарин уже вытащил кинжал. Бригадир выхватил пистолет и разрядил в него. Тот закричал хоть и сильным, но умирающим голосом, а Хвостов, оставя свой дротик, отъехал немного в сторону и вдруг громко воскликнул:
– Владыко великий! Спаси меня и всех христиан от войны!..
Бой между тем клонился на пользу русских. Татары поодиночке отрывались от сражающихся и скакали в степь. Еще усилия – и они повалили массой. Русские, согласно приказу, не преследовали крымчаков: их задача была устрашить, а не истребить восставших. Два пикинера несли на палатке молодого подпоручика с бледным, словно мел, лицом. Кутузов узнал Хвостова, невольно вспомнив недавнюю вечеринку.
– Ранен? – спросил он.
– Убит, наповал убит, ваше высокородие, – торопливо, с виноватой интонацией сказал один солдат.
– Он сперва испужался чегой-то, – добавил второй. – А потом как мырнул в самую толпу. Тут его, сердешного, с трех сторон взяли в пики…
«Поторопился с курка спрыгнуть!» – подумал Михаил Илларионович. Он снял шапку, помолчал несколько секунд, а затем громко произнес спокойным командирским голосом:
– Господа эскадронные командиры! Всем строиться! Поздравляю с викторией!..
5
Бригадир Голенищев-Кутузов привел вверенный ему Луганский пикинерный полк в состояние полного совершенства.
30 июля 1782 года граф де Бальмен мог доложить князю Потемкину: «При объезде моем на сих днях границы по новой Днепровской линии, для осмотра состоящих там полков, имел случаи смотреть и расположенные по повелению Вашей светлости Луганский, Полтавский и Екатеринославский пикинерные полки. За долг поставлю Вашей светлости донести, что из них Луганский и Полтавский полки, старанием и попечением господ полковых и ротных командиров, во всех частях, как внутренно, так и наружно, равно и в военной экзерциции, доведены до такого состояния, которого только можно желать от конных полков…»
Легкой кавалерии приходилось часто менять квартиры: Луганский полк стремительно перемещался по огромным просторам Азовской губернии. Кочевая жизнь была полна опасностей и тревог. Тем не менее Екатерина Ильинична вместе с пятилетней Парашенькой следовала за мужем, терпеливо перенося трудности походной или даже бранной жизни. 1782 год ознаменовался рождением второй дочери – Аннушки.
Майор Алексей Михайлович Кутузов сделался к тому времени своим в семейном кругу. И когда Парашенька привязалась к зачастившему офицеру, родители – и в шутку и всерьез – стали называть молодого Кутузова женихом.
Сама матушка-командирша Екатерина Ильинична оживлялась и словно молодела при его визитах. Она ласково именовала майора «мой зятек» и «Матвеевич», потчевала лучшим куском, внимала его тирадам о бессмертии души и необходимости беспредельного совершенствования себя. И лишь тогда, когда беседа с мужем за походным столом уносила спорщиков далеко в схоластические дебри, хозяйка со вздохами покидала двух философов в мундирах и пела колыбельную крошечной Аннушке.
Михаилу Илларионовичу было понятно, что Кутузов крепко тяготится службой, хоть и несет ее в высшей степени исправно. Спит и видит вернуться к своим московским друзьям, таким же возвышенным мечтателям, что и он, – Ивану Петровичу Тургеневу и Ивану Владимировичу Лопухину. По тайному признанию – как «брату каменщику» – открылся Алексей Михайлович, что состоит в ложе московских масонов «Гармония», и пылко защищал масонов в рассуждении о человеческом братстве и равенстве.
У командира пикинерного полка мнение на сей счет было совершенно другое. К счастью, говорил себе Михаил Илларионович, его ротный философ нигде не покидал покойные основы государственности и религии. Нет, тут не пахнет серным возмутительным духом!
С интересом и пользой прочитал Голенищев-Кутузов привезенный майором журнал «Московское ежемесячное издание», где напечатаны сочинения Алексея Михайловича «Почему не хорошо предузнавать свою судьбу» и «О приятности грусти». А уж Екатерина Ильинична, так она выучила их наизусть. Майор Кутузов чист, мечтателен, набожен, немного слабоволен, страстен в изъявлении дружеских чувств, привязчив до необыкновенности. И весь устремлен к познанию сердечной истины.
Вот и вчера, едва полк разместился в Луганской слободе на винтер-квартиры, случилось с майором, как он сам простодушно рассказал Михаилу Илларионовичу, нечто необыкновенное. Не получая из Москвы, от своего «брата» Лопухина, давно уже никаких весточек, сидел Кутузов у камина в великой задумчивости и меланхолии, держа два поленца дров, и бессмысленно тер их. В забвении он и не заметил, как дрова задымились.
– Так и дружба, – объяснял он своему полковому командиру. – Вот мы, вместе с Лопухиным, часто беседовали друг с другом. И сердца наши, так сказать, терлись одно о другое. И это производило жар, который мы дружбой называли. А после разлуки уподобились оба поленам, на пол положенным!..
«Наверное, военным надобно родиться, как, впрочем, и философом, – подумал Михаил Илларионович. – Но разве не говорят в народе: живи не так, как хочется, а так, как можется…» Однако полковой командир, проникнувшись к Алексею Михайловичу горячим сочувствием, изыскивал для него возможные поблажки. Пусть себе переводит философское сочинение Юнга «Плач, или Ночные мысли». И не токмо по ночам, но и, когда выкроится часок-другой, в дневное время.
Вечерами Алексей Михайлович почасту рассказывал Голенищеву-Кутузову и Екатерине Ильиничне о своей молодости.
Двенадцати лет, по восшествии на престол государыни Екатерины Алексеевны, был определен он пажом к особе ее величества и пробыл в сем положении четыре года. Вспоминал, как дежурил во дворце – в плоской треуголке с пером, в шитом золотом камзоле, в белых чулках и в башмаках с большими пряжками.
– Тут, – говорил майор, – я познакомился и подружился до гроба с самым любимым человеком, который истинно стал мне дороже кровных родных, – с Александром Николаевичем Радищевым, таким же пажом при государыне, как и я. О, вы еще услышите о сем благороднейшем из людей! Вместе были мы посланы, по повелению ее величества, в Лейпциг, для изучения юридических наук в тамошнем университете. Я четырнадцать лет прожил в одной комнате с Радищевым и довольно не могу нахвалиться его способностями и душевными свойствами!..
– В самом деле, редкий случай, – заметил Михаил Илларионович. – В жизни обычно бывает по-иному. Всякое сближение ведет к отысканию недостатков. Поневоле начинаешь глядеть на мелочи через увеличительное стекло.
– Верно! – ответил майор. – Но так происходит, если люди не сходны. А наши с Радищевым нравы и характеры оказались столь близки, что это привело нас в самую тесную дружбу. После он женился. Жена его смотрела на меня другими глазами. Дружба моя к ее мужу казалась ей неприятной…
– Ну что ж, – улыбнулся Михаил Илларионович, – жены, бывает, ревнуют даже к неодушевленным предметам или нашим меньшим братьям. Моя Катерина Ильинична долго считала, что я сперва лошадник, а уж потом – муж…
– А как же иначе? – поддержала его шутку жена. – Ведь ни одной ярмарки не пропускал! А чуть казаки или солдаты захватят добычу – сразу к ним, за лошадьми…
Алексей Михайлович покачал головой:
– Вот вы улыбаетесь, друзья. А я чувствовал, как неприятно мое положение названого брата. И для сохранения спокойствия и согласия в братстве я решил расстаться с ними. Отъезд мой в армию подал к тому пристойный случай…
Через несколько дней из Москвы в Луганский полк прибыл для прохождения службы капитан Недергоф. Представившись бригадиру и сдав положенные документы, он осведомился, служит ли в полку майор Кутузов.
– Как же, как же, отменный офицер, – похвалил его Михаил Илларионович. – А вы что, знакомы с ним?
– Старые приятели, господин бригадир. И привез ему весть, которая, надеюсь, его обрадует…
«Уж не от «братьев» ли из «Гармонии»? – подумал Михаил Илларионович. – Да, темна и непонятна масонская сила. Чем более вглядываешься в сие устройство, тем лучше понимаешь, что никогда не проникнешь в главную его тайну…»
Но в тот же день на дом к полковому командиру прибежал радостный Алексей Михайлович. Он рассказал Голенищеву-Кутузову и Екатерине Ильиничне, что получил наконец долгожданное письмо от Радищева, что, кажется, дружба их возобновилась и будет еще теснее, чем прежде. А потом снова загрустил и стал жаловаться на свою судьбу.
– Я вижу различие, – пылко говорил он, – между жизнью тех, кто истине и наукам посвящен, и между теми, кто проводит жизнь, скитаясь по степям, претерпевает жар, холод, голод и всякое беспокойство. И для чего? Чтобы лишить жизни нескольких людей, никогда никакого зла нам не сделавших. Или самому быть от них убиту…
– Вы, Алексей Михайлович, истинно книжный человек, – возразил ему полковой командир. – Помыслы ваши благородны, слов нет. Но представьте себе, ежели все начнут думать, а после поступать в согласии с вашими мечтами. Что же станется тогда с нашей бедной Россией? Право, турки с крымчаками живо подымутся вверх и не только Таврию захватят, но и к самой матушке-Москве, как то в прошлом случалось, подойдут. И вы их уж никак не убедите в необходимости горячо любить ближнего своего. А как они вас полюбят – узнаете, когда наденут вам колодку на шею…
Михаил Илларионович почувствовал здесь, что погорячился. Но что поделаешь с язвительностью ума и склонностью к внутренней насмешливости, каковые преследовали его даже против собственной воли! Да вот и тут. После горячих фраз о равенстве и любви к ближнему начал Алексей Михайлович советоваться с супругами о том, как ему лучше переменить шпагу и лошадь на чернильницу с письменным прибором. Для этого нужны деньги, и немалые. И вот в рассуждениях майора о продаже родовой деревни и разделе ее с братом приметил Михаил Илларионович, сколько истинного человеколюбия сказалось у многомудрого масона.
– Надобно попросить московских друзей моих Тургенева и Лопухина, – размышлял Алексей Михайлович, – чтобы о сем опубликовали в «Ведомостях». А потом, чтоб помогли выговорить мне некоторых дворовых людей. Я еще не знаю, какие мне достанутся. А когда станут их делить, чтоб старались разделить поровну.
Там есть два парикмахера: один – Сергей Смирнов, другой – Федул Григорьев. Так пусть глядят, чтобы на одну сторону оба не достались…
«Да, наш человеколюбец делит людей так же точно, ровно коров или лошадей, – только и подумал Михаил Илларионович. – Ну, верно, это всегда было и будет…» А майору лишь сказал:
– Если хочешь, брат, выйти в отставку, не позабудь, что срок челобитных определен к первому января. А после ожидать придется еще целый год…
Через две недели, в канун Рождества, Алексей Михайлович пришел к полковому командиру поздравить его и супругу со светлым праздником. Был он чрезвычайно бледен, изможден и еле держался на ногах.
– Да что с вами, батюшка мой? – даже испугалась Екатерина Ильинична.
– Ах, не спрашивайте! – со слезами отвечал Кутузов. – Вчера наконец решился я написать челобитную об отставке. И когда бумагу составил, то едва удержался, чтобы не кинуть ее тут же в огонь…
– Почему же, Алексей Михайлович? – не понимал бригадир.
– Да все потому, что привязался я к вам и к Катерине Ильиничне так сильно, что, кажется, сердце едва не выпрыгнуло из груди при мысли о разлуке. Стал корить себя: зачем покидаю близких мне людей? Куда еду? И вообще – надо ли расставаться с военной службой?..
– Вот мечтательная душа, – даже умилился Михаил Илларионович. – Но, видно, каждому свое. Ему – книги, мне – поле…
С отъездом Алексея Михайловича в Москву их добрые отношения не прервались. Своего бывшего начальника отставной майор с любовью называет «мой Кутузов». Правда, переписку, по занятости бригадира, вела лишь Екатерина Ильинична. Конечно, не материнский интерес сохранить жениха двигал ее пером. Если вспомнить, что Парашеньке в эту пору шел шестой год, станет ясно, что разговоры о будущем браке носили во многом шутливый характер. Для Екатерины Ильиничны знакомство с Алексеем Михайловичем стало началом глубокой и значительной в ее жизни духовной дружбы. Дружба эта подтвердила те редкостные душевные и умственные достоинства, какие находили у Голенищевой-Кутузовой ее современники. Однако судьбе было угодно, чтобы с этой поры беседы их приняли характер эпистолярный. Редкостный даже для романтического восемнадцатого века пример!..
Впрочем, Екатерина Ильинична могла встретиться с Алексеем Михайловичем в Москве. Например, осенью 1784 года, когда Михаил Илларионович выхлопотал отпуск в связи с кончиной отца. Глухие намеки на это можно найти в письмах. И тут открывается еще одно предположение, возможно объясняющее напряженный и даже драматический характер посланий, которыми обменивались Кутузов и Екатерина Ильинична.
Алексей Михайлович был глубоко и без всякой надежды на успех влюблен в нее.
В отличие от своего необыкновенно общительного супруга, обожавшего общество, легкий флирт, атмосферу увлеченности, столь свойственную тому времени, Екатерина Ильинична придерживалась в быту твердых устоев. Да и Алексей Михайлович, судя по его характеру, должен был всячески отгонять от себя запретное, с точки зрения глубоко религиозного человека, чувство как недостойный соблазн. Тем не менее оно стойко жило в нем. Екатерина Ильинична лишний раз приоткрыла завесу этой тайны в письме к своему другу за 1791 год:
«Я корю себя за то, что вы так одиноки, каким вы сделались; вы, который заслуживает в высшей степени иметь спутницу в этой страшной жизни; да, мой друг, мысль знать вас несчастным убьет меня, знать несчастным из-за меня…»
Примечательно, что этот кусок письма написан по-французски, что вообще было не свойственно Екатерине Ильиничне. И не одна забота о возможной перлюстрации заставила ее сделать это. Вероятно, русский язык казался ей слишком открытым, даже беззащитным, и она постеснялась прибегнуть к нему, когда перо коснулось самого потаенного, интимного. Судя по тону ее писем, и Екатерине Ильиничне был небезразличен Алексей Михайлович – «Матвеевич», как ласково именовала она его иногда. И не четыре-пять лет разницы в возрасте стали между ними непреодолимым барьером, а та высшая нравственность, которой наделил Пушкин Татьяну, жену боевого генерала:
Но я другому отдана; Я буду век ему верна…6
Егеря Бугского корпуса после тяжелого марш-броска расположились на ночевку у берега Днепра, близ тракта, ведущего на Кременчуг.
Генерал-майор Голенищев-Кутузов в сопровождении адъютанта объезжал в сгущающихся сумерках биваки, прислушиваясь к вспышкам смеха, необидной перебранке, словесному солдатскому озорству.
– Федул, что губы надул? Ай, жену спомянул? – раздавалось поблизости.
– А чего споминать-то, – отвечал на шутку серьезный голос. – Солдат – отрезанная краюшка. Ее, чать, не приставишь снова к караваю…
– Бают, что именно сегодня, двадцать второго числа августа месяца, на память Агафона Огуменника, – тараторил с другой стороны надтреснутый басок, – лешие ночью выходят из лесу. Они бегают по селам и деревням, дурят и раскидывают снопы по гумнам. Поэтому опытные знахари надевают тулуп навыворот и стерегут всю ночь на гумнах с кочергой в руке…
– А что, братцы мои, я вам скажу, – доносился от следующего костерка старческий альт. – Ведь за гробом ожидают нас не чины да почести. Не по формулярным спискам и не по числу лет службы перекликать и сортировать нас будут. Нет, братцы мои! Тут и солдатским надеждам есть место. На суде общем, где душа и сердце вроде пыжовника, щетки и трещотки, явится к осмотру налицо, иному рядовому, с путей веры и чести прибывшему, выпадет доля далеко не по ранжиру и вовсе не по старшинству. Верный и честный солдат получит вечное место получше иного ундера или даже его благородия…
«Не иначе как расстрига, подавшийся в солдаты, предается загробным мечтаниям», – усмехнулся, проезжая поодаль бивака, Михаил Илларионович.
А у самой воды, от другого костерка, под мерный плеск постирушки, подымалась незамысловатая песенка, выпеваемая ломким, молодым еще голосом:
Эх, да плывет селезень по реце, пустил носик по воду, Ох, плы-ивет селезень по реце, д'пустил носик по воду. Дозволь, тятенька, жениться, дозволь взять кого люблю, Ах, да дозволь, тятенька, жениться, дозволь взять кого люблю… Не позволю, не поверю, что на свете есть любва…Как быстрая днепровская вода, бежало время. Уже Шагин-Гирей отказался от прав на ханство, заявив, что не желает иметь таких вероломных подданных, каковы крымцы. Уже манифест от 8 апреля 1783 года возвестил о присоединении Крыма к России, а Шагин был отправлен на жительство в Воронеж. Уже славный военачальник Суворов, о чем Кутузов узнал из «Придворного календаря», получил чин генерал-аншефа. Уже Екатерина Ильинична подарила мужу третью дочку – Лизоньку. Уже Бугский егерский корпус под началом Михаила Илларионовича прошел отличную воинскую выучку.
Егеря были учреждены в русской армии Румянцевым. Вначале это были охотники, которые действовали в рассыпном строю и поражали противника меткой стрельбой. Снаряжение давалось им самое облегченное: вместо шпаг в портупеи вложены штыки, тяжелые гренадерские сумы заменены легкими мушкетерскими, палатки забраны, галуны со шляп спороты, плащи оставлены лишь желающим. В егеря отбирались молодцы «самого лучшего, проворного и здорового состояния». Офицеров для егерей велено было определять таких, которые отличались особой расторопностью и «искусным военным примечанием различностей всяких военных ситуаций и полезных, по состоянию положений, на них построений». Румянцев назначал их всегда в авангард наряду с легкой кавалерией, а в боевых порядках ставил рядом с артиллерией. В 1785 году отдельные егерские батальоны были сведены в егерские корпуса.
Михаил Илларионович, получив Бугский корпус, в совершенстве обучил солдат и офицеров подробностям воинского мастерства. Кутузовские учения проводились по методе Суворова: в движении, на бегу; сумы забивались песком, а манерки заполнялись водой. Для учений выбиралась пересеченная местность, с буграми, ручьями, нередко и с нарочно сделанными барьерами. Егеря были приучены к тому, что их нередко поднимали по тревоге за полночь без предупреждения. Солдаты проворно снаряжались, получали боевой запал патронов, сухарей на три дня и только на сборном пункте узнавали, что посреди них находится неутомимый Кутузов.
Командир корпуса производил воинские эволюции как в рассыпном строю, так и плутонгами – в едином строю. Батальоны продвигались к позиции, перепрыгивая рвы и плетни, не разрываясь, и только по команде рассыпались, поражая противника метким огнем. Роль неприятеля исполнял другой батальон, который скрытно, еще с вечера, занимал свои позиции на местах, никому, кроме Кутузова и его штаба, не ведомых…
Со стороны шляха послышался перезвон бубенцов на голубцах, храп остановившихся лошадей, голоса. Кутузов тронул коня. Он увидел на тракте силуэт простой брички и худую фигуру в солдатском плаще, быстро шагающую навстречу. Хорошо знакомый голос заставил его вздрогнуть от неожиданности:
– Михайла Ларионович? Ваше превосходительство! Поздравляю генералом!..
– Александр Васильевич? – не веря своим глазам, воскликнул Кутузов. – Какими судьбами?
– Неисповедимыми, мой дружок, – своей обычной скороговоркой отвечал Суворов, обнимая и целуя Михаила Илларионовича. – Вот узнал, что корпус ваш недалече, и завернул по дороге. Еду к Екатеринославской армии для командования кременчугскими войсками. Вспомнили-таки старика! Не разумея изгибов лести и ласкательств, вельможам я часто не угоден…
– Выходит, новая кампания не за горами, раз вы, Александр Васильевич, прибыли в наши края, – с некоторой торжественностью сказал Кутузов.
– Она рядом! Она завтра! – пылко воскликнул Суворов. – И одно мое желание – кончить службу в поле, с оружием в руках…
Часть III
Глава первая Полтавская репетиция
1
7 января 1787 года, в девять часов пополуночи, из Царского Села Екатерина II отправилась в путешествие на юг России.
Огромный поезд растянулся на полторы версты. За каретой шталмейстера ехала сама императрица в вызолоченном просторном экипаже. Вслед за ней следовали запасные кареты, почивальный возок, генерал-адъютант, гофмаршал, придворные лица, камер-юнгферы и камермедхены, камердинеры, лейб-хирург и доктора, фельдшеры, метрдотели, тафельдекеры, официанты, кондитеры, парикмахеры, истопники, работники для чистки столового серебра и шандалов, кроватный подмастерье, хранители гардероба, карточных марок, бильярдные маркеры, лакеи, скороходы, арапы…
В шестиместную карету Екатерины Алексеевны были приглашены любимая камер-фрейлина Анна Степановна Протасова, обер-камергер Шувалов, обер-шталмейстер Нарышкин, двадцативосьмилетний фаворит государыни генерал-майор граф Дмитриев-Мамонов и австрийский посол граф Кобенцль. От Гатчинских ворот Царского Села и до Зеленых триумфальных ворот в первопрестольном великих русских князей граде Киеве расставлены были караулы пехотных, лейб-гренадерских, карабинерных и кирасирских полков. Многочисленные депутации от дворянства, духовенства, мещанства и различных окраинных народов империи встречали царицу хлебом и солью. Города и села украсили иллюминация, триумфальные арки и транспаранты. Гром пушек и колокольный звон возвещал о проезде державной повелительницы.
Путешествие как бы подводило итог 25-летнему царствованию Екатерины. Русский флаг свободно развевался в Черном море. Севастополь и Херсон наполнились флотами. Крым признал власть России. По берегам Буга, Синюхи, Кубани протянулась цепь войск, прикрывающая границы от хищных нападений кочевников. Еще недавно дикие, степи Тавриды превратились в плодоносные поля, с многочисленными садами, тучными нивами, богатыми селениями.
Праздничный и даже увеселительный характер двух-тысячеверстной прогулки имел серьезную подоплеку. России угрожала коалиция из Англии, Франции, Пруссии, куда вошла и Швеция. Обеспокоенные ростом могущества восточного гиганта, державы эти стремились разжечь пожар в Польше и возбудить к новой войне Турцию. Надо было думать о предупредительных мерах. Екатерина договорилась о встрече с австрийским императором Иосифом II, который путешествовал под именем графа Фалькенштейна, и с преданным ей королем польским Станиславом II Августом.
2
29 января, через Белоруссию, императрица прибыла в Киев. Сюда явился светлейший князь Потемкин, генерал-фельдмаршал граф Румянцев-Задунайский, генерал-аншеф Суворов, губернаторы, чиновники, военачальники, знатные иностранцы, искавшие покровительства русской государыни. Польские вельможи, украинцы, татары, греки, армяне, сербы, осетины, запорожские казаки приветствовали здесь монархиню. При выездах карета едва могла пробиться сквозь толпы народа.
– Киев! Боже мой! Какой шум, какая толкотня! Сколько бриллиантов, золота, звезд, лент – только не святого духа! – восклицал с улыбкой пятидесятилетний красавец в белом австрийском мундире, украшенном знаками орденов Золотого Руна и Марии-Терезии, с огромными алмазными серьгами в ушах и куньей шубе внакидку.
– Сударь! Это уже нескромность. Вы не имеете права даже касаться святости религии… – с неодобрительной полуулыбкой возразила ему государыня, взирая из своей покойной теплой кареты на великолепное киевское многолюдство.
Ее собеседником был любимец императора Иосифа Австрийского принц де Линь, одно перечисление титулов которого заняло бы целую страницу. Князь Священной Римской империи, владелец де Фольоль, властитель Бодура, замка Бель-Ойль, Валинкура и других земель, маркиз де Рубэ и де Вершин, испанский гранд первого класса, первый пэр Фландрии, пэр, сенешаль и маршал Гайнау, генерал австрийских войск, капитан драбантов, полковник или командир собственного пехотного валлонского полка в Нидерландах, камергер их императорских величеств Марии-Терезии и Иосифа II и прочая, и прочая.
Богач, весельчак, храбрец, воин, дуэлянт, беззаботный искатель приключений, он очаровал Екатерину внешностью, острым и независимым умом, неподражаемым юмором и неистощимостью выдумок и забав.
– Нет-нет! – быстро возразил де Линь. – Я вовсе не желал задеть религиозное чувство вашего величества. Меня поражает живописность этих картин. Смотрите, тут и чалмы, и папахи, а вон красные остроконечные шапочки с мехом. Они украшают уродцев, беспрестанно ворочающих головой. Ну точь-в-точь статуэтки с китайскими глазами и носами на моем камине…
– Ах, там? В самом деле, это депутация из Китая, – согласилась Екатерина.
– Все это поторжественнее каких-нибудь делегатов от парламента, приезжающих за двадцать лье в Версаль ради нелепого этикета, – подхватил де Линь. – Вы знаете, я не льщу вам. Но сам Людовик Четырнадцатый – Король-Солнце, если бы мог, позавидовал бы своей сестре Екатерине Второй или женился на ней, чтобы сделать свои выходы, по крайней мере, столь же торжественными…
Русская императрица знала, что Шарль де Линь ей не льстит. Да он и не умел льстить и говорил правду в глаза и Фридриху II, и Иосифу Австрийскому, и Людовику XVI. Она непритворно вздохнула, на миг задержала потеплевший взгляд на скромно молчащем Дмитриеве-Мамонове и ответила как бы сама себе:
– Престолы, престолы… Восседающие на них представляют собой прекрасное зрелище. Но лишь издали. Не в ущерб моим многоуважаемым собратьям скажу, что все мы должны казаться пренесносными существами. Я знаю это по собственному опыту. Когда я вхожу в комнату, то произвожу впечатление Медузиной головы…
– Вы исключение, государыня. Я не встречал еще такой простоты ни у одной коронованной особы. – Де Линь качнул огромными алмазными серьгами.
– Мне очень лестно слышать это, – возразила Екатерина II. – Но опыт убеждает меня, что я такая же, как и другие. Едва найдется десять или двенадцать лиц при дворе, не стесняющихся моим присутствием…
И в свои пятьдесят семь лет императрица сохранила свежесть лица, прекрасные зубы и изящную форму рук. При небольшом росте и обретенной с возрастом полноте она оставалась на редкость живой, подвижной, обаятельной и лишь, на взгляд де Линя, чересчур открывала свой большой лоб, взбивая вверх волосы. В прогулке по Киеву под горностаеву накидку Екатерина надела лиловое шелковое платье, без орденов, простого покроя, который именовался молдаванским.
Разговор мало-помалу перешел на последние узаконовления, в числе которых был манифест императрицы о запрете поединков. Граф Дмитриев-Мамонов позволил себе восхититься постановлением, которое должно было помешать множеству случайных и нелепых жертв. Де Линь с горячностью стал возражать ему, не считаясь с присутствием августейшего автора.
– Я не могу поставить свою честь в зависимость от какого-то не известного мне третейского судьи! Нет, господа! Позволю себе не согласиться. Когда один из моих версальских приятелей попросил меня быть его секундантом, мне пришлось предоставить ему и свое поместье в Бель-Иле, близ французской границы. Знаете, как я поступил? Прямо при просителе я отправил следующую записку своему управляющему: «Приготовить завтрак для четверых и обед для троих…»
– Какое варварство! – Екатерина была уязвлена. – Есть много других способов доказать свою храбрость. Война, например. – Русская императрица со значением поглядела на принца и досказала свою мысль: – Если бы я была мужчиной, то была бы убита, не достигнув капитанского чина!
Принц в тесном пространстве кареты сумел встать на колено, с неподражаемой ловкостью поцеловал у государыни ручку и воскликнул:
– Сильно сомневаюсь, ваше величество, потому что я еще жив…
Русская императрица задумалась, как бы желая вникнуть в смысл его слов. Но потом тихонько рассмеялась, поняв, что неуместно считать себя храбрее тех, кто не раз был в огне…
По вскрытии Днепра путешествие продолжалось водой, в раззолоченных и украшенных резьбой и цветными флагами галерах. Флотилия состояла из двадцати одного водовика, где «Днепр» предназначался для ее императорского величества, «Буг» – для князя Потемкина, «Сейм» – для иностранных послов и знатных чужеземцев. Роскошные помещения и уборы, специальные галеры-столовые заставляли забыть, что путь шел по воде и среди земель, еще недавно представлявших собой пустыню. Особым богатством и изобретательностью отличались покои императрицы. В ее опочивальне возле кровати помещалось громадное зеркальное панно, двигающееся посредством скрытой пружины. Когда оно подымалось, то за ним оказывалась другая кровать – графа Мамонова…
Круг самых близких императрицы – непременной Протасовой, весельчака и шута, вечно острящего обер-шталмейстера Льва Александровича Нарышкина, Дмитриева-Мамонова, статс-секретаря Безбородко, французского посла Сегюра и австрийского – графа Кобенцля – помимо Потемкина пополнили теперь принц де Линь и Карл-Генрих-Николай-Отто Нассау-Зиген. Это был бесстрашный авантюрист и морской волк, дважды сражавшийся под знаменами Франции, объехавший вокруг света, проникший в заповедные недра Африки и штурмовавший в рядах испанских войск Гибралтар, за что получил чин генерал-майора и звание испанского гранда. Иногда на беседы приглашались любимец Дмитриева-Мамонова полковник Рибопьер и выходец из Неаполя, ловкий и необыкновенно хитрый Осип Михайлович де Рибас.
Во время путешествия по Днепру от нечего делать развлекались и стихами, в сочинении которых особым искусством отличался Шарль де Линь. Мадригалы, сонеты, эпиграммы, песенки, гимны так и сыпались из-под его бойкого пера. Каюта принца имела общую перегородку с помещением Сегюра, и рано поутру де Линь будил своего соседа условным стуком, а затем читал только что набросанные им экспромты. Несколько минут спустя его слуга приносил французскому послу письмо в пять-шесть страничек, где остроумие, шутки, политика, любовь, военные анекдоты перемешивались самым оригинальным образом.
Екатерина пожелала сама поупражняться в стихосложении. После нескольких ее неудачных опытов, под общий смех, де Линь сказал, что лучшее сочинение государыни, бесспорно, эпитафия на могиле любимой собачки с упоминанием придворного лекаря:
Здесь покоится принцесса Андерсон, Которую убил господин Роджерсон…– Вот видите, господа, – посерьезнев, проговорила Екатерина. – Вы меня хвалите в общих чертах. Но чуть затронете подробности – сами находите, что я ничего не умею…
Де Линь возразил, что в одном, по крайней мере, она очень сильна.
– В чем же? – поинтересовалась императрица.
– В твердом намерении и решимости.
– Этого-то уж я вовсе не понимаю.
– Все, что вы, ваше величество, приказываете, преобразуете, начинаете и оканчиваете, – все в меру и впору, – объяснил принц.
– Быть может, оно действительно имеет такой вид, – улыбнулась снова Екатерина. – Но посмотрите на существо дела. Князю Орлову обязана я блеском одной стороны моего царствования, так как он присоветовал послать мой флот в Греческий архипелаг. Князю Потемкину обязана я Таврией и изгнанием орд, угрожавших империи. Можно только сказать, что я воспитала этих господ. Фельдмаршалу Румянцеву обязана я победами. Я сказала ему: «Граф! Дело доходит до драки. Лучше побить, чем быть побитым». Михельсону обязана я поимкой Пугачева, который едва не забрался в Москву, а может быть, и далее. Поверьте, господа, я только пользуюсь счастьем!..
Шутливые разговоры не мешали важным делам. В Кременчуге путешественники на время сошли с галер, и Екатерина пересела в карету, разукрашенную вензелями из самоцветных камней и более похожую своим роскошным убранством на триумфальную колесницу. Здесь ожидали ее в парадном построении войска, отдававшие честь с преклонением знамен и штандартов, с музыкой, литаврами и барабанным боем.
Близ самой кареты на конях императрицу сопровождали генерал-фельдмаршал Потемкин, генерал-аншефы Долгоруков-Крымский и Текелли, генерал-поручики Гейкин, Румянцев 2-й, Левашов, генерал-майоры Голенищев-Кутузов, Дунин, Ферзен, Волков и многие штаб-офицеры. 1 мая, на парадном обеде на 104 куверта, присутствовали среди прочих лиц генерал-аншеф Суворов и генерал-майор Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, а также два брата его жены – генерал-майор Гаврила Ильич и тайный советник Василий Ильич Бибиковы.
…Бог ты мой! Как исхудал, как исплошал шурин Васенька, старый товарищ Михаила Илларионовича по Инженерной школе! Истинно кожа да кости. Ничего почти не осталось от прежнего здоровяка, весельчака и острослова Василия Ильича, бесподобного актера, который мог смешить до колик в комических ролях и выжимать слезу в трагических…
Они перемолвились беглым словом: Василий Ильич спросил о сестре, которая оставалась в Елисаветграде, а Кутузов, в свой черед, о большой бибиковской семье, о невестках и племяшах. Граф Мамонов подошел и сказал, что императрица желает видеть своего управляющего театрами.
Михаил Илларионович, согласно билету, оказался за столом рядом с другим своим родственником – Рибопьером и мог довольно наговориться о петербургских новостях.
3
Они не виделись с осени 1784 года, когда Кутузов приезжал в Петербург на похороны отца.
– Друг мой! Ты уже полковник? Так скоро? – с тонкой улыбкой заметил Михаил Илларионович.
– Да, дядюшка, – отвечал Рибопьер. – Вы уже догадались. Имея такого покровителя, каков Александр Матвеевич, можно быть спокойным за свою карьеру.
– Ах, ведь вы дружили еще тогда, когда граф Мамонов был вместе с тобой адъютантом у Потемкина. Да, дружили. – Кутузов сделал вид, что вспомнил.
– И случай с ним помог моей фортуне… – кивнул Рибопьер.
– Но о сем, милый Пьер, ты мне расскажешь не здесь. Ведь и у стен могут быть уши, – предложил осторожный Кутузов.
Во время десерта, когда императрица со своими ближними удалилась на отдых, Михаил Илларионович и Рибопьер решили прогуляться зелеными улочками тихого Кременчуга, разбуженного наплывом массы придворных, чиновников, офицеров, солдат.
– Вы, верно, дядюшка, понимаете, как обеспокоился князь Григорий Александрович, когда был отставлен фаворит Ермолов… – начал Рибопьер.
– Еще бы! Потемкину близ трона нужен человек, преданный не только государыне, но и ему лично, – сказал Михаил Илларионович.
– А граф Александр Матвеевич находится с князем в дальнем родстве…
– Вот как? Этого я и не знал! – вскинул Кутузов левую бровь.
– И вот светлейший князь посылает к государыне своего адъютанта, которому вручается некая картина для показа ее величеству. По предварительному уговору оценка картины и будет мнением о достоинствах самого Александра Матвеевича. Первое впечатление не было благоприятным. Оглядев поручика, императрица изволила молвить: «Рисунок недурен, да колорит плох…»
– Тут-то, очевидно, и заработали тихие друзья светлейшего – Марья Саввична Перекусихина и Захар Константинович Зотов, – догадливо вставил Кутузов.
– Так, дядюшка! Александр Матвеевич благополучно прошел обычные испытания и утвердился фаворитом…
– И скажу искренне, выбор на сей раз очень недурен. Мамонов умен, добр, скромен, отменен по воспитанию и манерам, – медленно проговорил Кутузов.
– А уж как ко мне привязан! – с беспечной живостью воскликнул Рибопьер. – Как-то признался, что жить без меня не может. «Ни с кем не могу говорить так открыто, как с тобой!..» Но что же мы все о графе? Расскажите лучше, дядюшка, о себе, о своих успехах…
– Что успехи, когда нет бранного дела! – отмахнулся Михаил Илларионович. – Ты лучше посмотри-ка, брат, что за лошадь мне удалось купить. Ты-то ведь знаешь в этом толк!
– Конечно, отбита у кочевников?
– Угадал! Но возила на себе какого-нибудь султана. У казака взял, и задешево. Почти что даром. Не лошадь – целое состояние. Пойдем, штабные конюшни моего корпуса в двух шагах…
Ах, какая лошадь ожидала их в длинном деревянном сарае, куда струйками проникал солнечный свет! Золотисто-гнедая, сухая, плотная; маленькая, изящная головка со слегка вогнутой переносицей; шея – лебединая и, как выражаются знатоки, «с зарезом»; уши острые, глаза навыкате. Лошадь перебирала тонкими, в чулках ногами и недовольно косила лиловым глазом на вошедших. Кожа ее нервно вздрагивала.
– Арабская! Настоящая кохлани! – объяснил Михаил Илларионович.
Он в восхищении приседал, требуя от Рибопьера поглядеть линию живота, сухожилия ног, причмокивал, даже всплеснул руками почти в детском восторге. Но едва прикоснулся, чтобы погладить, как она оскалила зубы и взбрыкнула, норовя повернуться задом.
– Гляди, гляди! – в восторге указал Кутузов. – Оскал такой, что в ноздрю хоть кулак суй!..
– Хороша, слов нет, – согласился Рибопьер. – Но ведь совсем дикарка. Какова она в выездке?
– По настроению, – сознался Михаил Илларионович. – Честно сказать, чрезвычайно капризна. Верно, секрет обращения с ней ведом только прежнему ее хозяину. Ну, да не будь я настоящий лошадник, если ее не приручу…
Они вышли в просторный двор. Конюхи скребницами чистили офицерских лошадей, мыли их, весело переругиваясь, и напоминали обыкновенных мужиков, собирающихся в поле. Кутузову внезапно показалось, что затянувшаяся мирная пора будет продолжаться вечно, что в этот погожий майский день, пахнущий нагретой землей, травой, лошадьми, нельзя даже и думать о штыковых атаках, залповых выстрелах, о бранном деле. Но мысль эта, словно майское облачко, промелькнула и истаяла в сознании.
Михаил Илларионович обернулся к Рибопьеру:
– Ну, а коли война? Будешь сидеть по-прежнему в Петербурге? Ты же офицер!..
– Не знаю, дядюшка… – Рибопьер потупился. – Александр Матвеевич меня ни на шаг от себя не отпускает. Да и для князя Григория Александровича, говорит он, будет лучше, если я останусь в Питере…
– А-а… Так князь, конечно, боится влияния на Мамонова врагов своих – Завадовского, Безбородко и Александра Романовича Воронцова?
– Вот именно! И пока я рядом с Александром Матвеевичем, князь может быть спокоен. Государыня почасту вызывает меня к себе и советуется со мной. А мой маленький Саша стал любимой игрушкой ее величества…
– Сколько ему лет?
– Шестой год. Резвый и веселый мальчонка. Он у нее совершенно как дома. В прошлом году государыня пожаловала Сашу офицером в конную гвардию… Я же истинно хожу у нее в советчиках. Недавно изволила говорить о воспитателе для любимого внука – великого князя Александра Павловича. Я присоветовал ей друга моей юности Лагарпа. Это подлинно наставник!..
– Да, ее величество обладает необыкновенным даром понимания людей. Это видно даже в выборе собеседников, – сказал Кутузов. – Только теперь и ей ох как нелегко! Предстоит решать задачи посложнее, чем укрощение моего скакуна…
4
За непрестанными празднествами, куртагами и карточными и бильярдными играми Екатерина II в мыслях была далеко: ей сообщили, что граф Фалькенштейн уже выехал навстречу.
Свидание состоялось 7 мая, у городка Кайдаки. Русская императрица и австрийский монарх вышли из своих карет на довольно далеком расстоянии, чтобы выразить взаимное уважение друг другу. В Кайдаках состоялась и первая беседа, без свидетелей. Важно было убедить Иосифа II в необходимости совместной борьбы против Оттоманской Порты, в то время как римского императора более заботила угроза со стороны Пруссии. Однако ум и обаяние русской государыни взяли верх над нерешительностью австрийского монарха. Когда позднее, к ужину, были приглашены старые царедворцы – Василий Иванович Левашов и князь Волконский, Екатерина сказала им вполголоса о графе Фалькенштейне:
– Он уже в моем рукаве!..
Участие Австрии в возможной войне с турками, польский вопрос – все было решено так, как она того хотела. А о близости войны говорило многое: около Киева была собрана армия под командованием Румянцева-Задунайского, у Херсона – корпус под началом князя Потемкина; кроме того, до шестидесяти тысяч войск расположились небольшими отрядами на пути следования императрицы. Многозначительными были и надписи на триумфальных арках. В Кременчуге: «Возродительница сих стран»; в Херсоне: «Путь в Константинополь».
В Крыму государыня со свитой любовалась новым черноморским флотом и поднялась на борт корабля «Слава Екатерины», в то время как Иосиф II с графом Кобенцлем и принцем де Линем на шлюпке ездил для обозрения нового 50-пушечного фрегата «Святой Андрей». Потом из специальных покоев Екатерина наблюдала, как бомбардирский корабль «Страшный» с пятого выстрела зажег специально выстроенный в трехстах саженях городок. В числе представленных ей Потемкиным морских командиров был уже прославившийся своим искусством капитан 1-го ранга Ушаков.
Принцу Нассау-Зигену и де Линю, в качестве знатоков, было разрешено осмотреть сильную турецкую крепость Очаков, поставленную на мысе между лиманом Днепра и Черным морем, как раз напротив Кинбурнской косы. Турки перегородили лиман десятью своими военными кораблями, словно бы для того, чтобы воспрепятствовать войти в Кинбурн, если бы русская императрица пожелала плыть туда водой. Для мирного времени это было уже неприличной демонстрацией силы.
Путешественники набросали на бумаге расположение кораблей, и по возвращении Нассау-Зиген предложил Екатерине свои услуги, чтобы избавить ее от этого флота. Императрица улыбнулась и щелчком сбросила бумажку на пол.
«Я смотрю на это как на предвестие скорой войны», – сказал себе де Линь. Его предсказание сбылось быстрее, чем он думал. Не прошло и трех месяцев, как этот самый турецкий флот в тех же водах Днепра напал на русский фрегат «Скорый»…
5
В полдень 7 июня 1787 года Екатерина II торжественно въехала в Полтаву.
Полтава! Священное для каждого русского место. Здесь 27 июня 1709 года Петр Великий сокрушил войско шведского короля Карла XII и тем решительно склонил в свою пользу долгую Северную войну. Эта славная виктория воспевалась и поэтами, и безвестными сказителями, и народными песнями.
Было дело под Полтавой, Дело славное, друзья! Мы дрались тогда со шведом Под знаменами Петра. Наш могучий император – Память вечная ему! – Сам, родимый, пред полками, Словно сокол, он летал, Сам ружьем солдатским правил, Сам и пушку заряжал…Еще были видны остатки шести редутов, построенных перед Полтавской баталией по приказу Петра, а посреди равнины возвышался внушительный курган, прозванный в народе Шведской могилой. И русские и шведы погребены в нем были вместе. Курган, как рассказывали старики, был еще выше, но за прошедшие без малого шесть десятков лет уменьшился от нетления великого множества находившихся в нем тел. Четыре тропинки вели на вершину Шведской могилы, а маленький деревянный столб у основания кургана служил ему скромным памятником.
Отсюда Екатерина II со свитой наблюдала за маневрами, во время которых были воссозданы эпизоды знаменитой битвы.
Государыня могла воочию убедиться в благодетельности реформы Потемкина, который переменил неудобную одежду русских воинов. Светлейший князь велел отрезать косы, бросить пудру; одел солдат в куртку, удобные шаровары, дал легкую, красивую каску. По его приказу полки беспрестанно передвигались с одного места на другое, чтобы в мирное время не приучиться к неге.
Среди своих командиров Потемкин давно уже выделил Кутузова, по праву оценив разносторонность его знаний. Михаил Илларионович прошел к этой поре огромную школу: овладел в юности инженерной наукой и глубоко постиг искусство артиллериста, а затем, под начальствованием светлейшего князя, участвовал в создании новой для русской армии легкой конницы, командуя последовательно Луганским, Полтавским и Мариупольским пикинерными полками. Теперь, в звании командира Бугского егерского корпуса, Кутузов мог оценить возможности легкой пехоты. Его опыт лег в основу инструкции для егерей, которая положила начало новой тактике рассыпного строя в русской армии.
Екатерина II с неженской взыскательностью и пониманием дела следила за состоянием русской армии. Когда она пожелала ознакомиться с боевой подготовкой пехоты, князь Григорий Александрович указал ей на Бугский егерский корпус. Один из батальонов егерей под начальством самого Кутузова продемонстрировал перед императрицей и ее свитой ряд экзерциций, приближенных к обстановке подлинного сражения. Находившийся в свите царицы Франсиско Миранда, участник войны за независимость Соединенных Штатов Америки и борец за свободу Кубы и Венесуэлы, нашел, что лучше солдат не бывает, а генерал Кутузов необыкновенно сведущ в военном деле.
Затем высокие гости присутствовали на репетиции Полтавского сражения. Пока войска совершали перестроения, Екатерина II, превосходно знавшая русскую историю, напомнила де Линю и Кобенцлю некоторые подробности баталии, а также знаменитый приказ Петра: «Воины! се пришел час, который всего отечества судьбу положил на руках ваших, и вы должны помышлять, что сражаетесь не за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за отечество, за нашу православную веру и церковь».
– В этой битве, – рассказывала императрица, – Петр Великий подвергал себя страшной опасности. Он все время находился в огне, среди пуль. Одна из них попала в седло его лошади. Другая прострелила шляпу. А третья угодила ему в самую грудь. Царя спас большой медный крест, который висел у него на шее… Это был великий государь! Вы знаете, господа, я всегда держу перед собой на письменном столике портрет Петра Первого. И когда задумываю что-либо, то спрашиваю, как бы он поступил на моем месте…
Между тем войска разделились, образовав две противоборствующие группы. С громовым «ура», в клубах порохового дыма и поднятой пыли, они надвинулись друг на друга. Закипел яростный штыковой бой, который с высоты Шведской могилы казался всамделишным. Впрочем, он и не был только бутафорским: несколько десятков солдат в пылу схватки получили колотые ранения.
Напор полков, изображавших русскую армию, все усиливался, и вот уже «шведы» показали тыл. Миг – и на поле появились легкоконные войска, которые под командованием Кутузова изображали преследование отступающей шведской армии. Пикинеры и гусары летели через ручьи и рвы, отрезая бегущую пехоту.
Лишь золотисто-гнедая лошадь командира с трудом повиновалась руке хозяина. Она вставала на дыбы, храпела, меняла галоп на аллюр, пытаясь сбросить всадника. Моментами стоявшим на кургане казалось, что вот-вот она появится из пороховой мглы одна, чтобы унестись прочь, в дикую степь.
Но вот Кутузов почувствовал, как дикое животное сдалось, подчиняясь его воле. Он дал шпоры и со вскинутой саблей понесся впереди лавы. Гул нескольких тысяч копыт зазвучал над полтавским полем.
После примерной баталии Михаил Илларионович был принят государыней.
– Благодарю вас, генерал! – сказала Екатерина. – Отсель вы у меня считаетесь между лучшими военачальниками и в числе отличнейших генералов. Но я запрещаю вам ездить на лошади, на которой я вас видела. Я вам не прощу, если вы будете ею ушиблены. Я сама подарю вам лошадь. – Она приблизилась к Кутузову и добавила тихо: – Лошадь эта, право, умнее иных моих придворных. – И снова повысила голос: – На сей лошади вы, генерал, совершите свои подвиги, в громкости которых не сомневаюсь!..
Глава вторая Очаковская пуля
1
Отдельный корпус генерал-майора Голенищева-Кутузова переправлялся на паромах через Буг, медленно двигаясь к Очакову.
Всю осень и зиму корпус стоял на речных кордонах, следя за редкими летучими отрядами турок, которые появлялись в безлюдной очаковской степи, терявшейся в бескрайних просторах за Бугом.
Теперь уже вошло в свои права лето. Низкие заболоченные берега, обилие плавней, заросших камышом, степные просторы. Изредка плеснет в волне щука, и одиноко зависнет в бледно-голубом небе коршун. Обманчивая тишина.
В долгом стоянии у гавани Глубокой ранним июньским утром Михаил Илларионович слышал гулкие пушечные выстрелы между Очаковом и Кинбурном, где располагался отряд Суворова. Отсюда, от выступающего в днепровский лиман Семенова Рога, хорошо видны были и паруса гребной флотилии принца Нассау-Зигена, и эскадры храброго американского авантюриста на русской службе контр-адмирала Джонса; корабли и галеры запирали устье Буга и крепость Святого Станислава.
Прошел почти год с того дня, как Турция, подстрекаемая Англией, Францией и Пруссией, объявила войну Австрии и России. Оттоманская Порта рассчитывала на то, что охвативший многие русские губернии голод и мятежи, вспыхнувшие в Римской империи, помогут ей одержать быстрые военные успехи. Посол в Константинополе Булгаков был закован в цепи и брошен в Семибашенный замок.
Однако надежды султана Абдул-Гамида и великого визиря на легкие победы не оправдались. От перебежчиков-запорожцев Кутузов знал, с какой неохотой идут на войну с русскими турки, которые еще помнили грозные уроки первой кампании. Тогда все было по-другому, и турки были настолько воспалены будущими успехами, что даже старики при костылях и с одними пистолетами бежали воевать с неверными, чтобы поскорее прибрать их, как кур на гнезде. Иные запасались даже веревками, чтобы, перевязав русских заживо, привести их в качестве невольников. Не то теперь! Теперь даже янычары, которых переписывали для призыва в армию, наученные горьким опытом, тихонько покидали свои дома и семьи, чтобы только не идти в поход против русских…
– Вот какая перемена в турках произошла… – усмехался, слушая рассказы запорожцев, Михаил Илларионович.
И в самом деле, истекший 1787 год не принес Блистательной Порте никаких успехов. Турки дважды пытались захватить Кинбурн и оба раза были отброшены усилиями Суворова. При первой попытке был взорван один из их 84-пушечных кораблей; во второй, более серьезной, высадка пятитысячного десанта закончилась почти поголовным его истреблением.
Теперь Порта решилась предпринять более энергичные усилия, чтобы завладеть Кинбурном, Херсоном и Крымом. Положение осложнилось тем, что шведский король Густав III в июне 1788 года приказал своим войскам вступить в пределы России; в тот же день была подвергнута бомбардировке крепость Нейшлот. Приходилось отражать нападения неприятелей и на севере, и на юге империи.
Беда, по мнению Кутузова, была в том, что русские войска на юге не имели единого командования. Украинская армия под начальством Румянцева должна была соединиться с австрийским корпусом, взять Хотин и идти на Дунай. Екатеринославской, вверенной Потемкину, надлежало осадить и взять Очаков, а потом сблизиться с первой армией на Дунае. Австрийцы, занявшие Молдавию и Валахию, хотели к весне 1789 года соединиться с Румянцевым. После того все три армии должны были перейти Дунай и идти к Шумле и Андрианополю. Другая, и немалая, беда, как виделось Михаилу Илларионовичу, таилась в принятой Иосифом II и его главнокомандующим Ласси системе кордонов. Огромная, 120-тысячная, австрийская армия была растянута на пространстве от Хотина до Адриатического моря.
Но главное – не было лада в русском стане.
Как отмечает историк, «Румянцев, оскорбляясь, что Потемкин уравнен с ним в начальстве войсками, не думал помогать ему. Потемкин не скрывал неудовольствия, что власть не отдана ему вполне, вредил всем распоряжениям Румянцева и хотел отличия только себе, когда страх неудачи в глазах опасного соперника усиливал еще более недостатки его военных дарований. Отличаясь быстротою, смелостью, дальновидностью соображений во всех других делах, как полководец, он являлся нерешителен, медлен, робок – утверждал и изменял планы, давал и отменял приказы, унывал и робел и, с тем вместе, гордый и самолюбивый, не хотел слушать ничьих советов».
В мае под стенами Очакова появился сильный турецкий флот, которым командовал храбрый капудан-паша Гассан. Он дерзко двинулся на русских, стоявших на рейде в Глубокой гавани. Однако на мелководье турецкий флот ожидала неудача: два линейных корабля и фрегат сели на мель и были сожжены. Убедившись, что в тесном лимане ему не победить, Гассан-паша решился ночью отступить через Кинбурнский пролив. Но здесь его ожидала тайно устроенная Суворовым 24-пушечная батарея, открывшая убийственный огонь. Легкие гребные суда под начальством Нассау-Зигена, на которых еще недавно путешествовала императрица со своей свитой, довершили поражение; 3 корабля, 5 фрегатов и 17 фелюг сгорели и утонули. После нерешительного боя с Севастопольским флотом адмирала Войновича Гассан удалился в Константинополь. Черное море было очищено от неприятеля.
Теперь в гавани Глубокой Кутузов занимался поднятием многочисленных турецких пушек с затонувших во время сражения кораблей.
2
Об отгремевшей 17–18 июня битве говорило многое: на мелководье торчали мачты турецкого фрегата, чуть подале на мели оказался русский брандер, который надлежало снять и перевезти в гавань для починки, к берегу прибило бочонки, обломки палубных надстроек, клочья парусов.
Матросы и солдаты, перекрестившись, ныряли с канатом в воду, ощупью находили сорванные взрывами пушки, а затем накидывали на них петли. Бугские егеря с берега с громким: «Эй, взяли, эй, ухнем!» – выволакивали их на твердь. Среди самых заядлых охотников-ныряльщиков был адъютант Михаила Илларионовича – подпоручик Федор Кутузов, белокурый юноша, с ловкостью заправского водолаза погружавшийся на дно.
Неподалеку от командира корпуса за работой лениво наблюдал рыбак Осип Стягайло, перебравшийся к лиману с десяток лет назад и поставивший себе на берегу скромную хатку. Хотя одет он был в грязные холщовые порты и латаную рубаху, Голенищев-Кутузов с первого взгляда определил в нем бывалого запорожца. Медно-красное лицо с длинными усами и вислым носом, турецкая серьга в ухе, лысая крепкая голова с сивым оселедцем, черные от загара мускулистые руки, – Михаилу Илларионовичу он виделся совсем в ином обличье: высокая суконная остроконечная шапка, широкий кафтан, просторные шаровары с богатым цветным поясом, за который заткнуто два пистолета, и кривая шашка на боку…
Между тем на берегу одна за другой появлялись чугунные и бронзовые пушки 24-фунтового калибра, медные трехпудовые мортиры и даже одна каронада – короткоствольное чугунное орудие, стреляющее ядрами с близкой дистанции и изготовленное в Шотландии. «Подарочек союзников-англичан», – сказал себе Голенищев-Кутузов, только слышавший о появлении подобных пушек, которые были лишь заказаны для русской армии. Но чаще всего встречались старинные, уже вышедшие из употребления в нашей артиллерии, длинные кулеврины, василиски, цапли. Их медные и чугунные стволы были украшены затейливыми узорами и устрашающими фигурами грифонов, львов, вепрей, единорогов.
Внезапное оживление привлекло внимание командира корпуса. В стороне от него, под самым берегом, несколько солдат нащупали пушку, ушедшую глубоко в ил.
– Ты заводи, заводи петлю-то! – надсаживался фальцетом один, выныривая и вращая от напряжения белками.
– Попробуй заведи! – отфыркиваясь, отвечал другой. – Хоть у самого берега, а как глыбко! Да это, кажись, и не пушка, а брявно!..
– Сам ты, садовая голова, «брявно»! – передразнил его первый. – Пушка! Эвон какая склизкая…
Федор Кутузов, радуясь приключению, немедля присоединился к спорящим. После второго погружения он радостно воскликнул:
– Братцы! Чудеса! Пушка-то, никак, живая! Шевелится!
Осип Стягайло не выдержал и гулким басом, идущим откуда-то из глубины живота, подал команду:
– Гэть, олухы! То нэ пушка. И нэ колода. То сом. Я, можэ, другой рик за ным ганяюсь…
Он подобрал порты и резво запрыгал босиком по камням и корягам, на ходу продолжая командовать:
– Злякаетэ, бисови диты! Я вас! Почекайте…
Погрузившись было с головой, Федор Кутузов все так же радостно закричал, высунув лицо:
– Хвостом бьет! Как поленом!
Ворча от нетерпения, Стягайло скинул с себя рубаху и порты и в чем мать родила, с одним медным крестом на гайтане[25], шумно сиганул в омут. Прошла минута, другая, третья. Солдаты и подпоручик с удивлением наблюдали, как на притихшей воде выскакивают только крупные коричневые пузыри. Наконец запорожец, закусив от чрезвычайных усилий ус, медленно поднялся на поверхность, прохрипел:
– Тэпэр заводы петлю… Я його за жабры трымаю…
Вода под ним забурлила и потемнела от ила. Собравшиеся на берегу егеря помогали советами и шутками:
– А может, это вовсе и не сом, а турок сховался?
– Ты, дяденька, садись на него верхом да и правь прямо до нас!..
– Братцы! А нешто сомов едят? Мне тятенька говорил, что мясо у них погано. Вроде это и не рыба вовсе, а чертов конь!
– Не хочешь – не ешь! Вон в котле опять сухарная кашица!.. А меня с ее воротит…
– От москали! Йим бы всэ шуткуваты, – беззлобно огрызался Стягайло, меж тем как солдаты с Федором Кутузовым укрощали огромную рыбину.
Сом был и вправду сказочно велик – больше двух сажен, седоватый с прозеленью, с огромной усатой пастью, из которой вырывалось что-то похожее на громкие всхлипы.
– Чисто корова недоеная ревет! – восхитился один из ныряльщиков, передавая конец каната егерям. – Тащи, ребята! Наш!..
Михаил Илларионович не спеша подошел к солдатам, разглядывавшим невиданную добычу.
– Да… Такой и телка утащит… Да, пожалуй, и бабу, коли та зазевается со стиркой да уронит белье… Не рыба – слон! – сказал он. – Ну, дети, приглашайте меня на уху!
Осип Стягайло, отдуваясь после тяжелой работы, как был, в одном гайтане с крестом, выступил вперед:
– Ваша мылость! Дозвольтэ мэни його зварить. Ваши кашовары всэ зипсують. Йим тилькы грэчка та капустняк пид сылу. А я кашоварив щэ пры Пэтри Калнишевським. На Сичи…
Запорожец шумно вздохнул всем животом и выщелкнул из пупка ракушку.
– Ступай и возьми себе ротного повара в помощники, – решил Михаил Илларионович. – Если что потребуется – провиант наш к твоим услугам.
– В мэнэ вечирний улов багатый, – важно отвечал Стягайло. – Я вам нэ просту – зборну ушыцю змайструю…
Когда вытащенные на берег пушки были рассортированы по системам и калибрам, над лиманом потянуло ароматом густого рыбного взвара.
– Духовито… – мечтательно переговаривались солдаты. – Теперь бы за труды праведные к ухе да винную порцию…
– Будет! – обещал Федор Кутузов. – Я сам слышал, как его превосходительство отдавал приказание интенданту…
Михаил Илларионович подошел к солдатской артели, когда все было готово к обеду. Солдаты от нетерпения уже постукивали по голенищам деревянными ложками.
– Петр Великий говаривал: «Месяц не пей, год не пей, а перед горячей похлебкой штаны заложи, но выпей!» – обратился шутливо генерал к егерям, усаживаясь поближе к котлу.
Стягайло разлил по мискам янтарную от жира, дымящуюся, густую уху, и по кругу пустили манерку с водкой. Первым приложился сам командир корпуса, за ним – запорожец. Михаил Илларионович зачерпнул ложку дразнящего запахами рыбного взвара, отведал и зажмурился:
– Хороша… Ты, Осип, не пойдешь, часом, к нам кашеварить?
– Ни, ваша мылость! – твердо отвечал Стягайло. – Я вольный козак. Як Сичь розигналы, задумав я статы рыбаком. А тэпэр, выдно, и рибалци моий прыходыть кинець. Он скильки вогню та грому напустылы – я думав, лыман закыпить и вся рыба в ньому зварыться. Трэба мэни пэрэбыратысь куды подальшэ…
– Куда же ты думаешь податься? – поинтересовался Кутузов, со вкусом обсасывая маленького судачка.
– Куды? – переспросил Стягайло. – Так хоч за Дунай, в Добруджу. Там нашего брата выдымо-нэвыдымо…
– На туретчину? – покачал головой Михаил Илларионович. – Ты же православный казак.
– А я чув, нибы там наш брат в достатку жывэ, – неуверенно сказал запорожец.
– За уху спасибо. Угодил… – тяжело поднялся Кутузов. – И вот тебе за твое искусство два червонца. А о туретчине подумай, да хорошенько. Мало они вашему брату голов поснимали…
– А що думать? – беспечно махнул загорелой ручищей Стягайло. – Ни хаты, ни жинкы, ни диток нэма… «Проминяв я жинку на тютюн та люльку», – вставил он строку из народной малороссийской песни.
– Так иди в верные казаки к полковнику Чепеге. Я ему недавно знамя вручил, а его команда принесла государыне присягу. У него и булава от самого светлейшего князя Потемкина.
– Ни! Нэ трэба мэни вашого полковника з пырначом. Крэпко обидылы мэнэ, як зныщылы Сичь…
К концу первой русско-турецкой войны существование Запорожской Сечи уже мешало Российской империи. Казачье сообщество отличалось почти независимым народоправством, принимало к себе всех, кто искал свободы от утеснения, проявляло порой непокорность и вело, как это было в гайдамацком движении, собственную политику. При заселении Новороссийского края сербами, построившими города Елисаветград и Багмут, начались стычки запорожцев с иммигрантами. Это окончательно решило судьбу вольнолюбивого сообщества. В 1775 году, по приказанию Екатерины II, генерал-поручик Текелли, возвращавшийся с войсками в Россию после победы над турками, занял Сечь. Последние казачьи начальники – кошевой Петр Калнишевский, судья Павел Головатый, писарь Иван Глоба были заточены в монастыри и крепости.
Петр Абрамович Попович-Текелли, боевой соратник Суворова и начальник Кутузова в первой русско-турецкой войне, остался в памяти украинского народа не только этим эпизодом. Женившись уже в преклонных годах на юной красавице украинке, он страшно ревновал ее и никуда не отпускал от себя. Это о нем народ сложил потом песню:
Ой, пид вишнэю, пид черешнэю Сыдыть старый з молодою, як из ягодкою…Всю свою жизнь Текелли утверждал, что он незаконный сын Петра Великого, и умер в 1793 году с его портретом в руках…
Теперь Текелли, в чине генерал-аншефа, командовал войсками на Кавказском побережье Черного моря и уже одержал несколько побед над горцами. Престарелый военачальник как бы подавал пример топтавшемуся несколько месяцев подле Очакова Потемкину.
3
Несмотря на то что Очаков неоднократно разорялся запорожцами, русскими и поляками, значение его росло. В XVIII веке он по праву считался первым портовым городом в турецких владениях на берегах Черного моря. Сам Очаков представлял собой неправильный продолговатый четырехугольник, узкая восточная часть которого примыкала к Днепровскому лиману, а три стороны, обращенные к полю, помимо мощной городской стены были прикрыты нагорным ретраншементом – земляным валом с каменными одеждами. В самой южной оконечности косы, против Кинбурна, находился сильно укрепленный замок Гассан-паши.
Только в июле 80-тысячная Екатеринославская армия перешла Буг и расположилась станом в Анджиголе, у Днепровского лимана, вблизи Очакова. Русские войска постепенно обложили крепость большим полукружием, примыкая правым флангом к Черному морю, а левым – к лиману. В передней линии рассыпались бугские казачьи пикеты, между которыми начали строить пять редутов. За ними стояли главные силы. Правым крылом командовал генерал-аншеф Иван Иванович Меллер, центром – князь Репнин, а левым – призванный из Кинбурна Суворов. Егеря Кутузова расположились впереди войск. Здесь, у правого фланга передней линии, устанавливались батарея и редут; другая батарея должна была защищать левый фланг. Гребная флотилия Нассау-Зигена блокировала гавань, ограничивая действия турецких кораблей.
За правым крылом, где размещался кавалерийский резерв, Потемкин учредил свою резиденцию. Там, под очаковскими ядрами, он жил с обыкновенной своей негой и пышностью: иногда целый день валялся на бархатном диване, слушал музыку Сарти[26], писал стихи, переводил историю церкви аббата Флери, потом давал балы, пиры, жег фейерверки и, казалось, забывал об осаде. Могло возникнуть впечатление, что светлейший князь куда больше внимания уделял красавицам, в числе которых были и четыре из шести его родных племянниц, знатным иностранцам на русской службе и просто проходимцам и искателям приключений. Однако такое впечатление было обманчивым.
У Потемкина существовал свой взгляд на происходящее, такой широкий, что его не могли понять и разделить многие из генералов. И здесь проявлялись черты его великого государственного ума. Для князя Григория Александровича война не ограничивалась сидением под Очаковом: ему виделся весь огромный фронт – от Анапы до Белграда, где армии великого визиря Юсуф-паши противостояли австрийцы. «Пусть они там повозятся, – рассуждал он, полагая, что взятие Очакова не приведет к концу большой войны, а скорее явится ее прологом. – Ведь все равно расхлебывать кашу придется не цесарцам, а нам. Так чего же спешить попусту…»
Но мысли свои светлейший открывал лишь немногим, и прежде всего Екатерине II. Зато в пестрой толпе свиты он, быть может и не без умысла, беспрестанно являл новые странности своей удивительной натуры.
Потемкин в глаза унижал самых знатных вельмож, но подчеркнуто вежливо выслушивал и благосклонно обращался с простым офицером. Отворачивался от князя или графа, если они заслуживали презрения гнусным раболепством перед ним, и непритворно любил солдат. Он употреблял все усилия, чтобы сберечь их жизнь и здоровье, однако никак не мог добиться своей цели, потому что не умел наказывать за преступления начальников. Светлейший прекрасно знал, что окружающие его грабительствуют, что многие из ближних – племянник Василий Васильевич Энгельгардт, поставщик для армии и флота Фалеев, коммерсант Нотка – бездельничают и заботятся лишь о собственном кармане, и с молчаливым равнодушием считал их канальями.
25 июля Потемкин внезапно решил обозреть строившийся на пушечный выстрел от крепости Гассан-Паша редут.
Голенищев-Кутузов встретил светлейшего князя вместе с генерал-майором Синельниковым. Огромная фигура Потемкина в раззолоченном и унизанном бриллиантами камзоле очень скоро привлекла внимание турок. Ядра так и посыпались с городского вала и бастионов крепости. Михаил Илларионович, с его давно уже выработавшимся презрением к смерти, спокойно давал пояснения о близких сроках окончания строительства. Предложивший свои услуги Потемкину и назначенный генерал-фельдцейхмейстером – начальником артиллерии, принц де Линь советовался с Кутузовым о наилучшей расстановке орудий.
Близкий удар картечью заставил свиту князя поспешно искать спасения за вырытым окопом. Для турок выстрел оказался удачным: генерал-майор Синельников был смертельно ранен возле самого светлейшего; чуть подале лежал в крови сопровождавший Кутузова казак – картечина в ноге прошла через всю лапу и остановилась в большом пальце. Казак громко стонал.
– Что орешь попусту! – сердито бросил Потемкин.
Вызванный им лекарь тут же извлек свинцовую пулю, которыми была начинена граната.
Светлейший погрозил кулачищем в сторону Очакова и громко сказал:
– Надо дорожить себе подобными. Нет! Не штурмом – тесной осадой я возьму Очаков!..
Этого мнения, однако, не разделяло большинство генералов. Даже не терпевшие один другого князь Репнин и Суворов.
27 июля, в два часа пополудни, Голенищев-Кутузов услышал частые выстрелы на нашем левом фланге. Вскоре он получил известие, что турки сделали энергичную вылазку против войск Суворова. Выдвинув вперед небольшой отряд конницы, они с главными силами, до двух тысяч пехоты, стали пробираться вдоль берега Очаковского лимана. Когда был сбит пикет из бугских казаков, Суворов заметил неприятеля. Он приказал двум гренадерским батальонам выстроиться в четыре каре и выехал перед строем.
– Впереди – Бог! Я – за ним! Не отставать! – крикнул генерал-аншеф и дал шпоры коню.
Началась жестокая схватка. Турки были отогнаны до самого гласиса крепости – земляной насыпи у рва. Не останавливаясь, Суворов двинулся на одно из городских укреплений. Турки непрерывно получали подмогу, и в садах, примыкающих к Очакову, битва все более ужесточалась.
Находясь на батарее, впереди правого фланга, Кутузов видел, что значительная часть турецкого гарнизона была оттянута для отражения Суворова.
– Турки оголили это крыло! – крикнул он подскакавшему принцу де Линю.
– Надо немедленно начинать общий штурм! – в волнении отвечал тот. – Я только что с левого фланга. Там все кипит! Мне пришлось сменить лошадь. Одну подо мной убило…
Де Линь тут же, на батарее, набросал записку о необходимости общего штурма и послал ее Потемкину с австрийским офицером из своей свиты. Ответа не было. Собравшиеся на батарее генералы – Меллер, князь Долгоруков, Самойлов, Пален – единодушно соглашались с принцем. Князь Репнин громко именовал Потемкина Кунктатором – Медлителем. Кутузов склонялся к общему мнению, но, по обыкновению, молчал. «Благая идея! – размышлял он. – Но как совместить в войне истребление врага со сбережением собственного воинства? Как добыть победу малой кровью?..»
На стенах Очакова тем временем замечено движение вражеских отрядов – бунчуки перемещались на турецкое правое крыло.
Де Линь составил новое, более резкое письмо главнокомандующему и послал его с русским офицером. Однако Потемкин молчал. В ярости он уже четыре раза отправлял Суворову гонцов с приказом об отступлении. Однако сделать это было необычайно трудно из-за ожесточения сражающихся. Но вот бежавший накануне в Очаков молодой крещеный турок, служивший денщиком у одного из офицеров, узнал Суворова и указал на него янычарам. Сперва под генерал-аншефом была убита лошадь, а затем пуля пробила ему шею, засев у затылка. Суворову пришлось воротиться в лагерь, сдав команду генерал-поручику Бибикову.
Весть о ранении любимого военачальника, вероятно, произвела дурное впечатление на солдат. Когда Бибиков велел ударить отбой, вместо стройного отхода произошло беспорядочное отступление. Это заметил Репнин. С тремя батальонами и кирасирами, любимым полком Потемкина, он двинулся к очаковским стенам, отвлекая на себя турок. Отряд Бибикова спасся от истребления. Возвращаясь под защиту городских стен, турки унесли с собой головы многих офицеров и солдат, а затем насадили их на частокол очаковских укреплений. Нерешительность и зависть Потемкина стоили русским в этот день около четырехсот павших. Удобный момент для взятия Очакова был упущен.
Суворов, превозмогая страшную боль, играл в своей палатке с адъютантом в шахматы; Потемкин, грызя ногти, в гневе, в эти минуты писал ему: «Солдаты не так дешевы, чтобы их терять попусту… Не за что потеряно бесценных людей столько, что довольно было и для всего Очакова…»
4
Потемкин был единственным другом и, можно сказать, соцарствователем императрицы Екатерины.
Слава России, слава Екатерины II были нераздельны со славой князя Григория Александровича. Он пользовался обожанием солдат и младших офицеров и мало заботился о том, что говорили о нем генералы, и в особенности Репнин. Прослышав, будто князь Николай Васильевич подбивает других начальников собрать военный совет и, в соответствии с уставом, лишить его поста главнокомандующего, Потемкин в ответ пригласил генералов на пышный ужин.
Сам он принимал гостей, раскинувшись огромным телом на бархатном диване, подаренном государыней. Рядом со светлейшим сидела его главная в ту пору фаворитка, красавица гречанка, бывшая до того прачкой в Константинополе. Судьба ее была необыкновенна, как и внешность. Она стала женой генерала на польской службе графа Вита, а еще позднее сделалась супругой князя Потоцкого, видела у своих ног императора Иосифа II, Фридриха-Вильгельма Прусского, первого министра Франции Верженя, шведского короля Густава. Уже в немолодые годы Софья Потоцкая заслужила внимание государя Александра Павловича…
Тут же, в покоях главнокомандующего, находились племянницы светлейшего – Татьяна, жена генерал-интенданта Михаила Сергеевича Потемкина; Надежда, выданная за генерал-майора Шепелева, с которым, впрочем, после свадьбы, если верить молве, не была близка ни одного дня; Варвара, столь же веселая и легкомысленная, что и ее супруг князь Сергей Федорович Голицын; белокурая голубоглазая Александра, Сашенька, – графиня Браницкая.
«Ах, Сашенька, Сашенька! – думал, глядя на нее, Михаил Илларионович. – Как она прелестна! И как нравилась мне в Петербурге, когда именовалась не графиней Браницкой, а просто Сашенькой Энгельгардт! Воистину – грешный ангел из райского сада!..»[27]
Пятидесятисемилетний муж ее, Ксаверий Браницкий, выполнявший некогда роль сводника между Екатериной Алексеевной и будущим польским королем Понятовским, сейчас находился в своре трутней при главнокомандующем и немилосердно льстил Потемкину, как всегда притворяясь великим патриотом России…
Перед тем как отправиться за столы, в специальные покои, собравшиеся развлекались в гостиной картами, слушали музыкальные номера и чтение стихов. Голенищев-Кутузов вопреки своим привычкам разоткровенничался с принцем де Линем. Быть может, оттого, что в последние дни они часто виделись под жестоким огнем, когда генерал-фельдцейхмейстер появлялся на выдвинутой вперед батарее. Впрочем, тема была самой мирной: об отцах и детях. Михаил Илларионович с благодарностью поминал покойного своего батюшку, который в самый трудный момент жизни взял с него клятву безупречно вести себя и достойно выполнять свой солдатский долг.
– А ведь если бы не он, все могло у меня пойти по-иному, – вслух размышлял Кутузов, улыбаясь своим воспоминаниям. – Так горяч и невоздержан я был…
– Ваш отец! – перебил его пылкий де Линь. – А вы знаете, что сказал мне мой отец? Он командовал войсками его величества римского императора. Когда я уведомил его официальным рапортом о получении чина полковника, отец написал: «К несчастью иметь вас своим сыном присоединяется теперь новое горе – иметь вас своим полковником». Мой ответ был краток: «Ваше сиятельство! Ни в том, ни в другом я не повинен. За новое несчастье вы должны пенять на императора, а за прежнее – на себя…»
– Глядите-ка, – сказал Михаил Илларионович, – у нас на глазах завязывается новая интрига. Точно мы не в чистом поле возле Очакова, а в эрмитажном дворце.
– Что вы подразумеваете?
– Присмотритесь к играющим в пикет…
За карточным столиком одна из трех племянниц Потемкина – Татьяна Васильевна явно давала знаки о возможном свидании полковнику Сибирского гренадерского полка князю Дашкову. Ее ножка в сафьяновой туфельке не уставала нажимать мысок полковничьего ботфорта. Однако не только зоркий Кутузов приметил это. Потемкин был и крив, как Михаил Илларионович, и столь же наблюдателен. Он движением пальца поманил к себе камердинера Секретарева и прокричал:
– Вон! Спать хочу!..
Выходка светлейшего была обыкновенным его поведением. Гости откланялись спине Потемкина, который обернулся лицом к стене, и отправились в обеденную комнату. Кутузов шепнул де Линю:
– Быть буре!..
Оставшись с Секретаревым, Потемкин приказал ему принести три длинных свежих прута, какими гоняли преступников-солдат сквозь строй, хорошенько свить и связать их, чтобы удобнее было хлестать. Когда камердинер принес прутья, светлейший сказал:
– Татьяну сюда. В дезабилье…
Племянница и была уже в дезабилье, ожидая бравого полковника, но вошедший Секретарев разрушил ожидаемые удовольствия. С досадой Татьяна Васильевна спросила:
– Зачем это? Что, дядюшка нездоров?..
– Не знаю, – отвечал камердинер.
– Да что же он делает?
– Изволит лежать на диване…
Едва она вошла к Потемкину, тот приказал:
– Федор! Запри дверь!
Татьяна Васильевна, привыкшая оставаться с дядюшкой при закрытых дверях с глазу на глаз, увидела, что вместо четырех глаз будет шесть, и решила показать вид целомудрия. Но она не успела сказать и слова, как князь начал хлестать ее шпицрутенами сплеча. Татьяна визжала, просила помилования, умоляла дядюшку, взывала к нему:
– Помилуй! За что?!
Князь, обломав на ее нагих плечах прутья, с преспокойным видом сказал ей:
– Разве тебе не довольно? Пошла вон!..
Он снова лег на диван и приказал позвать Попова, которому продиктовал:
– Ордер Дашкову: с получением сего, часу не мешкав, отправиться на Кубань и ожидать моего повеления там…
Во все время экзекуции вопли Татьяны Васильевны доносились до столовых покоев, вызывая недоумение у собравшихся. Голенищев-Кутузов и принц де Линь, обменявшись понимающими улыбками, продолжали свою беседу.
– Вы знаете, принц, – говорил Михаил Илларионович, – я до безумия люблю своих детей…
– Мой генерал! – отвечал де Линь. – Я не похож на своего отца. У меня есть сын; как и я, Шарль. Если с ним что-то случится, мне кажется, я не переживу этого…
– А я только мечтаю о сыне… – признался Кутузов. – Моя супруга подарила мне пятерых дочерей, и все мне любы. Но все не теряю надежды на наследника…
У обоих отцов в одном оказалась судьба несчастливой. Мечта Михаила Илларионовича сбылась. Однако своего единственного сына Николашу, которого болезнь унесла на первом году жизни, Кутузов даже не видел. Шарль де Линь-младший погиб в 1792 году, во время неудачного похода австрийских войск во Францию…
5
Ободренный поражением русских, комендант Очакова Гуссейн-паша готовился повторить вылазку. На сей раз его привлекла батарея на нашем правом фланге, которую он вознамерился захватить. Местность, изобилующая неровностями, канавами и рвами, облегчала задачу. 18 августа сильный отряд янычар внезапно атаковал прикрытие, составленное из егерских батальонов. Голенищев-Кутузов немедля прибыл на батарею.
Вылазка турок была необыкновенно мощной.
Под пронзительные крики мулл «Алла иль-Алла Магомет рассуль ля-ля!..» они бросились из ворот, в то время как тайно прокравшиеся янычары, выскочившие из рвов, оказались перед самыми пушками. Михаил Илларионович приказал усилить орудийный огонь и открыть ружейный. Одновременно, предвидя, что турки оборотятся вспять, Кутузов повелел собрать колонну, чтобы, преследуя неприятеля, на его плечах ворваться в ворота Очакова.
Янычары, пользуясь неровностями и рвами, стояли отчаянно под ядрами и картечью. Батареи всей армии поддержали канонаду, перенеся огонь внутрь самой крепости. Уже Очаков пылал во многих местах, когда наступающие заколебались и дрогнули; уже егеря приняли их в штыки и принудили бежать из рвов, где турки оставили до пятисот раненых и убитых. Кутузов держал в руке платок, чтобы по его знаку полковник Андрей Миллер повел в атаку колонну. Находившийся рядом с ним принц де Линь поднялся от амбразуры, блеснув алмазными серьгами:
– Мой генерал! Взгляните! Кажется, пора на приступ!..
Кутузов прильнул к амбразуре и тотчас без звука откинулся на спину. Ружейная пуля поразила его у виска, выше глаза. Он зажал рукой сквозную рану у щеки и с досадой сказал принцу:
– Ну что заставило тебя подозвать меня к этой дыре в сию минуту! Теперь пиши пропало…
Доктора при нем не оказалось. Егеря перевязали голову платком, по мановению которого должна была начаться атака. Окровавленный Кутузов сидел на камне и отдавал различные приказания полковнику Миллеру о том, как распорядиться и вести войска. Но, придя наконец в чрезвычайное расслабление, был увезен без памяти в тыл.
Рана была нанесена почти в то же место, что и в сражении при Шуме, близ Алушты. Этот последний удар, по единогласному мнению лучших медиков, должен был лишить Михаила Илларионовича жизни: пуля совершила второй прорыв височной кости вблизи глазных мышц и зрительных нервов. Принц де Линь сокрушенно сообщал императору Иосифу: «Вчера опять прострелили голову Кутузову. Я полагаю, что сегодня или завтра он умрет…»
Михаил Илларионович не только остался жив, но и сохранил вновь зрение; лишь правый глаз еще более искосило. «Чудо, – говорит современный ему историк, – о котором медики, даже чужих краев, писали обширнейшие диссертации».
Суворов, узнав о произошедшем, воскликнул: «Кутузов получил рану, какой в Европе не бывало! А в целой Европе ничто ни на волос не пошевелилось!» Он предвидел, что исцеление Михаила Илларионовича приведет к славнейшим в мире последствиям. Императрица Екатерина тревожилась о герое и несколько раз осведомлялась о его положении у Потемкина. 31 августа: «Отпиши, каков Кутузов и как он ранен, и от меня прикажи наведываться»; 18 сентября: «Пошли, пожалуй, от меня наведываться, каков генерал-майор Кутузов»; 7 ноября: «Отпиши мне… каков генерал Кутузов».
Находясь на излечении, Михаил Илларионович получал невеселые вести от очаковских стен. Убыль в людях от стычек и болезней день ото дня становилась в русском стане все заметнее. Начались осенние дожди, поднялись снега и метели, наконец, настала зима со всеми ее ужасами в безлесном краю. Солдаты громко просились на приступ – «согреть застывшую кровь». Михаил Илларионович вернулся к своим егерям накануне решающего штурма. Рана напоминала о себе тягучей болью, хотя уже и чешуя, окружившая ее, призасохла и отвалилась.
6 декабря, в день Святого Николая Чудотворца, Потемкин наконец решился взять силой крепость. Жестокий бой длился лишь час с четвертью. Сам главнокомандующий все это время неподвижно стоял на одной из батарей, подперши голову и беспрестанно повторяя: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Затем он отдал город во власть солдатам на три дня…
Уже в январе следующего, 1789 года Потемкин поручил Кутузову начальство над легкоконными и гусарскими полками, которые прикрывали польские и турецкие границы. В июле Михаил Илларионович командовал отдельным корпусом между Днестром и Бугом и особенно отличился при взятии крепостей Аккерман и Бендеры. Подвиг его под Очаковом, равно как и прочие заслуги, был отмечен: в одном и том же 1789 году Кутузов был удостоен орденов Святой Анны 1-го класса и Святого Владимира 2-й степени.
…В тот самый 1789 год, когда Кутузов оправлялся от страшной раны, которая могла свести его в могилу, произошло одно незначительное событие. В далекой Италии генерал Заборовский вербовал корсиканцев на русскую службу. Среди прочих прошений ему прислал ходатайство никому не ведомый поручик Наполеон Бонапарт. Дело расстроилось из-за амбиций корсиканца: иностранцев принимали в русскую армию чином ниже, а Бонапарт непременно требовал себе звания майора…
* * *
Лечивший Кутузова врач оставил запись:
«Надобно думать, что Провидение охраняет этого человека для чего-нибудь необыкновенного, потому что он исцелен от двух ран, из коих каждая смертельна».
Глава третья Комендант Измаила
1
Генерал-майор Голенищев-Кутузов готовился к скромному ужину в своей походной палатке. При неярком свете каганца он самолично помешивал пустую говяжью похлебку в глиняном горшке, меланхолически размышляя над бычьими мослами о том, что при теперешнем безначалии блокада Измаила может затянуться до греческих календ…
А какие надежды, какие громкие планы связывались с прошедшим, 1789 годом!
После блистательных побед Суворова вместе с австрийским принцем Кобургским над турками у Фокшан и Рымника союзники не продолжили наступления, хотя этого требовал русский полководец. Мало того, принц Кобургский, оскорбленный дерзким письмом Потемкина, полученным в день Рымникской битвы[28], расстался с Суворовым, и оба отошли на свои прежние места. Главные силы Потемкина все же овладели замком Гаджибей – будущей Одессой, а затем принудили к капитуляции крепость Бендеры.
Наступивший 1790 год потребовал от России еще большего напряжения сил. Колебания нестойкой союзницы Австрии, где скончавшегося Иосифа II сменил император Леопольд, опасность войны со стороны Пруссии и Польши – все это не предвещало военных удач и на юге. На границах с Польшей пришлось сформировать особый корпус.
Потемкин, по его же словам, намеревался начать кампанию «рано и живо». Однако Суворов, двинувшийся было со своим отрядом к Бухаресту на соединение с принцем Кобургским, узнал о выходе Австрии из коалиции и вернулся за реку Серет. Дела на Кавказе были омрачены неудачей генерал-поручика Бибикова, отступившего с большими потерями от Анапы. Зато на севере дела неожиданно пошли на поправку. То, чего не могли дать победы, принесло поражение. Нассау-Зиген был разбит шведами, и Густав III нашел для себя возможным заговорить о мире[29], который и был заключен 3 августа. На радостях Екатерина II писала Потемкину: «Одну лапу мы из грязи вытащили; как вытащим другую, то пропоем аллилуйя…»
События на турецком фронте развивались медленно. Только к осени 1790 года русские овладели почти всеми крепостями на Нижнем Дунае: Гудович захватил Килию, де Рибас – Тульчу и Исакчу. Но оставался Измаил. Это не Килия, не Тульча, не Исакча. Громадная крепость, по своей обширности названная турками орду-калеси (крепость сбора войск), занимала в окружности десять верст и составляла треугольник, примыкая с одной стороны к Дунаю, где ее ограждала каменная стена, с других – был земляной вал в четыре сажени высотой со рвом в семь сажен глубиной.
Измаил превратился в истинную твердыню с 265-ю пушками на валах и тридцатипятитысячным отборным гарнизоном, половину которого составляла регулярная пехота – янычары и легкая конница – сипахи. Комендантом был один из лучших турецких генералов – поседевший в боях сераскир Айдос Мехмет-паша. При нем находились еще несколько пашей и брат крымского хана Каплан-Гирей с шестью юными сыновьями. Надобно было еще помнить и об отчаянной храбрости турок при защите крепостей. Робкий в поле, оттоман становился отважным за стенами укрепления.
Со взятием Измаила было сопряжено завоевание всей Молдавии.
А что в русском лагере? Гудович рассорился с Павлом Потемкиным и де Рибасом и был отозван на Кавказ. Третьего дня бежавший из крепости старый знакомый Кутузова Осип Стягайло показал, что турки спокойно взирают на вялые приготовления русских. Да есть ли им повод для беспокойства, коли сам Гудович при отъезде сказал, будто взять Измаил открытым приступом невозможно: ведь осаждающих меньше, чем осажденных! А с наступлением холодов, чувствительной нехваткой провианта и участившимися болезнями к тому же, чтобы снять осаду, начали склоняться и прочие начальники во главе с генерал-поручиком Самойловым…
Адъютант Глебов оторвал Кутузова от размышлений, всунув в палатку всклокоченную голову:
– Михаил Илларионович! Бригадир из Санкт-Петербурга к вашему превосходительству!
И вслед за адъютантом собственной персоной появился не кто иной, как Иван Степанович Рибопьер, как всегда быстрый, насмешливый, ловкий.
– Ба! Мой милый Пьер! Каким ветром тебя занесло? – удивился Кутузов, в шутку называвший так своего племянника по жене после памятной сплетни о свадьбе мнимого французского цирюльника и знатной русской боярышни.
– К вам, дядюшка! – весело отвечал сорокалетний бригадир. – Насилу выпросился именно в ваш отряд.
– Как? Ты? И здесь, среди нашего военного варварства и неуютства? А не на малом эрмитаже у ее величества? – развел руками Михаил Илларионович. – И в таком разе как же мог его сиятельство Александр Матвеевич отпустить тебя под пули и ядра? Расстаться с тобой, неразлучным своим другом?
– Ах, дядюшка, – грустно улыбнулся Рибопьер, – граф Дмитриев-Мамонов более не фаворит ее величества.
Кутузов со значением поднял левую бровь.
– Значит, партия Безбородко и Завадского одержала верх?
– Нет, дядюшка. – Рибопьер приблизился к Кутузову и сказал совсем тихо: – Сам Александр Матвеевич, прямо говоря, по простоте своей сильно разгневал ее величество…
Кутузов приложил палец к губам и кликнул Глебова:
– Голубчик! Приготовь-ка из самых секретных запасов нам с господином бригадиром чего-нибудь побогаче этого варева. Чать, после долгого пути наш гость крепко проголодался. Да и я, – Михаил Илларионович хлопнул себя по заметному уже животу, – не прочь чем повкуснее заморить червячка. И винца, винца молдавского красного захвати бутылочку…
Спровадив затем Глебова, который жил в его палатке, со срочным поручением к де Рибасу, Михаил Илларионович за ужином расспрашивал впавшего в немилость вельможу о подробностях приключившейся в Петербурге истории.
– Граф Александр Матвеевич отставлен? Ума не приложу, – рассуждал он, потягивая терпкое каберне. – Красив, воспитан, неглуп. И на службе у государыни столь долго! Ничего не понимаю…
Рибопьер, на котором новехонький, с иголочки, зеленый военный мундир сидел так щеголевато, словно это был придворный камзол, живо возразил:
– Не забывайте, дядюшка, что двор – это скопище соблазнов! Вы помните княжну Щербатову?
– Фрейлину двора ее величества? Как же! Довольно постная девица.
– Так вот Александр Матвеевич вообразил, что влюблен в нее.
«Что не столь уж диковинно, если вспомнить о почтенном возрасте императрицы», – подумал Кутузов, но счел за лучшее промолчать.
– А государыню убедили, – продолжал Рибопьер, – будто сводником был ваш покорный слуга…
– Но ее величество достаточно прозорлива, чтобы не заподозрить тебя в столь бесчестной игре, – сказал Михаил Илларионович.
– Ревность, ревность! Она ослепляет! – воскликнул Рибопьер. – Да и сами обстоятельства были против меня. Ведь граф Мамонов встречался со Щербатовой в моем доме. Точнее сказать, у тещи – Анастасии Семеновны…
– Да-да, ведь Анастасия Семеновна доводится княжне двоюродной тетушкой, – вспомнил Кутузов.
– И Щербатова чуть не ежедневно посещала ее, – подхватил Рибопьер. – Там они и объяснились с графом. Но так, что никто в доме не подозревал этого. Однако может ли что-то укрыться от придворных сплетников? И противники Мамонова очень скоро донесли государыне о причинах частых поездок графа в наш дом…
– И что же ее величество? – с искренним любопытством осведомился Михаил Илларионович, обсасывая жареное крылышко цыпленка.
– Призвала к себе графа и сказала: «Я старею, друг мой. Будущность твоя крайне меня беспокоит. Хотя великий князь Павел Петрович к тебе благосклонен, я очень беспокоюсь, чтобы завистники не имели влияния на его переменчивый нрав. Отец твой богат. Я тебя также обогатила. Но что будет с тобой после меня, если я заранее не позабочусь о твоей судьбе? Ты знаешь, что покойная графиня Брюс была лучшим другом моей юности. Умирая, она поручила мне свою единственную дочь. Ей теперь шестнадцать лет. Женись на ней! И ты из нее образуешь жену по вкусу и будешь одним из первейших богачей России. За тобой останутся все занимаемые должности. Ты будешь помогать мне по-прежнему сведениями и умом, которые, как сам знаешь, я высоко ценю. Отвечай откровенно. Твое счастье – мое счастье…»
– Ловко подстроено! Узнаю матушку-царицу! – восхитился Кутузов. – И граф, конечно, клюнул на эту нехитрую наживку?
– Угадали, дядюшка. Мамонов бросился к ногам государыни и, как сам потом мне рассказывал, воскликнул: «Если, ваше величество, желаете вы моего счастья и решаетесь женить меня и удалить от себя, то дозвольте мне жениться на той, которую я люблю!» Ее величество сдержала свои чувства и промолвила только: «Итак, это правда?» Граф понял, что оказался в ловушке и окончательно упал в глазах государыни…
– Ах, простота, простота!.. – покачал тяжелой головой Михаил Илларионович.
– Да, но слова не воротишь. После этого ее величество призвала к себе княжну Щербатову и сказала: «Я вас взяла по смерти ваших родителей. Я старалась всячески заменить их. Кроме благосклонности, вы от меня ничего не видели. Теперь исполняю окончательно долг свой, Я знаю, вы любите графа Мамонова. Он сейчас признался в своем чувстве к вам. Я решила вашу свадьбу…»
– Чувствительный конец! Как в комедиях Лашоссе[30], – ввернул Кутузов, высоко ценивший откровенность Рибопьера. – Но, ей-ей, это уже слишком. Даже для нашей обожаемой матушки Екатерины Алексеевны.
– Обождите. Придет черед и мести, – сказал Рибопьер. – Гнев и досада государыни должны же были на кого-то излиться. К ней явился камердинер Зотов. Только тогда она изволила разразиться упреками и жалобами: «Я знаю, кто предатели! Рибопьер и его жена устроили эту свадьбу! Они бессовестно надо мной подшутили». Захар Константинович заметил, что этим браком я ничего не выиграл. Более того, я рисковал навсегда потерять благоволение государыни, которое приобрел единственно через дружбу с Мамоновым. Ее величество согласилась с Зотовым, добавив: «Горе меня ослепило».
– Значит, гроза все-таки пронеслась?
– Ничуть не бывало. Вскоре я был вызван во дворец. Государыня много говорила со мной о посторонних вещах, а затем вдруг перевела речь на долги новой графини Мамоновой и приказала: «Ну, бог молчания, – так она обычно называла меня в шутку, – выкладывайте все без утайки!» Признаться, дядюшка, от неожиданности я растерялся и даже побледнел. Это, верно, только укрепило ее подозрения. И вот я здесь…
– А где же опальный граф? – осведомился Кутузов, с видимым удовольствием допивая вино.
– На другой день после свадьбы молодые уехали по повелению государыни в Москву…
– Да, Москва для ее величества нечто вроде места почетной ссылки, – проговорил Михаил Илларионович, осмысляя все услышанное. – Орлов тоже ведь был отправлен в первопрестольную. Там доживают век чуть не все опальные вельможи.
Он помолчал и сказал уже иным голосом:
– А мы тут готовимся к зиме. Среди генералов разброд. Измаил почитают неприступным. Конечно, знатно потрудился для турок месье де Лафит-Кловье. Под руководством сего опытного инженера переоборудованы все прежние укрепления и построена Новая крепость. Два неудачных приступа охладили горячие головы. Я все же по-прежнему стою за открытый штурм!..
Рибопьер изумился. Пять минут назад перед ним был сибарит, гастроном, гедонист, сластена, дегустатор, придворный, охочий до маленьких тайн двора. А теперь сидел совершенно другой человек – решительный и собранный, военный до последней косточки. Словно совсем другое тело втиснули в знакомый генеральский мундир.
Кутузов поднялся из-за стола:
– Ну что ж, Иван Степанович, отдыхай с дороги. Будешь жить у меня. В тесноте, да не в обиде. А кругом пустая холодная степь. Укрыться негде. Завтра получишь команду.
2
Императрица Екатерина Алексеевна не любила Москву.
Быть может, именно в этом сказывалась ее немецкая кровь: в предпочтении, отдаваемом спланированному по линеечке, с европейской строгостью, холодному Петербургу перед веками застраивавшейся и разраставшейся кольцами (словно в старом древесном стволе), пестрой, язычески-шумной первопрестольной. С ее бесчисленными золотыми куполами и маковками монастырей, соборов, церквей, часовенок. С огромными угодьями и садами, когда городские дворцы более походили на привольные деревенские усадьбы. С московскими торжищами, с тем изобилием, какое только и может иметь срединный центр империи.
Не любила она и своевольных московских бояр, пронесших вопреки всем державным усилиям Ивана IV и Петра Великого дух кичливого непокорства, спеси и надменности. Не терпел рациональный, холодный ум государыни и той мистики, которой начали так страстно предаваться в годы ее царствования здешние дворяне: Лопухины, Трубецкие, Панины, Репнины, Тургеневы. Все знаменитые фамилии! Недостаточным оказалось высмеять их в комедиях, написанных августейшей рукой: «Обманщик», «Обольщенный», «Шаман сибирский». Вверились, и кому? Иноземцам, хитрым и пронырливым «братьям», которые под видом просвещения и гуманности сеют свои нелепые и ложные идеи мартинизма[31] и масонства. Да, в эту толпу русских бояр, политиков, мечтателей, мистиков, филантропов, педагогов, книголюбов пролезли иностранные агенты с явно корыстными и злонамеренными целями!..
Правда, Москва, как большая чушка, все может слопать. Не так ли случилось с клубом адамистов, учрежденным Анной Ивановной Зотовой, урожденной Голицыной? Мнилось учредить храм человеколюбия, ан вышло на азиатский образец. В десять пополудни в большом, прекрасно обставленном дворце собирались гости обоего пола, до ста лиц. Мужчины шли раздеваться в одну комнату; женщины – в другую. Там ожидали их ванны, благовонные духи и все, что кому потребно и угодно. А между этими комнатами устроена была большая зала с нишами, уставленная померанцевыми деревьями в кадках, розами в горшках, лилиями, гвоздиками. Чем не райская обитель? Свальным грехом обернулись мечтания о братстве и равенстве.
Просвещенные бояре? Какова же им истинная цена? Ведь, право же, нигде, как в Москве, не выступали так отчетливо азиатская дикость, варварство, жестокость, лишь припудренные европейской образованностью и мнимой филантропией.
«Предрасположение к деспотизму выращивается там лучше, чем в каком-либо другом месте на земле, – гневалась царица на москвичей в своих «Записках». – Оно прививается с раннего возраста к детям, которые видят, с какой жестокостью их родители обращаются со своими слугами; ведь нет дома, в котором не было бы железных ошейников, цепей и разных других орудий для пытки при малейшей провинности тех, кого природа поместила в этот несчастный класс, которому нельзя разбить свои цепи без преступления. Если посмеешь сказать, что они такие же люди, как мы, и даже когда я сама это говорю, рискуешь тем, что в тебя начнут бросать каменьями».
В свое время Екатерина Алексеевна отклонила предложения депутатов, собравшихся в Москве для создания нового «Уложения», о присвоении ей звания «Великой» и «Премудрой», которые представил ей предводитель собрания Александр Ильич Бибиков. Однако она охотно согласилась, чтобы ее именовали «Мать Отечества». И теперь, после пронесшейся над Яиком и Волгой великой крестьянской войны[32] и революционной грозы во Франции, многое из того, что происходило в Москве, тревожило «Мать Отечества» все больше.
Она и усилившуюся деятельность масонов в первопрестольной прямо связывала с распространением «возмутительного» революционного духа.
Просветительство Новикова[33], выпускавшего книги в арендуемой им университетской типографии, появление берлинских масонов Шредера и Шварца, учредивших в Москве орден Злато-Розового креста, наконец, явные попытки вовлечь через архитектора Баженова в союз вольных каменщиков наследника Павла Петровича – все это представлялось Екатерине звеньями одной цепи. И хотя в самом существенном она ошибалась – у революционных и просветительных идей, пожалуй, в ту пору не было более злобного врага, чем прусские фанатики-масоны, – ее предположение о том, что Берлин через ложи стремится влиять на политику России, было непреложной истиной.
Немецкие масоны имели все основания возлагать своекорыстные надежды на Павла Петровича: известное пруссофильство великого князя и резкое неодобрение екатерининских порядков толкали его в объятия берлинских «братьев». В 1785 году близкий царевичу князь Репнин, давний масон, дал торжественную клятву (которая сохранилась во французском подлиннике) и был принят в «теоретический градус», служивший подготовительной ступенью к розенкрейцерству – самому крайнему и фанатическому среди масонских течений.
Теперь на очереди был сам Павел Петрович.
Один из деятельных масонов и будущий министр прусского двора Велльнер так сказал о великом князе: «Мы можем его принять без опасений за будущее. Мы должны влагать клятву русским прямо в сердце, чтобы зато, в случае нужды, иметь право пользоваться физическими средствами».
Масоны в Берлине и в Москве почти единодушно отвергали любые революционные идеи, в том числе и изложенные в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищевым. Екатерина II же считала, что все обстоит как раз наоборот. В какой-то степени заблуждение ее объясняется окружением Радищева и Новикова.
Некогда царица собственноручно отправила своего пажа за границу, снабдив его с товарищами специальным «Наставлением». Но оказалось, что она играла с огнем, что в просвещении таится опасность отрицания всех устоев, на коих покоится государство. Заботясь о пажах, императрица, по собственным словам, намеревалась создать «новую породу людей». И эта новая порода появилась в лице Радищева, ужаснув образом мыслей Екатерину II. Как ужаснул другого царя – Александра II своим мятежным духом через сто лет еще один паж – князь Кропоткин[34], самое имя которого было стерто с мраморной доски в белом зале корпуса…
«Автор «Путешествия», – сказала Екатерина Алексеевна с приметным жаром своему секретарю Храповицкому 7 июля 1790 года, – бунтовщик хуже Пугачева…»
Книга была посвящена Алексею Михайловичу Кутузову:
«Что бы разум и сердце произвести ни захотели, тебе оно, о! сочувственник мой, посвящено да будет. Хотя мнения мои о многих вещах различествуют с твоими, но сердце твое бьет моему согласно – и ты мой друг…»
Закованный в кандалы, Радищев был отправлен в Сибирь. Было приказано заняться личностью Кутузова. Оказалось, что еще весной 1787 года вместе с известным масоном и розенкрейцером бароном Шредером Алексей Михайлович выехал в Берлин по каким-то тайным делам «братьев». Это возбудило новью подозрения государыни, которую в ту пору – несмотря на длившуюся войну с Турцией – особенно заботили прусские дела.
После смерти монарха-фельдфебеля Фридриха II в 1786 году во главе государства оказался фанатический приверженец ордена Розового креста Фридрих-Вильгельм II. Он усердно занимался магией и алхимией и окружил себя масонами. «Толпа духовидцев и темных мистиков продвигалась все дальше при прусском дворе, – замечает исследователь масонства Я. Л. Барсков, – кто не принадлежал к ней, не имел надежды на повышение». Ярый розенкрейцер Велльнер становится правой рукой нового короля и его главным министром.
Именно к всесильному Велльнеру и был послан Алексей Михайлович Кутузов для дальнейшего успеха в «орденских науках» и получения более высоких масонских степеней. При большом дворе, в Петербурге, все более неодобрительно косились на Пруссию. Русский посол в Берлине Алопеус даже придумал особый шифр, чтобы поддерживать взаимные отношения между Фридрихом-Вильгельмом II и Павлом Петровичем.
Екатерина II не без основания опасалась заговора.
За Алексеем Кутузовым и его друзьями поэтому давно велась слежка; теперь она была резко усилена. Исполнительный московский почт-директор Пестель (отец будущего декабриста) представлял копии перлюстрированных писем, а некоторые изымал вовсе. Еще в 1789 году была пресечена деятельность типографии Новикова. Сейчас над кружком мартинистов в первопрестольной сгущалась новая гроза.
Не ведая о происходящем в Москве, Алексей Кутузов бомбардировал «братьев» письмами, копии с которых Пестель аккуратно препровождал новому генерал-губернатору князю Прозоровскому. Писал Алексей Михайлович и в действующую армию – на имя доброго своего друга Екатерины Ильиничны Голенищевой-Кутузовой. Но проходили сроки – и не было ответа.
3
Скучно и уныло было в Елисаветграде, штаб-квартире Дунайской армии.
Единственным развлечением для Екатерины Ильиничны служили прогулки с детьми вдоль крепостной стены, по берегу мелкой речушки Ингул. Городу не было еще и полсотни лет; весь деревянный, он насчитывал пять церквей и один дурной трактир. В обществе не с кем было перемолвиться, и Екатерина Ильинична томилась, не зная толком, что происходит на театре военных действий.
Доходившие слухи о готовящемся штурме Измаила только усилили ее тревогу: по скупым записочкам Михаила Илларионовича и рассказам приезжавших сюда офицеров и курьеров она знала о грозной мощи этой крепости.
Смутные предчувствия чего-то ужасного не покидали ее. Екатерина Ильинична вое еще не могла оправиться с тех пор, как из Петербурга пришла печальная весть. Скончался ее любимый брат Василий Ильич Бибиков. Уже три года прошло, а кажется, что все это было вчера. В голове никак не умещалось, что весельчак и острослов, друг и покровитель актеров, умница и нежный брат покоится в Александро-Невской лавре…
1790 год с первых же месяцев выдался для нее несчастным, и Екатерина Ильинична суеверно ожидала новых бедствий. Все шестеро детишек Кутузовых – пятеро дочурок и грудной Николаша – заболели оспой. Болезнь была неопасна лишь у старшей, тринадцатилетней Парашеньки, благодаря тому что столичный лекарь вложил ей несколько лет назад оспенный гной в проколотую ранку. Но прививки делались тогда только в Петербурге и Москве и были еще в диковинку. Тем более в елисаветградской глухомани. Восьмилетняя Аннушка, семилетняя Лизонька, трехлетняя Катенька и двухлетняя Дашенька выжили. А вот единственный сын, ее надежда и отрада, погиб!..
Да, пришла беда – отворяй ворота. Сама Екатерина Ильинична вскоре сильно простудилась, отчего приключилось у нее жесточайшее воспаление горла – жаба. Мучительная хвороба постепенно усиливалась. Екатерина Ильинична четыре дня была уже безо всякой надежды на выздоровление, как местный лекарь пустил ей кровь и поставил шпанских мух. Постепенно она начала поправляться, но вместе со слабостью пришла к ней жестокая истерика, угрожавшая самыми дурными последствиями.
Как нужно было теперь Екатерине Ильиничне слово утешения и надежды! Сна все ожидала весточки от духовного наставника своего Алексея Михайловича Кутузова, однако он отчего-то молчал. Неужто с ним стряслось несчастье? Михаил Илларионович уже предупреждал жену быть крайне осторожной с отставным майором Луганского полка. Но тяжкие переживания понудили Екатерину Ильиничну не особенно беспокоиться об осторожности. И когда наконец пришло письмо из Берлина, она словно увидела просвет в сгустившихся над нею тучах.
С удивлением читала Екатерина Ильинична жалобы Алексея Михайловича на долгое ее молчание. Она простодушно изумлялась: куда же деваются ее письма? Кутузов, как обычно, много и возвышенно рассуждал о том, что все в жизни ниспослано Богом, что надо терпеть удары судьбы и с кротостью исцелять себя от жизненной скверны. Слова эти целебными каплями падали на раны Екатерины Ильиничны. Вспоминая долгие разговоры с ним, его советы и пространные письма из Москвы и Берлина, она с жаром отвечала:
«Вы пеняете или, лучше сказать, вы беспокоитесь, что со мною делается, не получая так долго от меня писем… Кроме невольного моего молчания двухмесячного, о котором я скажу вам в письме сем, я писала к вам довольно часто через Москву; но вижу, что моим письмам та же участь, что вашим; а я от вас более 4 месяцев перед этим письмом не получала…»
Лишь теперь начала догадываться Екатерина Ильинична о существовании жестокого досмотра, перлюстрации и изымания почты, каковые давно уже были применены к переписке ее друга. Но жена боевого генерала, как видно, не страшилась и самой цензуры.
«Уверьтесь, сделайте милость, единожды и навсегда, что дружба моя к вам иначе не кончится, как с моей жизнью, – писала она, – что молчание мое никогда не будет самопроизвольное; но или болезнь, или другие страдания, мне сделавшие обстоятельства. Порадована я, что вы здоровы. Вы, кажется, равно со мной предубеждены, что все утешавшее или, лучше сказать, все привязанное к нам похищается скорее прочего.
Не получая от вас долго писем, беспокоюсь и думаю, что не удалось ли чего-нибудь с вами, ибо потеря брата Василья Ильича сделала, что я в тех же мыслях, как и вы. Не угодно ли Богу лишить меня всех тех, кои больше мною занимаются?.. Отдаю я вам справедливость и уверена, что дружбы вашей ничто переменить ко мне не может, и посему молчание ваше приписываю болезни или, Боже сохрани, еще большему нещастию, и оттого всегда в грусти, помня ваших писем…»
Однако ни желание покориться неумолимой судьбе, ни скорбные мысли об утратах, ни заботы матери о пятерых оставшихся детях не могли отвлечь Екатерину Ильиничну от жгучей тревоги за мужа.
«Михайла Ларионовича, – сообщает она своему берлинскому другу, – не видела 8 месяцев. Теперь стоят под Измаилом, который, думаю, возьмут, ибо Божья помощь и храбрость войск наших делают сию победу несумненною. Но частые удары на кого упадут, неизвестно. Боюсь, чтоб не была я избрана принести оный в потере Михайла Ларионовича. Мысль сия меня уже съест. На сих днях он сделал победу, разбив их конницу, которая выходила из города…»
4
Бой был коротким и жестоким.
Когда отряд турецкой конницы под покровом темноты вышел из Измаила, Кутузов самолично повел в атаку казачий полк Денисова. Подмерзшая земля звенела от ударов сотен подков. Михаил Илларионович перевел своего тяжелого каурого дончака в галоп. Плечо в плечо с ним скакал на легком аргамаке Рибопьер.
Турки были смяты с фланга и отброшены к оврагу, где их ожидали бугские егеря. Ружейные залпы ударили в плотную массу. Сипахи в ужасе закружились на месте. Их вопли слышны были на измаильских стенах, и в расположении русских корпусов, и даже на острове Чатал, где стояли батареи де Рибаса[35].
Полковник граф Чернышев, вглядываясь в сгустившуюся тьму, откуда доносились ружейные выстрелы, ржание лошадей, заунывные возгласы турок и всплески «ура», заметил, обращаясь к офицерам из штаба Павла Потемкина:
– Что странно, господа, так это то, что корпус Кутузова заставляет турок дрожать. А мы, похоже, сами дрожим от страха. Или, по крайней мере, делаем вид, что перепуганы…
Только что перед этим на собравшемся военном совете, вопреки мнению Михаила Илларионовича, большинством голосов решено было снять осаду. Наступившие холода, голод, болезни подорвали дух в войсках. Корпус Кутузова был исключением.
…С боя возвращались молча, каждый по-своему вспоминал пережитое. Молоденький Глебов страшился, не заметил ли Михаил Илларионович его минутной растерянности в начале атаки; Рибопьер, напротив, сожалел о том, что дядюшка не мог видеть, каким молодецким ударом поверг он с коня рослого турецкого офицера-сипаха.
В палатке, где кроме Рибопьера и Глебова вместе с генералом жил его двоюродный племянник подпоручик Федор Кутузов, Михаил Илларионович сказал:
– Главную новость, друзья мои, я приберег напоследок. Не много чести рассеять в открытом поле конных оттоманов. Сего дни получено известие о назначении начальником над всеми войсками генерал-аншефа графа Суворова. Поздравляю вас, господа! Наше сидение под Измаилом на этом кончилось. Будет штурм!..
5
Г. А. Потемкин – А. В. Суворову.
25 ноября 1790.
«Измаил остается гнездом неприятеля, и хотя сообщение прервано через флотилию, но все он вяжет руки для предприятий дальних. Моя надежда на Бога и Вашу храбрость. Поспеши, мой милостивый друг! По моему ордеру к тебе присутствие там личное твое соединит все части. Много тамо равночинных генералов, а из того выходит всегда некоторый род сейма нерешительного. Рибас будет Вам во всем на пользу. Будешь доволен и Кутузовым; огляди все и распоряди, и, помолясь Богу, предпринимайте. Есть слабые места, лишь бы дружно шли…
Вернейший друг и покорнейший слуга князь
Потемкин Таврический».* * *
Рано утром 2 декабря Суворов в сопровождении только одного казака Ивана появился в русском лагере. С дороги он отдал приказ генерал-поручику Самойлову вернуть войска, которые уже начали отход от крепости.
На другой день, тоже поутру, Рибопьер вместе с будущим губернатором Одессы, молодым графом Ришелье, который прибыл в русскую армию волонтером, отправился представиться главнокомандующему. Было еще темно, лагерь тонул в морозном тумане. В отдалении они заметили нескольких солдат вокруг совершенно голого человека, который скакал по смерзшейся траве и выделывал отчаянную гимнастику.
– Кто этот безумец? – спросил Ришелье.
– Главнокомандующий граф Суворов, – ответил Рибопьер.
Суворов, заметив на Ришелье мундир французских гусар, поманил его к себе.
– Вы из Парижа, милостивый государь?
– Так точно, генерал!
– Ваше имя?
Тот назвал себя.
– А, внук маршала Ришелье. Ну, хорошо! Что вы скажете о моем способе дышать воздухом? По-моему, ничего не может быть здоровее. Советую вам, молодой человек, делать то же. Это – лучшее средство против ревматизма.
Затем он обратился к Рибопьеру:
– А вас я помню. Мы встречались у матушки-государыни. Ваш дядюшка по жене Александр Ильич был моим учителем. Следуйте примеру сего замечательного человека!..
Суворов сделал еще два или три прыжка и убежал в палатку, приговаривая на ходу:
– Помилуй Бог, как хорошо! Сейчас бы и на штурм!..
Да, с его приездом, словно по мановению волшебной палочки, все переменилось. Закипела подготовка к решающему приступу. Солдаты упражнялись в преодолении препятствий, изготавливали лестницы и вязали в пучки длинные ветки – делали фашины, чтобы забрасывать рвы и волчьи ямы. Теперь на военном совете все начальники единогласно постановили: брать крепость штурмом.
Во время обеда Суворов приказал казакам ловить орлов и пускать их под полу палатки. Орел взлетал и, ударяясь о невысокий верх, падал на стол.
– Это, господа, – объяснял Суворов, обращаясь к генералам, – означает, что и Измаил падет.
В день своего приезда, 2 декабря, он послал сераскиру требование о сдаче крепости. Айдос Мехмет-паша высокомерно советовал русским «убираться поскорее, если они не хотят умереть от холода и голода». Был послал еще один ультиматум. «Скажи Суворову, – был ответ, – что скорее небо упадет на землю и Дунай потечет вспять, нежели я сдам Измаил!»
Решаясь на генеральный штурм, Суворов клал на чашу весов славу своих сорокалетних подвигов и даже саму жизнь, потому что не пережил бы позора неудачи. Между тем под ружьем у него была всего 31 тысяча человек при 500 орудиях против 35 тысяч обороняющихся.
Русский полководец разработал подробный план одновременных действий с суши и со стороны Дуная, где стояла флотилия де Рибаса. Как уже случалось ранее, Суворов желал знать мнение Кутузова о диспозиции и послал к нему с этой целью командира Фанагорийского полка Золотухина.
Михаил Илларионович тотчас рассмотрел план штурма и не нашел в нем ничего нужного к исправлению. Лишь мелкие поправки касались порядка передовых цепей, но это входило уже в обязанности начальников колонн. Он еще раз, более внимательно, обозрел план и тут обнаружил, что изрядная часть сухопутного войска, по просьбе де Рибаса, переведена на остров Чатал. Но зачем адмиралу столько пехоты? Ба! Похоже, что этот ловкач думает раньше остальных ворваться в Измаил и тем приписать себе лавры победителя!..
Кутузов укорил суворовского любимца:
– Ах, Василий Иванович! Неужто и вы не увидели, что графа Александра Васильевича хотят предварить, и не остерегли его в том!
Это удивило Золотухина. Не понимая, о чем идет речь, он просил Кутузова открыть ему истину. Михаил Илларионович взял у него честное слово не говорить даже и Суворову, кто указал на де Рибаса, и затем объяснил:
– Хитрый итальянец хочет предвосхитить славу Суворова! Как вы там не видите? А мне это очень жаль…
Золотухин, воротясь к главнокомандующему, рассказал ему о подозрительных приготовлениях де Рибаса.
– Как! – вскричал Суворов. – Кто тебе сказал? Говори!
Нельзя было не повиноваться.
– Лошадь! – потребовал Суворов и немедленно помчался к дунайскому берегу.
Де Рибас в это время как раз облегчал суда от тяжелых орудий, чтобы затем посадить на борт войска и подвинуться к Измаилу для штурма. Главнокомандующий тотчас отдал приказ высадить на берег пехоту и поставить снова на корабли пушки. Возвращаясь в ставку, он сказал Золотухину:
– Браво, браво! Кутузов усмотрел, Кутузов связал, Кутузов и развязал…
Согласно диспозиции войска были разделены на три отряда по три колонны в каждом. Три колонны правого крыла под командованием Павла Потемкина должны были атаковать западный фас крепости; еще три – под начальством генерал-поручика Самойлова – восточный; отряд де Рибаса на Лиманской военной флотилии переправлялся через Днепр и штурмовал крепость с юга. Из девяти колонн на главном направлении, в приречной полосе, сосредоточивалось шесть. Здесь же была собрана большая часть артиллерии. Обязанности инженера, строившего батареи, исполнял состоявший при Суворове сын принца де Линя полковник Шарль де Линь.
Два дня продолжалась канонада с суши и моря по крепости. В ночь на 11 декабря колонны были выдвинуты на исходные позиции для штурма.
Кутузов командовал шестой колонной на левом фланге русских войск. Ему предстояло взойти в Измаил, сломив одну из наиболее грозных твердынь – Новую крепость.
6
Было очень холодно. Стоял морозный туман. Впереди колонн пошли охотники со скородельными фашинами. За ними тронулись бугские егеря, при которых находился Рибопьер. В глубоком молчании отряд подвинулся к чернеющей громаде Измаила и остановился. Ожидание сигнала было нестерпимо мучительным.
– Скорее бы уж, Иван Степанович! – прошептал Рибопьеру Федор Кутузов.
– Не худо проверить, там ли мы встали, – так же тихо ответил точный, как швейцарский часовой механизм, Рибопьер. – Где колонновожитель?
Но проводник куда-то подевался.
– Федор Васильевич! – попросил Рибопьер. – Я на тебя надеюсь, как на себя. Возьми егерей и поди до рва. Узнай, где мы теперь с отрядом стоим…
Кутузов молча повернулся и отправился в голову колонны, к стрелкам. Он отобрал пятерых егерей и пополз с ними к крепости. Через каждые двадцать шагов подпоручик клал их, одного за другим, чтобы потом найти обратную дорогу во тьму, и велел им отзываться свистом. Но вот наконец и глубокий ров, а за главным валом завиднелся Сингалпашинский бастион, выложенный белым камнем.
Вдруг забрехала собака, очевидно привязанная на случай опасности турками. Но подпоручик припал к земле, и она замолкла. Шума со стороны крепости не доносилось никакого: то ли все спали, то ли затаились. Федор Кутузов пополз назад, по пути собирая егерей.
– Надобно отряд повернуть несколько влево, – задыхаясь от трудного пути, сказал он.
Вновь двинулись солдаты, но, как ни старались идти тише, штыки и лестницы застучали. Однако и тут турки не отозвались.
– Ракета! – воскликнул Федор Кутузов, указывая на желтое пятно, ползущее по свинцовому небу.
– Вперед! На штурм! – крикнул Рибопьер.
Было пять с половиной пополуночи. Все молчавшее дотоле вдруг содрогнулось, и вал осветился – со стен крепости загремели картечные и ружейные выстрелы. Турки, знавшие о готовящемся приступе от нескольких казаков, перебежавших накануне, подпустили русские колонны на двести – триста шагов и открыли убийственный огонь. Оставляя позади десятки убитых и раненых, отряд уже не шел, а бежал прямо на выстрелы. Но вот и ров. Здесь солдаты поневоле замешкались, и уже каждая турецкая пуля находила цель.
Ров был так глубок, что лестница в девять аршин едва могла достать до бермы – площадки перед стеной, а с бермы до амбразур надобно было надставлять лестницу другую.
На самом дне рва Рибопьер почувствовал толчок в грудь, но не ощутил никакой боли. Он продолжал командами ободрять солдат, карабкавшихся наверх.
Получивший сильный удар меж лопаток брошенным со стены ядром, Федор Кутузов едва удержался на ногах. Он схватил Рибопьера за плечо, и по руке его потекла густая горячая влага.
– Иван Степанович! Вы ранены! – сквозь гром и треск крикнул он бригадиру.
– Ничего! Царапина! – в горячке ответил тот, еще силясь подняться по лестнице.
Только теперь он почувствовал, что жизнь вытекает из него, и сел в лужу собственной крови. Слабеющим голосом Рибопьер приказал:
– Передашь Михаилу Илларионовичу, что я здесь положил живот свой… Веди солдат!..
Времени для колебаний не было. Сверху доносились, мешаясь, крики «алла» и «ура». Подпоручик взобрался на берму и полез выше. Три егеря, карабкавшихся перед ним, были изрублены турками в амбразуре, и тела их скатились, задевая рукава его мундира.
Кутузов поднялся на рампар – крепостную стену и уже сел на пушку, когда взобравшийся вслед за ним трубач успел сдернуть его с хобота – не то бы янычарский ятаган снес ему голову.
Отбиваясь от наседавших турок, Федор Кутузов обнаружил, что с ним только двое егерей и трубач. Остальные солдаты были уже побиты или ранены.
– Труби атаку! – хрипло сказал он полковому музыканту, который спас ему жизнь.
В ответ на сигнал еще два десятка егерей показались в амбразуре. Ранее они не решались подняться на стену, полагая, что турки перерезали всех русских.
– Ура, ребята! – крикнул подпоручик, увлекая солдат внутрь бастиона.
Вмиг турки были изрублены и переколоты штыками. Спускаться в город было запрещено, пока не откроют Килийские ворота – чтобы вошел резерв.
Случайная пуля со шмелиным жужжанием, уже на излете, пробила Кутузову грудь. Чувствуя слабость, он прилег на банкете – площадке за бруствером для наблюдения и стрельбы.
– Ваше благородие! – подбежал к нему егерь, простоволосый, в изорванном и забрызганном кровью мундире. – Турок лезет сюда! В агромадной силе!..
7
Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов руководил атакой колонны, находясь у вала Новой крепости.
Слева и справа от Сингалпашинского бастиона, где засела горсточка русских храбрецов, яростный бой кипел с переменным успехом. Уже вся шестая колонна была в деле. Соседи справа испытывали трудности; явился офицер с просьбой о помощи. Михаил Илларионович, ослабив свою колонну, тотчас подкрепил их егерским батальоном.
Дважды самолично водил он солдат в штыки, и дважды губительным орудийным и ружейным огнем турки отбрасывали русских с вала. Наконец Кутузов послал своего адъютанта Глебова к Суворову, следившему за ходом боя с высокого кургана, сказать, что идти дальше невозможно. Глебов привез ответ:
– Передай Кутузову, что я назначаю его комендантом Измаила и уже послал в Петербург известие о покорении крепости!..
– Комендантом? – переспросил Михаил Илларионович. – Меня? Значит, отступать некуда!..
Третья штыковая атака была самой яростной. В одном месте солдаты Полоцкого полка дрогнули, в их рядах появился священник с крестом в руках и увлек за собой. Наконец были отворены Килийские ворота и 26-пушечная батарея турок на бастионе повернута внутрь города. Херсонцы под начальством Андрея Миллера, гренадеры и два донских казачьих полка ворвались в Измаил.
Было восемь пополуночи. День бледно освещал уже все предметы, и русские войска твердой ногой стояли на валу. Вслед за 2-й колонной генерала Ласси, ранее прочих взошедшей на вал Старой крепости, 1-я колонна генерала Львова овладела Хотинскими воротами. Трудная задача выпала на долю колонн бригадиров Орлова и Платова: 4-я колонна оказалась даже разорванной надвое, когда часть ее взобралась на вал, а другая, еще находившаяся во рву, внезапно была атакована во фланг турками, выбежавшими из Бендерских ворот. Суворов тотчас поддержал ее ближайшими резервами. В это же время флотилия де Рибаса высадила десант и овладела береговыми батареями.
Турки, пользуясь своим многолюдством, готовились обороняться внутри города. Каждый шаг стоил крови, каждое строение приходилось брать с бою. В одном из каменных домов – ханов засело около двух тысяч неприятелей. Кутузов взял батальон Бугского егерского полка, поднялся по лестницам на хан и выбил турок. Но сопротивление не ослабевало.
В час пополудни султан Каплан-Гирей собрал на рыночной площади целое войско – более десяти тысяч татар и турок (преимущественно янычар). Отчаяние придавало обороняющимся новые силы. Они опрокинули черноморских казаков и даже отбили у них две пушки. Кутузов с генералом Ласси спешно собрал три батальона, и они быстрым шагом бросились на неприятеля в штыки. Из всего скопища после жестокой схватки в плен досталось только четыреста человек. Каплан-Гирей пал вместе со своими шестью сыновьями.
К этой поре русские войска заняли уже весь город. Лишь комендант крепости старик Айдос Мехмет-паша засел в одном из домов с сильным отрядом янычар и продолжал исступленно сражаться. Пришлось орудийными выстрелами выбивать ворота.
Голенищев-Кутузов, уже в качестве коменданта Измаила, послал через Глебова предложение о сдаче. Окруженный со всех сторон, Мехмет-паша понял бесполезность сопротивления и выкинул белый флаг. Несколько сот янычар во главе со своим предводителем вышли из дома, повесив в знак покорности на шею ятаганы и сабли.
В этот момент один из казаков заметил на престарелом паше богатый кинжал и захотел тут же овладеть им. Охранявший Айдоса Мехмета великан-янычар вскинул ружье и выстрелил; пуля пробила Глебову голову. Солдаты решили, что бой возобновился, взяли неприятеля в штыки и перекололи всех.
У турок было убито в этот день 26 тысяч и взято в плен более девяти, но две тысячи вскоре умерли от ран. Суворов в своем рапорте Потемкину определил урон своих войск в две тысячи убитых и две с половиной – раненых. Однако потери, очевидно, были значительно больше – до десяти тысяч, причем из 650 офицеров выбыло 400.
Измаил дымился в развалинах. Солдаты бродили по пепелищам, скликая товарищей. Трофеями русских стали 265 пушек, 364 знамени, 42 судна; войскам досталась громадная добыча, оцениваемая в десять миллионов пиастров.
Только один человек ушел из Измаила. Он принес великому визирю весть о падении непобедимой крепости.
8
М. И. Кутузов – Е. И. Кутузовой.
12 декабря, в Измаиле.
«Любезный друг мой, Катерина Ильинична. Я, слава Богу, здоров и вчерась к тебе писал… что я не ранен и Бог знает как. Век не увижу такого дела. Волосы дыбом становятся. Вчерашний день до вечера был я очень весел, видя себя живого и такой страшный город в наших руках, а в вечеру приехал домой, как в пустыню. Иван Степанович Рибопьер и Глебов, которые у меня жили, убиты; кого в лагере ни спрошу, либо умер, либо умирает. Сердце у меня облилось кровью, и залился слезами. Целый вечер был один; к тому же столько хлопот, что за ранеными посмотреть не могу; надобно в порядок привести город, в котором одних турецких тел больше 15 тысяч.
Полно говорить о неглавном. Как бы с тобою видеться, мой друг: на этих днях увижу, что можно мне к тебе или тебе ко мне… Скажу тебе, что за все ужасти, которые я видел, накупил лошадей бесподобных; между прочим, одну за 160 рублей, буланую, как золотую, за которую у меня турок в октябре месяце просил 500 червонных. Этот турок выезжал тогда на переговоры.
Из твоих знакомых хуже всех ранен Федор Васильевич Кутузов. Пуля, думаю, в легком. Кровью все кашляет. Надежнее Миллер. Корпуса собрать не могу, живых офицеров почти не осталось. Ты и дети не рассердитесь на меня, что гостинцев еще не посылаю, не видишь совсем таких вещей, как были в Очакове, для того, что все было па военную руку. Деткам благословение.
Верный друг Михаила Г. Кутузов».* * *
Екатерина Ильинична плакала и смеялась, перечитывая это страшное письмо. Она то клала благодарственные поклоны архистратигу Михаилу за то, что уберег раба своего от верной гибели, то вспоминала покойников – Рибопьера и Глебова, то молилась об исцелении Федора Кутузова и Андрея Миллера. Она думала о том, как был бы счастлив и вознагражден за все свои страдания Михаил Илларионович, если бы здесь, в Елисаветграде, его ожидал живой и невредимый Николаша! После смерти сынишки Екатерину Ильиничну стали посещать частые нервные припадки.
Вся жизнь ее теперь сосредоточилась в дочерях. Тринадцатилетняя Парашенька, которую они в шутку и всерьез хотели с Михаилом Илларионовичем выдать в положенный срок за Алексея Михайловича Кутузова, уже, можно сказать, барышня. Изрядно играет на клавикордах, способности превосходные, и, коли бы не ее нетерпение, получилась бы хорошая музыкантша. Екатерина Ильинична и здесь, в самой глуши, старалась дать старшей дочери приличное образование. И кое-чего добилась: Парашенька превосходно знает богословие, изучила порядочно географию и историю, тверда в арифметике, читает по-латыни и довольно знает российскую грамматику. А вот по-французски говорит худо: учить некому. Да, очень неглупа! Но, верно, будет в ней много и ветрености, что уже теперь огорчало добрую маменьку…
Совсем иной характер у восьмилетней Аннушки, пышечки, толстушки. Она, конечно, станет степеннее, хоть и проще. Аннушка уже сейчас прилежна до крайности к чтению, усидчива и послушлива. Интереснее их обеих Лизонька – очень остра. Вот только болезни мешают ей учиться. Девочка нервная, живая и столь сообразительная, что, кажется, даже чересчур для ее семи годков…
Впрочем, больше всех удивляет двухлетняя Дашенька. Бойка, понятлива и так ласкова, что Екатерина Ильинична, чувствуя свою к ней пристрастность, опасается, как бы ее не избаловать…
Каждый день ожидала она теперь возвращения Михаила Илларионовича. Уже многие генералы, бравшие Измаил, вернулись к своим семьям, а он, увы, видно, не очень торопится. Екатерине Ильиничне успели наплести, будто ее супруг от безделья день-деньской сидит в своих измаильских покоях. А если и покидает их, то только для того, чтобы направиться к одной из своих повелительниц, которых он якобы завел в гарнизоне. Да, свет не без добрых людей! А врагов и завистников у Михаила Илларионовича без меры…
Думая о счастливом избавлении мужа от смертельной опасности, Екатерина Ильинична не позволяла себе даже тенью ревновать его. Главное, что жив и здоров!..
Она искала отрады в редких письмах из Берлина от Алексея Михайловича Кутузова. О причинах невозвращения в Россию своего друга Екатерина Ильинична вскоре узнала из очередного пространного послания. Печальная участь Радищева понудила Алексея Михайловича ожидать и для себя Сибири и каторги.
* * *
«Вы знаете, что на всякого человека бывают в жизни периоды, во время которых выступает он из обыкновенного положения, – писал ей Кутузов, перемежая рассуждения о Радищеве строками из гомеровской «Илиады». – Сии периоды можно точно назвать кризисами нашей жизни. Иногда разрешаются они с пользою, но нередко уничтожаются все труды и заботы прошедших наших дней. Мой друг, несчастный друг, испытал сию истину. Провождая 40 лет в тишине и покое, имея четырех детей, которых чрезвычайно любил и которыми мог поистине заниматься с приятностию и пользою, вздумалось ему сделаться автором, – несчастное желание! Начало к сему сделал книжкою «Житие Федора Васильевича Ушакова», с приобщением некоторых его сочинений, но, по несчастию, был человек необыкновенных свойств, не мог писать, не поместив множества политических и сему подобных примечаний, которые, известно вам, не многим нравятся. Он изъяснялся живо и свободно, со смелостию, на которую во многих землях смотрят как будто бы на странную метеору. Книжку сию приписал он мне. Признаюсь, что большую часть его положении касательно религии и государственного правления нашел я совершенно противоположною моей системе…
Книга наделала много шуму. Начали кричать: «Какая дерзость, позволительно ли говорить так!» – и проч. и проч. Но как свыше молчали, то и внизу все умолкло. Нашлись и беспристрастные люди, отдавшие справедливость сочинителю. И сих-то последних похвала была, может быть, неумышленною причиною последовавшего с ним. Не успел еще перестать упомянутый шум, как является уже он вновь перед публику с новым сочинением, – которого, однако ж, я не имею в виде Иориковом: «Путешествие из Петербурга в Москву». Что писано в нем, того не знаю; известно, однако ж, мне то, что тотчас он был арестован, отослан под суд в уголовную палату, осужден и приговорен к смертной казни. Но когда дело дошло до монархини, то из высочайшего милосердия лишен чинов и дворянства и сослан в Сибирь, в Илимский острог, на десятилетнее безвыходное заточение.
Сие получа вдруг, вообразите, сколь я был поражен сим происшествием и в состоянии ли я был писать что-либо; ваше нежное и справедливое сердце послужит мне хоть некоторым извинением. Не успел еще укротить возмущающуюся кровь, как слышу от проезжих, что и я, может быть, подобной участи ожидать должен. Я забыл сказать, что и сия книга приписана мне, ибо почитали меня, не знаю почему, участником в его преступлении. Но я не хочу входить в подробности для оправдания. Совесть моя чиста, и я ничего не страшусь. Вот истинная причина долговременному моему молчанию.
Теперь вы все знаете и можете судить меня беспристрастно. Я уверен, что вы не усумнитесь нимало в моем сердце. Расцелуйте мою милую любезную невесту и верьте, что я навсегда пребуду ваш нижайший и верный
Алексей Кутузов».* * *
Странным, прихотливым образом пересекаются порой человеческие судьбы на исторических координатах…
Кажется, что могло быть общего у набирающего силу и авторитет военачальника, высоко чтимого и вице-императором России светлейшим князем Потемкиным, и самой государыней, Голенищева-Кутузова с дерзким революционером Радищевым, который своим «Путешествием из Петербурга в Москву» потряс все устои общества? Но где-то там, на боковых линиях координат, возникает точка соприкосновения: это Алексей Михайлович Кутузов.
Радищев – самый близкий друг Алексея Михайловича; Алексей Михайлович – любимец Михаила Илларионовича по службе в Полтавском пикинерном полку и доверенное лицо его супруги. Ссылка в Илимский острог лишенного чинов и звания Радищева резко отразилась на всей жизни Алексея Михайловича; судьба последнего, в свой черед, была далеко не безразлична для Голенищевых-Кутузовых. Особенно для Екатерины Ильиничны. Так завязывались психологические и житейские узлы, так сплетались жизненные узоры, где все взаимосвязано, где неожиданно в гром победных орудий вплетается звучный голос певца вольности и борца с самодержавием. Мы можем, к сожалению, лишь строить догадки, какими были разговоры Кутузовых об авторе «Путешествия из Петербурга в Москву»: доверить бумаге их было невозможно…
Но вместе с Алексеем Михайловичем странной тенью в жизнь Екатерины Ильиничны вошел и Радищев.
Она понимала, что в письме, обреченном на вскрытие и пристальный досмотр, многого не скажешь, и, хорошо зная Алексея Михайловича, легко читала между строк. Ведь подчеркнутое несогласие с Радищевым, с его взглядами и мыслями, было предназначено прежде всего всевидящей цензуре, в надежде на возможное возвращение в Россию. Понимала Екатерина Ильинична и то, сколь небезопасно находиться в приятельской переписке с человеком, которого считают в верхах политическим преступником. Но Екатерина Ильинична не могла изменить своей прямодушной, пылкой и, быть может, даже несколько экзальтированной натуре. Некоторые меры предосторожности все-таки приняты, и очевидно по совету предусмотрительного Михаила Илларионовича. Теперь она посылает письма на адрес московского «брата» Кутузова – Лопухина, который уже переправляет их в Берлин.
Поздравляя Алексея Михайловича с наступившим 1791 годом, Екатерина Ильинична напоминает, что не просто добрая традиция, а нечто гораздо большее, даже невысказанное, заставляет желать ему «всякого благополучия». Ее отношение к другу выражено в словах: «всякий день помня о вас…». Тут много недоговоренного, скрытого в недомолвках и намеках, облаченного в своего рода психологический шифр. Но что-то прорывается в прямых признаниях, приоткрывая завесу женской души: «Сердце ваше мне знакомо. Льщусь я, что оно не переменилось». Здесь и участие, и затаенная грусть о несбыточном, и даже некая сентиментальность, предваряющая строй чувств героинь Карамзина.
Впрочем, Алексей Михайлович, сам возвышенный, чистый и сентиментальный, и должен был, видимо, вызывать к себе подобное отношение. Ведь не случайно он был близким другом не только Радищева, но и молодого Карамзина. Именно его зашифровал Карамзин (по понятным соображениям) в своих знаменитых «Письмах русского путешественника» под инициалом «любезного друга А» и в своем заграничном вояже искал с ним встречи…
Для Екатерины Ильиничны Алексей Михайлович был единственным другом. Но и только? Нет, еще и духовником. Только ему исповедуется она в больших и малых заботах, делится интимными огорчениями касательно Михаила Илларионовича, все еще не спешащего к домашнему очагу.
«Награждена за все Божию милостию, – пишет она, – что спас Михаила Илларионовича. После такого жестокого огня, каков сей штурм был, не только оставил его живого, но и здорового. Услыша сие, была порадована несказанно; думала, что за сим последует и свидание с ним скорое; но он, по обыкновению своему, еще не едет, хотя все проезжавшие генералы мне сказывали, что он уже отпущен, а на его месте командует в Измаиле Ласси, а сначала командовал он, ибо вошел в город первый. Три недели скоро, как и известия от него не имею; можете судить о моем положении».
Екатерина Ильинична напрасно гневалась на своего мужа, которого крепко держали новые бранные заботы.
9
На другой день после взятия Измаила Суворов отслужил молебен в церкви греческого монастыря Святого Иоанна. Здесь, подле могилы славного генерала Вейсмана, был похоронен с отданием воинских почестей Иван Рибопьер.
Затем полководец собрал генералов и старших офицеров на торжество по случаю громкой виктории. Только что им были отправлены реляции. Екатерине: «Гордый Измаил у ног Вашего Императорского Величества»; Потемкину: «Не бывало обороны отчаяннее обороны Измаила, но Измаил взят – поздравляю…» Теперь он по праву ожидал себе желанной награды – фельдмаршальского жезла.
За обедом, между тостами, Суворов оказывал особенное внимание Кутузову и самолично подкладывал ему на тарелку лучшие куски жаркого.
– Ваше сиятельство, – спросил Михаил Илларионович, когда отгремели здравицы в честь государыни и всего российского воинства, – почему изволили вы поздравить меня комендантом, когда я отступил?..
Полководец помедлил, но затем ответил своей обычной скороговоркой:
– Я знаю Кутузова, а Кутузов знает меня. Я знал, что Кутузов будет в Измаиле. А если бы не был взят Измаил, Суворов умер бы под стенами Измаила – и Кутузов также… – И добавил, обращаясь к собравшимся: – Кутузов находился на левом крыле, но был моей правою рукою…
В конце обеда зашел разговор о генералах – кто из них умнее и искуснее. Большинство отдавало предпочтение Кутузову. Суворов, вступив в разговор, подхватил:
– Так, так! Он умен! Очень умен!.. – и сказал, уже вполголоса: – Его и сам Рибас не обманет…
В списке отличившихся при взятии Измаила о Михаиле Илларионовиче говорилось: «Генерал-майор и кавалер Голенищев-Кутузов оказал новые опыты искусства и храбрости своей, преодолев под сильным огнем неприятеля все трудности, влез на вал, овладел бастионом, и когда превосходный неприятель принудил его остановиться, он, служа примером мужества, удержал место, превозмог сильного неприятеля, утвердился в крепости и продолжал потом поражать врагов».
На документе Потемкин начертал: «Третий класс Георгия». Помимо боевого ордена Кутузов был произведен в генерал-поручики. Ему вверили войска, расположенные между Днестром и Прутом.
С падением Измаила можно было надеяться, что турки станут уступчивее. Действительно, прервавшиеся было переговоры вновь возобновились. Однако интриги Пруссии, Австрии и Англии расстроили все попытки к примирению. Приходилось и в 1791 году готовиться к новой кампании.
Глава четвертая Герой Мачина
1
– Позвольте же мне, дорогой Михайла Ларионович, обнять вас и еще раз поздравить с успешным поиском за Дунай!..
– Счастлив видеть ваше сиятельство в добром здравии, – отвечал Репнину Кутузов, про себя отмечая, до чего же изменился, похудел и постарел князь Николай Васильевич. Красивые его брови заметно проредились, глаза запали и потеряли былой блеск.
– Надежда главная моя на Всевышнего, а уж затем на военные дарования ваши и прочих генералов… – проговорил торжественно, как обычно слегка гнусавя, князь Николай Васильевич.
Генерал-аншеф Репнин, временно заменивший Потемкина на посту главнокомандующего Молдавской армией, по причине отбытия его светлости в Петербург, вызвал Голенищева-Кутузова в свою ставку, в Галац, чтобы обсудить план ведения кампании.
К началу 1791 года неспокойно стало на западных рубежах России, куда с берегов Дуная пришлось выделить значительную часть войск. Репнину поэтому предписывалось занимать главным образом оборонительную позицию. Для отвлечения турецких сил генерал Гудович должен был наступать на Кавказском побережье и завладеть Анапой. Севастопольскому флоту поручалось прервать сообщение между европейскими и кавказскими владениями Оттоманской Порты.
Кутузов, назначенный начальником над всеми войсками и крепостями, расположенными между Прутом, Днестром и Дунаем, учредил свою штаб-квартиру в Измаиле. Отсюда он совершил ряд удачных поисков на правый берег Дуная. 27 марта Михаил Илларионович разбил сильный турецкий отряд у села Монастырище, близ Бабадага, а на следующий день вместе с генерал-поручиком князем Голицыным у стен Мачина рассеял скопища Арслана Магомет-паши и овладел самой крепостью. После этого все укрепления Мачина были срыты, и русские воротились на левую сторону Дуная. Однако летучие рейды не могли сломить упрямство турок. Нужна была решительная победа.
Когда Репнин получил сведения, что главные силы великого визиря Юсуф-паши направляются к Мачину, он приказал Кутузову вторично выступить в направлении Бабадага. В ночь на 3 июня отряд из 20 батальонов, 12 эскадронов и небольшого числа черноморских казаков перешел Дунай у крепости Тульча. 23 тысячи турок и татар под начальством сераскиров Ахмеда и Джур-оглу пашей и хана Бахти-Гирея, расположившиеся у Бабадага, не ожидали внезапного появления русских. Дело было решено одной конницей. После ее стремительной атаки неприятель, не дожидаясь, пока подойдет русская пехота, стремглав побежал в сторону Мачина, оставив сильно укрепленный лагерь с огромными запасами хлеба и пороха. Было захвачено несколько знамен, восемь медных пушек. Турки и татары потеряли в этом деле до полутора тысяч, а русские – всего лишь нескольких человек. Это уже был серьезный урок для великого визиря. Тем не менее Юсуф-паша, собиравший главную армию у Мачина, готовился перейти в наступление: он был превосходно осведомлен о слабости русских сил…
Князь Николай Васильевич, в ожидании командиров двух других корпусов – генерал-поручиков Голицына и Волконского, пригласил Кутузова выпить кофе. На маленьком столике рядом с низкой оттоманкой лежала Библия с многочисленными закладками. Михаил Илларионович слышал, что Репнин после смерти любимой дочери Прасковьи, последовавшей шесть лет назад, еще более погрузился в религиозность. Библия сделалась теперь его единственным чтением.
За кофе хозяин попенял, что Кутузов до сих пор не сумел исполнить его распоряжений – с помощью местных жителей срыть оставшиеся укрепления в Измаиле, Килии и Аккермане.
– Нет, князь, право, увольте, – говорил Михаил Илларионович, отхлебывая крошечными глотками крепчайший кофе. – Надо оставить сих несчастных в покое. Довольно натерпелись они в настоящую кампанию. Ведь все это – молдаване и болгары, наши братья! В краях этих около двух тысяч мужчин, способных таскать лопату. А для срытия крепостей потребуется держать их на тяжкой работе более трех месяцев. Что же станется с их урожаем? Хлебом? Виноградниками? Кто позаботится о пропитании их семейств?..
– Вы правы, Михайла Ларионович, – со вздохом отвечал Репнин, положив руку на Библию, словно для произнесения торжественной клятвы. – «Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем…»
Великолепно знавший закон Божий, Кутузов продолжил слова из послания апостола Павла к галатам:
– «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере…»
Князь Николай Васильевич в знак согласия наклонил пудреную голову, а затем, не поднимая глаз, быстро спросил:
– Кстати, нет ли чего от вашего берлинского друга – Алексея Михайловича Кутузова?
Михаил Илларионович только что получил письмо Екатерины Ильиничны с подробным изложением очередного послания из Берлина.
– Ничего нет, и уже давно, – так же быстро ответил он, придав голосу оттенок неподдельной скорби. – Я чаю, уж не стряслось ли что с бедным Алексеем Михайловичем?..
Репнин внимательно поглядел в лицо Михаилу Илларионовичу: трудно прочитать взгляд, когда правый глаз сильно косит, а левый холоден и словно пуст. «Да! – подумал князь (и уже не в первый раз). – Кутузов доступен, но сердце его не доступно!» – и, слегка гнусавя, сказал, сильно растягивая слова:
– Я так и полагал, Михайла Ларионович… Я так и полагал…
Появился адъютант Репнина француз Гюне и доложил, что генералы прибыли. Михаил Илларионович слышал об этом Гюне как о яром масоне и кавалере Злато-Розового креста, подчинившем себе старого князя.
Внутренне давно уже охладев к братству вольных каменщиков, Кутузов, насколько мог, использовал этот могущественный орден. С течением времени он был принят в ложи Франкфурта-на-Майне, Берлина, Петербурга, Москвы и проник в тайны высоких степеней. При посвящении в седьмую степень шведской ложи Михаил Илларионович получил орденское имя «Зеленеющий Лавр» и девиз: «Победами себя прославит». Но он же ускользал от любого посягательства на свою свободу в мыслях и чувствованиях. При малейшей попытке использовать в неизвестных целях его самого и его имя, как это могло бы произойти сейчас, Михаил Илларионович незаметно отступал в сторону и как бы отгораживался…
А вот и храбрый генерал-поручик Голицын, сподвижник Кутузова в его поисках за Дунай!
Князь Сергей Федорович, как хорошо помнил Кутузов, в молодости был пылок и невоздержан во всем, что касалось прекрасного пола, карточных страстей и застольного веселья. Когда генерал-аншеф князь Николай Сергеевич Волконский отказался жениться на легкомысленной Вареньке Энгельгардт и поплатился за это назначением воеводой в далекий Архангельск, Голицын тотчас предложил племяннице Потемкина руку и сердце, что и было благосклонно принято. Светлейший же отнесся к бракосочетанию иронически и сказал в своей излюбленной грубоватой манере явившимся вельможам:
– С чем поздравлять? Вышла б… за б…!..
Николай Сергеевич Волконский погубил свою карьеру и прожил последние годы безвыездно в собственном имении Ясная Поляна, которое обессмертил под именем Лысые Горы его родной внук Лев Николаевич Толстой, наделив некоторыми чертами деда старого князя Болконского. Что же до Сергея Федоровича Голицына, то надо отдать ему должное: страсть к женщинам превратилась у него после женитьбы в постоянную любовь к одной; прежний отчаянный азарт игрока перешел в благородное увлечение шахматами, где, кажется, он не знал себе равных; не желал князь другого чтения, кроме военной истории и книг по искусству стратегии.
Округлое, с маленьким ртом и открытыми серыми глазами лицо князя Сергея Федоровича выражало его природную доброту, приветливое обхождение и всегдашнюю любезность. Другой генерал-поручик – князь Семен Григорьевич Волконский держался не в пример сдержаннее и суше, хотя и приходился Репнину зятем: он был женат на его дочери Александре Николаевне. Сам князь Николай Васильевич подчеркнуто старался не выказывать своих родственных симпатий и неприязненного отношения к потемкинскому клану.
Всех, однако, что-то разъединяло: родство, пристрастия, антипатии. Только Кутузов был исключением – недаром ему покровительствовали лица, не терпевшие друг друга: покойный Петр Федорович и Екатерина II, фельдмаршал Румянцев-Задунайский и Потемкин-Таврический, Суворов, которого князь Николай Васильевич называл «сущим партизаном» и «баловнем счастья», и Репнин, о котором граф Рымникский отзывался: «фагот гугнивый»; а позднее – Павел I, вообще не умевший долго являть кому-либо одни милости. У Михаила Илларионовича имелось немало врагов при дворе и в армии. Но то были не вельможные покровители, а лишь завистники и недоброхоты…
В аскетически-строгих покоях Репнина Кутузов держался так легко и независимо, словно он был тут хозяином. Когда Гюне принес и разложил карты, Михаил Илларионович на правах младшего по чину высказался первым, но в главных чертах предопределил готовящуюся операцию: собрать все силы у Галаца, перейти Дунай и поймать Юсуф-пашу врасплох, упредив его наступление.
По имеющимся сведениям, верховный визирь, желая прикрыть главные города Болгарии, соединил многочисленную армию и расположился в нескольких лагерях близ Дуная. Около тридцати тысяч турок уже находились в укрепленном лагере возле Мачина, а сам Юсуф-паша намеревался вот-вот выступить со стотысячной армией туда же от крепости Гирсово. Одновременно к Галацу двигалась флотилия из полусотни судов.
Князь Николай Васильевич распределил роли и уточнил план предстоящей операции. Переправа через Дунай намечалась в четырех верстах выше Галаца, на судах флотилии генерал-майора де Рибаса. Тридцатитысячная русская армия развертывалась в четыре колонны на полуострове Кунцефан. Отряду Голицына ставилась задача нанести отвлекающие удары по неприятелю с фронта, меж тем как Бугский егерский корпус Кутузова с казачьей бригадой Орлова должен был обойти правый, наиболее открытый фланг турок. Ударом с двух сторон надлежало нанести Юсуф-паше решительное поражение. Корпус Волконского осуществлял связь между двумя ударными частями и подкреплял их.
Прощаясь с генералами, Репнин задержал пухлую руку Кутузова:
– Ну как, Фабий Ларионович? Вы верите в успех?..
– Не я верю, – отшутился Кутузов, – верит мой правый глаз…
Князь Николай Васильевич именовал так Кутузова, имея в виду одного из лучших римских военачальников времен Второй Пунической войны Фабия Максима, который отличался благородством души, кротостью и такой твердостью характера, что ее не могли поколебать ни превратности жестокой судьбы, ни зависть, ни близорукость его товарищей и сограждан. Такая характеристика делала честь прозорливости Репнина. Ведь именно Фабий вернее всех других вождей Рима понял образ действий вторгшегося Ганнибала. Однако сограждане приняли его глубоко обдуманный замысел борьбы с предводителем грозного Карфагена за нерешительность и прозвали Кунктатором, то есть Медлителем. Какой перелет мысли к будущему противоборству с Наполеоном!..
Другим прозвищем, которым наградил Репнин Кутузова, было: Михаил Баярд, в честь французского «рыцаря без страха и упрека» и полководца Пьера-лю-Терайя Баярда. Князь Николай Васильевич подразумевал здесь не только изумительную храбрость своего генерала, но и тяжелейшие ранения, которые тот, подобно Паярду, перенес мужественно и кротко.
И сейчас Репнин невольно поглядел на следы от двух турецких пуль, пронизавших голову Кутузова, Михаил Илларионович перехватил его взгляд.
– Я уже дважды, мой князь, за последний месяц побывал на полуострове Кунцефан и высмотрел там все. Туркам, конечно, будет удобно отбиваться от нас с высот. Но ежели мы пробьемся через крутизну и зайдем им вбок, цель будет достигнута. – И добавил, призажмурив больное око: – Не верь брату родному, верь своему глазу кривому…
2
Верхом на Зефире, гнедом жеребце, подаренном ему императрицей, Кутузов медленно ехал в середине пехотной колонны, оглядывая равнину Кунцефана. Полуостров был образован Дунайским рукавом и изрезан множеством речушек, озер и пойм. Поросшие камышом, заболоченные низины перемежались здесь обширными сухими пролысинами: лето выдалось воистину огненным.
Подле Михаила Илларионовича находились начальствующий над конницей генерал-майор Тормасов, генерал-квартирмейстер армии Пистор, французский эмигрант полковник граф Ланжерон, уже переменивший не одно отечество, и немногочисленные адъютанты.
До позиции турок оставалось около тридцати верст, но, кажется, русским удалось незаметно перейти Дунай, а днем 27 июня форсировать речку Самогуль. Стараниями Якова Матвеевича Пистора были отысканы в камышах три дороги к Мачину: правой, по берегу Дуная, шел теперь корпус Голицына, средней, где находился Репнин, – отряд Волконского, а по левой, уходившей крутой дугой на юго-запад, – Кутузова.
Разведка донесла, что неприятельская армия в густых массах стоит впереди Мачина, примыкая своим левым крылом к укреплениям, возведенным впереди города, и имея правый фланг открытым на плоской возвышенности. Однако какова численность турок, установить не удалось.
Михаил Илларионович волновался, не видя казаков из бригады Орлова, которые переправлялись через Самогуль вслед за Бугским корпусом.
– Федя! Дружок! – позвал генерал своего любимца. – Скачи что есть мочи назад и узнай, отчего замешкался Василий Петрович…
Федор Кутузов, с молодого лица которого не сходило выражение преувеличенного возбуждения, с радостным видом поднес два пальца к шляпе, но тут же, не отнимая руки от головного убора, воскликнул:
– Идут! Михайла Ларионович! Они самые! Казачки!..
Несмотря на то что солнце клонилось к западу, было жарко. Под слабым горячим ветерком сухмень задымила пылью, всклубленной копытами. Впереди лавы в высоких шапках, над которыми колыхался лес пик, летел сорокапятилетний цыгановатый бородач, лихо привстав на стременах. Сын простого казака, Василий Петрович Орлов выдвинулся только благодаря своему недюжинному уму и отчаянной храбрости и уже за первую войну с турками имел боевого «Георгия», а затем отличился при штурме Измаила.
Он поравнялся с командиром корпуса, закрутил на месте своего мощного каурого дончака, роняющего розовую пену, и Кутузов невольно залюбовался удальцом.
– Трошки затрымала нас переправа… – отдуваясь, доложил он. – Какие будут приказания?..
– Держись, Василий Петрович, в одном ряду с нами, – с улыбкой отвечал Михаил Илларионович. – Да вышли вперед кого попроворней. Чать, казаки – глаза и уши армии…
Орлов повернулся вместе с конем к толпе и громко выкликнул:
– Стягайло! Осип! Давай сюда! Отправишься в поиск!..
– А, старый знакомый, – все так же улыбаясь, сказал Кутузов, узнав подъехавшего запорожца. – Вижу, не сладко пришлось у турка?..
– Да хужэ некуды, ваша милость, – отвечал тот, подкручивая сивый ус, впрочем, так невозмутимо, словно речь шла о зряшной прогулке. – Нэ раз згадував ваши слова за ушицею. Та нэ в одниму туркови дило. Бач, стари запорижцы вид обиды та вредности здержувають перехид молодых. Брэшуть, що москали будуть их мучить, що наши козакы тут не мають ни клейнотов[36], ни яких прав – одна нэволя. Я було став суперечить, та потим чуть головы не лишився. Вночи зговорились турки менэ, як куря, прыризать. От и тикав з Измаилу. Та всэ цэ було та й мынуло… – Он набрал в широкую грудь воздуха и, наливаясь кровью, гаркнул: – Гэй, моя полусотня! Слухай мэнэ! За мною! Вперэд!..
– Как, не подведет? – прищурил правый глаз Кутузов вслед помчавшимся казакам.
– Можете быть спокойны. Не позавидую ему, ежели он да попадеть к басурманам, – криво ухмыльнулся, пряча рот в иссиня-черную бороду, Орлов. – Они его через кол протащать и с живого кожу сдеруть…
Михаил Илларионович со свитой выехал в голову колонны. Между тем болотистые низины стали попадаться все чаще, дорога сузилась, под копытами зачавкало: по всему чувствовалось, что близко вода. Отряд вытянулся узкой лентой, и движение еще более замедлилось. Впереди, за болотистым кочкарником, поросшим тростниковым лесом, показалась бугристая возвышенность: Мачин…
Чутким ухом Кутузов уловил: возвращаются казачки. Теперь полусотня шла медленно, выстроившись гуськом. Молодого чубатого казака сзади поддерживал сосед: казак был бледен и то и дело клонился к седлу. Стягайло с независимым видом приблизился к командиру корпуса.
– За болотом и ричкою – гора, – коротко доложил он. – На гори пушкы. По долу горы кинни турки сот в пять…
– Чечуль… – напомнил название гнилой речушки, протекавшей у самой подошвы мачинских высот, генерал-майор Пистор.
– Придется строить плотину… – нахмурился Кутузов. – И очевидно, под артиллерийским огнем…
Солнце уже завалилось за холмы Мачина и наконец посвежело, когда колонна Кутузова вышла к низким берегам Чечули. От Репнина пришел приказ: войскам переночевать, навести переправу и с зарей идти на Мачин. Сражение это стоило солдатам много пота и крови…
3
Только что показавшееся солнце било туркам прямо в глаза, зажигая разноцветными огнями оружие их офицеров и богатую сбрую у лошадей. Но тот огонь, который несся с высот, губил русских. Батареи, поставленные на гребне холма, гремели безостановочно.
Перейдя Чечуль в голове колонны, Кутузов повелел двум сотням казаков под начальством премьер-майора Иловайского занять подошву горы. Когда турки заметили русских, их конница спустилась навстречу. Казаки, действуя испытанным методом, подались назад, выманивая неприятеля. Сипахи[37] в азарте бросились их преследовать. В этот момент Михаил Илларионович приказал ударить перешедшим плотину бугским егерям и сибирским гренадерам. Видя массу войск, турки начали останавливаться и поворачивать лошадей. Задние наседали на передних, отчего и образовалась суматоха.
К Кутузову подскакал Осип Стягайло и указал на всадника в чалме, под которым плясал прекрасный буланый жеребец.
– Ваша мылость! Я у вас в довгу! И дарую вам он того коня!..
Он раскрутил свою лошадь и направил ее прямо в толпу турок. И уже подоспевшая кавалерия Тормасова сшиблась с противником и погнала его назад, к высотам Мачина.
Михаила Илларионовича тревожила неизвестность, которая всегда подстерегает в закрытой местности. Крутыми, почти отвесными откосами вставали глинистые, с выжженными солнцем кустарниками холмы. Что там, па высотах? И нет ли где засады? И какие еще хитрости поджидают в трудном пути?..
Двадцать четыре орудия, приданных Кутузову, пока бездействовали; конница могла подняться на высоты лишь слева, где холмы постепенно понижались, переходя в обширный луг.
– Яков Матвеевич! – позвал Кутузов Пистора. – Не сочтите за труд. Возьмите, голубчик, два батальона егерей и попробуйте подняться по скатам.
Испытанный воин молча наклонил голову, спрыгнул с коня и, передав его адъютанту, побежал к колонне.
Легкая пехота рассыпалась у подножия высот. Их шапки замелькали в теснинах, подымаясь все выше и выше. Засверкали ружейные выстрелы с гребня, зеленые фигурки егерей закувыркались, замирали, но остальные упорно лезли вверх…
Весь отряд Кутузова выстроился тем временем у подошвы: слева – кавалерия Тормасова и бригада Орлова, в центре – егеря и сибирские гренадеры. Где-то позади еще только переправлялся через Чечуль князь Голицын.
Не дожидаясь, пока соседний корпус займет свои позиции, Михаил Илларионович подкрепил Пистора новыми силами. Почти одновременно с появлением Голицына на правом фланге русских сверху донеслось «ура». Это егеря оседлали наконец под огнем гребень, несмотря на чрезвычайную крутизну. Пока они работали штыками, отвоевывая у турок плацдарм, надлежало всему отряду подняться наверх.
– Братцы! – громко обратился Кутузов к построившимся войскам. – У нас один путь! – Он указал пухлой рукой на высоты. – Не посрамим же славы русского оружия! Победим или погибнем!..
Генерал-поручик дал знак – и все пришло в движение. Пехота лезла в лоб на крутизны; конница и артиллерия двигались в обход горы.
Когда Кутузов оказался на возвышенности, егеря штыками уже очистили версты на две обширную поляну. Взору генерала открылась справа, перед Мачином, огромная армия турок. Здесь собралось 80 – 100 тысяч отборных войск под командованием верховного визиря Юсуф-паши, собиравшегося вторгнуться за Дунай.
Голицын, перешедший Чечуль, еще не поднялся со своим корпусом на высоты, и Михаилу Илларионовичу приходилось думать об отражении отчаянных атак. Справа уже продвигались от главного лагеря густые толпы янычар. Сперва Кутузов построил отряд в пять каре, в двух линиях, поместив кавалерию на своем левом крыле. Однако затем он обратил внимание на то, что широкое поле на левом фланге русских давало противнику удобную возможность развернуть огромную массу конницы. Михаил Илларионович приказал быстро переменить фронт и построил все свои каре в одну линию, оставив Тормасова и Орлова за своим левым крылом.
Едва он произвел это перестроение, как вся поляна запестрела толпами всадников. Под разноцветными знаменами, предводительствуемые муллами, сипахи кинулись очертя голову на неверных. Их встретил густой ружейный и пушечный огонь. Одна линия позволяла использовать всю мощь фузейных залпов. Самое главное теперь было – сбить пыл, посеять неуверенность у храброго до безрассудства, но не стойкого противника, каковы турки. Кутузов медленно ехал позади пехотного построения, ободряя солдат. В густых клубах порохового дыма турки отхлынули назад, усеяв поле павшими. Но в это время справа ударили янычары.
– Взять их в штыки! – по цепи передали приказ командира корпуса.
Пока егеря на правом фланге управлялись с янычарами, атака конницы с фронта повторилась. Лава за лавой накатывались все новые волны всадников. Казалось, отряд Кутузова, уже окруженный, будет вот-вот раздавлен. Далеко справа заворковали ружейные выстрелы: корпус Голицына поднялся на высоты против главного лагеря и отвлекал на себя турок. Однако между двумя отрядами образовалась широкая брешь, которую было нечем заполнить: Волконский еще только переходил Чечуль.
– Терпите, братцы! Бог терпел и нам велел! – повторял Кутузов. Он приказал несколько перестроить свой правый фланг углом назад. – Терпите! Ведь главное еще впереди!..
Но вот наконец появилась подмога – карабинеры Северского полка и конные егеря. Волконский поспешно выслал свой авангард на высоты. Этих сил было, однако, недостаточно, чтобы закрыть разрыв. Турки получали из главного лагеря все новые и новые подкрепления. И хотя егеря и карабинеры всякий раз атаковали левое крыло неприятеля, вводившего свежие войска, отражать нападения становилось все труднее.
За ближним гребнем загремела канонада: Свято-Николаевский, Московский пехотный и гренадерские полки Волконского поднялись на взгорье и соединили оба корпуса – Кутузова и Голицына. Рассеявшийся пороховой дым открыл пустое поле перед вражеским лагерем, покрытое множеством тел и лошадиных трупов. Странная, зловещая тишина нависла над местом битвы.
– Ну, кажется, вот оно – главное… – сказал Михаил Илларионович не то самому себе, не то своему адъютанту. Впрочем, он тут же уточнил: – Федор, дружок, поезжай к артиллеристам. Прикажи, чтобы заряжали только картечью…
Опытный генерал, он предвидел, что Юсуф-паша предпримет теперь решающую и самую отчаянную атаку. Под командой верховного визиря находились пять пашей, два анатолийских бея и два татарских хана. Все конные и пешие силы, сколько могло вместить поле перед лагерем, одновременно надвинулись на русскую армию. От дыма и пыли не видно уже было поднявшегося в зенит солнца. Пушки и ружья били наугад, но по причине тесноты наступающих толп находили цель. Когда передовые турецкие отряды были приняты в штыки, неприятель начал отходить по всему фронту.
Гюне привез повеление Репнина: атаковать турецкий лагерь. Но Кутузов уже и сам видел, что чаша весов впервые заколебалась и подалась в нашу пользу. Егеря и гренадеры теснили противника, который медленно, пядь за пядью, уступал.
– Феденька! – крикнул Кутузов. – Мчись к Тормасову! Теперь черед коннице!..
По его приказу вся кавалерия с бригадой Орлова, до того не принимавшая участия в сражении, заскакала в правое крыло неприятеля и оказалась позади его главного лагеря. Здесь скучилось множество войск в ожидании, когда их бросят в дело. Но Юсуф-паша не успел воспользоваться своим огромным резервом. Кавалеристы Тормасова и казаки на полном скаку врубились в толпы турок и погнали их по дороге на Гирсово. Это послужило началом полного разгрома.
Когда Юсуф-паша завидел русскую конницу в своем тылу, мужество покинуло его. Он бросился бежать, увлекая всю армию. Лишь несколько янычарских полков продолжали сопротивляться с упорством обреченных. Заскакавший в их ряды князь Волконский получил сильнейший сабельный удар в голову. Он выжил, но рана давала о себе знать некоторыми странностями. Впрочем, они носили безобидный характер. Назначенный позднее генерал-губернатором в Оренбург, князь Волконский едва ли не насильно заставлял местное общество регулярно слушать старинную итальянскую музыку…
Итогом мачинского побоища было пять тысяч убитых турок, не считая тех, кто погиб в Дунайской флотилии (три вражеских судна взлетели в воздух после канонады артиллерии из корпуса Голицына), большое число пленных, в числе которых оказался двухбунчужный паша Мегмет-Арнаут, тридцать пять орудий, пятнадцать знамен и огромный лагерь. Русским эта победа обошлась в 141 человек убитыми и 300 – ранеными.
Возвращаясь к месту сбора, Кутузов встретил Денисова и в самых горячих словах благодарил за отвагу его бригаду. Казаки бродили по полю, подбирая своих раненых и убитых товарищей. Михаил Илларионович заметил знакомого буланого жеребца, которого два запорожца вели под уздцы. На расшитом жемчугом и бисером седле, поперек лошади, лежал, бессильно свесив сивый оселедец, Осип Стягайло. Даже с первого взгляда видно было, что душа его давно уже отправилась в мир иной. Кажется, на нем не было живого места, так был он весь исполосован ятаганами и саблями. Глубоко в теле засел дротик, верно пущенный в своего земляка кем-то из турецких запорожцев.
– Ваша мылость! – обратился один из казаков к Кутузову. – Мы всэ судым, кому отдать цього коня…
– Коня? – переспросил Михаил Илларионович. – А коня должен, думаю, получить тот, кого на общем вашем сходе признают самым храбрым!..
4
На другой день после битвы Кутузов в сопровождении своего двоюродного племянника объезжал биваки, поздравляя солдат с одержанной победой. Он в самых трогательных выражениях изъявлял подчиненным свою благодарность, добавляя, что именно им принадлежит честь одержанных успехов и что всех достойных ожидает награда. Здесь в полной мере проявилась свойственная Кутузову черта – скромность, полное отсутствие стремления присвоить себе чужие заслуги. Напротив, он стремился всем воздать должное, выставить и подчеркнуть то, что они сделали и что без подобного его отношения к делу, может быть, осталось бы вовсе не известным.
Поле перед Мачином озарилось бивачными кострами. Солдаты отдыхали от тяжелых трудов и лакомились припасами, захваченными в лагере Юсуф-паши: тут было найдено много сарачинского пшена, меда, коровьего и розового масла и варенья. Особенно по вкусу пришелся воинам изюм, который они ели горстями, сидя у костров. В сторонке один из егерей возился над небольшим бочонком, в каковых обычно хранится изюм. Он взял камень, выбил дно и захватил полную пригоршню ягод. И вдруг выбросил все обратно, стал отплевываться и что было мочи бросил камень в бочонок.
Михаил Илларионович с Федором Кутузовым подъехали к незадачливому едоку.
– Что ты, братец, творишь с добычей?
– Так что, ваше превосходительство, – ответил тот, вытянувшись во фрунт, – турок изюм отравил! Как есть – чистый яд!..
Кутузов наклонился к бочонку и увидел прекрасные соленые маслины.
– Федор! – улыбаясь, сказал он. – Егерю от меня червонец! Я у него покупаю добычу!..
– Ваше превосходительство! – обрадовался солдат. – Может, еще купите у меня турецкого гороха? Какой-то дюже крепкий горох. Сколько мы его артелью ни варили, не поддается, проклятый…
В изрядном мешке оказался превосходный кофе, за который генерал-поручик тотчас же приказал заплатить, добавив:
– Первый червонец твой, а вот второй раздели, братец, на всю артель…
Уже возвращаясь в штаб, Михаил Илларионович услышал, как за кустами, у спуска к речке, два солдата горячо обсуждают что-то, и остановился, Он чувствовал, что начал сильно полнеть: в конной атаке при Мачине впервые ощутил, как прыгают при галопе у него груди. Тяжело слезая со своего Зефира, Кутузов укорил себя:
– Да, друг мой! Ты сделался, право, изрядный и преизрядный брюхан!..
Приказав Федору Кутузову ожидать на месте, генерал-поручик тихо пошел на голоса.
– Опять нашего Чижика наградой обнесли… – говорил чей-то резкий альт.
– Что, Сергей снова отличился? – вторил ему другой голос, низкий и хрипловатый.
– Да еще как! Сам свидетель. Как турку-то мы сбоку обошли, он четверых бритоголовых на штычок наколол…
– А помнишь, при Измаиле? Офицера заменил!
– Еще бы не помнить! Поручик нашей роты был ранен, не доходя до рва. Ударило ему в грудь картечью. Упал с хрипением. Да ухватил меня за галстук. Я гак и преклонился до земли…
– А я, – басил второй гренадер, – был там оглушен камнем. Он ударил меня меж плечами. Два раза меня ткнули дротиком в мундир. И банником получил несколько ударов в голову. И все же Чижик был самый достойный!..
– Истинно так, Мокеевич! Он первый взошел на батарею. А мы еще внизу были. И там услышали, что отрезаны сзади и что турок всех режет и убивает. Тут-то Чижик взял у какого-то мертвого офицера саблю, зачал махать ею и кричать: «Друзья! Вперед! Ко мне!» И мы, ободрясь, перелезли первый порог и бруствер. И на батарее все оказались. И сколько нашли турок – побили…
– Нет, – хрипловато говорил второй, – видимо, справедливости на сем свете надо ждать-пождать, да и не дождешься. Что делать! И ты, чай, не великий господин. Да и Чижик не из царской ранжереи ягодка и не заморское сарачинское семечко…
Михаил Илларионович раздвинул кусты и увидел при свете полной луны двух гренадеров в форме Ярославского полка, с серебряными медалями участников измаильского штурма. Маленького, жилистого и немолодого, верно заканчивающего свое положенное в армии двадцатипятилетнее дежурство, и другого, худого, кадыкастого малого с длинными ручищами. Вычерненные сажей и распущенные по щекам усы придавали им воинственный и даже свирепый вид, но глаза светились добротой. Оба набирали в манерки воду.
При виде корпусного начальника гренадеры вскочили, вытянулись во фрунт и молодецки гаркнули:
– Здравия желаем, ваше превосходительство!
Вопреки ожиданиям Кутузова, обладателем резкого альта оказался долговязый солдат, а низкий голос принадлежал неказистому подстарку Мокеевичу.
Ласково ответив на приветствие, Михаил Илларионович спросил, точно ли этот гренадер таков, как они о нем говорят.
– Да мы, ваше превосходительство, еще и сотью не воздали ему за его заслуги, – не робея перед генералом, пояснил ветеран.
– А отчего у него фамилия такая – Чижик? – полюбопытствовал Кутузов.
– Это не фамилия. Это прозвище, – сказал тенористый малый. – Звать же его рядовой Сергей Семенов.
– Что же он, тщедушен? Ростом не вышел?
– Какое, не вышел! Косая сажень в плечах! – дружно ответили оба солдата.
– Да больно весело песни играет и побасенки сказывает складно, – добавил Мокеевич своим басом. – Вот и прозвали: Чижик…
Михаил Илларионович поблагодарил солдат за то, что они так признательны к своему сотоварищу, и отправился к поджидавшему его адъютанту. Несколько дней протекло в обычных заботах. Наконец при полном собрании генералитета, полковых и батальонных командиров велел он позвать рядового 1-й гренадерской роты Ярославского полка Сергея Семенова.
И вот явился высокого роста молодец – волосы как солома, нос луковицей, глаза словно два василька.
– Славно, брат Семенов! – встретил его начальник корпуса. – Благодарю тебя за находчивость и неустрашимость! Адъютант! Сейчас галун на него!..
Пока Федор Кутузов прикалывал булавками галуны на солдатский мундир, Михаил Илларионович объявил, что жалует Семенова знаком отличия. Он обнял, поцеловал богатыря и велел выдать ему манерку русской горилки.
5
Победа при Мачине имела далеко идущие последствия. Она довершила то, чего не удалось добиться взятием Измаила: верховный визирь направил Репнину предложение возобновить мирные переговоры. Одновременно с Мачинской битвой генерал Гудович на Кавказе взял 22 июня штурмом крепость Анапу, а 31 июля эскадра контр-адмирала Ушакова разбила и рассеяла у Калакрии турецкий флот. Репнин спешил воспользоваться плодами всех этих побед. 31 июля в Галаце были подписаны предварительные условия – ими подтверждались все пункты Кючук-Кайнарджийского договора: Россия приобретала земли между Бугом и Днестром; Черное и Азовское моря и черноморские проливы были открыты для русского торгового мореплавания.
Приехавший из Петербурга Потемкин был, однако, взбешен заключением мира без его участия: условия казались ему недостаточными для победившей стороны, и он потребовал от Порты уплаты 20 миллионов контрибуции. Впрочем, Россия еще не получила за прежнюю войну ни полушки. Снова открылись переговоры, затянувшиеся до осени. 5 октября Потемкин внезапно умер на пути из Ясс в Николаев, на руках у своей любимой племянницы графини Александры Браницкой.
29 декабря в Яссах был подписан наконец окончательный мир, положивший конец успешной пятилетней кампании.
Репнин в своем рапорте главнокомандующему о победе при Мачине сообщал, что не находит себя в состоянии выхвалить достойно искусство, мужество, неустрашимость и беспредельное усердие к пользе Отечества генерал-поручика Голенищева-Кутузова, который одной решительностью своей склонил долго колебавшуюся победу на сторону российского воинства. В донесении императрице Екатерине II князь Николай Васильевич писал: «Расторопность и сообразительность генерала Голенищева-Кутузова превосходит всякую мою похвалу; одна Ваша монаршья щедрость может заменить ее».
18 марта 1792 года Кутузов был пожалован кавалером Святого великомученика и победоносца Георгия большого креста 2-го класса. Вторая русско-турецкая война выдвинула его в число первых военачальников России. Предсказание Екатерины II сбывалось.
Но у русской государыни имелись на генерал-поручика уже другие виды.
Часть IV
Глава первая Царьградская миссия
1
Густой, маслянистой казалась вода в Золотом Роге. Единственным косым парусом скользила в воде луна. Высокими каменными сотами подымался на другой стороне город – Царьград – Константинополь – Стамбул. За лесом неподвижных корабельных мачт тысячи огоньков теплились в сбегающих террасами домах. Как и пятьсот лет, как и десять веков назад, после трудового дня люди ужинали, веселились, отдыхали, молились, любили, радовались и страдали, умирали и рождались…
Вечный город! Песнью песней, чудом чудес, столицей земли именовали его греческие летописцы.
Несчетное число раз Константинополь осаждали, брали штурмом, разоряли, предавали огню, угоняли жителей в рабство, но он встал – в новых одеждах. Столица древней Византии видела нашествия готов, гуннов, аланов, сарматов, аравов, булгар, персов, аваров, хазар, венгров, сербов, варягов, россов, норманн, печенегов, куманов, венецианцев и генуэзцев, крестоносцев, пока не пала под натиском османов.
Государыне было угодно избрать его чрезвычайным и полномочным послом в ту самую Оттоманскую Порту, в войнах с которой Кутузов столь славно отличился.
Назначение вызвало у многих недоумение и даже неодобрение. Посылать боевого генерала с дипломатической миссией, и куда? В Константинополь, в самую бучу всех интриг, средоточие, где сталкиваются интересы европейских держав! В столицу Блистательной Порты, которая ныне подстрекаема французскими и английскими агентами, толкающими турок пересмотреть мирные трактаты с Россией или, по крайней мере, ущемить, насколько возможно, интересы северного соседа на суше и на море.
Да вот хотя бы недавнее решение Турции изменить, в нарушение Ясского договора[38], таможенный тариф и повысить цены на товары, ввозимые и вывозимые из Порты русскими купцами. Или неприкрытая поддержка со стороны султана обосновавшихся в Смирне разбойничьих французских фрегатов, которые нападают на наши купеческие суда и немилосердно не дают им проходу в Греческом архипелаге. Уж не готовятся ли в Константинополе к большой войне?..
Способен ли генерал-поручик Кутузов разобраться во всех этих и многих прочих хитросплетениях? Двадцатичетырехлетний граф Кочубей, готовящийся занять место постоянного представителя Петербурга в Порте, в сомнениях писал русскому посланнику в Лондоне многоопытному Семену Романовичу Воронцову: «Никто не ожидал подобного выбора, так как хотя человек он умный и храбрый генерал, но, однако, никогда его не видели использованным в делах политических».
Но Екатерина II гораздо лучше многих своих вельмож разбиралась в людях, еще раз подтвердив это назначением Кутузова. Его краткосрочная миссия формально заключалась в том, чтобы восстановить прерванные войной дипломатические связи. Однако в долгих разговорах с Михаилом Илларионовичем в Петербурге государыня указывала ему на необходимость глубоких перемен в отношениях с беспокойным и воинственным южным соседом. Россия нуждалась в мире, и миссия Кутузова должна была служить упрочению доброго согласия с Портой.
Этому, однако, мешало многое: сильные антирусские настроения, интриги английского посла Энсли и, пожалуй, главное – влияние республиканской Франции, неофициальный представитель которой Декорш имел в лице реиса-эфенди (министра иностранных дел) Решида и начальника Монетного двора Юсуф-аги своих ярых приспешников. Французы подталкивали Турцию к войне с Россией и советовали воспользоваться выгодами от непрекращавшихся волнений в Польше.
Кутузову вменялось в обязанность, в меру возможности и сил, защищать интересы христиан, порабощенных турками: болгар, молдаван, валахов, греков, сербов, черногорцев, которые видели в России избавительницу от ненавистного османского ига. Впрочем, как говорилось в секретной инструкции, приходилось одновременно соблюдать «осторожность, чтобы оказательством таковых ласк не возбудить внимания в турках и не дать им повода к каким-либо лютым с христианами поступкам».
…Михаил Илларионович выехал из Петербурга во главе огромного посольства, насчитывающего 650 человек, 15 марта 1793 года. Великолепие и многолюдство свиты должно было лишний раз подчеркнуть могущество России. Шестьдесят топографов готовились составлять подробные описания местности и подсчитывать ресурсы Турции на случай возможной войны с ней. Дипломатическим помощником при Кутузове был определен первый драгоман – переводчик при константинопольской миссии Николай Антонович Пизани, великолепно знавший все тайны дивана и сераля. Поверенными в делах – полковники Бароцци и Хвостов.
Навстречу русским двигался пышный поезд турецкого посла – генерал-губернатора провинции Румелия Рассых-Мустафа-паши.
В соответствии со строгим церемониалом размен послов произошел одновременно, в конце мая, в молдавском городе на Днестре Дубоссары. Бендерский паша Хассан препроводил лодку с Кутузовым в тот самый момент, когда с правой стороны реки отчалил шлюп с Мустафой. Здесь каждая мелочь подробного ритуала служила в восточном духе тому, чтобы не уронить достоинство своего государя.
26 сентября Кутузов с необыкновенной пышностью, с распущенными знаменами, музыкой и барабанным боем, въехал в Константинополь через Адрианопольские ворота. Под ним была богато убранная лошадь, которую выслал в подарок послу Селим III. Факельщики освещали путь до русской резиденции в Пера, а янычары стояли шпалерами по обе стороны дороги. Во двор Кутузов направился верхом, а сопровождавшие его турки спешились. Роскошь и великолепие посольского поезда напоминали сказочные картины из «Тысячи и одной ночи».
На другой день великий визирь прислал справиться о здоровье посла и передал ему драгоценную табакерку, золотую кофейную чашку с алмазами и яхонтами необыкновенно искусной работы и девять отрезов парчи на платья. Вечером Михаила Илларионовича навестили с визитами австрийский, прусский и неаполитанский посланники. С Декоршем, которого Петербург отказался признать представителем Франции, Кутузову запрещено было вступать в какие-либо переговоры…
В ночной темноте Михаил Илларионович предавался уже иным, чем утром, сугубо деловым размышлениям. Он думал о той миссии, какую возложила на него русская императрица.
Кипение жизни в этом миллионном капище поразило Михаила Илларионовича, когда из предместья Пера, где жили европейцы и была его резиденция, он поехал на прогулку в Константинополь. Узенькие улочки зажаты превысокими домами с множеством окон, а на верхних этажах балконы сходятся вместе. Толпы разного люда – турки в фесках, тюрбанах, белых и зеленых чалмах, в меховых безрукавках, халатах, овчинных куртках, лиловые арапчата, армяне в бараньих шапках, курды, пучегубые негры, греки, египтяне, черногорцы. И женщины в широкой чадре – они идут, переваливаясь с боку на бок, влача плоские ступни, не привыкшие к обуви. И из-за яшмака[39] блестят жадным любопытством глаза с насурьмленными ресницами и виден уголок до невозможности набеленного лица. Бегут ослики, подгоняемые водоносами, медлительно и гордо шествуют за босоногими проводниками верблюды, звенят бубенчики прокаженного, вымаливающего милостыню. Разноязычные возгласы, перебранка, музыка, чад кофеен, пыль, лохмотья, нищета…
Но вот за поворотом вдруг открывается давящая громада из каменных подпорок и пристроек, над которыми в кольце окон словно парит над землей гигантский полушар-купол, охраняемый четырьмя белыми пиками минаретов. Айя-София – Святая София!..
Красив Атмейдан с колоссальной белой султанской мечетью Ахмедиэ, окруженной шестью высоченными минаретами. И рядом – обломки греческого мрамора и розового гранита, руины знаменитого некогда Ипподрома Византии и ветшающая колонна греческого императора Константина Багрянородного, у подножия которой янычар лениво раскуривает свою трубку. Обломки прошлого, напоминающие о том, что в сем мире все – бренно…
А поутру? Михаил Илларионович встал очень рано и, взойдя на высокий бельведер своего дома, увидел Константинополь при восходе солнца. Весь! Две мрачные крепости – Румелихасары и Анадолухисары, сторожащие по обе стороны Босфора вход в пролив, гавань, заполненную тысячами судов и лодок, султанский сераль и приземистый отсюда, с Пера, купол Айя-Софии. Голубоватые очертания Царьграда, уступы плоских крыш, решетчатые стены, покрытые зеленью, прозрачные минареты занимали все пространство, уходя и растворяясь в солнечно-мглистом горизонте.
А там, в розовой дымке, зеленой стеной встает Мраморное море, миражно зыблются Принцевы острова, и надо всем, наподобие неподвижного облака, курится в дальней дали вершина Малоазийского Олимпа…
– Боже мой! – только и молвил тогда Кутузов, доставая платок. – Сии чудеса увидя, не рассмеешься, а заплачешь от чувства нежности…
Впрочем, всему свой срок…
Теплой осенней ночью Михаил Илларионович вглядывался в огоньки Константинополя, отыскивая по ним султанский сераль – выстроенный из серого камня и похожий на крепостную тюрьму, с крышей без выступов и узкими, высоко пробитыми окошками. Он думал о Селиме III, тридцатидвухлетнем правителе Блистательной Порты, столь не похожем на своих предшественников.
Сын Мустафы III Селим взошел на престол в 1789 году под гром побед русского оружия, торжествовавшего над турками на суше и на море. Это был великан и силач – полная противоположность сластолюбивым и изнеженным владыкам, какими оказывались обычно султаны. Кутузов слышал от Пизани, что в соревнованиях на длину полета стрелы Селим послал свою стрелу так далеко, как никто и никогда не посылал. Она пролетела 889 метров. Красавец и богатырь, он не выказывал никакого интереса к женщинам, заставляя роптать красавиц в гареме, и находился под большим влиянием своей матери – валиде.
Новый султан намеревался произвести реформы на европейский лад и обуздать своевольных янычар. Но Блистательную Порту раздирали противоречия, которые угрожали ей разрушением. В Египте бунтовали мамелюки – милиция, набиравшаяся из христиан-невольников; в Алеппо возмущались янычары; наместник Багдада объявил себя независимым от султана; паши в Малой Азии своевольствовали и противились новым порядкам; волнения вспыхивали не раз и в самом Константинополе.
«Вряд ли Порта в таковых обстоятельствах решится воевать, – размышлял Кутузов. – Надобно будет воспользоваться ее несчастным положением. Но не угрожать, а доказывать пользу мира».
Подошедший в темноте Федор Кутузов тихо сказал:
– Михайла Ларионович! Било уже два пополуночи… А завтра у вас тяжелый день…
– Спасибо за напоминание, мой дружок. Спасибо, голубчик, – оторвался от своих дум посол. – Мне кажется, я нашел ключик к его величеству. Это мать султана – валиде.
2
Мать Селима III была еще не старая и очень чернявая женщина, быстрая в движениях и столь миниатюрная, что Кутузов, глядя на нее, невольно удивлялся, как могла она родить такого богатыря, каков был султан. Умная, веселая, приветливая, она от души смеялась, слушая забавные истории, которые рассказывал за столом Михаил Илларионович, мешая русские и турецкие слова.
Накануне Кутузов нанес официальный визит великому визирю в его огромном деревянном дворце Паша-Капусси. Капусси означало по-турецки «дверь» или по-французски «ла порт». Отсюда и произошло название Турции – Блистательная Порта…
«Честно сказать, блистательного во дворце визиря я ничего не усмотрел, – думал Михаил Илларионович, продолжая шутливый разговор с валиде. – Зато смешного и дикого для европейского глаза и уха нашел предостаточно…»
Кутузов подъехал к самому крыльцу, где встречен был главным драгоманом – переводчиком Порты Мурузи, а также чаушларом-эмини – интендантом корпуса стражи и чаушларом-кятиби – секретарем. К ним присоединился тешрифаджи – первый церемониймейстер. Они отвели посла в приемную залу.
Вступив в нее, Михаил Илларионович остановился, не видя великого визиря. Он знал, что по турецким обычаям великий визирь, как и все сановники, не может вставать с софы перед «неверным» и, желая вежливо принять высокого гостя, обыкновенно входил из другой комнаты. Перед тем как немусульманин, которому не хотят нанести обиды, входит в одну дверь, визирь, не нарушая своих обычаев и не оскорбляя своих предрассудков, быстро появляется в другой. Вот и теперь он тотчас показался из бокового прохода – маленький суетливый старичок-подагрик в расшитом золотом халате.
Пряча улыбку, Михаил Илларионович вручил визирю грамоту императрицы. Тот принял ее стоя и положил на подушку возле себя. Согласно этикету, посол и визирь сели одновременно: посол на поставленные для него кресла, а визирь на софу, в углу комнаты. Затем визирь через Мурузи приветствовал Кутузова, справившись о его здоровье. Исполнив длинные и необходимые учтивости, Михаил Илларионович сказал:
– Императрица желает твердо и ненарушимо содержать блаженный мир, заключенный между обоими государствами, и возобновленную дружбу с султаном. Ее величество не сомневается в похвальных, в миролюбивых его чувствованиях…
Затем он испросил скорее ходатайствовать ему аудиенцию у султана, чтобы подтвердить все это ему лично.
Великий визирь отвечал, что, со своей стороны, желая сохранить и утвердить блаженный мир, приложит к этой цели совершенное попечение и труд и что он ощущает истинное удовольствие в том, что выбор посла пал на особу, в коей обитают столь высокие способности, прилежание к общим интересам и коя отмечена следами мужества, выказанного на полях битв…
В обеденный час слуги принесли круглый серебряный столик и поставили перед визирем и Кутузовым. Дза арапчонка опустились на колени и положили визирю шитые шелком и золотом салфетки. Кутузову салфетки подали тоже, но без коленопреклонения.
Обед был из шестидесяти блюд, причем некоторые из них Кутузов нашел превосходными. Однако подавали все без разбору: супы следовали за вареньем, жаркое – за пирожным. Не было ни ножей, ни вилок, только к супам и соусам полагались маленькие черного дерева ложки, украшенные бриллиантами и кораллами. Для остальных блюд приходилось пользоваться пальцами, и едва Михаил Илларионович успевал взять щепотку, как блюдо исчезало. «Это напоминает сцену обеда Санчо Пансы на острове Баратария»[40], – с усмешкой подумал он.
Пиршество сопровождалось концертом. Подобной какофонии Кутузов еще не слыхивал: десять громадных тромбонов, двадцать маленьких и восемь кларнетов в продолжение двух часов раздирали своими завываниями уши. Меж тем визирь сладко жмурился при этих ужасных звуках, и Михаил Илларионович вынужден был назвать музыку прелестной.
После обеда нужно было омыть руки в большой серебряной посудине, куда был положен кусочек мыла. Великий визирь, омыв себе руки и бороду, причесал ее золотым гребешком. После этого их с Кутузовым надушили алоэ и фимиамом, принесли трубки, и разговоры вновь продолжились.
Кое-чего Михаил Илларионович добился уже во время этой аудиенции. Преданно служивший Турции молдавский господарь Александр Мурузи выслал из Ясс митрополита, который пользовался покровительством России. По настоянию Кутузова визирь обещал сместить Мурузи, а митрополиту разрешить отправиться обратно в Яссы.
Предстояло, однако, добиться главной цели: воспрепятствовать франко-турецкому союзу, угрожавшему России, и нейтрализовать враждебные действия англичан. Михаил Илларионович между делом рассказал визирю о будто бы состоявшихся своих дружеских переговорах с Энсли, намекая, что былые противоречия благополучно разрешены. Кажется, его маленькая хитрость удалась.
При конце аудиенции послу подали богатую соболью шубу с парчовым верхом, которую тот надел на себя, не вставая с кресел, чтобы не унизить величия России. Поверенный в делах Хвостов, маршал посольства Корф и секретари получили лапчатые собольи шубы, кавалеры – горностаевые, свите было роздано сто кафтанов. Назавтра Кутузов отправил ответные подарки великому визирю, отнесены были дары и в сераль султану…
Теперь Михаил Илларионович в самых пышных выражениях распространялся о красоте, силе, мужестве и уме Селима III, которого подарить миру могла только такая необыкновенная женщина, как валиде. Мать султана была растрогана и от волнения даже пропустила несколько кушаний, приказав не ставить их ей. Но вот она успокоилась, хлопнула в ладоши, и по этому знаку четверо евнухов внесли гигантское вызолоченное блюдо, на котором дымился, дразня обоняние, плов из нежного, молочного козленка.
Лишь только кушанье было водружено посреди стола, как вдруг вся масса дымящегося риса всколыхнулась и оттуда с громким криком вывалилось на скатерть что-то живое. Кутузов только усилием воли остался на месте, в то время как его перепуганные соседи вскочили со скамеек. Валиде со смехом успокаивала гостей, говоря, что готовила специально для русского посла эту приятную неожиданность.
На столе лежал и едва дышал крошечный карлик, весь мокрый, обожженный паром: глазки склеились, а мордочка была ярко-красной, как у сваренного омара. Турки оценили остроумие шутки. Михаил Илларионович учтиво сидел, ничего не выражая на лице. Жестокость почтенной валиде вызвала у него брезгливое чувство, но положение обязывало снова острить, улыбаться, говорить комплименты…
С валиде они расстались совершенными друзьями. В покоях старой султанши Кутузов познакомился с ее зятем – капудан-пашой, или начальником морских сил Турции, Кючук-Хуссейном. Это был молодой красавец, щеголь и мот, женатый на сестре Селима. Завоевав его симпатии, Михаил Илларионович приобрел очень влиятельного союзника. Впрочем, как давно приметил Кутузов, положение и вес при дворе не всегда имели решающее значение для пользы дела.
В свите Кючук-Хуссейна находился скромный капитан Ахмед-ага. Он-то и оказался для русского посла самым ценным приобретением.
3
Ахмед был лаз (одна из кавказских народностей) и, прежде чем стать под зеленое знамя Порты, долгое время промышлял пиратством, грабя всех, в том числе и правоверных турок. Поступив матросом в султанский флот, Решид Ахмед благодаря отчаянной храбрости и смекалке скоро выдвинулся и был произведен в офицеры. В 1788 году, в Галаце, он попал в плен к русским, однако Потемкин отличил его среди прочих и возвратил ему свободу. С той поры он с величайшей благодарностью вспоминал о светлейшем князе. Ахмед-ага симпатизировал русским и ненавидел французов.
– Что бы сделали со мной турки, если бы я воевал против них и, раненный, попал к ним в плен? – рассуждал он. – Отрезали бы мне голову? Продали бы в рабство? Бросили бы подыхать, как собаку? А Потемкин приказал вылечить меня и вернул мне саблю…
Михаил Илларионович в сопровождении Ахмед-аги гулял по Константинополю, все более убеждаясь, что новый знакомый для него сущий клад. Ахмеду было чуть более тридцати – крепкий, среднего роста, смуглолицый, со знаками ветряной оспы на лице, и волосатый до кончиков пальцев. «Рожа у него, что и говорить, самая разбойничья, – думал Кутузов. – Зато глаза живые, умные. Да и все, что говорит этот лаз, имеет довольно смысла. Откуда это у него, простого матроса?»
– Если бы я не поклялся верно служить султану, я бы считал за величайшее счастье драться в ваших рядах, – продолжал Решид Ахмед. – Вы полагаете, я шучу? Нет, серьезно! Я люблю войну и провел на войне почти всю свою жизнь. Вот, посмотрите на мою голову, – добавил он, снимая тюрбан. – Я получил пятьдесят сабельных ударов, сражаясь за моего повелителя против разбойников…
Голова бывшего пирата была иссечена страшными шрамами.
– Ну что ж, здесь мы могли бы посоревноваться, – с улыбкой отвечал Михаил Илларионович. – Я не люблю вспоминать о своих ранах, но теперь, пожалуй, исключительный случай…
– Я знаю, вы получили эти раны в битвах с моими соотечественниками, – с жаром подхватил Ахмед-ага. – Я сожалею об этом. Но теперь у нас с вами есть общий враг. Это Франция. И здесь я готов помочь вам…
Через Решида Ахмеда Михаил Илларионович раздобыл списки французских агентов в Молдавии и Валахии, работавших и на турок. В Бухаресте их возглавлял боярин Константин Филипеско.
4
М. И. Кутузов – Е. И. Кутузовой.
«Хлопот здесь премножество; нету в свете министерского поста такого хлопотливого, как здесь, особливо в нынешних обстоятельствах, только все не так мудрено, как я думал; и так нахожу я, что человек только того не сделает, чего его не заставят. Дипломатическая карьера сколь ни плутовата, но, ей-богу, не так мудрена, как военная, ежели ее делать как надобно».
Да, пришла пора, когда Михаил Илларионович начал пожинать плоды своей миссии.
Прежде всего он добился того, что Порта отказалась от намерений изменить таможенные тарифы. В его резиденции собрались на совещание австрийский, прусский и неаполитанский послы. За обедом, конечно, не было откровенных объяснений, все разговоры велись иносказательно. Но потом Кутузов уводил к себе в кабинет то одного, то другого дипломата, объясняя им, что пересмотр тарифа на торговлю с Россией может легко привести и к пересмотру тарифа на торговлю с другими европейскими державами. Лиха беда начало! Он склонил поодиночке послов к тому, чтобы они обещали ему от имени своих правительств заявить о несогласии с пересмотром тарифа. Вечер закончился вполне дружеской партией в вист, которая затянулась за полночь. Михаил Илларионович мог торжествовать победу не только над турецкой, но и над английской дипломатией в Константинополе. Ведь это Энсли надоумил турок изменить тариф и всячески препятствовать русским купцам, лишив их привилегий…
Затем надо было решительно помешать франко-турецкому сближению. Дело зашло далеко. В руках у Кутузова оказался проект тайного договора между Парижем и Константинополем, направленного своим острием против России. Правительство Порты уже настолько поддалось влиянию республиканцев, что Михаил Илларионович в кругу своих называл Турцию «флюгером Франции».
Как и в случае с тарифами, послу оказал поддержку капудан-паша Кючук-Хуссейн, который трезво смотрел на вещи, понимая, что война с Россией окажется для Порты гибельной. Оказав давление на султанское правительство, Кутузов добился твердых гарантий о высылке из Константинополя всех французов, признавших республиканское правление на их родине. Под воздействием неопровержимых улик диван дал приказ коменданту Смирны прекратить поддержку республиканских судов, пиратствовавших в архипелаге. В итоге влияние Франции было в значительной степени подорвано.
Приходилось работать от зари до зари. Встречи с иностранными дипломатами, в том числе и с недругом России англичанином Энсли. Множество бумаг, писем, донесений – государыне, вице-канцлеру Остерману, главнокомандующему на юге России Суворову, фельдмаршалу Румянцеву, адмиралу Мордвинову, послам – в Польше Сиверсу и в Лондоне Воронцову. Разбор жалоб, челобитных, прошений, домогательств. И почти все своеручно: ближайшие помощники – Хвостов, Пизани и Бароцци запутались в интригах, подсиживая и наушничая друг на друга.
Однако и в этих трудах Михаил Илларионович, не изменяя своему привычному образу жизни, находил время для прогулок и увеселений.
5
Был теплый погожий день, и Кутузов в сопровождении турецкого офицера Бим-паши и своего двоюродного племянника отправился на верховую прогулку за город.
Бесконечные сады тянулись по обе стороны дороги, вымощенной еще, верно, римлянами. Вдалеке, за массивными воротами, охраняемыми стражей, завиднелся загородный дворец султана. Здесь была его святая святых – летний гарем. Здесь, под надзором евнухов, расцветали редкие цветы девичьей красоты.
Закатывая в страхе глазки, похожие на спелые маслины, маленький и круглый Бим-паша произнес:
– Это даже для самых первейших турок ужасное место! Вход в него для кого бы то ни было запрещен под страхом смертной казни!
Не отвечая, Михаил Илларионович повернул своего красавца араба, подаренного Селимом, и направил по аллее платанов, ведущей к воротам дворца.
Бим-паша чрезвычайно встревожился. Полагая, что иноверец не понял смысла его слов, он нагнал Кутузова и в самых почтительных выражениях повторил, что никому не позволено даже приближаться к этому увеселительному саду и что доселе никто из иностранцев не смел даже ступить на эти священные плиты.
– Знаю, знаю, – рассеянно отвечал Михаил Илларионович, но продолжал ехать к воротам.
Бим-паша все еще предполагал, что Кутузов проедет только мимо ворот, однако посол внезапно пришпорил лошадь и оказался в саду. Стража пришла в чрезвычайное замешательство и не успела ему воспрепятствовать. Только начальник пикета – полковник султанской гвардии, огромный янычар, обнажил саблю и громогласно вопросил:
– Кто?!
– Имя той монархини, пред которой ничто не вянет, а все цветет, – на пределе голоса отвечал Михаил Илларионович по-турецки, – имя Екатерины Великой, императрицы Всероссийской, которая ныне милует вас миром!
Полковник в страхе бросил свою саблю в ножны и отступил в сторону.
Кутузов спокойно направил коня в глубь сада. Прошло полчаса, час, полтора. Адъютант Федор Кутузов уже не на шутку начал тревожиться, когда на аллее показалась грузная фигура Михаила Илларионовича.
Завидя его, Бим-паша вместе с полковником рухнули на колени. Сложа руки на груди, Бим-паша горько сетовал, что за нарушение султанского повеления и он и стража должны будут лишиться головы. Кутузов сошел с лошади, поднял офицеров и дружественно стал ободрять их, заверяя, что ничего дурного с ними не приключится. Затем, запретив Бим-паше провожать его, отправился с адъютантом в сторону города.
Отъехав с полверсты, Михаил Илларионович сказал:
– Теперь, Феденька, надо спешить. Не пройдет и часу, как великий визирь будет извещен о моей проказе. И уж конечно не упустит возможности нанести нам вред и возбудить гнев у его величества…
Он дал шпоры своему арабу, и всадники понеслись что было мочи в сгущающейся темноте, заставляя шарахаться редких прохожих на узких улочках пригорода.
Воротясь домой, Кутузов сел за письмо Селиму III. Он почтил его величество всеми возможными похвалами, добавив между прочим, что едва ли на земном шаре есть еще такое государство, где бы государь имел толикую мудрость, как его султанское величество. Что его величество для столь важного места, каков его загородный увеселительный сад, сумел избрать столь умную, верную и справедливую стражу, которая приводит в удивление точным исполнением своей должности, что он не может ей надивиться.
«Но, Высокий Обладатель Блистательнейшей Оттоманской Порты! – писал Михаил Илларионович. – Я невольно стал великой виной тому, что стража преступила священное Ваше повеление. Нет! Не я, а имя Екатерины Великой. Имя сие обещало спасти не только Бим-пашу, всю стражу от праведного гнева Вашего султанского величества, но даже исходатайствовать им Ваше милосердие и награду. Султанское правосудие, а больше… – Тут Кутузов несколько задумался, вспоминая подробности гнусных в своей изощренности пыток, в которых упражнялись властители Оттоманской Порты, и добавил – Известное всем человеколюбие Ваше ручаются мне за успех в сем предприятии…»
Он позвал адъютанта:
– Феденька! Гони в сераль! Одна нога здесь, другая там! Теперь только бы не опоздать!..
Адъютант с письмом Кутузова и великий визирь прибыли в султанский дворец одновременно. Но Селим прочел сперва письмо русского посла, а уж затем рапорт визиря. И без дальнейшего размышления приказал рапорт уничтожить, а Михаилу Илларионовичу отвечал весьма милостиво. Он извещал его, что из уважения своего к высокому имени ее величества Екатерины II приказал произвести Бим-пашу в бунчужные паши, а всю стражу во главе с полковником достойнейше наградить.
Это невиданное снисхождение изумило великого визиря и всех турецких вельмож. Бим-паша, дежурный полковник и вся подначальственная ему стража уже почитали смерть свою совершенно неизбежной и заблаговременно готовили головы на отрубление. Но какое восхищение заступило на место страху при получении против всякого чаяния высочайшей милости! Кутузов уравнял себя в глазах этих людей с самим султаном!
Впрочем, Михаил Илларионович прекрасно отдавал себе отчет, направляясь в султанский сад, что задевает только этикетный авторитет Селима III, но никак не самолюбие оскорбленного мужчины.
6
М. И. Кутузов – Е. И. Кутузовой.
5 ноября 1793 года. Пера.
«На прошедших днях были визиты у визиря и аудиенция у государя… Как бы тебе наскоро сказать, что султан и его двор: с султаном в дружбе, т. е. он, при всяком случае, допускает до меня похвалы и комплименты; велел подружиться своему зятю – капудан-паше со мною… На аудиенции велел делать мне учтивости, каких ни один посол не видал. Дворец его, двор его, наряд придворных, строение и убранство покоев мудрено, странно, церемонии иногда смешны, но все велико, огромно, пышно и почтенно. Это трагедия Шекспирова, поэма Мильтонова или Одиссея Гомерова. А вот какое впечатление сделало мне, как я вступил в аудиенц-залу: комната немножко темная, трон при первом взгляде оценишь миллиона в три; на троне сидит прекрасный человек, лучше всего его двора, одет в сукно, просто, но на чалме огромный солитер[41] с пером и на шубе петлицы бриллиантовые. Обратился несколько ко мне, сделал поклон глазами и показал, кажется, все, что он мне приказывал комплиментов прежде, или я худой физиономист, или он добрый и умный человек. Во время речи моей слушал он со вниманием, часто наклонял голову, и где в конце речи адресуется ему комплимент от меня собственно, наклонился с таким видом, что, кажется, сказал: «Мне очень это приятно, я тебя очень полюбил; мне очень жаль, что не могу с тобою говорить». Вот в каком виде мне представился султан. Прощайте, мои друзья. Здравствуйте, детки. Боже вас благослови…»
Успех миссии Кутузова в Константинополе превзошел все ожидания. Его с удивлением признал даже граф Кочубей. Михаил Илларионович не только добился всего, чего хотел, но и заручился прочным покровительством матери султана – валиде и его зятя Кючук-Хуссейна, а значит, и самого Селима III. Однако из Константинополя Кутузову было хорошо видно, что не Турция представляет опасность для России. Все, что могло произойти далее в большой политике, было так или иначе связано с другим могучим феноменом. И имя ему было – французская революция.
7
Старое платье Европы трещало по всем швам.
Древа свободы, фригийские колпаки, лозунги «Свобода, равенство, братство!» приносились в другие страны на штыках санкюлотов, составивших ядро республиканской армии. В самой Франции торжественно возвещалось о том, что старый мир будет сметен до основания. «Город Лион будет уничтожен. Все, что было обитаемо богатыми, будет разрушено. Останутся лишь жилища бедняков, убитых или осужденных патриотов, здания, специально предназначенные для промышленности, и монументы, посвященные человечеству или народному просвещению. Само название Лиона будет вычеркнуто из списка городов республики», – говорилось в постановлении Конвента.
Очаги мятежа переименовывались «на вечные времена»: Лион стал теперь называться «Освобожденным городом», а Тулон – «Портом у горы». Правительство террора обратилось к самым крайним мерам. Пленные соотечественники подвергались массовому расстрелу. После взятия роялистского Тулона особо отличился генерал Бонапарт, хладнокровно казнивший четыре тысячи пленных, преимущественно портовых рабочих. Все без исключения эмигранты были осуждены на гражданскую смерть. Не только их собственное имущество, но даже достояние родителей и детей конфисковывалось.
Разбивались статуи монархов; национальные реликвии, почитавшиеся священными, как сердце Генриха IV, публично сжигались; без устали работала машина, изобретенная врачом Гийотеном, который первым испробовал ее действие на своей шее. Вслед за Людовиком XVI на гильотине погибли тысячи людей, в том числе королева Мария-Антуанетта, физик Лавуазье, поэт Андре де Шенье и герцог Орлеанский, прозванный Эгалите[42] и голосовавший за казнь короля. Закон 22 прериаля II года (христианское летосчисление и прежний календарь были также навечно отменены) о «врагах народа» предлагал для всех нарушителей единственное наказание – смертную казнь.
Затем машина принялась уничтожать самих революционеров: вслед за умеренными – жирондистами Гебером и Дантоном покатилась голова Робеспьера. «Революция во Франции, – размышлял Кутузов, – воистину, словно мифический Кронос[43], пожирает теперь собственных детей!..»
На внешних фронтах республика теснила врага. В 1793 году Франция объявила войну Голландии и Англии. Давний приятель Суворова генерал Дюмурье начал побеждать в Нидерландах. Австрийская армия во главе с принцем Кобургом перешла Рейн. Союзники могли двигаться прямо на Париж, согласно плану, начертанному в Херсоне Суворовым, но не было согласия в действиях. В следующем году Кобург потерпел поражение в Голландии; осенью австрийцы ушли за Рейн. Нидерланды заключили союз с Францией под именем Батавской республики. Германские княжества трепетали перед близкими громами «Марсельезы». На Рейне у союзников остался один Мец.
Когда в Петербург пришла весть о казни Людовика XVI, Екатерина несколько дней не выходила на приемы. Все надо было переоценивать. Рухнула иллюзия просвещенной монархии, опирающейся на Разум: в своих давних друзьях – энциклопедистах Вольтере, Дидро, Монтескье императрица теперь увидела источник, приведший французского короля на эшафот. Тревожилась она и об интригах французов в Турции.
Из Константинополя агенты писали о двух шпионах-французах, которым обещали семь с половиной тысяч пиастров за сведения о России, сообщалось, что эскадра из 18 судов адмирала Латуша ожидается для совместных действий с Портой в Черном море, что под турецким флагом явится судно якобинцев под командой Перголе, а на обратном пути зайдет в один из наших портов, что бывший полковник русской службы Анжели, изгнанный некогда за измену, собирается как уполномоченный якобинского клуба посетить Россию с сыном, прежним пажом двора Екатерины, что Анжели собирается произвести в России революцию вроде французской…
Кутузову все эти страхи виделись преувеличенными и даже надуманными. А старый знакомый Михаила Илларионовича еще по первой русско-турецкой войне Анжели, так напугавший Екатерину, как был, так и остался обыкновенным мелким жуликом. «Я отлично узнал Анжели на нашей службе, – писал Кутузов послу в Вене Разумовскому, – в этом человеке безусловно соединяется ум интригана с душой низкой и трусливой, а поэтому я почти уверен, что он ничего не осмелится предпринять у нас; кстати, он настолько коверкает русский язык, что как эмиссар не может вызывать ни малейших опасений».
Страхи, страхи! Для них нет никакого резона. Ослабевшая Турция не хотела войны: ее желала, под влиянием последнего фаворита, сама престарелая Екатерина. В своих полудетских мечтаниях Платон Зубов видел себя фельдмаршалом, ему мнилось покорение Персии, Тибета, Китая и Константинополя. Суворов обдумал план войны с Оттоманской Портой и продиктовал его своему инженер-полковнику де Волану. В ноябре 1793 года Екатерина потребовала полководца к себе. «Мы у подножия Балканов. Где пройдет олень, там пройдет солдат. Умейте удержать болгар в их домах, чтоб они не бежали в горы, и тогда хлеб у вас будет…» – разъяснил Суворов. В феврале 1794 года его биограф Антинг привез в Петербург ответ на 22 вопроса о ведении кампании с Турцией.
Появление Суворова в Херсоне имело громкий эффект. Резидент Хвостов сообщал ему из Константинополя: «Один слух о бытии вашем на границах сделал и облегчение мне в делах, и великое у Порты впечатление; одно имя ваше есть сильное отражение всем внушениям, кои со стороны зломыслящих на преклонение Порты к враждению нам делаются». Ясский консул Северин тревожился о готовности к войне турок, Кутузов из Константинополя отвечал Суворову: «Северин вам врет: крепости турецкие валятся, флот не силен, вся внутренность расстроена, а паче всего – вы тут».
Пребывание Михаила Илларионовича в Блистательной Порте подходило к концу. Он знал, что им были довольны в Петербурге, и лишь несколько тревожился последствиями той решительной чистки, которой подверглись по приказу императрицы масоны. Долго сгущавшаяся гроза наконец разразилась.
Когда князь Репнин на балу у московского главнокомандующего в день рождения Екатерины II 21 апреля 1792 года узнал о произведенном у Новикова обыске и беде, нависшей над мартинистами, то побледнел и едва владел собой. Впрочем, для него все обошлось немилостью, без прочих последствий. Куда хуже оказалась судьба просветителя и издателя Новикова.
Сношения его через архитектора Баженова с великим князем Павлом Петровичем, что было доказано, носили политическую окраску. Велась и была обнаружена тайная переписка специальным шифром с прусским министром Велльнером, и именно в ту пору, когда берлинский двор готовил коалицию против России. К тому же Екатерина II могла подозревать, что, по понятным соображениям, Новиков далеко не во всем открылся в ходе дознания. Дело доходило до обвинений его в «умыслах против жизни ее величества».
В отблесках французского пожара Новиков показался старой государыне «мартинистом хуже Радищева». Его персоной занялся известный своей жестокостью Шешковский. Новиков был осужден на пятнадцатилетнее заключение в Шлиссельбургскую крепость; его молодой ученик Колокольников умер во время следствия, а другой – Невзоров сошел с ума. Куда мягче оказался приговор в отношении Трубецкого и Лопухина, которых лишь сослали в их имения. Но, так или иначе, на какое-то время с масонством в России было покончено.
Михаил Илларионович знал обо всем этом и предпринял некоторые шаги предосторожности. Прежде всего он настрого запретил своей жене отзываться на письма Алексея Кутузова из Берлина. Возможно, что он проявил известное бессердечие, однако дело зашло уже слишком далеко, чтобы, как полагал Голенищев-Кутузов, ставить на карту и собственную карьеру, и даже благополучие семьи и будущее пятерых дочерей. После 1792 года переписка с Алексеем Михайловичем обрывается. Осторожность Голенищева-Кутузова и здесь возобладала над всеми прочими эмоциями…
Теперь его ожидали милости в Петербурге. 15 сентября 1794 года Михаил Илларионович был назначен директором Сухопутного шляхетского корпуса, а в феврале 1795 года стал одновременно еще и командующим сухопутными войсками в Финляндии. В том же, 1795 году императрица наградила Кутузова богатыми имениями, в две тысячи шестьсот душ, в Волынской губернии.
Награды шли за дело. После славных побед во второй русско-турецкой войне и миссии в Константинополь Кутузова Россия и Оттоманская Порта жили в мире долгие двенадцать лет.
В эту пору Михаил Илларионович становится частым гостем эрмитажей, куда Екатерина приглашала лишь самых избранных.
8
В последние годы своей жизни императрица проводила зимнее время в среднем этаже Зимнего дворца, над правым малым подъездом, против бывшего дома Брюса, где находился экзерциргауз[44], а на лето переезжала сперва в Таврический дворец, а потом – всегда инкогнито – в Царское Село.
В Зимнем дворце Екатерина занимала скромные помещения. Узкая лесенка вела в комнату, обращенную окнами к малому дворику. Здесь за ширмами, на случай скорого приказания, стоял письменный стол, за которым работали чиновники и секретари. Из этой комнаты вел ход в уборную (где царица наряжалась), обращенную окнами на Дворцовую площадь. Из уборной можно было пройти в «бриллиантовую» комнату, где хранились драгоценности, и в спальню, в которой государыня обыкновенно слушала дела. Оттуда входила во внутреннюю уборную и налево в кабинет и зеркальную комнату, а из последней ход вел в нижние покои, где жил Зубов.
В эти годы Екатерина вставала уже не в шесть, а в восемь утра и до девяти занималась делами в своем кабинете, выпивая за работой чашку крепчайшего кофе без сливок. В девять она возвращалась в спальню. На ней был обычно белый гродетуровый[45] шлафрок или капот, а на голове – белый же флеровый чепец, слегка наклоненный на левую сторону.
Несмотря на свои шестьдесят пять лет, Екатерина была еще свежа лицом, сохранила все зубы и прекрасную линию рук. Говорила она твердо, без шамканья, только несколько мужественно. Читала в очках, причем с увеличительным стеклом. Не любила курсивных, письменных букв, и ей всегда писали донесения крупным прямым шрифтом, обыкновенно в пол-листа. Однажды, когда ее застал за чтением новый секретарь Грибовский, императрица с улыбкой сказала ему:
– Верно, вам еще не нужен этот снаряд. Сколько вам лет?
– Двадцать восемь, ваше величество, – ответил тот.
– А я уже тридцать два года на троне, – покачала Екатерина головой. – И от долговременной службы государству притупила зрение и принуждена теперь очки употреблять…
В другой раз, отдавая Грибовскому собственноручную записку об отыскании некоторых справок для сочиняемого ею устава Сенату, государыня добавила:
– Ты не смейся над моей русской орфографией. Я тебе объясню, почему я не успела ее хорошенько узнать. По приезде моем сюда я с большим прилежанием начала учиться русскому языку. Но тетка Елизавета Петровна, узнав про то, сказала моей гофмейстерине: «Полно ее учить, она и без того умна». Вот отчего могла я продолжать занятия только по книгам, без учителя. И это послужило причиной, что я плохо знаю правописание…
Зато если бумаги Екатерины действительно приходилось поправлять, то говорила она достаточно чисто, а главное – любила употреблять простые и коренные русские слова, которых знала во множестве…
Вечера государыня проводила в кругу близких и доверенных лиц.
Бывали приемы большие, средние и малые. На первых назначался обыкновенно бал с ужином и число приглашенных достигало 150–200 персон. Здесь появлялась вся знать и иностранные посланники. После бала давались спектакли, в которых участвовали знаменитости того времени – композиторы Сарти и Ситароза, певцы Маргикези и Мажорлетти, мимы Пик, Росси, Сантини, русские драматурги и актеры Дмитриевский, Шумский, Сандунов, Трепольская. Разыгрывались и французские комедии и оперы – Седена, Филидора, Гретри. Иногда экспромтом приказывалось быть маскараду: Кутузову как-то пришлось явиться в костюме римского жреца, и он все терял сандалии. Средние приемы отличались от больших только числом лиц.
Совсем иной характер носили малые приемы, на один из которых Михаил Илларионович был приглашен вскоре после своего возвращения из Константинополя.
9
Вначале было разыграно представление. Но здесь трагедию Расина «Ифигения в Авлиде» разыграли сами придворные особы: граф Вильегорский представлял Агамемнона, его супруга – Клитемнестру, граф Шувалов – Ахилла, генерал от инфантерии Тутолмин – Улисса, красавица Мятлева – Ифигению. В оркестре виднелись всего четыре музыканта: скрипка, виолончель, флейта и арфа.
«Да, верно, хуже трагедию сыграть было бы невозможно…» – сказал себе Кутузов, слушая завывания и преувеличенные крики со сцены.
После спектакля каждый мог делать что хотел. Прогуливаясь с неудавшимся Улиссом – правителем Волынского и Подольского наместничества Тимофеем Ивановичем Тутолминым, Михаил Илларионович шутливо хвалил его способности трагика и не без любопытства читал на стенах объявления, развешанные специально для малого приема.
Запрещалось вставать перед государыней, даже если бы она и подходила к сидящему или вступала с ним в разговор, продолжая стоять возле него. Запрещалось иметь сердитый вид, обмениваться оскорбительными словами, говорить дурно о ком бы то ни было, даже вспоминать о ссорах. Злоба и ненависть должны были быть оставлены за дверью вместе со шпагой и шляпой. Запрещалось лгать и говорить вздор. Штраф в десять копеек, который опускался в кружку для бедных, взимал с провинившихся казначей – граф Александр Андреевич Безбородко[46], присутствующий в Иностранной коллегии, а с недавних пор и обер-гофмейстер двора.
«Ее величество всю жизнь преследует масонов, – подумалось Кутузову, – а сама создает на малых эрмитажах воистину новую ложу братства вольных каменщиков!»
В одном из покоев он увидел Екатерину в окружении своих внуков – хорошенького восемнадцатилетнего Александра и курносого, в батюшку, шестнадцатилетнего Константина, – а также молодого красавца Платона Зубова, графа Безбородко и маленького, очень некрасивого австрийского посланника Кобенцля. Государыня улыбнулась Михаилу Илларионовичу и знаком руки пригласила подойти. Она все еще беспокоилась о подготовке Оттоманской Порты к войне и происках Парижа.
– Да хотя бы турки и хотели нам мстить, – успокаивал Екатерину Кутузов, – все ныне от того должно их удерживать. Страну колеблют мятежи, флот не готов. Даже для перевозки крепостной артиллерии в Измаил они намерены употреблять французские торговые суда под своим зеленым флагом. Нет, ваше величество! Ранее будущего лета турки сами носу не покажут в Черном море. Я подробно докладывал об этом в донесениях из Царьграда…
Желая отвлечь Екатерину от забот высокой политики, Безбородко сказал Кутузову с обычным своим малороссийским лукавством:
– Признайтесь, Михайло Ларионович, вы, случаем, не впали там в мусульманство? Ведь многоженство – такой соблазн для мужчины…
Кутузов был превосходно осведомлен о выдающемся распутстве графа Александра Андреевича. Не будучи женат, Безбородко содержал целый гарем, который возил за собой в Москву. Он состоял в самых близких отношениях с актрисой Ольгой Каратыгиной и итальянской певицей Давиа. Генерал-поручик усмехнулся про себя, вспомнив, как государыня, прознав, что Безбородко подарил Давиа сорок тысяч, сочла нужным тотчас выслать ее вон из столицы…
У Кутузова уже висел на кончике языка ядовитый ответ, но его пришлось проглотить: легкомысленно и даже глупо из-за пустяков наживать такого могущественного врага. Михаил Илларионович еще раз оглядел графа, который на вид был прост, неловок и несколько тяжел. Его щегольской французский кафтан странным образом контрастировал с опущенными шелковыми чулками и башмаками, у которых были оборваны пряжки. Но за неряшеством и внешней простоватостью Безбородко таился острый ум, который выдавали живые вкрадчивые глаза на улыбающемся толстоносом подвижном лице.
Медленно, взвешивая каждое слово, Кутузов ответил:
– Верно, граф, соблазн велик… Однако не забывайте и того, что все народы различны. И нельзя турка мерить на русский аршин. Мы упрекаем турок за многоженство? И завидуем им? А турок возмущается тем, что почтенная моя супруга бесстыдно не закрывает лица перед чужими мужчинами. Сколько народов – столько странностей! Но, – закончил он с тонкой улыбкой, – рыба ощущает, что живет в воде только тогда, когда вы вытаскиваете ее из реки. Верно, каждый из нас воспринимает свои обычаи как единственно достойные лишь в том случае, если нарушает их…
– Господа! – сказал Зубов, едва Михаил Илларионович завершил свою тираду. – По-моему, граф Александр Андреевич сам должен быть оштрафован за дурные подозрения!
– Кружку! Кружку! – смеясь, потребовала Екатерина.
Притворно ворча, Безбородко достал расшитый золотом кошелек и, за неимением мелочи, бросил в принесенную кружку червонец.
После этого играли в фанты, причем Тутолмину выпало залпом выпить большой бокал воды, а графу Вильегорскому – продекламировать, не зевая, отрывок из «Тилемахиды» Тредиаковского. За роббером[47], для которого государыня удалилась в кабинет с Зубовым, Кобенцлем и приглашенным Кутузовым, она попросила чашку кофе. Любимый мундшенк[48] Екатерины Осип Петрович, войдя с подносом, поставил его на столик, сперва помолился на образ, потом низко поклонился царице и подошел к ее ручке.
Обычай этот, заведенный при покойной Елизавете Петровне, давно уже вышел из употребления как азиатский. Кобенцль, видя, что Екатерина с примерным терпением ожидает конца ритуала, отложил карты и заметил по-французски, что удивляется ее снисходительности.
– Безрассудно огорчать тех, кто верно и усердно служит, – ответила царица. – Всякий обычай от долговременной привычки становится необходимым. Вот как мой кофий. Кстати, не хотите ли чашечку, граф?
Кобенцль изобразил на своем некрасивом, но подвижном лице притворный ужас, а Екатерина засмеялась и обратилась к Кутузову, который в качестве новопосвященного не мог знать некоторых маленьких дворцовых тайн:
– Граф боится, что после моего кофия не удержит карт…
Русская императрица всю жизнь обожала кофе (чай она пила только при болезнях), и самый крепкий, предпочитая сорт мокко. В вызолоченном кофейнике варили ровно фунт, из которого получались лишь две чашки. Чрезмерная крепость умерялась иногда большим количеством сливок. Мундшенк, камердинер Захар Зотов и Марья Саввична Перекусихина потом на той же заварке себе доваривали.
– Во время торжеств по заключению мира в Кючук-Кайнарджи в Москве стояли страшные холода, – сказала Екатерина, вновь берясь за карты. – Секретари мои – Теплов и Кузьмин очень зябли в кабинете. Я приказала подать им мой кофий. Они по чашке выпили и с непривычки почувствовали сильный жар, биение сердца, дрожание в руках и ногах. Да, господа, ко всему должна быть привычка. А какая у нас на очереди карточная фигура?..
Кутузов только смеялся в душе над детскими хитростями Зубова, над плутовством Кобенцля и мудрствованиями в роббере государыни. Нельзя, однако, показывать, что ты слишком много знаешь. Даже в картах. И все же, как ни старался Михаил Илларионович прятать свое давнее, но не позабытое искусство, он выиграл сразу в нескольких фигурах подряд, заказав под конец одну масть – пики.
Зубов, было уверовавший в собственный выигрыш (старая императрица, бывало, поддавалась ему), мог лишь пролепетать расхожую остроту:
– На пиках вся Москва вистует!..
После карт, когда общество пополнилось графом Безбородко и Протасовой, разговор зашел о необыкновенном происшествии.
Капитана одного из гвардейских полков Курточкина за совращение офицерской дочки приговорили к лишению всех прав и ссылке в Сибирь. Капитан этот выслужился из простых солдат и храбро воевал с турками. Он подал прошение на высочайшее имя. Но не заслуги свои выставлял он в качестве смягчающего обстоятельства. В прошении Курточкин признался в том, что он вовсе не мужчина, а девица, бежавшая из донской станицы двадцати лет от роду и выдавшая себя за юношу.
– Я сама произвела освидетельствование и отменила приговор, когда убедилась в правоте написанного, – говорила, наслаждаясь эффектом, государыня. – Приговор был отменен, а девица Татьяна Мироновна Маркина уволена в отставку с положенной ей пенсией…
– Я знавал этого капитана, – сказал Михаил Илларионович. – Под Мачином он… простите, ваше величество, она дралась лучше многих мужчин.
– Поразительная страна – Россия! – воскликнул Кобенцль. – Не перестаешь удивляться и восхищаться ею!..
– Матушка! – лукаво напомнил Безбородко на правах казначея и блюстителя правил малых куртагов. – А ведь ты забыла выполнить свой фант…
– А что же я должна сделать? – покорно спросила Екатерина.
– Сесть на пол, матушка…
– Ах, господа, – произнесла она, выполняя условия фанта, – лета мои таковы, что уже и память отшибло…
Она взглянула на Зубова и молодо засмеялась, как бы опровергая собственные слова, показывая белые ровные зубы.
И вдруг с внезапной, физической остротой Кутузов ощутил близость конца Екатерины II, конца всего, что было связано с ней, с ее именем и долгим царствованием.
Глава вторая Екатерининский закат
1
Все лгали всем.
Мужья лгали женам, жены – мужьям. Немцы-управляющие лгали господам, крепостные-старосты – управляющим. Напудренный, нарумяненный старичок с балетной фигурой, думающий исключительно по-французски, изощрялся в остроумии над Богом, православием и, перед тем как навеки упокоиться в фамильном склепе, лгал почтенному сельскому батюшке, вызванному середь ночи для последнего причастия. Юный красавец Платон Зубов в самые горячие минуты лгал, притворяясь пылко влюбленным в престарелую императрицу Екатерину Алексеевну.
Правда воспринималась как ханжество.
Ложь шла в обнимку с развратом. Барыни жили с гувернерами, лакеями, кучерами, арапами; баре заводили в поместьях серали. Все понятия перевернулись, верность в семье почиталась непристойностью. Те, кто желал хранить чистоту, придумывали себе любовниц, чтобы не стать посмешищем в свете. Пороки двора напоминали о Риме времен его пышного упадка. Теперь и любовники обманывали друг друга, лишь только их отношения обретали постоянство. Конечно, уже не было великолепного Потемкина, облагодетельствовавшего своим вниманием почти всех фрейлин двора ее величества и даже собственных трех племянниц. Вспоминали, как однажды гнался он по Зимнему дворцу за очередной жертвой до спальных покоев государыни, где девушка тщетно надеялась найти спасение. Увидев ее в слезах на собственном ложе, императрица осведомилась о причине сего необычного происшествия. Но, выслушав фрейлину, спокойно заметила:
– Глупышка! Ты должна гордиться, что первым у тебя был столь знаменитый и отмеченный всеми доблестями герой…
Блудливая вольтеровская улыбка, улыбка всеотрицания, перетекла на курносые лица русских вельмож. Бога уже не существовало, стало быть, все было позволено.
Царствование Екатерины Алексеевны постепенно утрачивало свой первоначальный блеск и величие. Ум государыни, насмешливый, не женский, позволил ей издеваться над кабалой масонов, легко раскусить проходимцев в кумирах Европы – Сен-Жермене и Калиостро и даже водить за нос самого Дидро. Но, всегда свободная от суеверий, она стала теперь, в сумерках старости, придавать значение приметам и предзнаменованиям.
Как-то, возвращаясь с бала, она заметила звезду, которая сперва сопутствовала ей, а потом скатилась. Войдя во дворец, Екатерина сказала любимой камер-юнгфере Марье Саввичне Перекусихиной:
– Вот возвестница скорой смерти моей…
– Матушка, – возразила Перекусихина, – ты всегда была чужда предрассудков.
– Чувствую слабость сил и приметно опускаюсь, – ответила царица.
2
Но какое дело было Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову до того, чем жили в Зимнем дворце и во дворцах столичных вельмож! Сам он наслаждался – впервые за долгие годы – домашним уютом, семейным счастьем и покоем.
Едва Михаил Илларионович вошел в свой дом, все пятеро дочек облепили его. Начались бурные объятия и поцелуи, восклицания, охи да ахи.
– Папуля! Папочка! Милый! Наконец ты приехал! Не уезжай больше, папулечка! – наперебой раздавались нежные голоски.
Они звучали для Кутузова воистину райской музыкой. «Что любовь плотская в сравнении с отцовской любовью! Насколько родительское чувство возвышеннее и чище! Нежная беззащитность деток рождает только самые светлые помыслы! – невольно сказал он себе. – Ведь это еще безгрешные ангелы!» Но тут же, поглядев на лучащуюся счастьем Екатерину Ильиничну, сорокалетнюю свою Катюню, устыдился, что невольно принизил тем их долгий и добрый союз. Да и как можно думать о детишках, не думая о Катерине Ильиничне! Она всему главное начало! Не будь ее, не было бы и этих славных пятерых девчурок, возившихся с ним, целовавших его в нос и щеки, теребивших его плащ, шарф, полы и обшлага дорожного мундира, перстень на безымянном пальце…
– Детушки мои ненаглядные, женушка моя, как я о вас скучал! – только и мог пробормотать Михаил Илларионович, борясь с нахлынувшими слезами.
Когда волнения несколько поулеглись, были внесены сундуки с подарками. Мать султана – валиде, великий визирь и капудан-паша прислали роскошные шали, отрезы турецкой, ост-индской и Ормузской парчи, драгоценные перстни и табакерки, украшенный самоцветами кофейный сервиз. Хотя Кутузов и считал, что в Константинополе особой щедрости не проявили, он похвастался Катерине Ильиничне лошадьми в драгоценных уборах, которыми одарил его Селим III.
– Но что могли значить все эти подарки в сравнении с твоим, Катюша! – сказал Михаил Илларионович жене. – Как ты обрадовала меня портретами! Я заплакал! Где ты взяла этакого живописца?..
– Он наш, русский. Молодой человек. И только что вернулся из Италии, – с улыбкой пояснила Екатерина Ильинична.
– Что за работа прекрасная, и какое сходство! – воскликнул Кутузов. – У меня в тот день была ассамблея, и я всем показывал. Правда, в дороге портреты несколько пострадали, особенно твой, Катюня. Да и сходства в нем меньше. Зато Парашенька! Парашенька! – обратился он к своей старшенькой. – Ты и впрямь гречанка! Черноброва, с густыми черными кудрями! Когда царьградские греки увидели твой портрет, то наперебой заговорили: «Пола морфи! Пола кало! Вылитая гречанка! Наша!» И как похорошела!..
Семнадцатилетняя живоглазая Парашенька вспыхнула от этих слов и тайком погляделась в венецианское, оправленное серебром зеркальце, которое привез ей батюшка.
Да, так повзрослела, что хоть сейчас под венец. Новая забота родителям – приискивать жениха. И не какого-нибудь вертопраха, которых теперь поразвелось – пруд пруди, а достойного и серьезного молодого человека. Но не так уж долго осталось ждать и остальным: Аннушке пошел тринадцатый годок, Лизоньке – двенадцатый, Катюхе – восьмой, а Дашеньке – седьмой. Всех надобно поставить на ноги, всех определить!..
Что и говорить, семья большая. Все пятеро одинаково дороги, словно пальцы на руке; любой отрежь – больно. Но Михаил Илларионович испытывал особенное чувство к Лизоньке, которую звал Папушенькой. Умна, остра, сметлива и с таковым характером, что уже сейчас можно сказать: «Маленький Кутузов!»
– Мишенька, друг мой! – предложила Кутузову жена. – Пойдем, послушаешь, как Парашенька разучила на фортепьяно Люлли и Веккерлена…
Екатерина Ильинична была счастлива вдвойне. Радовалась тому, что впервые за многие годы будет рядом со своим любезным мужем. А кроме того – что пришел конец ее прозябанию в заштатном Елисаветграде, где столько пережито и перенесено и где спит на бедном погосте их маленький Николаша…
Ей, обожавшей театр, книги, музыку, хорошо знавшей цену умной беседе, было невыносимо среди убожества елисаветградских обывателей, сплетен, толков, пересудов. Но всего больше мучений доставляли заботы о воспитании дочерей. Боялась – ну как вырастут дикарками? Теперь все пойдет по-иному!
Она уже побывала с визитом в роскошном доме на Моховой, где доживала свой век все еще властная Анастасия Семеновна, урожденная княжна Козловская, вдова Александра Ильича Бибикова, – ее невестка. Но уже бразды правления забрала в свои руки дочь, и тоже вдова – Аграфена Александровна Рибопьер, Рибопьерша. Там, в бывшей резиденции герцога Вюртембергского, в одном из самых модных салонов, бывал «весь Петербург»: Безбородко, Остерман, Нарышкин, Протасова, де Рибас, французский посланник граф Сегюр и австрийский – граф Кобенцль.
Ах, ее старая подружка и племянница Аграфена Александровна, Груня! Она тут же вызвалась пригласить для кутузовских дочек лучших гувернеров, учителей музыки и танца, наставников по географии и истории. Тех, кто обучал сейчас двенадцатилетнего красавчика Сашу Рибопьера.
Михаил Илларионович с супругой навестил своего дорогого наставника и старшего друга Ивана Лонгиновича.
Его встретил двадцатипятилетний морской офицер – худощавый, рот плотно сжат, и желваки ходят под кожей, с боевым орденом на капитанском мундире за войну со шведами. Кутузов невольно воскликнул про себя: «Бог ты мой! Как же отцы повторяются в детях!» Впрочем, Лонгин Иванович Голенищев-Кутузов не просто повторял отца, но и продолжал его дело: с 1788 года он состоял при Иване Лонгиновиче помощником директора Морского корпуса.
Его отец был уже живой историей Российского флота. Тридцать два года возглавлял он единственное в стране военно-морское учебное заведение, так что все служившие ныне офицеры и почти все адмиралы были его птенцами. Он знал их поименно, гордился ими, следил за ними, с необыкновенной заботливостью пестовал молодых кадетов. При нем была учреждена библиотека и обсерватория в корпусе, он написал первую историю отечественного флота и перевел капитальное сочинение Госта «Искусство военных флотов».
Пока Катерина Ильинична обсуждала семейные дела со старшей сестрицей – Авдотьей Ильиничной, мужчины удалились в библиотеку, где, кажется, ничего не переменилось с тех далеких пор, когда Кутузов ребенком штудировал тут военные науки.
– А знаешь ли, Мишенька, что я член Российской академии? – не без гордости спросил старый адмирал. – Чай, не забыл наши молодые литературные забавы?..
– Еще бы забыть! – воскликнул Кутузов. – И «Задига», и постановку нашу «Заиры» помню, словно бы все это было вчера… Да я, дядюшка, читывал в вашем переводе и «Нравоучительные письма для образования сердца». И вижу, что вы уже стали настоящим пиитом!
Лонгин Иванович почтительно возразил ему:
– Нет, все же батюшка мой прежде всего моряк, а уж потом пиит!
– А ты, мой друг, – сказал ему Михаил Илларионович, – не помышляешь о литературе?
Лонгин Иванович не сразу ответил.
– Привлекают меня морские путешествия. Кук, Мирс, Лаперуз, Кларк, Гор… Вот о сих-то мореходах хотелось бы попробовать написать…
– И наших русских не забудь, – вмешался отец. – Вспомни хоть Беринга и Крашенинникова, наш тихоокеанский берег…
Разговор постепенно переместился в сферу большой политики. И Михаил Илларионович, и его старший друг видели опасность, грозящую России со стороны Пруссии, за которой грозно маячила республиканская Франция. В этих условиях много значило спокойствие на шведской границе, где стояли войска, подчиненные Кутузову.
3
Приблизив Михаила Илларионовича, императрица доверяла ему самые деликатные поручения.
В сентябре 1796 года она повелела главнокомандующему финляндскими войсками и директору шляхетского кадетского корпуса встретить на границе и препроводить в Петербург молодого шведского короля Густава IV Адольфа, принявшего имя Гаги. Задание было важным и в то же время требовавшим особой тонкости.
Государыня вознамерилась выдать одну из своих внучек, великую княжну Александру Павловну, за короля Швеции. Брачный союз укреплял неспокойные шведские границы. Царице еще хорошо помнилось, как недавно стекла Зимнего дворца сотрясались от близкого грома шведской корабельной артиллерии.
Михаил Илларионович всецело одобрял замысел государыни. Он лишь находил, что лицо, выбранное для переговоров – посол в Стокгольме Аркадий Иванович Морков (иногда его именовали Марковым), высокомерный и неуживчивый, совершенно не подходит для такой роли. Правду сказать, Морков получил превосходное образование и вместе с Фонвизиным считался одним из лучших воспитанников Московского университета, прекрасно изъяснялся по-французски, был ловок и хитер. Но он усвоил высокомерные манеры старого Версальского дворца, присоединив к ним византийскую надменность. Лицо его, испещренное оспой, постоянно выражало иронию и презрение, а круглые глаза и рот с опущенными концами делали похожим на тигра.
«Мало вежливости и никакой любезности, – размышлял Кутузов во время путешествия с королем и регентом в сопровождении Моркова через Финляндию в Петербург. – Аркадий Иванович говорит с августейшими особами таким тоном, словно сам носит корону. Слово его едко, повелительно и неприятно…»
Зато Михаил Илларионович обворожил знатных гостей настолько, что они посетили его в петербургском доме и оказывали всяческие знаки внимания. Екатерина Алексеевна Кутузова могла быть вполне довольна.
Препятствием для заключения брака служило шведское постановление, по которому супруга короля должна была быть одинакового с ним, то есть лютеранского, вероисповедания. Однако русская государыня решительно потребовала, чтобы Александра Павловна и в сане королевы Швеции непременно оставалась православной. Стараниями Михаила Илларионовича дело шло к счастливому концу. Уже был доставлен в Зимний дворец заказанный лучшему серебряных дел мастеру негоцианту Буху в приданое для ее высочества богатый столовый сервиз.
В назначенный для обручения день архиерей в облачении ожидал выхода Екатерины, которая в порфире и короне сидела в кабинете. Морков в одном из покоев завершал последние формальности. Однако посредничество его затягивалось и начинало выводить императрицу из терпения. За окончательным ответом был послан Александр Андреевич Безбородко, но и он долго не возвращался. Государыня приказала следовать за ним Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину.
Безбородко встретился с ним на дворцовой лестнице и сказал:
– А уже дело разлажено. Король отверг, чтобы великая княжна осталась в греческом законе…
Морков находил возможность величаться и мстить в Петербурге прежним неприятелям, чем и испортил все.
Безбородко с Морковым вошли в кабинет; Пушкин остался у дверей. Императрица, поднявшись с кресел, в великом гневе ударила Моркова два раза тростью, а Безбородко сказала:
– Я проучу этого мальчишку!..
Потом она сбросила корону, сорвала мантию и опустилась в кресла. У царицы появились знаки легкого паралича; ночь она провела в мучениях.
На другой день, назначив бал во дворце, государыня через силу появилась, не выдавая ни малейшего неудовольствия. Она приказала Екатерине Васильевне Скавронской, племяннице Потемкина, занять короля разговорами и начать с ним полонез.
Великий князь Павел Петрович поступил иначе.
Когда Густав хотел с ним заговорить, он отворотился и стал к королю спиной. В отличие от матери он не умел и не хотел скрывать свои чувства.
20 сентября 1796 года Кутузов с величайшей почтительностью проводил короля и регента до шведской границы, расставшись с ними в финском местечке Ловизы. Он не предполагал, что судьбе будет угодно еще раз свести их.
4
Императрицу уже давно мучили раны на ногах. Старый Роджерсон ничем не мог облегчить ее страдания, и когда врач Ламбро-Качони предложил делать для ног утром и вечером ванны из холодной морской воды, она начала лечение. Напрасно Роджерсон уверял ее в бедственных последствиях для здоровья и самой жизни – Екатерина воспротивилась ему. В июле раны на ногах закрылись и боли утихли. Но государыню стали тревожить судороги, тело временами немело.
От доверенных лиц Кутузов знал, что, чувствуя возможную скорую кончину, Екатерина поручила Безбородко составить бумаги об отречении Павла Петровича от престола и объявлении наследником Александра, ее любимого внука. Манифест о том должен был появиться 24 ноября, в день именин государыни, или в день нового, 1797 года.
В этот последний год своей жизни Екатерина с особой разборчивостью приглашала на малые эрмитажи. Перелистаем камер-фурьерский журнал. Именно в 1796 году Кутузов (всего лишь генерал-поручик) появляется постоянно в Зимнем дворце в кругу самых доверенных лиц императрицы – Анны Степановны Протасовой, братьев Зубовых, графа де Ламбера и графа Эстергази, австрийского посланника Кобенцля.
Так, 5 февраля «в комнате вещей бриллиантовых» в числе шести приглашенных «на обеденное кушанье» мы встречаем Кутузова и Суворова; 2 марта Кутузов участвует в обеде «на девяти кувертах»; 5 марта он среди пяти приглашенных; 12-го – среди семи; то же – 15 марта; 21-го – среди девяти персон; 22-го – среди десяти и т. д. Всего за неполный 1796 год Кутузов был приглашен на «обеденные кушанья» более сорока раз, то есть появлялся чаще, нежели кто-либо из гостей, не входящих в узкий дворцовый круг, включая и любимца Екатерины де Рибаса. Характерно, что, за исключением трех-четырех раз, Кутузов и де Рибас приглашались порознь, очевидно из-за существовавшей между ними неприязни…
4 ноября, войдя в правый малый подъезд Зимнего дворца, против экзерциргауза, и поднявшись по лестнице, Михаил Илларионович был встречен Перекусихиной и препровожден в «бриллиантовую» комнату. Кроме государыни, сидевшей в любимых креслах, там находилась лишь Анна Степановна Протасова.
Два шандала скудно освещали комнату; люстр не зажигали. Мундшенк Осип Петрович подал кофе на три персоны. Перехватив удивленный взгляд Кутузова, Екатерина пояснила:
– Больше никого не ожидается, Михайла Ларионович…
Никого? Даже Зубова? Кутузов вспомнил, что накануне императрица появилась на выходе с таким видом, словно желала проститься со своими подданными. После обедни она долго оставалась в тронной зале, где был выставлен портрет великой княгини Елизаветы, супруги Александра Павловича, писанный во весь рост госпожой Лебрен. Может быть, портрет будущей государыни? Затем был большой обед. Вечером внуки – Александр и Константин – получили приказание не являться к ней…
Длительное молчание прервала государыня, когда вошла Марья Саввична спросить, не нужно ли чего. Екатерина рассказала, как отошедшим летом они с Перекусихиной встретили в царскосельском саду несколько молодых людей. Те не только не обратили внимания на царицу, но даже не сняли шляп при виде дам.
– Марья Саввична хотела сделать им выговор. Но я удержала ее за руку и сказала: «Оставь их! На нас не смотрят. Стары стали…»
– И, матушка, – возразила, перед тем как удалиться, Перекусихина, – ты просто сегодня не в духе…
– Правда, ваше величество, что причиной вашего скверного настроения? – осведомился Кутузов.
– Опять выбранила Роджерсона, который говорил о вреде лечения, – на правах старой подруги объяснила Протасова.
Да, судороги мучили Екатерину все чаще. Однако было немало других причин для дурного самочувствия.
Европа переживала тревожные времена. Не потому только, что Французская республика била и теснила где возможно монархическую коалицию. Сами особы на престолах проваливались сквозь землю со сказочной быстротой. В 1792 году Густав III Шведский был смертельно ранен на маскараде выстрелом из пистолета. В том же году скончался Леопольд II Австрийский, и в следующем – взошел на эшафот Людовик XVI. Чья теперь очередь? Занедужившего Фридриха-Вильгельма II Прусского или… А вопрос о престолонаследии так до конца и не решен. Между тем сейчас, как никогда, России нужна уверенная и твердая рука. Заключенный в 1795 году союз России, Англии и Австрии против французов не гарантирует спокойствия. Военные приготовления происходят уже в опасной близости от западных границ…
Государыня почувствовала, как кровь горячо прилила к вискам, и отодвинула кофе.
– Прусский король вооружается. Против кого? Против меня? – Приметно гневаясь, Екатерина поднялась из-за стола.
Кутузов замечал, как изменился за последние годы ее некогда ровный и выдержанный характер.
Императрица повысила голос:
– В угоду кому? Цареубийцам, друзьям своим, на которых ему нельзя ни в чем положиться. Если этими вооружениями думают отвлечь меня и остановить поход Суворова, то очень ошибаются…
– Вы хотите, ваше величество, восстановить во Франции законную династию Бурбонов? – поинтересовался Михаил Илларионович.
– Это не столь важно, – медленно остывая, ответила Екатерина. – Пусть там останется республика. Главное – прекратить нашествия и сохранить эквилибр[49] в Европе. Надо наконец заставить французов уважать чужие границы, отказаться от побед и воротить войска домой. И только…
«Очень дальновидно, – подумал Кутузов. – Впрочем, государыня хоть и ненавидела революцию во Франции, но всегда интересовалась ею меньше, чем ближними – турецкими, шведскими и польскими – делами. Ведь выгоды России, а не Европы составляли для нее до сего дня главную цель. За все эти годы ни один русский солдат не перешел границы для защиты чужих интересов. Вот где величайший практицизм нашей монархини!»
– Вы правы, – сказал он. – Надо помешать Франции подчинить себе итальянские и германские государства. А то, чего доброго, республика столь усилится, что под ее влияние перейдут и остальные державы твердого континента…
Разговор о политике перемежался шутливыми историями, которые Кутузов рассказывал с обычным блеском. Наконец Протасова дала Михаилу Илларионовичу тайный знак, означавший, что императрица устала. Кутузов с улыбкой напомнил о своих пятерых дочках, которые заждались его, и поднялся.
– Договорим завтра, – ответила ему улыбкой на улыбку Екатерина. – У меня для вас, Михайла Ларионович, новое задание. И очень почетное…
Не вставая, она подала ему для целования руку, все еще изящную, но уже осыпанную желтыми старческими пятнышками. Когда Кутузов поднял голову, то встретил увлажненный, как бы сквозь слюду, покрывшую глаза, взгляд и услышал:
– Я никогда не забывала людей, которые когда-либо сумели оказать мне услугу…
И тогда Михаил Илларионович в этой старухе с отекшими ногами внезапно увидел молодую амазонку своей юности – в синей полумаске и с белой розой в роскошных волосах…
Кутузов вышел из дворца.
Мгла, ноябрьская сырая стынь, какая, верно, и бывает только в Петербурге, – пробирающая до мозга костей, до самого испода души. Самое время – в карету и мчаться домой. Но мысли, словно рой растревоженных пчел, мешали телу в его тяге к покою, теплу, неге, беспощадно жалили и гнали прочь от постели и сна.
Михаил Илларионович, как бы против собственной воли, отпустил карету, велев долговязому силачу-лакею идти сзади.
Тротуаров в Петербурге не существовало, и он неторопливо мерил положенные десять сажен по булыжной мостовой от одного фонаря до другого. Тусклый свет фитилей, опущенных в конопляное масло, едва пробивал сыпавшую с неба водяную муку, ложась размазанными желтоватыми пятнами на мостовую, и не мешал думать.
«Конец, конец! – повторял себе Кутузов. – Со смертью Потемкина, видно, и началось это крушение. Открылось все: и неостановимое падение дисциплины в войсках – армия Суворова не в счет; и ненаказуемое воровство полковых командиров; и непосильные рекрутские наборы, истощающие страну. В последнее царствование войны гремели, почти не умолкая. Да, ведь это кончается осьмнадцатый век. И в нем – моя жизнь!»
Он кружил по городу, не замечая ледяной пыли и ветра с Невы, к великому неудовольствию лакея, у которого давно промокли худые сапоги, и думал. Думал о пулях, которыми угостили его при Алуштинской пристани и у стен Очакова, о страшном штурме Измаила и Мачинском сражении. О своей недавней поездке в Константинополь, о турецких хитростях и о своей победе. Ах, что для него была Порта, с ее вероломством, жестокостью и изощренным коварством, когда он, византиец, был старее и опытнее ее на целых тысячу лет!..
Михаил Илларионович остановился у церкви Святой Екатерины, близ кадетского сухопутного корпуса, и огляделся, словно впервые попал сюда. Да, при нынешней государыне Божьи храмы стали напоминать более театральные здания – с фигурами снаружи, похожими не на библейских святых, а скорее на могучих античных героев и кудрявых античных небожителей…
«Государыня! Неужто конец? И что дальше? Кто станет у руля России? Сын или внук? И чем удивит новый век? И удивит ли? Ведь всегда все было и всегда все будет! Даже Батыево нашествие – было! А что еще может быть ужаснее Батыева нашествия и трехсотлетнего лихолетья? И для чего, для какого предназначенья я продолжаю жить в этом мире?..»
«Великий век! Свидетель многого – чудесного и ужасного, мудрого и жалкого, светлого и отвратительного, святого и жестокого, – думал Кутузов. – Царствование Екатерины Алексеевны! Каким оно предстанет для правнуков наших? И славные победы над турецким царством полумесяца и над железным королевством шведским. И многие, достойные похвалы гражданские дела. И тень покойного императора, воскресшего в Емельке Пугачеве. И сонмы придворных трутней, льстецов, угодников, злопыхателей. И упражнения в братской любви к человечеству в ложах иллюминатов и мартинистов. И игра случая, когда вчерашний поручик гвардии становился вровень с троном и уже сверху вниз взирал на первейших вельмож. И маленькая Ангальт-Цербстская принцесса, ставшая великой русской государыней…»
На Северную Пальмиру, на ее мраморные дворцы, где в окружении бесчисленной челяди почивала знать, и жалкие лачуги бедных чиновников и прислуги, на казармы, где в кратком сне готовились к новому трудному дню гвардейские солдаты, и трактиры, еще заполненные припозднившимися гуляками, на облетевшие сады с белеющими мраморными антиками, на стылую ленту Невы с последними в эту навигацию кораблями и многочисленные каналы – на все неотвратимо наваливалась ночь.
Кутузов вдруг поймал себя на том, что рассуждает сам с собой вслух. Потаенные мысли, верно, так мучили его, что теперь сами просились наружу. И главной было: «конец».
Книга вторая Сей идол северных дружин
А между тем без лучших людей нельзя… Лучшие люди пойдут от народа и должны пойти. У нас более чем где-нибудь это должно организоваться. Правда, народ еще безмолвствует и называет кроме Алексея – человека Божия – Суворова, например, Кутузова…
Ф. М. Достоевский, Дневник писателяЧасть I
Глава первая Гатчинский капрал
1
Михаил Илларионович сидел на старой смирной лошади в конной толпе генералов.
Теперь каждое утро все, от прапорщика до фельдмаршала, отправлялись на неизбежный вахтпарад, словно на лобное место. Никто не знал, что ожидает его там: внезапная милость, исключение из службы, ссылка, крепость или даже позор телесного наказания.
Над Россией сгустилась тьма павловского царствования.
Дворцовая площадь тонула в сизой стуже. Дивное творение Растрелли было обезображено расставленными повсюду аляповато-пестрыми шлагбаумами и будками. В ночь на 6 ноября, когда Екатерина еще была жива, Павел в сопровождении гатчинцев Аракчеева, Линденера и Капцевича самолично воздвигал их.
Из промозглой мглы, колыхаясь, выходили один за другим гвардейские полки. Павел, с обнаженной головой, держа шляпу в левой руке, летел вдоль строя на сером в яблоках кургузом жеребце. За ним поспешали великие князья Александр и Константин, военный комендант Петербурга Аракчеев, дежурные генералы и адъютанты. Император размахивал правой, в кожаной желтой краге рукой и громко и картаво кричал, выравнивая прусский гусиный шаг:
– Раз-два! Раз-два! Левой-правой! Левой-правой!..
В новом государе в полном блеске воскресло военное дурачество покойного Петра Федоровича.
Холод проникал в неудобную, тесную одежду, болели виски.
В шесть пополуночи военный парикмахер завладел седой головой Михаила Илларионовича, обстриг спереди остатки волос и натер ему лоб истолченным в порошок мелом. Затем, надев пудермантель, он обильно смочил волосы квасом, в то время как другой куафер щедро осыпал пуховкой на голову муку и расчесывал гребнем. После пришлось сидеть не шевелясь, пока не затвердела клейстер-кора. Сзади привязали железный прут для косы, а по бокам, на высоте половины уха, прикрепили войлочные пукли, которые держались с помощью проволоки, немилосердно сдавливающей голову.
Потом Кутузов облачился в новую форму, напомнившую ему времена Петра III.
Теперь Михаил Илларионович мог оценить удобство прежней одежды, введенной Потемкиным: суконные шаровары, свободный кафтан, наподобие куртки, не говоря уже о прическе – рядовых стригли под горшок. Сейчас солдат нарядили в темно-зеленый толстого сукна мундир с отложным воротником и обшлагами кирпичного цвета, дали шляпу с огромными загнутыми полями – «городами», которая, однако, едва держалась на голове, до невозможности стянули шею черным фланелевым галстуком, а ноги обули в курносые смазные башмаки с туго перехваченными за коленом черными суконными штиблетами. Кавалеристам вместо сабли, наносившей страх врагу, воткнули в фалды по железной спичке, удобной только перегонять мышей, а не защищать жизнь свою. Унтер-офицерам вручили совершенно бесполезную в бою двухсаженную алебарду и навесили подле тесака трость – как наиболее убедительный аргумент воинского воспитания…
– Марш! Марш! – несся над площадью резкий голос императора.
Свое гатчинское войско Павел уравнял с гвардией, что вызвало в полках дружный ропот. Это были по большей части люди грубые, малообразованные, сор русской армии. Выгнанные из полков за дурное поведение, пьянство или трусость, они нашли прибежище в гатчинских батальонах, где, добровольно обратясь в машины, сносили от наследника-цесаревича брань, оскорбления, а случалось, и побои. Ныне вся армия пригонялась под их образец. Глядя, как солдаты и офицеры старательно тянут ногу под треск барабанов и писк флейтуз, Кутузов сказал себе:
«Словно они сошли со старорусской гравюры, изображающей Семилетнюю войну…»
Внезапно Павел подскакал к командиру одного из полков, перегнулся, схватил его за ухо и потянул к себе с возгласом:
– Что же вы, рекалии, не маршируете! Я же сказал: «Вперед марш!»
Солдаты еще не научились понимать новых команд. Вместо приказа «К ружью!» теперь говорилось «Вон!», вместо «Заряжай!» – «Шаржируй!». Привычное «Ступай!» заменили французским речением «Марш!».
– Всех офицеров на гауптвахту! Полковника из службы исключить! – надуваясь лицом до красноты, зашелся в гневе Павел.
Аракчеев, сутулый, худощавый и жилистый, громко и подобострастно добавил, указывая на полковые знамена:
– Развесили, гог-магог, екатерининские юбки!..
От резких, гугнивых криков лошадь под Кутузовым заволновалась. Михаил Илларионович успокаивал ее поглаживанием, ласково приговаривая:
– Смирно, Зефир… Стой спокойно, мой дружочек…
Да, теперь надобно было учиться всему сызнова.
Не только солдатам – седым екатерининским генералам пришлось знакомиться с тайнами гатчинской экзерциции. В Зимнем дворце был учрежден тактический класс, за которым надзирал Аракчеев, а преподавали бывший учитель фехтования Каннибах и бывший лакей графа Апраксина Клейнмихель. Герои, штурмовавшие Очаков и Измаил, зубрили значение плутонгов, эшелонов, пуан-де-вю, пуан-д'аппюи и других мистерий прусского воинского устава. Михаил Илларионович встречал там новопроизведенных фельдмаршалов Салтыкова и Репнина, старика Прозоровского, наконец, Ивана Лонгиновича Голенищева-Кутузова, у которого в Морском кадетском корпусе и давал некогда уроки фехтования выскочка-немец…
Павел уже здоровался с генералитетом. Он милостиво побеседовал с Павлом Васильевичем Чичаговым, вспомнил, в качестве генерал-адмирала русского флота, должность которого занимал с двенадцати лет, о былых заслугах его отца-флотоводца и изволил дать для целования руку. Контр-адмирал Чичагов исполнил это с удовольствием, преклонив колено, и вызвал царской милостью зависть у наиболее пылких обожателей императора.
После парада Михаил Илларионович проследовал вместе с прочими военачальниками в залы Зимнего дворца.
Ожидали выхода Павла, затворившегося в кабинете для подписания бумаг. Вскоре шталмейстер громко назвал имя Чичагова, который приглашался на экстренную аудиенцию. В толпе шушукались, что может взойти новая звезда.
Кутузов оглядывал хорошо знакомые лица, вспоминая, как в последний раз ему довелось увидеть Екатерину Алексеевну.
Уже утром 5 ноября Михаил Илларионович был извещен о смертельном апоплексическом ударе, поразившем императрицу, с которой он расстался накануне. В девятом часу из Гатчины примчался цесаревич. Он расположился в угольном кабинете, примыкающем к спальне государыни, и не мешкая занялся разбором ее бумаг.
Кутузов, как и все, кого призывал Павел, принужден был пройти мимо его еще дышавшей матери. Все усилия докторов привести императрицу в чувство ни к чему не приводили. Комнатная прислуга не смогла даже поднять ее на кровать, и Екатерина лежала с закрытыми глазами на полу, на сафьяновом матраце. Страдания неузнаваемо изменили черты ее благообразного лица.
Никто из близких государыне вельмож не посмел предать гласности ее волю, по которой российский престол, минуя Павла, передавался великому князю Александру. Вчерашние ненавистники цесаревича угодливо спешили возвести его на трон. В Гатчину поскакал брат последнего фаворита Николай Зубов.
Весть о смертельной болезни Екатерины привез Павлу его будущий убийца…
Из верных уст Михаил Илларионович слышал о судьбе завещания. Когда Павел с Безбородко разбирали бумаги Екатерины, тот указал цесаревичу на пакет, перевязанный черной лентой. Павел вопросительно поглядел на графа Александра Андреевича, который молча указал на топившийся камин…
С треском растворились белые с золотом двери государева кабинета. Перед сановниками и генералами предстал Чичагов. Но в каком виде! В одном положенном по уставу желтого цвета нижнем белье! Два офицера-гатчинца препроводили контр-адмирала мимо обалдевшей толпы до кареты.
«От такого императора хорошо бы держаться подальше…» – подумалось Кутузову.
Павлу всюду мерещились якобинцы и революционная зараза. На этом и сыграл товарищ Чичагова по службе адмирал Кушелев, понятно не желавший его чрезмерного возвышения. Он сообщил государю, что Павел Васильевич заражен якобинским духом и собирается перейти на службу к англичанам. Чем нелепее было обвинение, тем легче оно воспринималось новым императором как истина.
Когда Чичагов вошел в кабинет, он по глазам государя приметил, что тот сильно гневается.
– Сударь! Вы не желаете служить мне? Вы хотите служить иностранному принцу? – закричал Павел.
Чичагов догадался, откуда дует ветер. Он открыл было рот, чтобы уверить императора в невозможности этого: английская конституция не дозволяла принимать на службу иностранцев. Но император не дал ему вымолвить и слова. Он затопал ногами и еще громче закричал:
– Я знаю, что вы якобинец! Но я разрушу все ваши идеи! Уволить его в отставку и посадить под арест! – Он обратился к адъютантам: – Возьмите его шпагу! Снимите с него ордена!
Контр-адмирал выслушал крики Павла хладнокровно. Он сам снял свои регалии и передал их офицеру.
– Отослать его в деревню с запрещением носить военную форму! – продолжал сердиться император. – Или нет! Снять ее с него теперь же!
Флигель-адъютанты бросились на Павла Васильевича, как звери, и с необыкновенной быстротой раздели его. Чичагов не терял присутствия духа. Соображая, что Павел, увлекшись, может сослать его в Сибирь, он обратился к одному из офицеров и попросил отдать бумажник, оставшийся в мундире. Тот смутился и сказал, что бумажник ему возвратят.
– Уведите его! – закричал опять государь.
Чичагов не успел дойти до своей квартиры, как его нагнал флигель-адъютант с собственноручной запиской императора. Это было приказание посадить Павла Васильевича в Петропавловскую крепость…
«Говорят, что, еще будучи наследником, Павел лелеял мысль править железной лозой. Бедная Россия! Не ведомо никому, сколь долго ей придется терпеть эту Павлову лозу!» – сказал себе Михаил Илларионович, покидая Зимний дворец.
2
В числе немногих видных деятелей прежнего царствования Кутузов не только избежал немилости и опалы, но и получил от нового государя почетные назначения и награды. Он удержался посреди той вакханалии разжалований, арестов, ссылок, какая была развязана с приходом Павла. Подсчитано, что за четыре года и четыре месяца своего короткого правления новый император уволил из армии семь фельдмаршалов, более трехсот генералов и две тысячи штаб– и обер-офицеров. Около двенадцати тысяч чиновников и военных было сослано в Сибирь: по три тысячи в год, по 250 – в месяц, по 8 – каждый день.
«Корабль не грузился, а выгружался способными людьми», – писал кабинет-секретарь Екатерины II Завадовский.
Помимо стремления во всем идти наперекор политике своей великой матушки в поступках Павла огромную роль играло мимолетное настроение, вихрь, каприз. Он уволил в отставку Платона Зубова и сослал в дальние деревни старую и больную Екатерину Романовну Дашкову[50], но милостиво обошелся с Алексеем Орловым, одним из убийц своего отца. Будучи в Москве, новый государь с похвалой отозвался о состоянии тамошних войск. Однако на возвратном пути в Петербург, на 172-й версте от первопрестольной, вдруг решил разжаловать 132 офицера за то, что они заболели и не могли участвовать в вахтпарадах. Путешествуя по Смоленской губернии, император приметил, что в слободе Пиев множество крестьян чинят по приказу своего помещика Храповицкого дорогу и мост, в то время как строго запрещалось делать какие бы то ни было приготовления к царскому приезду. Прибыв на ночлег, взволнованный Павел повелел великому князю Александру подготовить указ, приговаривающий Храповицкого к расстрелу.
– Я могу сказать о себе, как о славном городе Париже, у которого на гербе начертано: «Плавает, но не тонет», – шутил Михаил Илларионович, узнавая о новых причудливых поступках императора. Они диктовались экзальтацией, романтическим дилетантизмом, мгновенным порывом.
Государь объявил об амнистии находящимся в заключении после кампании 1794 года полякам. Он сам приехал в Мраморный дворец, где содержался под стражей знаменитый генерал Костюшко[51], со слезами на глазах обнял его, даровав свободу, и сказал:
– Такому храброму воину неприлично быть без шпаги. Возьмите мою…
Был возвращен из далекого Илимска Радищев и выпущен из Шлиссельбургской крепости Новиков. Во время милостивой аудиенции Павел спросил Новикова, чего тот хочет. Последовала просьба освободить всех заключенных по его делу, что и было исполнено. Подвергшийся преследованиям при Екатерине друг Алексея Михайловича Кутузова масон Лопухин был вызван в столицу, произведен в действительные статские советники и назначен секретарем императора.
Многие порывы Павла были благородны, но чаще всего и они приводили к неожиданным и даже печальным последствиям. Первым его распоряжением, отданным Лопухину, было подготовить рескрипт об уничтожении печально известной тайной экспедиции, где кнутобойничал Шешковский, и освобождении всех без исключения узников. Однако в то же время крепости были переполнены, только в Петропавловской томилось 900 заключенных. Государь воспретил помещикам употреблять крепостных на работах более трех дней в неделю и приказал, чтобы крестьяне, наряду с прочими сословиями, присягали ему на верность. Но помещики толковали указ в свою пользу, а манифест о присяге породил слухи об освобождении и вызвал в центральных губерниях волнения, которые были подавлены с необыкновенной даже для того времени свирепостью князем Репниным.
– Единственно приятно, – рассуждал Кутузов в кругу семьи со своим верным другом Екатериной Ильиничной, – что во время возмущения одному из гатчинских извергов – Линденеру крепко досталось по спине крестьянской дубинкой…
Павел произвел в фельдмаршалы графа Н. Салтыкова, князя Репнина, графа Чернышова, а затем – Каменского, Эльмпта, Мусина-Пушкина, И. Салтыкова, Гудовича. И в то же время заточил в глухом Кончанском великого Суворова.
Отчего же августейший гнев миновал Кутузова? Ведь Михаил Илларионович ходил в последние годы в любимцах у Екатерины Алексеевны.
Тут сказывалось многое: обычная кутузовская предусмотрительность, осторожность, ревностное отношение к службе – не только к духу, но (что особенно ценил Павел) и к букве ее – и, не в последнюю очередь, связи Михаила Илларионовича. В числе покровительствовавших ему лиц недаром были второй после покойного Панина наставник государя Репнин и с детских лет приближенный к особе Павла Иван Лонгинович Голенищев-Кутузов.
Михаил Илларионович участвовал в маневрах, производившихся в сентябре 1797 года в Гатчине. В декабре он был вызван на аудиенцию к императору.
– Этим господам в Берлине вздумалось водить меня за нос! – сказал Павел Кутузову. – Но они забыли… – раздражаясь, продолжал он, проводя рукой по лицу, – что у меня носа нет! Вероломство прусского двора вынуждает меня просить от короля объяснений, с кем же он, с господами якобинцами или с нами. И вам, Михайла Ларионович, я доверяю решать сей щекотливый вопрос…
17 декабря Кутузов отправился в Берлин, к новому прусскому королю Фридриху-Вильгельму III, со специальной миссией.
3
Двадцатисемилетний чрезвычайный и полномочный министр при берлинском дворе граф Никита Петрович Панин, сын знаменитого екатерининского вельможи, временами приходил в отчаяние от противоречивых инструкций, получаемых от своего пылкого императора.
Павел Петрович так часто и круто менял политический курс, что сотрясал все здание российской дипломатии. В сущности, новая политика Петербурга преследовала единственную цель – полное отрицание предшествующей. От действий, направленных на территориальные приобретения, Россия должна была обратиться к противоположным – отказу от всяческих завоеваний. Ко всеобщей радости, был отменен назначенный Екатериной II рекрутский набор, а затем последовало прекращение войны с Персией. Все, достигнутое во время тяжелого похода армии Валерьяна Зубова в Закавказье, бросили поспешно, без толку. Лишь бы вырвать с корнем посеянное царицей.
Новое правительство волновали не практические нужды собственного государства, а отвлеченные заботы о других державах. Оно заявило о намерении «противиться всевозможными мерами неистовой Французской республике» и тем самым открыло двери к «спасению» Европы ценой русской крови и без всякой пользы для страны. Это немедленно поняли в Австрии и Англии и решили втянуть Россию в войну против «богомерзкого правления» французов и выманить наконец русские войска за границу. Именно тогда заложены были предпосылки нашего поражения на чужих полях Аустерлица и Фридлянда…
В шифрованных, строго секретных письмах к своему кузену и вице-канцлеру князю Куракину Панин именовал высочайшие указания «бестолковыми» и даже называл их «галиматьей», упрашивая никому не показывать свои депеши, а только пересказывать их устно наиболее доверенным лицам, в числе которых назывался граф Безбородко.
Речь шла об удержании французского кипятка за Рейном с помощью плотной крышки, роль которой отводилась «четвертному союзу»: России, Англии, Австрии, Пруссии. В то же время опасно было бы оплачивать такой альянс усилением двух последних держав новыми приобретениями за счет Италии и германских княжеств. Чередуя посулы с угрозами, что революционный поток сметет шаткую плотину, возведенную переговорами в Кампо-Формио, Панин с удивительным для его лет упорством пытался выправить крен в политике берлинского двора, несмотря на интриги влиятельного министра иностранных дел Гаугвица.
Однако боготворимая Павлом Петровичем Пруссия не чувствовала ни малейшего желания сражаться из-за отвлеченных начал с «возмутительными идеями», олицетворяемыми Французской республикой. Немцы, как всегда, были практичны. Фридрих-Вильгельм II желал воспользоваться разладом, царившим в Европе, лишь для округления своих владений. С этой целью он заключил с Францией договоры, которые обусловили нейтралитет Пруссии и солидное приращение ее территорий в недалеком будущем.
Соглашаясь с ненавистной Французской республикой оставались полной тайной для Павла. Когда же король счел наконец возможным сообщить ему секретные пункты договора об уступке Директории левого берега Рейна и предстоящем вознаграждении Пруссии за счет германских владений, это вызвало полное охлаждение русского государя к своему недавнему другу. В гневе Павел не постеснялся сообщить доверенную ему тайну послу Австрии в Петербурге, что вызвало смятение в дипломатическом мире. Зияющая брешь возникла в отношениях двух государств, только недавно скрепленных почти братскими узами.
5 ноября 1797 года скончался масон и мистик Фридрих-Вильгельм II – ровно через год после смерти русской императрицы. Владетелей старой Европы раздирали противоречия и тяжбы. Споры наконец так ожесточились, что австрийский император Франц предложил новому прусскому королю просить Павла о посредничестве. Местом переговоров был назначен Берлин, куда выехал со специальными полномочиями фельдмаршал Репнин. Предполагалось достичь доброго согласия между членами разваливающейся коалиции.
Между тем, пользуясь раздорами, царившими среди монархов, на проходившем в ту пору Раштадтском конгрессе уполномоченный Директории Кальяр предъявлял Европе все новые непомерные требования.
Репнин в своей миссии не преуспел. На предложение заключить оборонительный пакт против Франции граф Гаугвиц отвечал, что Пруссия желает сохранить нейтралитет. Павел сердился на Репнина и приказал ему отправиться в Вену, а Панину продолжать переговоры. По возвращении в Россию князь Николай Васильевич был и вовсе удален от службы. Негласным же послом на переговорах назначался Кутузов.
Хотя формальным поводом для поездки было приношение поздравлений восшедшему на престол Фридриху-Вильгельму III и в специальной инструкции Михаилу Илларионовичу вменялось всячески уклоняться от любых политических вопросов, на деле, что только и бывает в дипломатии, все обстояло как раз наоборот. Ему надлежало добиться успеха на том скользком берлинском паркете, где не удержался его покровитель Репнин.
Кутузов еще находился в пути, когда последовал лестный императорский рескрипт о его назначении на место фельдмаршала Каменского инспектором войск Финляндской инспекции и шефом Рязанского мушкетерского полка. Он еще только начал нащупывать тайные нити прусской политической машины, как был произведен государем в генералы от инфантерии.
Павел желал тем самым выразить Михаилу Илларионовичу свою полную доверенность.
4
Кутузов прибыл в Берлин 27 декабря 1797 года.
Начались хлопотные аудиенции, визиты, представления. Так как молодой государь болел корью, Михаил Илларионович встречался с его родственниками, с вдовствующей королевой, с тетками и дядьями, очаровывая их рассказами о своей беседе с Фридрихом II, о замечательных прусских порядках и о масонских добродетелях скончавшегося государя. Он поражал собеседников чистотой берлинского выговора, натуральностью немецкого языка.
– Эхте дойч! Настоящий немец! – качали пудреными париками принцы и бароны.
Между делом Кутузов подбирал ключи к Гаугвицу, которого надлежало либо привлечь на сторону России, либо постараться лишить монаршьего благоволения, буде он неуступчив и упрям в своем твердолобом франкофильстве.
Вечерами, в промежутках между деятельными трудами в берлинских гостиных и замках, Михаил Илларионович обсуждал положение с молодым русским послом и племянником своего покойного наставника графа Никиты Ивановича – Никитой Петровичем Паниным. Он готовился к встрече с Фридрихом-Вильгельмом III и сам готовил для нее почву.
– Генерал, – говорил Панин, – король еще молод и столь неопытен, что вас, возможно, удивят его суждения и оценки…
– О его молодости, – улыбнулся Кутузов, – свидетельствует и самый недуг, из-за которого я лишен счастья представиться ему…
– Да, – не мог сдержать ответной улыбки граф Никита Петрович, – я переболел корью пяти годов от роду…
– А его величеству уже идет тридцать седьмой… Впрочем, у монархов особый счет летам. Я в эти годы уже давно командовал полком…
– И получили тяжкое ранение, – вставил почтительно граф Никита Петрович.
– Давняя история! – махнул пухлой рукой Кутузов. – Ну, вот, стало быть, вернемся к графу Гаугвицу, в коем корень зла. Сей зрелый муж был по сию пору в интимных хлопотах с Кальяром и даже слышать не желал о картеле с Россией. Однако генерал-адъютант его величества Кекериц в бытность мою на приеме у ландграфини Гессен-Кассельской конфиденциально сообщил, что с приездом нового французского посланника Сиеста любовь сия может и порасстроиться…
Панин в некотором волнении подался вперед:
– Учтите, генерал, что Кекериц имеет пристрастие к графу Гаугвицу! И посему нужно проявлять в разговорах с ним крайнюю осторожность!
Кутузов смежил свой больной правый глаз и добавил:
– Да, и ежели я не дурной физиономист, то, смею еще заметить, Кекериц честен и недальновиден. Для нас же главное то, что он пользуется отличным доверием и милостью своего короля. Я, кажется, произвел на него впечатление своей беседой. Доселе старался я в разговорах с сим человеком распространяться о делах, посторонних политике. Разговаривал всего более о ремесле военном. Но тут он сам вступил со мной в рассуждение о страшных успехах французской вольницы…
…Пока тянулись переговоры в Берлине, Директория продолжала создавать республики в Северной Италии, а затем заняла Пьемонт и сделала сардинского короля пленником в собственной столице. Французы вошли в Рим, провозгласили его республикой, а папу увезли в Париж. Войска Директории не покидали Голландии и овладели Швейцарией, объявив, что желают усмирить внутренние распри кантонов. Принимая в Париже польских депутатов, Директория объявила свое покровительство образованию ляшских легионов в Северной Италии. Легионы тайно предназначались в качестве ядра будущей польской армии. В Тулоне производились огромные морские вооружения, назначение которых хранилось в глубоком секрете. Революционная Франция мало-помалу становилась Францией агрессивной, войны – захватническими, цели – грабительскими.
Не об освобождении, а о покорении других народов, попрании их национального достоинства шла теперь речь…
Михаил Илларионович продолжал рассказывать о своей беседе с Кекерицем:
– Я лишь разделял с ним его омерзение французскими поступками и незаметно подогревал его жар. И тогда он заключил, что спасение Европы зависит от самодержца российского, что только он один сильным влиянием может соединить австрийский и прусский дворы, дабы поставить преграду гибельному наводнению. Я ничем не поддался ответствовать на его предложения и лишь выражал общие слова нашей доброй дружбы. Но семя посеяно, граф. Теперь будем ожидать всходов…
Проводив Кутузова, Панин тотчас же начал составлять шифрованную депешу вице-канцлеру Куракину.
«Подобно вам, милый кузен, – писал он, – сознаю трудность выбора человека, долженствующего быть моим помощником. Так как предварительный наказ хотят дать генералу Кутузову, нет ли возможности остановиться на нем и оставить его на несколько времени? Признаюсь, я предпочитаю его весьма многим. Он умен, со способностями, и я нахожу, что у нас с ним есть сходство во взглядах. Если пришлют кого иного, мы потеряем драгоценное время на изучение друг друга и, так сказать, на сочетание наших мнений. Еще одна из главных причин заключается в том, что он имел успех при дворе и в обществе. Старому воину они здесь доступнее, чем кому иному, и с этой выгодой он соединяет еще другую: знает в совершенстве немецкий язык, что необходимо. Наконец, повторяю, я думаю, что он будет полезнее другого и что мы с ним всегда поладим…»
Помимо выполнения важной дипломатической миссии у Михаила Илларионовича была еще одна, приватная цель. Он разыскивал в Берлине давнего знакомого – Алексея Михайловича Кутузова.
5
Связь с Россией сохранялась лишь до разгрома масонских гнезд в Москве. «Братья» Алексея Михайловича по ложе сообщали ему обо всех ратных успехах славного генерала. Князь Трубецкой писал в Берлин 3 апреля 1791 года: «Друг твой Михаил Ларионович пожалован в генерал-поручики, с чем тебя поздравляю». После сражения у Бабадага Лопухин извещал Алексея Михайловича: «О победе за Дунаем, одержанной твоим Кутузовым, ты, я чаю, уже знаешь из ведомостей. Я слыхал, что сему искусному и храброму генералу пожалован крест Святого Георгия второй степени». В другом письме в Берлин он добавлял уже о Мачине: «И на оной баталии с визирем, между прочим, отличился твой Михаил Ларионович Кутузов, коему все отдают справедливость. За сию баталию пожалована ему, сказывают, шпага с бриллиантами…»
Но Алексей Михайлович ничего не получает от самих Кутузовых.
«Не могу себе представить, – сокрушенно обращается он к Екатерине Ильиничне в октябре 1791 года, – чтоб вы забыли совершенно человека, которого вы удостаивали вашей дружбою; сердечные ваши свойства подтверждают мое мнение. Но чему же припишу я ваше столь упрямое молчание?..
Я не намерен углубляться в исследование причин, мне не известных, скажу только вкратце, что молчание ваше убивает меня. Не забывайте старой пословицы: «напуганная ворона и куста боится», обратите оную на меня и представьте, с какими страшными чудовищами воображения ныне я принужден сражаться! И так, хотя из сожаления, рассейте одною строчкою руки вашей мрачные сомнения, в которые я погружаюсь».
Однако ответа не последовало.
Еще до того, как грянул гром, Михаил Илларионович ощутил, что над московскими масонами сгущаются тучи. Прежде чем начались репрессии, он посоветовал Екатерине Ильиничне прекратить ставшую особо опасной переписку. А после арестов и ссылок она сделалась уже и вовсе невозможной…
Теперь Кутузов желал искупить невольную свою вину. Но известия оказались самые печальные: Алексей Михайлович отошел в мир иной 27 ноября 1797 года, ровно за месяц до приезда Михаила Илларионовича в Берлин. И где? В долговой тюрьме, в жесточайшей бедности! Вот: все мечтал о братстве человечества, о любви и о свободе и умер самой поносной смертью, задолжав жалкую кучку талеров. Не нужный никому!..
«Да, жестоки рыцари Злато-Розового креста! – размышлял Михаил Илларионович. – Видно, Алексей Михайлович потерял всякую ценность для «братьев». И сразу же был выброшен вон за ненадобностью. Могуча и беспощадна масонская сила. Словно из бездны, восстает она, управляя и стравливая политиков, приносит человеческие жертвы – и все это во имя чего-то тайного. Но чего?.. – Чем долее Кутузов думал над этим, тем яснее понимал тщетность своих попыток. – Право, ведь каждый из братьев допущен лишь к той малой степени, какой он достиг в масонской пирамиде. А выше мрак уже сгущается. И верховное существо, верно, не сидит во мраке: оно само мрак… Но и этой силой надобно воспользоваться…»
Кутузов и в самом деле не пренебрегал своими масонскими связями, что тоже помогало делу. Ведь все окружение покойного короля принадлежало к братству вольных каменщиков. И многие из них сохранили свое влияние.
Он пускал в ход обещания, лесть, одних шармировал, других стращал якобинским пугалом, распространялся о любви русского государя к прусскому королевству и заметно поколебал положение Гаугвица. В высших берлинских сферах его успех перерастал уже в триумф. 12 января 1798 года Кутузова принял Фридрих-Вильгельм III. Михаил Илларионович передал поздравление от своего монарха и от себя добавил:
– Вся Европа, видя ваше величество на троне своих предков, озарилась надеждой, что возобновляется царствование Фридриха Великого…
Польщенный, король отвечал:
– Ваша известность опередила вас, генерал. Его императорское величество, мой августейший брат, не мог дать мне лучшего доказательства своей дружбы, чем избрав вас своим представителем.
Затем Фридрих-Вильгельм наговорил Кутузову еще множество комплиментов. Его заслуги, его военные таланты, его раны – ничто не было забыто. В этот же день и на следующий, когда Михаила Илларионовича удостоила приемом королева Луиза, прусский монарх долго разговаривал с ним о европейских делах, политике берлинского двора. Кутузов не раз ужинал с королевской четой – честь, которая не была оказана австрийскому посланнику графу Штернбергу.
Оставалось, по-видимому, сделать еще несколько последних усилий и выждать необходимое время, чтобы окончательно склонить короля к заключению союза. На столе у Фридриха-Вильгельма III уже лежал подготовленный к подписи документ…
Н. П. Панин – А. Б. Куракину. 19 января 1798 года. Берлин. Партикулярное письмо. Секретно.
«Если вы расположены, милый кузен, оказать мне важную услугу, которой жду от дружбы вашей, я предложу вам еще одно средство, которое нисколько не покажется натяжкой. Пообождите, по крайней мере, до тех пор, покуда генерал Кутузов не выполнит возложенного на него поручения. Если оно – в чем я нисколько не сомневаюсь – будет выполнено к вашему удовольствию; если вы признаете существующее между нами и совершеннейшее единомыслие, – не будет ли тратою драгоценного времени навязывание мне новых хлопот с новичком, которому успеть здесь будет гораздо труднее, нежели генералу Кутузову? Кутузов в Берлине имел удивительный успех, и господину, пользующемуся вашим покровительством, долго придется ожидать того приема, который был оказан здесь Кутузову…»
Теперь у Панина не существовало никаких тайн от Михаила Илларионовича. Граф Никита Петрович перехватил секретную депешу Кальяра, где говорилось: «Господин Гаугвиц до такой степени предан французской нации, что только от Директории зависит заключить договор о союзе. Он ожидает единственно новых инструкций для заключения статей». Надо было торопиться. Кекериц, главный адъютант короля, в свой черед, заверял Кутузова, что слабость зрения после кори Фридриха-Вильгельма – единственная причина, по которой документ о русско-прусском пакте не подписан.
Это напоминало перетягивание каната…
Но доверительные разговоры русского посла с Кутузовым велись не только об интригах Гаугвица и о возрастающей опасности со стороны Франции. Касались и тем самых деликатных. Заходила речь и о царствующей особе, повелевающей из Петербурга. «Совершеннейшее единомыслие» подтверждалось и здесь. Не называя даже имени государя, оба собеседника сошлись в том, что России приходится как никогда солоно, но что худшее – впереди.
Граф Никита Петрович рассказывал, что в столице Пруссии еще помнили о приезде цесаревича и его встречах с Фридрихом II. Проницательный король сказал тогда, в далеком 1782 году, о Павле Петровиче своим придворным: «Он может подвергнуться участи, одинаковой с участью его несчастного отца».
Молчание Кутузова и взгляды, которыми они обменялись, были красноречивее слов.
Именно в Берлине завязались дружеские узы у Кутузова с будущим вице-канцлером и одним из руководителей заговора против Павла…
Между тем все попытки Панина задержать Михаила Илларионовича в Берлине ни к чему не привели. Император считал, что длительное пребывание Кутузова в Пруссии не может быть прилично уже «по большому его чину». А кроме того, генерала от инфантерии ожидали неотложные дела в Финляндии.
Павел был убежден, что стараниями Франции готовится коалиция против России, которая объединит Пруссию, Швецию и Турцию. Еще в 1797 году он составил план на случай войны против шведов и теперь ожидал его апробации со стороны Кутузова. Пришлось поторопиться с отъездом и оставить все так удачно начатое на полпути.
1 марта 1798 года Михаил Илларионович имел отпускную аудиенцию у Фридриха-Вильгельма и его супруги, а 3 марта ездил в Потсдам для осмотра королевских замков, где состоялся, уже без свидетелей, последний доверительный разговор с прусским монархом.
Проезжая мимо Виноградной горки, Кутузов увидел еще заколоченный на зиму одноэтажный дворец Сан-Суси и вспомнил 1775 год. Король принял русского генерала в Новом дворце – последнем сооружении Фридриха II. Вялый и нерешительный, ни в чем не напоминающий своего дядюшку, Фридрих-Вильгельм III встретил Михаила Илларионовича с таким почтением, словно старшего родственника. Кутузову было вручено письмо для императора Павла. Король подарил ему богатую табакерку с собственным портретом и ящик драгоценного саксонского фарфора.
Сердечно прощаясь с графом Никитой Петровичем, Михаил Илларионович говорил ему:
– Страшусь, что картель наш с Пруссией, ежели он и будет заключен, может оказаться хрупким. Как и подаренные мне тарелки с голубыми мечами! Ведь, судя по всему, его королевское величество собирается подписать сразу два противоположных трактата: с нами и с Францией…
8 марта Кутузов выехал из Берлина в Петербург. Его краткая миссия все же сдвинула дело с мертвой точки.
Глава вторая По велению монарха
1
М. И. Кутузов – Е. И. Кутузовой.
«20 апреля 1798 года. Выбурх.
По вчерашней почте получил я, милый друг, твое письмо. Это второе после моего приезда. Дороги еще так дурны в здешней прекрасной земле, что тебе никак нельзя подумать ехать, да и мне надобно еще объездить инспекцию. Я, слава Богу, здоров, только от многого письма болят глаза и очень скучно…
Здесь мы хлопочем очень, а потому и соседи наши беспокоятся; от самого этого, что мы готовимся, может быть, все и усмирится…»
За небольшим оконцем, в сетке частого дождя, вырисовывался знакомый силуэт Выборга: гранитные бастионы крепости, основанной легендарным королем Эриком и перестроенной при Густаве Вазе, верхи стрельчатой кирки, мокрая черепица обывательских крыш. Здесь все было памятно Михаилу Илларионовичу по прежнему командованию сухопутными войсками. Зато как переменились с той поры порядки!
Верно, только в России новое лицо может в один день все поставить вверх дном.
Вместо редких курьеров по раскисшим дорогам то и дело бешено скакали фельдъегери. Они отмахивали сотни верст, чтобы разрешить пустячный вопрос, подведомственный командиру батальона. Бесчисленные бумаги за подписью императора определяли не только судьбу корпусов и дивизий, но и участь каждого унтер-офицера. Власть на местах была вытеснена мелочной опекой.
Главным, конечно, оставалось приведение войск к боевой готовности. Михаил Илларионович приступил к обязанностям инспектора с обычным своим усердием. И все закипело! Государь прислал свой план Кутузову и просил высказать предложения о боевых действиях вверенного ему корпуса. Однако Михаил Илларионович не ограничился этим, а составил развернутый проект наступательного движения трех корпусов. Трудился день и ночь и был своим трудом доволен. Но получил от Павла рескрипт: «Повелеваю Вам исполнять то, что прежде предписано мною, когда придет на то время, держась во всем моего плана, от которого я не отступлю». Как будто из Зимнего дворца все видно лучше, чем здесь, на месте, где Кутузов изъездил все маршруты, коммуникации дороги и береговые линии.
Что ж, монаршья воля – закон.
В любом деле теперь Михаил Илларионович был связан по рукам и ногам. Не только передвинуть полк, но заменить пуговицы на мундире нельзя было без царева разрешения. Умерли три обывателя в Кивинованском киркшпиле – рапорт государю. Не отпущено унтер-офицерам положенное число алебард – новая бумага. Возникла нужда в адъютанте по частым разъездам – письмо генерал-майору Нелидову с просьбой донести его величеству, ежели он «сие не дерзновенным считает». Начался или прекратился падеж скота, утонул в Выборгском заливе мастеровой, пьянствует в егерском полку унтер-офицер или капитан берет деньги у солдат – все всепокорнейше докладывается на самый верх.
Да вот третьеводни Кутузову вновь пришлось поволноваться. И из-за чего? Гарнизонный офицер в Выборге напился пьян, нанял тихонечко у фурмана лошадей, уехал за город и увез с собой дочку пастора. К счастью, скоро схватились и отыскали его с ней в слободе. Офицера Михаил Илларионович немедля отдал под караул, а девицу вернул к отцу. Пастор упрашивал не предавать дела огласке, а потихонечку женить виновника. Но Кутузов был иного мнения. Он отправил обо всем случившемся рапорт Павлу и объяснял в письме Екатерине Ильиничне: «Воля императорская женить его или нет… Я не надеюсь, чтобы государь на меня за сие погневался, что его не тотчас хватились и поймали. Впрочем, власть Божия…»
Закончив письмо жене и подписав еще ворох бумаг, Михаил Илларионович мог позволить себе за обедом перелистать свежие газеты. В «Санкт-Петербургских ведомостях» извещалось:
«Сегодня, пополудни в 5 часов, в Кушелевом доме, даст приехавший сюда из Штокгольма с 9-летним своим сыном камер-музыкант Бервалк концерт. Билеты для лож, кресел и прочих мест можно получить у Демута под № 36…
…Всемилостивейше произведен из генерал-майоров в генерал-лейтенанты Войска Донского Орлов…
…В Малой Коломне, в Дровяной улице, под № 66-м, у отъезжающей продаются дворовые люди: девка 18 лет, которая умеет шить цветами и белье чинить, из крестьян; мужик 40 лет, женщина 35 лет, сын 14-ти и девка 16 лет; все они хорошего поведения; серый попугай, который говорит чисто по-русски и песни поет, да гнедой рысак, а о цене спросить в оном доме у хозяина. Тут же отдается лакей с женой в услужение, лакей – портной, а жена – хорошая прачка и шьет в тамбур цветами и блонды плетет; оба хорошего поведения…»
Далее сообщалось, что странствователь Мунго-Парк возвратился из Африки в Лондон. Ни один европеец не проникал так далеко, как он. Мунго-Парк подтвердил известие других путешественников о существовании города Гуссака, лежащего при реке Тумбуктое, который вдвое многолюднее Лондона. Печатались объявления о продаже книг: «Способ отгадывать имена, кто кого любит или о ком задумает» – 15 копеек, «Арапский кабалистик, прорицающий будущее и предсказывающий судьбу каждого человека» – 20 копеек. Говорилось и о птичьем базаре – торговле недавно привезенными в Петербург тульскими, курскими и новосильскими соловьями, обученными свистеть полкуруантами, скворцами-говорунами, а также арзамасскими гусями и учеными жаворонками…
Скучно, скучно!..
Несмотря на обилие забот, Кутузова грызла тоска по настоящему делу. Он не верил в близость шведской кампании. «Завесть, что ли, теневой театр? – думал он. – Или купить курских соловьев? Спрошу Катерину Ильиничну, дорого ли они стоят. А то в эдакой глуши совсем закиснешь. Да скажу, чтоб прислала романов немецких и французских побольше. И когда же прекратится эта финская морока?..»
Летом 1798 года начались переговоры с командующим войсками в шведской Финляндии генералом Клингспором об уточнении сухопутных границ и разграничении островов в Финском заливе. Они продолжались всю осень, а затем и зиму, то прерывались, то возобновлялись сызнова. Кутузов зарылся в карты, в инструкции Иностранной коллегии, дотошно вникал во все мелочи, а сам жадно следил за новым поворотом в российской политике.
Одной из романтических причуд Павла было объявление себя протектором Мальтийского ордена[52] – уцелевшего осколка крестоносцев средневековья. Когда Бонапарт отправился в 1798 году в египетскую экспедицию, он мимоходом завладел Мальтой. Это вызвало у русского императора неудержимый гнев. 10 сентября, в специальной декларации, он принял орден под свое верховное руководство, а 29 ноября возложил на себя сан великого магистра Иерусалимского ордена. Павел горел желанием покарать Францию, в которой, по его словам, «развратные правила и буйственное воспаление рассудка попрали закон Божий».
Последствием всей этой фантасмагории было заключение военного союза с Австрией, а затем – с Англией и Турцией. Русские войска удалось-таки выманить за границу: в октябре корпус генерала Розенберга перешел Буг у Бреста и через Люблин, Краков, Брюнн направился к Кремсу. Как замечает русский историк, «это движение послужило прологом борьбы, завязавшейся вскоре на полях Италии и среди Альп, которая со временем привела всю континентальную Европу в Кремль, а нашу армию в Париж».
Вот когда возникла неотложная нужда в талантливом военачальнике. 6 февраля 1799 года в глухое Кончанское к Суворову примчался флигель-адъютант Павла. Император спешно звал его к себе со словами: «Теперь не время рассчитываться. Виноватого Бог простит». Михаил Илларионович, хорошо осведомленный о предыдущем визите в Петербург великого полководца, когда тот зло осмеял все гатчинские порядки, волновался и спрашивал у Екатерины Ильиничны: «Напиши, пожалуйста, приехал ли Суворов и нет ли каких-нибудь маленьких проказ от его?»
С этой поры, с начала триумфального похода Суворова в Италию, внимание Кутузова приковано к его победам. Взятие крепости Брешиа, сражение при Адде, Тидоне, Треббии, падение Мантуи, битва при Нови – все это вызывало жгучее желание быть там, под знаменами своего славного учителя. Михаил Илларионович сердился на скупые сообщения в газетах и требовал от Екатерины Ильиничны писать ему подробнее о новостях из Италии. 9 июня 1799 года он извещает ее из Фридрихсгама: «Я получил, мой друг, будучи в дороге, твои письма с двумя почтами… Первое после крестин, а второе с известиями о победах Александра Васильевича… Спасибо, что берешь труд описывать. Дай Бог, чтобы была все правда…» 11 июня: «Благодарю тебя, мой друг, за письмо от 8 числа и за добрые вести о Суворове, которому дай Бог». 15 июня из Выборга: «Благодарю за известие о Суворове, и в гамбургских газетах есть, только не все…» 18 июля: «Благодарю за известие о разбитии Моро. Здесь, в скуке, это ужасно занимает». 13 сентября: «Реляции в русских газетах нету о последнем Суворова деле, что мне… обидно…»
Михаил Илларионович искал пути вырваться к чему-то живому, настоящему. Он то намеревался писать генерал-прокурору Сената Александру Андреевичу Беклешову, то думал просить Ивана Лонгиновича Голенищева-Кутузова, чтобы тот доложил государю о переводе его в действующую армию.
Усилиями Суворова и его чудо-богатырей Италия была уже очищена от французских войск. Теперь Англия считала, что настал ее черед использовать русское оружие. По договоренности с Лондоном Павел выставлял 45-тысячный корпус, который высаживался в Голландии. Под предлогом реставрации монархического правления в Нидерландах, объявленных Батавской республикой, британское правительство мечтало сокрушить своего давнего конкурента или хотя бы уничтожить сильный голландский флот.
«Может, в самом деле купить «Арапский кабалистик» и за двугривенный узнать свою судьбу?» – невесело шутил Михаил Илларионович, читая горячие реляции из разных концов Европы.
27 сентября внезапно последовал приказ Павла о назначении Кутузова командиром экспедиционного корпуса в Голландии вместо генерала Германа.
2
Осенние дороги, разбитые колеи, мелкий сыпучий дождик, невозможные радикулитные боли. Эвон, отмахал поболе тысячи верст. Из Финляндии в Петербург, а там через всю Прибалтику на Кенигсберг и далее до Гамбурга. Шутка сказать, сколько лошади намесили грязи.
В тряской дороге думалось трудно.
А было над чем задуматься. Русский экспедиционный корпус был загнан в далекую Голландию и выполнял роль английских ландскнехтов. Австрийцы из Швейцарии передвигались на Нижний Рейн, а на их место должна была вступать армия Суворова. Огромные массы войск в долгих переходах выключались на время из участия в боевых действиях, что уже порождало множество опасных и непредвиденных неожиданностей.
Вести из Голландии приходили самые неутешительные. Вместо сорока пяти тысяч русских солдат туда отправилось только восемнадцать, да еще вошедшие в антифранцузскую коалицию шведы обещались выставить восемь тысяч. Командир корпуса фон Герман оказался никудышным воякой. Когда Павел возвел его в чин генерала от инфантерии, он уже дал разбить себя под Бергеном и сам очутился в плену.
Первоприсутствующий в Иностранной коллегии граф Растопчин извещал Суворова: «Генерал Кутузов заступит место Германа, взятого в плен… Уповательно, что Кутузов лучше сделает: он русский…»
Между тем коалиция дышала на ладан. Русский император все больше возмущался алчностью Вены. Пруссия так и осталась от всего в стороне, англичане откупаются своим крепким фунтом, а от шведов большой помощи не жди. Ныне это не великая держава Карла XII, а заштатное европейское государство, навроде крупного немецкого княжества.
Теперь речь шла не о том, чтобы вытеснить французов из Голландии, а чтобы подобру-поздорову унести ноги. Эвакуироваться в Англию! И кому? Доблестным фанагорийцам, павловским гренадерам, белозерским мушкетерам, тавричанам и тобольчанам. Каждый полк – целая славная история!..
В Гамбурге пришлось в буквальном смысле слова ждать у моря погоды. Вечерело. Кутузов сидел у окошка в Старом городе – Альтштадте и грустно глядел на узенькую средневековую улочку, по которой шествовали чопорные архивариусы с косицами и в синих камзолах, пузатые негоцианты – основа благополучия славного вольного Гамбурга, иноземные гости. А там, приподняв кружевные юбки, прыгают через лужи дамы и девушки. Верно, собрались на бал. У каждой пышная прическа для сохранности укрыта приколотым платочком, и от этого их головки кажутся огромными. Да, здесь идет нерушимый круговорот мирной жизни, и никому нет дела до того, что старый русский генерал ломает башку над неразрешимыми вопросами.
Ведь вот: спешил, спешил да и приехал к разбитому корыту. Остатки русских войск уже перевезены на остров Жерзей – самое дорогое и голодное место. Слышно было, что англичане содержат их хуже, чем во Франции русских пленных. Придется, видно, вовсю дипломатничать в Лондоне. А пока нет возможности даже добиться судна. Да и все равно не выехать из гавани – третий день с моря дует сильный ветер…
В бездельной нуде Михаил Илларионович отправлялся мыслями к детям. Старшие дочки – Парашенька и Аннушка удостоились милости стать фрейлинами. А недавно государь изволил крестить внука Пашеньку. Сам Кутузов 4 октября был пожалован кавалером большого креста ордена Иоанна Иерусалимского и получил имения с тысячью душ. Что и говорить, приятно чувствовать высочайшее благоволение. Но да ведь и опасно! Крутая прилипчивость Павла может обернуться в любой час бедой…
Михаил Илларионович выбрал поострее очиненное перо, и на бумагу легли строки Екатерине Ильиничне: «Я, слава Богу, здоров, но очень скучно, всякую ночь Вас во сне вижу…»
Письмо пришлось прервать: вдогонку Кутузову уже летел фельдъегерь с новым срочным рескриптом: «Отправьтесь немедленно в Россию, где Вы назначены на все должности и на место генерала от инфантерии Лассия, отставленного, по его желанию, от службы».
Михаил Илларионович уже не дивился переменчивости Павла. Снова в дорогу, снова месить грязь. Только непонятно: куда ехать? Хозяйство большое – Литовское военное губернаторство, Литовская и Смоленская инспекция инфантерии, да еще шефство над Псковским мушкетерским полком. Может быть, в Гродно? Или в Вильно? К семье в Петербург не завернешь – опасно. Без позволения государя навлечешь его гнев. А вдруг как императору мыслилось видеть его в Зимнем дворце? Надо спешно узнать у начальника военной канцелярии Ливена…
Кутузов вновь вернулся к письму Екатерине Ильиничне: «Получил от государя повеление с нарочным, по которому мои обстоятельства совсем переменились… Я думаю завтра, ежели карета, которая в починке, поспеет, выехать и ехать прямо в Гродну. Не смею инако сделать; как без позволения в Петербург быть».
Очередная перемена политического курса повернула и дорожную карету Кутузова.
У Павла возник новый план: сосредоточить русские войска на западной границе, чтобы обратить их против возможной опасности в любом пункте Европы, о чем он извещал в рескрипте от 20 ноября 1799 года Суворова: «Назначение, как ваше, так и всей линии, позади вас по границе расположенной и составленной из армий генералов: маркиза Дотишана, Голенищева-Кутузова и графа Гудовича, состоит в том, чтобы положить вовремя, есть ли бы сего дошло, преграды успехам французского орудия и сохранить Германскую империю и Италию от неизбежной погибели, с другой стороны; удержать и венский двор в намерениях его присвоить себе половину Италии, и наконец, есть ли бы обстоятельства были таковы, что французы, шед на Вену, угрожали бы низвержению римского императора, тогда нам идти помогать и спасать его».
Но и этот поворот руля держался недолго.
3
М. И. Кутузов – Е. И. Кутузовой.
1800 год. Вильно.
«Любезные и милые детки, здравствуйте. Благодарю за письмы. Я не очень к здешней жизни еще привык; для меня очень шумно, и я должен женироваться[53] для публики, чтобы им не мешать веселиться, и всегда больше устану, нежели повеселюсь. Например, вчерась должен быть в спектакле, после на маленьком бале в партикулярном доме; однако же здесь и маленький бал – 100 человек, где танцевали мазурку, казачка, алемонд, перижорден, этрусский вальс, пока у меня голова не заболела; после в редут, где 700 человек, и, ей-богу, рад, рад, как домой уехал. Мне бы весело в маленькой компании, и в 6 часов выйти и в десять спать лечь, а здесь должен сидеть за ужином, без того обижаются, и ежели я куда не поеду, то никто не поедет. Мне это не здорово и не весело. Впротчем, есть люди очень приятные, и много. Вот моя жизнь. Боже вас благослови…»
Очень хлопотной оказалась генерал-губернаторская должность. К военным делам 16 января добавились и заботы по гражданской части в Литовской губернии. Глазам выпадало так много труда, что Михаил Илларионович страшился за них. Почасту на бумаги времени до обеда не хватало и приходилось занимать еще вечера. А веселая виленская знать просила, настаивала, требовала, чтобы знаменитый генерал уважил своим посещением их танцевальные редуты, праздничные застолья, частные спектакли.
Богатство и роскошь польских и литовских магнатов изумляли даже видавшего виды Кутузова.
Долгое время в Литве соперничали два могущественных дома: Масальские и Радзивиллы. Первые поддерживали партию Чарторижских и помогли Екатерине II возвести на польский престол ее бывшего фаворита – Станислава-Августа Понятовского, родственника Чарторижских и врага рода Радзивиллов. Паны-вельможи жили в Литве настоящими царьками. Они имели при себе своих управляющих – шамбелянов, содержали целые толпы ловчих, оруженосцев и гайдуков. Виленский епископ Ксаверий Масальский вооружил на свой счет целую армию в шестнадцать тысяч драгун и казаков. Князь Радзивилл получал десять миллионов ежегодного дохода и имел двадцатитысячное войско. В его имении в одном из костелов стояли двенадцать золотых статуй апостолов по полтора фута вышиной…
Михаил Илларионович вспомнил далекое уже лето 1764 года – свое боевое крещение, схватку с отрядом Радзивилла, когда на поляне вдруг замелькали белые шапки польской кавалерии. Тогда со своим батальоном Кутузов остановил наступление виленского воеводы, который обратился в бегство. Потом Михаил Илларионович участвовал в штурме польских окопов при реке Овруч и во второй раз имел возможность проверить свою храбрость…
Когда русские войска разбили поляков, Радзивилл успел переправить своих золотых апостолов в Мюнхен и, проживая там, кормил на выручку с литого золота множество соотечественников, покинувших родину…
В том же, 1764 году, перед избранием на престол Станислава-Августа, войска Масальского окружили избирательные сеймики, которые вынуждены были подавать голоса за кандидата России. Сторонники Радзивилла пытались помешать Масальскому и ворвались в замок епископа. Но тот приказал бить в набат и, собрав вооруженный народ, выгнал их из Вильны.
Скоро все переменилось. Поляки возненавидели своего короля. Завязалась Барская конфедерация против Понятовского, и тот же Масальский вместе с Пулавским и Огинским встал во главе ее. Через восемь лет после избрания Станислава-Августа русские войска покончили с польским движением. Огинский, разбитый Суворовым, бежал в Кенигсберг, Масальский – в Париж. В сентябре 1772 года Австрия, Пруссия и Россия договорились о разделе Польши.
С этого момента Вильна отошла к русской короне.
Положение Кутузова в Вильне было до некоторой степени щекотливым. Знать в своем большинстве таила мстительные чувства к России и только ожидала удобного часа. В то же время подъяремный народ – литовцы и белорусы безмолвно отнеслись к произошедшим событиям: от перемены короны они ничего не проигрывали…
На балах и празднествах Михаил Илларионович очаровывал всех этих Радзивиллов, Масальских, Потоцких, Коссаковских, Огинских остроумием и блеском рассказов. Он появлялся в окружении боготворивших его русских офицеров и хорошеньких польских женщин, говорил по-польски и по-французски и незаметно оккупировал чужие сердца. И лишь наедине с собой предавался другим, горьким размышлениям – как сводить концы с концами. Росли доходы, но еще быстрее увеличивались расходы.
Когда у вас пятеро дочерей и вы живете на два дома, не хватает никаких средств. Старшие – Аннушка и Парашенька уже пристроены, но и в замужестве требуют помощи. Скоро придет черед Лизоньки, которая обещает стать очень умной и столь же пылкой. Надо бы ей подобрать жениха. Нежнейший отец, Кутузов озабочен каждым шагом, каждой подробностью в жизни оторванных от него дочурок.
Парашенька, выйдя замуж за Матвея Федоровича Толстого, писать ленится. Вспоминает об отце лишь по нужде в деньгах. Лизонька теперь в семье за старшенькую и стала высокомерна к двум меньшим. Для чего она их обижает? Всегда пишет отцу: «мои маленькие сестры». Словно они двухлетние! А вот Дашеньке завидно, что Лизонька ездила в кавалькаде верхом, а не на линейке. Ну, да ей еще надо лошадку деревянную. И почему Катерина Ильинична не написала, кто был в компании, что за кавалеры? Навещает ли их Антон Коронелли, сопровождавший Кутузова в Константинополь? Вот, может быть, пара для Лизоньки?..
Кутузов здесь, в Вильне, волновался, что не может дать семье столько денег, сколько требуется. Управляющие в имениях постепенно губили все, что давало доход. Поташ не продавался, хлеб не родился, аренды не окупались. А за тысячу верст не очень-то углядишь за порядком. Чуть набегало что-то – уходило на уплату долгов и проценты ростовщикам. А при той дороговизне, какая была тут, жизнь генерал-губернатора стала и вовсе не по карману. Жалованья недоставало даже на обеды, куда Михаил Илларионович приглашал по десятку и больше офицеров. Между тем Кутузову даже еще не было назначено столовых денег. А по гневливости теперешнего государя и это перерастало в задачку: как напомнить?..
«Ты сама знаешь, что наши способы не велики, – писал Михаил Илларионович в ответ на просьбы жены о помощи. – Полячки неопасны, я же не охотник давать никому. Нельзя ли от меня попросить Кутайсова, что мне никакого положения не сделано о столовых деньгах. Ласси получал 300, а Гудович получает 600, по тому праву, что был прежде наместником. Можно бы и мне ту же милость сделать. Мне как-то неловко об этом писать…»
Да, теперь самое близкое лицо к трону – бывший брадобрей Павла, а ныне обер-шталмейстер, крещеный турчонок Кутайсов. Он вместе с петербургским генерал-губернатором Паленом и несколькими гатчинцами вершит судьбу военачальников и чиновников. Он усиливает громкие крики императора, от которых проходит по России стон и дрожь…
4
Здесь, в Вильне, Михаил Илларионович узнал о кончине Суворова.
Приходилось быть столь осторожным, что и бумаге нельзя было вверять свои мысли. Все письма вскрывались. Каждый час удача могла перемениться на опалу.
Вот и третьего дня, посреди обеда, за жарким, в дверях показалась фигура в захлестанном грязью плаще. Фельдъегерь! Это имя ныне повергало в ужас. Невольное упущение в военной службе, небрежность в предписанном этикете или принятой императором форме – все могло теперь поменять Кутузову губернаторство в Вильне на какое-нибудь тобольское или якутское. А не хотите ли и без губернаторства? На вечное жительство в дальние деревни? Ведь Михаил Илларионович оставался единственным из крупных военачальников, любимых Екатериной II, кто покамест не испытал на себе ни разу гнева государя. Были лишь мелкие недовольства, а вслед – крупные милости.
Гости за столом побледнели. Только прелестные литовки щебетали по-польски. Кутузов взял поданный конверт и постарался не подать виду, что внутренне весь содрогнулся: на конверте, собственноручно запечатанном императором, печать была необычайной – черной. Что это, как не знак внезапной немилости? Ему предстояла поездка в Гатчину. Неужто будет совсем иная?..
Офицеры с тревогой наблюдали, как Михаил Илларионович, торопливо порвав конверт, никак не вытащит сложенную бумагу с рескриптом. Вот ведь как может статься! Недавно лишь пришел всемилостивейший приказ с похвалой Псковскому мушкетерскому полку, где он шефом, за образцовый порядок. Новый знак внимания от государя. А теперь пальцы одеревенели и никак не поймают ставшую скользкой бумагу…
Он наконец вынул и развернул ее. Это был траурный манифест Павла, извещающий о кончине его старшей дочери Александры.
Кутузов поднялся и зачитал известие. Видел, видел, как во время читки иные офицеры крестились не с печалью, а с облегчением за своего любимого начальника. Еще раз пронесло. Теперь впереди Гатчина…
История с Суворовым огорчила и огорошила. За Итальянский и Швейцарский походы был возведен в Еысшее воинское звание – генералиссимуса с отданием ему почестей даже в присутствии государя. В столице готовилась торжественная встреча герою и был отдан высочайший приказ о воздвижении ему прижизненного памятника. Однако болезнь, признаки которой великий полководец ощутил еще в Праге, в кобринском имении уложила его в постель.
12 марта 1800 года в Вильно проездом в Кобрин был племянник Суворова и его адъютант Андрей Горчаков. От него Кутузов узнал о тревожном состоянии героя. С надеждой Михаил Илларионович сообщал жене: «Думаю, что натура его спасет. У него Вейкарт из Петербурга прислан…»
Но вслед за отправкой к Суворову своего лейб-медика Вейкарта Павел обрушил на больного генералиссимуса град обидных приказов, которые тотчас же рассылались и зачитывались по всей армии. 20 марта «с порицанием» сообщалось, что князь Суворов «вопреки действующему предписанию» имел в своем корпусе постоянного дежурного генерала. 22 марта выражалось «крайнее неудовольствие» государя порядком, в котором находились вернувшиеся из похода войска. Кутузов уже с осторожностью извещает Екатерину Ильиничну 26 марта: «Почта еще не пришла, мой друг; кажется, осталась где-нибудь за реками, которые теперь расходятся. Завтра или послезавтра ожидают здесь Суворова, который едет в Петербург…»
А затем Михаил Илларионович и вовсе ничего не сообщает об опальном генералиссимусе: когда он проехал через Вильну, и сколько там был, и о чем говорили они на своем последнем свидании. Между тем Кутузов рассказывает в письмах к жене о десятках встреч с самыми различными лицами, порою незначительными, делится с Екатериной Ильиничной большими и малыми заботами, тешит ее пестрыми новостями виленской бурной жизни.
Теперь надо было читать между строк.
С нарочитым спокойствием, если не сказать равнодушием, откликается он на роковую весть. 14 мая отвечает Екатерине Ильиничне: «Вчерась, мой друг, имел удовольствие получить твое письмо, в котором ты пишешь о смерти князя Александра Васильевича Суворова. Дай Бог ему вечный покой. Настасья Семеновна также была немолода, но все жаль, пусть бы жила еще… Напиши, пожалуйста, ко мне две вещи: 1-е, слышала ли ты, что я буду в Петербурге к маневрам, и 2-е, как Мальтийский более носят крест».
Кутузов укрывает свои чувства известием о недавней другой кончине – любимой свояченицы Екатерины Ильиничны и жены славного генерала Александра Ильича Бибикова, властной хозяйки, урожденной княжны Козловской. «Все тленно, – как бы хочет сказать он, – и всему приходит свой срок».
Но каждому смертному надлежит терпеливо нести свой крест. Даже если это крест – Мальтийский…
5
Маневры в Гатчине обозначали новую и полную смену курса в политике империи.
Составленная с таким трудом коалиция распалась. Готовился разрыв России с Англией и Австрией. К довершению всеобщего недоумения замечались признаки предстоящего в недалеком будущем сближения Петербурга с Парижем. Император обменивался любезными посланиями с первым консулом Франции. В новый картель, помимо России, должны были войти Швеция, Дания и Пруссия.
Бескорыстное заступничество Павла за своих союзников привело к тому, что он с ними рассорился и стал готовиться к войне.
Кандидатами в главнокомандующие назывались граф Пален и Кутузов. Решено было сформировать две армии – одну в Литве, а другую на Волыни. Большие маневры, назначенные в Гатчине на начало сентября 1800 года, должны были стать проверкой как готовности войск, так и способностей обоих генералов.
Главным для Павла, конечно, оставались внешний вид, выправка и строевая подготовка солдата.
Объезжая лагерь в сопровождении начальника кавалерии генерал-лейтенанта Кологривова, графа Ланжерона, генералов Милорадовича и Маркова, а также адъютанта – поручика Федора Опочинина, Михаил Илларионович наблюдал обычную тягостную картину. Солдат мучили подготовкой к маневрам, более похожим на церемониальный парад.
Впрочем, мука эта при Павле повторялась каждый день.
Кроме чистки амуниции, занимавшей время с утра и до вечера, солдаты занимались белением панталон, портупеи и перевязи и уборкой головы. Еще с полуночи всех подымали и начинали натирать тупей[54] и косу свечным салом и набивать, взамен пудры, крупитчатой мукой. Каждого одевали и осматривали, как жениха. Мундир, панталоны, штиблеты, телячий ранец на белых кожаных помочах – все должно было быть пригнано щегольски, в обхват.
Самое трудное заключалось в том, чтобы соблюсти идеальную чистоту в одежде и в форме прически до утра. Солдат и вздремнуть мог не иначе как сидя, вытянув ноги и прислонясь к стене. Главное – не сбить пудры. Малейший изъян в прическе или пятнышко на панталонах – и вновь возня до бела дня. А не то фельдфебельская трость начнет гулять по спине.
– Весь этот парад, граф, напоминает мне крестоносцев средних веков, – позволил пошутить себе Кутузов, когда, после представления императору, они с Паленом разъезжались к своим корпусам.
– Но теперь на дворе уже не двенадцатый, а девятнадцатый век, – с улыбкой на тонких губах ответил новоиспеченный граф и генерал-губернатор Петербурга. – Его величество изволил опоздать. На самую малость. На семь столетий…
Михаил Илларионович показал ему глазами на ехавшего чуть позади Кологривова. Командир всей кавалерии гатчинских войск, он боготворил императора и сам был его первейшим любимцем. Встретив 5 ноября 1796 года секунд-майором, Андрей Семенович в течение двадцати дней прыгнул сперва в полковники, а потом в генерал-майоры, был награжден орденом Святой Анны, а в двадцать три года сделался уже генерал-лейтенантом.
– Вы правы, эксцеленц, – перехватил его взгляд Пален, переходя на немецкий язык. – Но мы продолжим столь многообещающий разговор…
Оба главнокомандующих давно, еще с осады Очакова, знали друг друга, и теперь Пален, формировавший заговор против Павла, желал заручиться если не поддержкой, то хотя бы нейтралитетом влиятельного Кутузова.
Разноцветные фигурки маршировавших на зеленом лугу солдат казались игрушечными. Накануне маневров Михаил Илларионович долго беседовал с престарелым бароном Дибичем, который, как бывший адъютант Фридриха II, пользовался особым благоволением императора. Он в самых учтивых выражениях распространился об известном благородстве почтенного генерала, которое, при его близости августейшей особе, позволяет надеяться на успешное проведение маневров.
Теперь Дибич сопровождал Павла, ревниво всматривающегося в марширующие каре, и на каждом шагу громко восклицал по-немецки:
– О, великий Фридрих! Если бы ты мог видеть армию Павла! Она выше твоей…
Чувствительное сердце императора было покорено. Дибич искусно направлял во время маневров его внимание таким образом, что сумел скрыть неизбежные во время таких операций промахи. Павел в ответ восторгался, что имеет в своей армии двух «столь отличных тактиков».
На третий день маневров, 8 сентября, государь возложил на графа Палена орден Святого Иоанна Иерусалимского большого креста, а на Кутузова – Святого Андрея Первозванного. В высочайшем приказе отмечалось: «Для его величества весьма утешно было видеть достижение войска его до такого совершенства, в каковом оно показало себя во всех частях под начальством таковых генералов, которых качества и таланты, при действиях таковых войск и таковой нации, как российская, могут ручаться совершенно за утверждение и обеспечение безопасности и целости государства».
Михаил Илларионович оказался уже в самой опасной близости к Павлу.
Из Гатчины он извещал жену: «Я вчерась, мой друг, был у государя и переговорил о делах, слава Богу. Он приказал мне остаться ужинать и впредь ходить обедать и ужинать; об тебе много раз говорил, а прощаясь со мною в кабинете, изволил сказать: «Кланяйся Катерине Ильиничне и скажи, что я помню, сколь она мне всегда была предана, и ежели не могу ее непосредственно возблагодарить, то хотя бы тех, кто ей принадлежит».
Но, каждодневно видясь с императором, который давал ему книги из своей библиотеки, а затем в задушевных беседах обсуждал прочитанное, Кутузов считал дни, когда сможет вырваться из августейших объятий.
Глава третья Михайловский замок
1
Граф Иван Андреевич Тизенгаузен, педант, брюзга с водянистыми лягушачьими глазами, впрочем добрый старик, с остзейской пунктуальной дотошностью объяснял Кутузову план постройки дворца, над воздвижением которого уже более трех лет без устали трудились сотни мастеровых.
Уродливая масса красноватых камней, окруженная рвами с подъемными мостами, высилась при слиянии Мойки с Фонтанкой. Первоначальный проект принадлежал скончавшемуся в 1799 году Баженову и был завершен архитектором Бренной. Главное же начальство над работами Павел вверил Тизенгаузену, назначенному обер-гофмейстером.
– Его величество изволил каждодневно справляться о сроках завершения, – пояснял Тизенгаузен, – и мне приходится, словно на войне, торопить строителей…
К замку тянулись вереницы телег с глыбами финского гранита и розового мрамора, грудами жженого кирпича. На лесах, подгоняемых капралами, суетились рабочие.
– Право, граф, дворец сей все более походит на неприступную крепость, – шутливым тоном сказал Михаил Илларионович. Про себя же добавил: «Только кто будет штурмовать ее?»
Кутузов на время отъезда графа Палена в Ригу для переговоров с англичанами выполнял обязанности петербургского генерал-губернатора.
– Вы правы! И скажу по секрету, милый генерал, что уже завезены двадцать новых бронзовых пушек двенадцатифунтового калибра, – сыпал быстрой немецкой речью Тизенгаузен.
– А что там за конная статуя? – поинтересовался Михаил Илларионович, указывая на огромного бронзового всадника: лошадь идет шагом, седок одет по-римски, на голове – лавровый венок.
– Представьте себе – Петра Великого. Она была отлита итальянцем Мартелли при императрице Елизавете Петровне. И забыта в сарае. Когда ломали летний дворец, где родился наш государь, нашли ее. Она будет поднята на мраморный пьедестал и установлена посреди большой Дворцовой площади…
Не одни генерал-губернаторские заботы заставляли Кутузова любезничать с начальником гоф-интендантской конторы. У графа Ивана Андреевича два сына и дочь. Один из сыновей – девятнадцатилетний подпоручик Федор-Фердинанд уже не раз на балах приглашал танцевать только Лизоньку. И она, кажется, неравнодушна к нему. Дай бы Бог! А то уж больно разборчива, отвергла Антона Коронелли. Сказала, что выйдет замуж только по любви – большой, настоящей.
– Граф! – наклонил пудреную голову Кутузов. – Не забывайте, прошу вас, наш дом, Катерина Ильинична почасту говорит со мной о вас и Катерине Ивановне. Считает, что у нее с супругой вашей родство душ…
– Почту за честь, генерал, – отвечал польщенный Тизенгаузен. – Вот только этот дворец. Все жилы вытягивает. Не знаю, как и угодить его величеству.
Он подошел к Михаилу Илларионовичу совсем близко и понизил голос:
– А вы знаете, что при копке котлована тут нашли плиту с именем несчастного императора-узника Иоанна Антоновича…
– Дурной знак! – откликнулся Кутузов. – Но ведь на все воля его величества. Он сказал: «На этом месте я родился, здесь хочу и умереть…»
Как отмечал историк, слова эти исполнились с буквальной точностью.
2
8 ноября 1800 года, в день Святого архистратига Михаила, происходило торжественное освящение долгожданного прибежища Павла.
От Зимнего дворца до Михайловского замка были расставлены шпалерами войска. Утром, около десяти часов, при громе пушек началось торжественное шествие. Сам император, в окружении великих князей и небольшой свиты, ехал верхом; государыня Мария Федоровна, великие княжны и придворные дамы следовали за ним в парадных каретах.
Подъезжая к ярко-розовой громаде замка, Михаил Илларионович, находившийся в свите, невольно вспомнил о причине появления сего необычного колера. Когда дворец был готов, оставалось выбрать цвет для наружных стен. Колеблясь, император попросил совета у своей фаворитки княгини Гагариной, дочери сенатора Лопухина, но и та не могла ровно ничего решить. Тогда Павел взял одну из ее розовых перчаток и послал к архитектору Бренне с приказанием немедля окрасить дворец точно таким же колером. На стенах Михайловского замка он принял, однако, кровавый оттенок…
С Садовой улицы государь направился к подъемному мосту надо рвом через средние ворота, которые открывались лишь для царской фамилии, на главную площадь, или коннетабль. Отсюда вся процессия двинулась для освящения дворцовой церкви.
В час пополудни в столовой комнате было накрыто восемь кувертов. Приглашались самые близкие государю лица. Помимо императорской четы за столом находились: великая княжна Мария Павловна, Кутузов, обер-гофмаршал Нарышкин, обер-шталмейстер граф Кутайсов, граф Пален, обер-камергер Строганов. В камер-фурьерском журнале, где все имело свой особый смысл, Михаил Илларионович в списке значился вторым.
Кубков не было, и за здоровье государя пили из простых граненых рюмок…
Павел спешил с новосельем. 1 февраля 1801 года, несмотря на сырость и предупреждения врачей, что во дворце жить крайне вредно, он переехал туда с женой и великими князьями Александром и Константином. В новом помещении император дал большой бал-маскарад для дворянства и купечества. Лицам первых двух классов велено было явиться под цвет дворца, в розовом.
Февраль в столице выдался очень холодным, но не сухим; влагой был пропитан морозный воздух и, кажется, самые стены Михайловского замка. Скинув на руки лакею кунью шубу, Михаил Илларионович невольно с зябкостью передернул полными плечами в блекло-красном домино.
Стужей веяло от гранита парадной лестницы, от серого сибирского мрамора двух балюстрад, от золоченой бронзы пилястров. На площадке безропотно мерзла нагая Клеопатра[55], полулежа на высоком постаменте. С ее мраморной неподвижностью могли соперничать фигуры двух красавцев гренадеров, застывших по обе стороны распахнутых парадных дверей из красного дерева. Оттуда вместе с аккордами танцевальной музыки и приглушенным гулом голосов валил густой пар…
Кутузов не без оснований почитался теперь одним из самых близких государю лиц. В конце ноября минувшего года он выполнил еще одно деликатное поручение Павла – встретил и проводил до Петербурга молодого шведского короля Густава IV. На финской границе, по старому знакомству, они расцеловались и ехали до столицы в одной карете.
Русский император, порицавший политику стокгольмского двора, искал поводы, чтобы излить свое августейшее недовольство, и они очень скоро явились. Во время представления в эрмитажном театре шведский монарх имел неосторожность назвать красные шапочки танцовщиц якобинскими колпаками, а затем, усилив негодование императора, отказал бывшему брадобрею Кутайсову в пожаловании ордена Святого Серафима. Немедленно последовало повеление отменить все приготовления, сделанные для обратного следования Густава IV по Финляндии. Кутузову было приказано остаться в Петербурге. Король и его свита в пути не имели бы даже пропитания, если бы их не выручил финский пастор…
«Наш государь – воистину воплощение капризной фортуны, – подумалось Михаилу Илларионовичу. – Миг, и спица в колесе, вознесенная вверх, уже в пыли…»
Чуть помедлив у дверей, изукрашенных бронзовым оружием и Медузиными головами, Кутузов шагнул, точно в море, в обширную залу. Отделанная под желтый с пятнами мрамор, она тонула в густом тумане. Хотя было зажжено несколько тысяч свечей, Михаил Илларионович различал лишь пятна на месте лиц в полумасках. «Словно в бане, – сказал он себе. – Только без положенного жару».
Обер-гофмаршал Нарышкин под руку провел Кутузова сквозь густую толпу к особе императора.
Павла, видимо, удручали холод и сырость, испортившие празднество. С другом своей юности – вице-канцлером Куракиным он стоял под огромной картиной кисти Шебуева «Полтавская победа». Быстро говоря что-то князю Александру Борисовичу, государь неотрывно глядел на холст, на круглое лицо своего великого прадеда.
Кутузов уже привык к тому, что император почасту погружается в мистическое настроение, с особым, болезненным удовольствием вспоминает о страшных и необъяснимых случаях из своей жизни. Коротко поздоровавшись, Павел продолжал говорить. Речь шла о том, что судьбе, видно, не угодно одарить его долгой жизнью. Очень курносое лицо государя было бледно, большие глаза сверкали.
– Михайла Ларионович! – обратился он к генералу. – Мне отчего-то сегодня страшно. И покойный император! Он смотрит на меня с особым значением…
– Вы переволновались, ваше величество, – успокоил его Кутузов, отводя глаза от картины, от действительно пронизывающего взгляда Петра Первого. – Вам лучше бы на время покинуть залу.
– Генерал прав, – поддержал его Куракин.
– Хорошо. Только пойдемте со мною, господа, – слегка дрожащим голосом пригласил их Павел.
Через галерею Рафаэля, названную так потому, что тут висело четыре великолепных ковра – копии картин знаменитого итальянца, император быстро прошел в белую с золотыми разводами комнату. Он сел в кресло, предложив спутникам два других. Здесь было тихо и уютно. От топившегося камина шел горячий воздух, который колебал пламя свечей в двух шандалах. Блики ползали по стенам, по знакомым ландшафтам Гатчины и Павловска, придавая всему происходящему смутную таинственность.
Помолчав, Павел тихо заговорил:
– Этот взгляд, он преследует меня… Ты помнишь, Куракин, что приключилось со мной много лет назад? Здесь, в Петербурге?
– Государь! – ответил Александр Борисович. – При всем уважении к вашим словам, могу сказать, что то была игра вашего воображения…
– Нет, сударь, нет! – быстро возразил император. – Это правда, сущая правда! И если Михайла Ларионович даст слово молчать, я расскажу, как было дело. Впрочем, я ценю Кутузова именно за дипломатический дар. Он столь блестяще подтвердил его в Берлине…
Михаил Илларионович поклонился и сказал, что никогда еще не выдавал чужих секретов, а тайна августейшая для него священна.
– Я в этом не сомневался. Итак, вооружитесь терпением. – Павел погрозил Кутузову пальцем.
Он вздохнул, словно собираясь с силами, оглядел потолок, как если бы ожидал и там узреть что-то пугающее, и начал:
– Мы с Куракиным были молоды, веселы, провели ночь у меня, разговаривали и курили. И нам пришла мысль выйти из дворца инкогнито, чтобы прогуляться по городу при лунном свете. Погода была не холодная, дни удлинялись. Да! Это было в середине марта. В лучшую пору нашей петербургской весны, столь бледной в сравнении с этим временем года на юге…
Император поглядел на побледневшего Куракина, затем перевел взгляд на Кутузова, который с невозмутимой учтивостью выразил осторожной мимикой, что он весь внимание.
– Повторяю, мы были веселы и вовсе не думали о чем-то религиозном или серьезном. А помнишь, Куракин? Ты так и сыпал шутками насчет немногих прохожих, которые встречались нам…
– Ваше величество… – пробормотал Куракин, как бы борясь с неприятными воспоминаниями, – стоит ли вызывать из памяти столь странный случай?
– Молчи, Куракин! Так вот, Я шел впереди, предшествуемый слугой. За мной, в нескольких шагах, следовал Куракин. А сзади него, на некотором расстоянии, шел другой слуга. Помнится, луна светила так ярко, что можно было читать. Тени ложились длинные и густые…
Речь Павла, плавная и живая, убеждала. Лицо его преобразилось. Кутузову даже показалось, что исчезла обычная картавость императора. Глаза, и без того большие, расширились и словно уже видели что-то, не ведомое никому. Взгляд остановился. Павел был так сосредоточен, словно рассказывал все это самому себе.
– При повороте в одну из улиц, – уже с некоторой торжественностью продолжал он, – я заметил в углублении перед дверями мрачного здания высокого и худого человека. Он был закутан в плащ, наподобие испанского, и надвинул на глаза военную шляпу. Казалось, этот человек поджидал кого-то. Как только мы поравнялись с ним, он вышел из своего убежища и молча подошел ко мне с левой стороны. Невозможно было разглядеть черты его лица. Только его шаги по тротуару издавали странный звук. Как будто камень ударялся о камень. Я был сначала изумлен этой встречей. Затем мне показалось, что я ощущаю холод. Холод в левом боку, к которому прикасался незнакомец! Меня охватила дрожь. Я обернулся к Куракину и сказал: «Странный у нас, однако, спутник!» «Какой спутник?» – удивился он. «Вот тот, который идет слева от меня. И кажется, производит изрядный шум». Ты помнишь, Куракин?.. – снова обратился император к другу своей юности.
– Да, ваше величество, – медленно ответил тот. – Я в изумлении таращил глаза и уверял, что слева от вас никого нет…
Михаилу Илларионовичу невольно передалось настроение, которое охватило обоих участников давней прогулки. Не решаясь перебивать говоривших или вмешиваться в рассказ государя, он молча слушал продолжение этой странной истории.
– Я изумился! – возбужденно говорил Павел. – И сказал: «Как! Ты не видишь человека в плаще? Который идет слева, между стеной и мною?» – «Ваше высочество! Вы сами касаетесь стены. Между вами и стеной нет места для кого-то другого…» Я протянул руку…
Тут император поднял руку, пальцы которой приметно дрожали.
– Действительно, я почувствовал камень. Но человек был тут и продолжал идти со мной в ногу. Шаги его по-прежнему издавали звук, подобный удару молота. Тогда я начал всматриваться в него и из-под шляпы встретил такой горящий взгляд, какого не видывал ни раньше, ни позже. Взгляд этот приковывал к себе, у меня не было сил избежать его притяжения. «Ах, – сказал я Куракину, – я не могу даже передать, что чувствую. Но что-то странное…» Я дрожал. Но не от страха, а от холода. Какое-то необъяснимое чувство постепенно охватывало меня и проникало в сердце. Кровь застывала в жилах. Вдруг глухой и грустный голос донесся из-под плаща, закрывавшего рот моего таинственного спутника: «Павел, Павел!» Я невольно отвечал, подстрекаемый какой-то неведомой силой: «Что тебе нужно?» «Павел!» – повторил тот. На этот раз голос звучал ласково, но с еще более грустным оттенком. Я ничего не ответил и ждал. Он вдруг остановился. Я вынужден был сделать то же самое…
Государь взял пухлую руку Кутузова в свою, маленькую и крепкую, сжал ее.
– Я услышал: «Павел! Бедный Павел! Бедный принц!» Я обратился к Куракину, который также остановился: «Слышишь?» – «Ничего, государь! Решительно ничего! А вы?» А я, я слышал! Этот плачущий голос еще раздавался в моих ушах. Я сделал отчаянное усилие и спросил таинственного незнакомца, кто он и чего от меня желает…
Павел выпустил руку Кутузова, наклонил к нему курносое лицо и продолжал совсем тихо, словно страшась, что его могут услышать стены:
– И он сказал мне: «Бедный Павел! Кто я? Я тот, кто принимает в тебе участие. Чего я желаю? Я желаю, чтобы ты не особенно привязывался к этому миру. Потому что ты не останешься в нем долго. Живи как следует, если желаешь умереть спокойно. И не презирай укоров совести. Это величайшая мука для души». Он пошел снова, глядя на меня все тем же пронизывающим взором. И как прежде, я должен был остановиться, следуя его примеру, так и теперь я был вынужден следовать за ним. Я шел, а он давал направление нашему пути. Это продолжалось в молчании более часа. И я не могу вспомнить, по каким местам мы проходили. Куракин и слуги удивлялись, но не смели меня остановить… Посмотрите на него, – вдруг перебил себя император, указывая на князя Александра Борисовича. – Он еще улыбается! Он все еще воображает, что я это видел во сне!
Михаил Илларионович быстро взглянул на Куракина. Тот, борясь с собой, силился улыбнуться. Но лишь жалкая гримаса искривляла его лицо.
В досаде Павел махнул рукой. Он не прочел правильно улыбки своего бывшего фаворита.
– Наконец, – вернулся император к своему рассказу, – мы подошли к большой пустынной площади между мостом через Неву и зданием Сената. Незнакомец уверенно направился к центру ее и там остановился. Я последовал за ним, но услышал: «Павел, прощай! Ты меня снова увидишь. Здесь и еще в другом, увы, далеком месте…» Затем, – с дрожанием в голосе проговорил государь, – шляпа его сама собой приподнялась, как будто бы он прикоснулся к ней. Тогда мне удалось свободно разглядеть его лицо. Я невольно отшатнулся! Я увидел орлиный взор, смуглый лоб и строгую улыбку моего прадеда. То был Петр Великий! Ранее чем я пришел в себя от удивления и страха, он исчез…
Павел замолчал. Молчали и его слушатели, обуреваемые разными мыслями. Кутузов зорко, как врач, глядел на императора. Наконец тот собрался с силами.
– На этом самом месте покойная матушка соорудила затем знаменитый памятник Петру. Не я указал ей место, предугаданное заранее призраком. Поверьте, Михайла Ларионович, я сохранил воспоминание о каждой подробности. Это было видение! Иной раз мне кажется, что все снова повторяется передо мной. Помню, я возвратился во дворец изможденный, словно после многодневного пути, и буквально с обмороженным боком. Потребовалось несколько часов, чтобы отогреть меня под одеялами с горячим пузырем…
Император поднялся с кресел и закончил:
– Надеюсь, мой рассказ не лишен смысла. И я недаром задержал вас.
«Что это? – думал Кутузов. – Искусный розыгрыш? Игра воспаленного воображения больной души? Или…»
– История, право, необыкновенная, – сказал наконец Кутузов, тщательно подбирая слова. – Но, смею заметить, ваше величество, не надо толковать все происшедшее буквально. Это был сон наяву. А ведь снотолковник учит, – с осторожной полуулыбкой продолжал он, – что кровь, привидевшаяся нам, вовсе не означает болезни или раны. А кусающая вас собака обещает, что наяву мы приобретем друга. Мы почасту разговариваем во сне с покойниками, что не мешает нам, проснувшись, оставаться среди живых. Не так ли, государь?
– Может быть, может быть, – с отсутствующим взглядом пробормотал император.
Они вышли из покоев Павла и через комнаты, богато изукрашенные античными статуями, бюстами, барельефами, саркофагами, вернулись в залу, но уже с другой стороны: дворец представлял собой правильный четырехугольник. Им предшествовали громкие крики «Вон!», которые со стуком прикладов неслись от одного караула к другому.
Покидая в одиннадцатом часу вечера Михайловский замок, Кутузов еще раз оглядел громаду камня со рвами, подъемными мостами, артиллерийскими орудиями и неприступными стенами. В промозглый вечер новый дворец выглядел даже не крепостью, а тюрьмой.
«Право, тюрьма, – сказал про себя Михаил Илларионович. – И государь сам заключил себя в ней. И впрямь: бедный Павел! Он сделался узником в собственной стране…»
3
Солнечным, веселым утром император прислал за Кутузовым флигель-адъютанта с повелением явиться немедленно.
Михаил Илларионович был тотчас препровожден в рабочий кабинет Павла. Эта комната одновременно служила и его спальней. Посредине стояла маленькая походная кровать, без занавесок, за простыми ширмами. Над ней – изображение ангела работы Гвидо Рени. В углу – на мраморном пьедестале – плохой гипсовый бюст Фридриха II.
Государь, в нетерпении постукивая рукой, сидел за своим роскошным письменным столом с колоннами и решеткой из слоновой кости. Едва появился Кутузов, Павел выбежал ему навстречу.
– Я захвачен идеей установить всеобщий мир! – с пылкостью воскликнул он. – И кажется, нашел средства его добиться! Мне пришла в голову счастливая мысль. Организовать турнир государей. Наподобие тому, как это происходило во времена рыцарей!..
Страсть к театральности, к пышным и причудливым церемониям издавна отличала государя. Михаил Илларионович невольно вспомнил празднество в Гатчине в честь перенесения с Мальты частицы мощей святого Иоанна. По обычаю гроссмейстеров, Павлу понадобились оруженосцы. Он назначил из гвардейских полков четверых офицеров, и в их числе внучатого племянника Кутузова Александра Рибопьера из конной гвардии.
Офицеров, которых в те поры сажали в тюрьму или выключали из службы за малейшее отступление от формы, за не тот цвет сукна и подкладки, за не так пришитую пуговицу или за буклю, выбивающуюся из-под прически, заставили снять мундиры и обрядиться в одежды, более приличествующие оперным подмосткам. На них были пунцовые одеяния с черными бархатными отворотами, вместо герба Российской империи – мальтийская кокарда, а на боку – рыцарский меч, вовсе не похожий на шпагу.
Сам Павел поверх носимого им постоянно Преображенского мундира облачился в пунцовый далматик, обшитый жемчугом, и в плащ из черного бархата. С правого его плеча спускался широкий шелковый позумент, называемый «страстями», потому что на нем разными шелками были вышиты страдания Спасителя. Он сложил с себя в этот день императорскую корону, заменив ее венцом гроссмейстера…
– Прошу прощения, государь, – сказал Кутузов, – но я плохо представляю себе задуманный вами турнир…
Павел засмеялся в ответ на это простодушное признание.
– Все очень просто, Михайла Ларионович. – Он взял листок с текстом. – Я объявлю: «Видя, что европейские державы не могут прийти к соглашению между собою, и желая положить конец войнам, уже одиннадцать лет терзающим Европу, мы предлагаем установить место, куда пригласим всех государей. Пусть они прибудут и сразятся между собой на поединке и таким благородным способом решат спор…» Ну, а в качестве судей и герольдов мы позовем министров и искуснейших генералов. Тугута из Вены, Питта из Лондона, Бернсторфа из Стокгольма…
Он положил свою руку на плечо Кутузова.
– Я же хочу взять с собой графа Палена и вас, Михайла Ларионович…
– Благодарю, ваше величество, за доверие и высокую честь, – поклонился Кутузов. – Только прибудут ли монархи на такое ристалище? Вы, государь, рыцарь. И вы полагаете, что рыцарство, присущее вам, в натуре есть и у других венценосцев. Сдается только мне, что ни английский король, ни римский император не осмелятся приехать, чтобы потыкаться на шпагах. А Густав-Адольф Шведский? По ветрености своей он, чего доброго, может воспользоваться вашим благородным предложением для делания разных насмешек и непристойностей…
Император задумался.
– Вы правы, – произнес он. – Но как же тогда быть?
– Давайте, – подхватил Кутузов, – изложим ваше предложение как слух. Со слов какого-нибудь иностранного корреспондента. Прикажите литератору с острым пером составить такую заметку, чтобы напечатать ее в Гамбурге или Лондоне…
– Дельно, дельно, сударь! – Павел снова повеселел. – Пожалуй, и человек такой у меня есть на примете. Это писатель Коцебу…
Михаил Илларионович знал Коцебу не только по службе в России при покойной государыне, но и по его многочисленным сентиментальным пьесам, с шумным успехом шедшим на петербургской и московской сцене. Но он знал и о том, как в апреле 1800 года этот писатель был арестован на русской границе и по приказу Павла сослан в Тобольск, а затем в Курган. А недавно Коцебу так же неожиданно был прощен, вызван в Петербург и назначен директором придворного немецкого театра…
– Вот-вот, – согласился Кутузов. – Он напишет обо всем для заграничных газет, а мы подождем, каковы будут отклики…
Последнее сумасбродство императора венчало собой новый и причудливый крен в политике петербургского двора. Корабль русской государственности мотало, словно за рулем оказался пьяный шкипер.
Когда Англия заняла все ту же злосчастную Мальту, Павел в октябре 1800 года повелел наложить во всех портах эмбарго на британские суда и товары. Между тем Бонапарт, утвердивший свою диктатуру во Франции под скромным званием первого консула, стал искать сближения с Россией. Он освободил всех русских пленных и обратился к Павлу с предложением установить мир и спокойствие на континенте.
Русский император приказал принести к себе карту Европы, разложил ее надвое и сказал: «Только так мы можем быть друзьями!»
Одним из фантастических последствий новой политики был задуманный поход в Индию, которую Павел решил завоевать силой одних казаков. Славный генерал Платов был возвращен из ссылки и возглавил первый эшелон войска. Без подробных карт, в наступившую распутицу, казаки еще испытывали и жестокие лишения от недостатка продовольствия и враждебности местного населения и были возвращены с пути уже Александром I.
Другим следствием было резкое усиление иезуитской пропаганды, чем не преминул воспользоваться Бонапарт. Отец Грубер, вылечивший императрицу Марию Федоровну от зубной боли, получил разрешение являться к императору без доклада. Грубер внушал Павлу, что только с помощью Мальтийского ордена тот спасет Европу от бедствий революции и вольнодумства…
…Уже в карете, направляясь из Михайловского замка домой, Михаил Илларионович горестно сказал себе: «Все-таки государь наш ненормален. Это чувствуется только временами, пусть так. Но приличествует ли и такое состояние монарху на троне? Главе великой державы? Правителю России?..»
Его ожидала заплаканная Екатерина Ильинична.
После отъезда Кутузова прибежал дворовый Рибопьеров. Он сообщил, что по приказу императора Александр Иванович посажен в секретный каземат Петропавловской крепости, а его матушка Аграфена Александровна и сестры отправлены в ссылку.
4
По самой своей человеческой природе Кутузов не мог принадлежать к заговорщикам, входить в какой-то сговор. Можно сказать, однако, что он всю жизнь оставался заговорщиком, но в особой партии, которую составляла только одна его собственная персона. Он был в заговоре против всего: против своего государя, который терзал страну; против вельмож, завидовавших ему; против масонов, которым позволил вовлечь себя в «братство» и даже возвести на высокую ступень; против прусской доктрины и муштровки в армии.
И все во имя России.
От вице-канцлера Панина, до его смещения и ссылки в декабре 1800 года, а затем и от графа Палена Михаил Илларионович знал о заговоре, знал и главных заговорщиков. Необыкновенная подозрительность Павла – к приближенным вельможам, к собственным детям Александру и Константину, к супруге Марии Федоровне – торопила их. В любой час готовящийся переворот мог быть предупрежден одним росчерком августейшего пера.
Императору уже донесли, что Пален слишком часто бывает в комнатах Александра. Хотя граф Петр Алексеевич, как генерал-губернатор Петербурга, был подчинен великому князю и был обязан являться к нему с докладами, он не смел более встречаться с ним. Уговорились обмениваться записками, которые передавал вице-канцлер Панин.
Ловкость и хитрость в соединении с решительностью Пален доказал, еще будучи тридцатичетырехлетним генерал-майором, при штурме Очакова. Со своей колонной он должен был первым ворваться в крепость и дать оттуда сигнал тремя ракетами, чтобы на приступ двинулись остальные войска. Барон Петр Алексеевич заверил Потемкина, что исполнит его распоряжение, он приказал выпустить ракеты, едва лишь тронулся с места. Общее и одновременное движение всех колонн и определило успех…
Ныне Петр Алексеевич, уже граф и генерал от инфантерии, понимал, что откладывать долее исполнение задуманного невозможно.
Слишком много лиц знало о заговоре. О нем шептались в гостиных у Талызина, Зубова, Обольянинова и у Екатерины Ильиничны Кутузовой. В первом батальоне Семеновского гвардейского полка все офицеры, не исключая прапорщиков, были осведомлены о близости переворота. К числу посвященных относились сенаторы Орлов, Чичерин, Татаринов, граф Толстой, из генералов – командир преображенцев князь Сергей Голицын и командир семеновцев Депрерадович, Талызин, Мансуров, князь Яшвили и даже генерал-адъютант императора Аргамантов.
Пален не просто играл с огнем – он давно ходил на волосок от гибели.
Однажды, когда он явился с утренним докладом во дворец, Панин сунул ему в передней императорских покоев очередную записку от великого князя. Граф Петр Алексеевич, полагая, что у него достаточно времени, собирался тут же прочесть ее, написать ответ, а бумажку, переданную ему, сжечь. Внезапно из спальни вышел государь. Он подозвал к себе Палена, затащил в свой кабинет и запер дверь. Генерал-губернатор едва успел спрятать записку в правом кармане сюртука.
Император был в самом хорошем настроении. Он стремительно ходил взад и вперед по кабинету, по своей давней привычке беспрестанно откидывая руки назад, говорил о самых невинных вещах, смеялся, шутил. Вдруг он вплотную приблизился к Палену, взял его за лацканы и быстро и картаво сказал:
– Я хочу порыться в ваших карманах. Посмотреть, что у вас там. Наверняка какое-нибудь любовное послание…
Граф Петр Алексеевич почувствовал, как в жилах у него испаряется кровь.
– Ваше величество! Что вы делаете? Оставьте! – нашелся он. – Вы не выносите запаха табака. А я много нюхаю. Мой носовой платок весь в табаке. Вы запачкаете руки и после будете страдать от неприятного запаха.
Павел отскочил от него со словами:
– Вы правы! Фи, какая гадость!..
После высылки Панина из Петербурга Пален оказался главным распорядителем заговора. Он нуждался в надежных исполнителях и возлагал надежды на обиженных императором екатерининских вельмож. Воспользовавшись однажды добрым настроением государя, граф Петр Алексеевич глубоко растрогал его, описав, как страдают выгнанные из полков и исключенные из службы офицеры и генералы от горя и нужды. Два часа спустя фельдъегеря скакали во все концы империи, чтобы вернуть в столицу всех сосланных.
В конце 1800 года три брата Зубовых и генерал Бенкигсен были уже в Петербурге. Вместе с князем Яшвили и генералом Уваровым они составили ядро заговора…
Михаил Илларионович с величайшим вниманием следил за происходящим в столице. Он ведал обо всем.
Да и как мог он оставаться в неведении, если сестра Зубовых Ольга Александровна Жеребцова перед отъездом в Англию несколько раз собирала заговорщиков в петербургском доме у Екатерины Ильиничны!..
Пален не единожды издали заводил разговоры о том, что-де пришла пора действовать, но Михаил Илларионович всякий раз уклонялся от их продолжений, начиная рассуждать в ответ, как крут император и сколько осторожностей требуется от его верноподданных. Однако, отлично сознавая всю опасность и даже вредность правления Павла Петровича для России, издали способствовал успеху заговора.
В то же время он не без оснований полагал, что его явная и все увеличивающаяся близость к особе императора может навлечь после свержения Павла месть Палена. Уже существовал список лиц, которых предполагалось арестовать: обер-гофмейстер граф Кутайсов, обер-гофмаршал Нарышкин, адмирал граф Кушелев, граф Ростопчин. Среди прочих там значился и преданный государю шеф лейб-гусарского полка генерал-лейтенант Кологривов.
Кутузов обиняками сумел внушить Палену, что разделяет его взгляды, ровно ничего не сказав при этом и ничем себя не запачкав. Михаил Илларионович был осведомлен о судьбе хитроумного де Рибаса, заговорщика, который заколебался и, оказавшись в фаворе у Павла, принялся, как всегда, вести двойную игру. И кажется, был отравлен.
«Желал остаться самым хитрым, – сказал себе Кутузов. – А в результате перехитрил самого себя…»
Михаил Илларионович даже страшился того, что государь сделает его петербургским генерал-губернатором вместо Палена. Тогда он неукоснительно последует долгу. Дело, право, простое! Арестовать полсотни гвардейских офицеров да нескольких вельмож, возвращенных Павлом из ссылки. Но что же будет дальше? Крутая прилипчивость императора грозила обернуться бедой для любого из его фаворитов. Сколько уже видел Кутузов тому примеров! Павел сослал Аракчеева и Ростопчина, а теперь в любой час мог излить свой августейший гнев и на Палена. Впрочем, Петр Алексеевич уже испытал на себе меру немилости его величества, когда в феврале 1797 года, за мнимые почести при встрече опального князя Платона Зубова, был выключен из службы…
И вот теперь нелепая жестокость по отношению к семейству Рибопьеров!..
14 февраля 1799 года семнадцатилетний Александр был определен Павлом к себе флигель-адъютантом. Но красивого и горячего юношу еще тогда едва не погубило внимание, которое оказывала ему по прежнему знакомству фаворитка Павла Анна Петровна Лопухина.
…Во время коронации императора в Москве было множество всяких торжеств, празднеств и балов. На одном из них молодая девушка, отмеченная исключительной прелестью, может быть, по ошибке, а может быть, с намерением, подошла к императору и просила протанцевать с ней полонез. Государь был крайне польщен. Отец ее, Петр Васильевич Лопухин, и мачеха, Екатерина Николаевна, тотчас же попали в милость. Все семейство получило приглашение переехать в Петербург, где Павел осыпал их отличиями и почестями. Петр Васильевич был возведен в княжеское достоинство, супруга пожалована в статс-дамы, а старшая дочь получила шифр фрейлины ее величества.
Государь навещал Анну Лопухину каждое утро и часто бывал у нее по вечерам. Чтобы отвлечь общее внимание, он заказал себе карету, напоминающую цветом герб князя Лопухина, а для лакеев придумал какую-то малиновую ливрею. Разумеется, посещения эти ни для кого не были тайной. Но все совершенно верно полагали, что в отношениях, столь быстро начавшихся с девушкой, державшей себя всегда строго, не могло быть ничего предосудительного.
«Да! – подумал Кутузов. – И здесь император не похож на свою любвеобильную мать. Ведь и первая фаворитка Павла Нелидова была лучшим другом императрицы Марии Федоровны и никогда не забывала чувства долга…»
Но, строго соблюдая пристойность, император требовал ее и от окружающих, а особенно от приближенных лиц. Этим ловко воспользовалась мачеха Лопухиной. Она злилась на падчерицу за то, что та никак не хотела выпросить у Павла Анненскую ленту для ее любимца Федора Петровича Уварова, и решилась отомстить. Исполнение по-женски коварного плана облегчалось тем, что дом Лопухиных соединялся внутренним переходом с покоями их друга князя Долгорукова, у которого вечерами молодежь собиралась на танцы.
Однажды Павел спросил у Екатерины Николаевны, как княжна проводит время.
– Покуда она на моих глазах, государь, я могу за нее отвечать, – сказала мачеха. – Но она пропадает все вечера у Долгорукова. И я уже не имею возможности за ней следить.
– Что же она там делает и кого видит? – обеспокоился Павел.
– Много молодежи там болтается. Все танцуют и, кажется, очень веселятся, – подлила масла в огонь Екатерина Николаевна.
– Кто же из молодых людей там чаще всего бывает? – начал уже сердиться император.
– Рибопьер… – охотно сообщила мачеха. – Если вашему величеству угодно самому удостовериться, стоит только на минуточку появиться у дверей, которые ведут в соседние покои…
Тем же вечером, прокравшись к переходу, Павел узрел семнадцатилетнего Рибопьера, который вальсировал с Анной Лопухиной при звуках бандуры. При этом – о ужас! – он держал княжну обеими руками за талию, что было тогда в моде, но что император находил крайне неприличным и настрого запретил.
Государь был в гневе. Но он подписал указ о пожаловании Рибопьера камергером, что соответствовало чину генерал-майора. Затем он явился к Лопухиной, чтобы просить руки для своего нового камергера.
Напрасно Лопухина умоляла, плакала, возражала – Павел долго был неумолим. Убедившись, что между молодыми людьми ничего дурного не могло быть, император все же наказал Рибопьера. Уже в штатской форме, с ключом назади и в шляпе с плюмажем, тот был без промедления отправлен к русской миссии в Вену сверх штата, в сопровождении фельдъегеря. Точно в ссылку…
– Саша был любимцем у покойной государыни, – рассуждал дома с Екатериной Ильиничной Кутузов. – Она с ним забавлялась, играла, шутила. И верно, его величество уже по одному этому преследует Сашу своей ненавистью…
Теперь, едва вернувшись из Вены, пылкий Рибопьер влюбился в одну особу, за которой уже ухаживал гвардейский офицер князь Борис Андреевич Святополк-Четвертинский. Князь написал Рибопьеру резкое письмо. Они дрались на шпагах – Рибопьер ранил Четвертинского выше локтя, а князь нанес ему болезненный удар в ладонь, порвав артерию.
Павлу все представили так, будто Четвертинский взял под защиту Анну Петровну, ставшую уже княгиней Гагариной, о которой Рибопьер якобы позволил себе говорить дурно. Рассерженный за прежнее, государь дал волю своему темпераменту. Он исключил Рибопьера из службы, отнял Мальтийский крест и камергерский ключ и кончил заточением в Петропавловской крепости.
По мере того как Павел наказывал, гнев его разгорался все больше. Император отправил его мать и сестер в ссылку, конфисковал дом и все его имущество в Петербурге и запретил на почте принимать как все их письма, так и адресованные им.
На другой день Михаил Илларионович с крайним сожалением узнал, что Иван Лонгинович Голенищев-Кутузов уволен от двора. Своего престарелого наставника Павел также не пощадил. Он обвинил его во время аудиенции в том, что Иван Лонгинович в присутствии императора посмел иметь вид огорченного родственника…
5
Император был похож на собственную смерть.
Он не шутя именовал себя «безносым». А ведь на Руси «безносой» издревле нарекли известную даму с косой. Не раз перед зеркалом, вглядываясь в свое курносое отражение, Павел Петрович с досадой восклицала «Хорош! Хорош! Нечего сказать!»
Впрочем, с утра 11 марта 1801 года император был в отличном расположении духа и менее всего предавался мрачным мыслям. Казалось, именно в этот день он желает ускорить исполнение и без того поспешных и необдуманно проводимых в жизнь постановлений.
С утра иезуит патер Грубер уже находился в приемной с документами, заключающими давно вынашиваемый Павлом проект о соединении православной церкви с латинской.
Правда, генерал-губернатор фон дер Пален, опасаясь пронырливости святого отца, решился не допустить его до особы государя. Слишком много было поставлено на карту в эти часы. Пален предусмотрительно завалил стол Павла бесконечными бумагами. Устав их читать и подписывать, государь уже в раздражении обратился к губернатору:
– Полагаю, это все?
– Нет, ваше величество, – сокрушенно развел руками граф Петр Алексеевич. – Отец Грубер собирается утомлять вас своим проектом…
Государь, уже боявшийся опоздать на свой любимый развод, бросил в сердцах:
– Пусть патер убирается вместе со своими бумагами!..
В числе подписанных документов была составленная по-французски депеша на имя русского посланника в Берлине барона Криденера:
«Заявите его величеству королю, что, если он не решится занять Ганновер, вы покинете двор в двадцать четыре часа».
Другой курьер был отправлен в Париж. Послу Колычеву повелевалось обратиться к Бонапарту с предложением вступить с республиканскими войсками в курфюрство Ганноверское ввиду нерешительности берлинского двора занять эту страну своими войсками.
Россия была без пяти минут накануне новой войны…
На разводе все удивлялись тому, что не видят великих князей Александра и Константина. Государь во время вахтпарада очень гневался, но, против ожидания, никого не сделал несчастным.
В час дня, как обычно, был назначен обед на восемь кувертов. Были приглашены обер-камергер Строганов, адмирал граф Кушелев, Кутузов, вице-канцлер князь Куракин, обер-гофмаршал Нарышкин, обер-шталмейстер граф Кутайсов.
Разговор за столом вертелся вокруг похода в Индию, который должен подорвать могущество амбициозных англичан. Затем он перескочил на полководческие достоинства первого консула Франции, восстановившего в своей стране законность и порядок. Далее коснулся обширных приготовлений на западных границах России.
Думали же совсем о другом. Об уроне, который принесло запрещение торговать с Англией. О сумасбродном приказе Павла посадить великих князей под домашний арест. Об унизительном приведении их ко вторичной присяге отцу-императору, О том, что болезненное подозрение государя распространилось и на его супругу Марию Федоровну: двойные двери из спальни-кабинета в ее покои были теперь заперты на замок. О безумном намерении Павла объявить наследником престола малолетнего принца Евгения Вюртембергского…
Подавленное настроение за столом было у всех, кроме самого императора.
После обеда он милостиво шутил с Кутузовым и отпустил обычную остроту по поводу Строганова:
– Вот человек, который не знает, куда девать свое богатство!
Остановившись возле статуи Клеопатры, Павел заметил, насколько прекрасна эта копия. Затем он принялся рассматривать постамент, сложенный из нескольких сортов мрамора. Переведя взгляд вновь на скульптуру, император в задумчивости сказал:
– Эта царица умерла прекрасной смертью…
– Да, ваше величество, – согласился Михаил Илларионович. – Но она же доказала, сколь опасна женская красота. Перед ней не устоял Цезарь, она погубила Марка Антония. И все же, если бы Август не пренебрег ее прелестями, она едва ли лишила себя жизни. Ведь женская красота еще и эгоистична…
«Да, ежели бы с государем что-либо случилось, его Клеопатра – княгиня Гагарина небось не поднесла бы к своей груди ядовитую змейку. Униженная им императрица Мария Федоровна – вот кто всю жизнь оплакивал бы его…» – подумалось Кутузову.
– Нельзя доверять женщинам, Михайла Ларионович! – словно споря с ним, проговорил император. – Даже если это жена, все равно от нее пахнет изменой…
Вероломство первой супруги – Натальи Алексеевны оставило незаживающую рану в душе государя.
Напомнив Кутузову явиться вечером в гостиную комнату, Павел наклонил голову и, по обыкновению, резко повернулся на каблуках. Он отправился навестить малолетнего великого князя Николая, которому шел пятый год.
Во время свидания малыш спросил отца, отчего его именуют Павлом Первым.
– Потому, – отвечал тот, – что не было другого императора, который бы до меня носил это имя.
– Тогда, – сказал мальчик, – меня будут называть Николаем Первым.
– Если ты вступишь на престол, – поправил его Павел и погрузился в глубокое раздумье. Он долго глядел на сына, затем крепко поцеловал его и быстро удалился из комнаты.
В обычное время был накрыт вечерний стол на девятнадцать персон. Кутузов сидел между своей дочерью Прасковьей, фрейлиной ее величества, и графом Строгановым. По правую и левую руку императора находились великие князья Александр и Константин, оба растерянные и бледные. Разговор не клеился. Только государь был необычно оживлен, острил, рассыпал комплименты сидящей напротив него старшей дочери Кутузова. Но и он, поддавшись общему настроению, заметил:
– Что-то на меня напала чрезмерная веселость. Не иначе как перед печалью…
Затем он заговорил о сне, привидевшемся ему накануне: на него натягивали узкий парчовый кафтан, и с таким усилием, что император проснулся от боли.
«Государь верен своему мистическому настроению, – заметил про себя Михаил Илларионович, все более ощущая значительность происходящего. – Ведь и перед своим восшествием на престол он видел ночью, будто неведомая сила поднимает его вверх. Что же это – обостренная чуткость или случайное совпадение?»
В этот момент Павел на полуслове прервал свой разговор с фрейлиной Кутузовой и резко обернулся к старшему сыну:
– Сударь, что с вами сегодня?
Александр смешался.
– Государь! – через силу ответил он. – Я не могу сказать, что чувствую себя хорошо…
– В таком случае обратитесь к врачу и подлечитесь, – с улыбкой произнес император. – Надобно останавливать недомогание в самом начале. Чтобы не допустить серьезной болезни.
Великий князь ничего не ответил. Через несколько минут он чихнул. Павел тотчас весело сказал ему:
– За исполнение всех ваших желаний!..
Александр наклонил голову и потупил глаза.
Кутузов еще острее почувствовал, что все вокруг словно дошло до точки кипения. Он знал от нескольких гвардейских офицеров, что на поздний час назначено застолье у Палена, который невозмутимо сидел теперь между шталмейстером Мухановым и князем Юсуповым.
«Чересчур много совпадений! – подумалось Михаилу Илларионовичу. – Ведь именно сегодня обиженные императором екатерининские вельможи братья Зубовы и генерал Беннигсен пошли на вечеринку к Талызину. Что-то должно произойти. Это слишком напоминает 28 июня 1762 года. Значит…»
В этот вечер Павел особенно долго беседовал с Кутузовым о делах военных. Еще в декабре 1800 года составлено было три армии. Под Брест-Литовском располагалась армия под начальством Палена; при Витебске – под командованием генерал-фельдмаршала Салтыкова; Михаилу Илларионовичу вверены были войска, расквартированные под Владимиром на Волыни.
– В мае я намерен отправиться на ревю вашей и литовской армии графа Салтыкова, – говорил Кутузову император.
Впрочем, никто из главнокомандующих не трогался с места: граф Пален и Михаил Илларионович не расставались с Петербургом; Салтыков не покидал Москвы. И в этом плане, оставшемся только на бумаге, чувствовалось нечто гиблое, выморочное.
Провожая Кутузова, Павел сказал ему:
– Вскоре я прикажу вам быть генерал-губернатором Петербурга, ибо питаю к вам исключительную доверенность… – Он поймал свое отражение в большом венецианском зеркале и вдруг воскликнул: – Удивительное зеркало! Когда я смотрюсь в него, мне кажется, что у меня свернута шея!..
– Ваше величество, – внутренне содрогнувшись, ответил Михаил Илларионович, – это лишь доказывает, как лгут все зеркала…
Садясь в карету, Кутузов приказал везти себя к генералу Кологривову: у них была назначена поздняя партия в вист. Андрей Семенович был гуляка в русском духе: дом его был открыт с утра до ночи и славился хлебосольством. «Кто у Кологривова поужинает и к утру не умрет – говорили в столице, – тот два века проживет…»
Михаил Илларионович рассудил, что ежели займет Андрея Семеновича игрой, то косвенно поможет заговорщикам: любимый генерал Павла никак уже не сможет им помешать. Если же переворот сорвется, то Михаил Илларионович узнает об этом не позднее половины первого ночи: адъютанты оповестят и вызовут всех доверенных государю людей.
Когда пробило час пополуночи, Кутузов понял, что заговор удался.
Теперь надо было проявить свою безусловную лояльность к его участникам, которые иначе могли бы занести и его в проскрипционный список. Михаил Илларионович тяжело вздохнул, готовясь к неприятной процедуре, и отложил карты. Он вытащил золотые куранты с екатерининским вензелем, щелкнул крышкой брегета, еще раз вздохнул и ласково сказал:
– Не пугайтесь, Андрей Семенович, голубчик! Вашу шпагу, сударь!..
Часть II
Глава первая Не ко двору
1
Первый выход Александра в Зимнем дворце состоялся во вторник, 12 марта 1801 года. Перед представлением новому императору Михаил Илларионович отправился в Михайловский замок – проститься с императором прежним. Войдя в военную залу, где было выставлено тело Павла Петровича, Кутузов мог улицезреть лишь подошвы его ботфортов да поля широкой шляпы, надвинутой на самый лоб. Посетителей было немного. Специальные лица торопили их, провожая к выходу.
Садясь в карету на Садовой улице, Михаил Илларионович невольно зажмурился от яркого солнца, которое сверкало в первых лужицах, отражалось в куполах церквей и зажгло горячим золотом шпиль замка. От вчерашней пасмурной погоды не осталось и следа. Толпы возбужденного народа всех сословий переполняли проспекты и площади столицы. Проезжая к Зимнему, Кутузов видел всюду приметы необузданной, почти ребяческой радости.
Навстречу ему с запрещенной еще вчера быстротой неслись всевозможные экипажи с русской упряжью, кучерами на козлах и форейторами. Из окон карет высовывались головы с обрезанными косичками и буклями, причесанные а-ля Титус. На улицах посреди однобортных кафтанов и камзолов все чаще попадались фраки с жилетами и панталонами, круглые шляпы и сапоги. Восторг публики выходил даже за пределы благопристойности: в нескольких шагах от гроба императора незнакомые люди целовались при встрече, как на Светлое воскресенье.
Покойного государя Михаил Илларионович не смог увидеть, зато в новом едва узнал того великого князя, с которым расстался накануне в половине десятого вечера. Двадцатитрехлетний Александр Павлович шел медленно, колени его подгибались, волосы были распущены, глаза заплаканы. Он глядел прямо перед собой, изредка роняя голову на грудь, словно кланяясь. На некотором расстоянии за ним, в глубоком трауре, следовали обе императрицы – вдовствующая Мария Федоровна и молодая супруга государя Елизавета Алексеевна.
Кутузов приметил, что они стараются не встречаться взглядами. Лицо Марии Федоровны опухло от слез; Елизавета Алексеевна, напротив, выглядела спокойной и даже торжествующей.
«Вот она, история наша, – подумалось Михаилу Илларионовичу. – Почитай, каждый второй правитель России не по своей воле, а через насилие расстается с троном и даже с жизнью…»
Кутузову было понятно состояние Александра, который чувствовал себя отцеубийцей. Молодой государь знал все подробности заговора, ничего не сделал, чтобы его предотвратить, и дал обдуманное согласие на свержение отца. Он даже порекомендовал заговорщикам перенести переворот на ночь, когда караул в Михайловском замке будут нести преданные Александру семеновцы.
Отдавал ли себе отчет Александр Павлович в том, что предстоит кровавый исход? Историк, исследовавший его царствование, отвечает на это недвусмысленно: «Трудно допустить, что Александр мог сомневаться, что жизни отца грозит опасность. Характер батюшки был прекрасно известен сыну, и вероятие подписания отречения без бурной сцены или проблесков самозащиты вряд ли допустимо. И это заключение должно было постоянно приходить на ум в будущем, тревожить совесть Александра, столь чуткого по природе, и испортить всю последующую его жизнь на земле».
Роль первого вельможи в государстве забрал себе генерал-губернатор Петербурга граф Петр Алексеевич, а точнее, Петр-Людвиг фон дер Пален. Это он, вдохновитель и главный исполнитель переворота, распоряжался теперь церемонией, представляя новому государю подданных, ободрял его улыбкой и хладнокровно встречал взоры тех, кто, как Кутузов, хорошо знал о его ночной роли.
Михаилу Илларионовичу теперь были известны все подробности страшной ночи, вплоть до отвратительной шутки Палена: «Нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц…» «М-м-да… Расейские наши ндравы… – грустно усмехался сам себе Кутузов. – Воистину, лучше бы вовсе не знать многого. Поневоле впадаешь в чувство, близкое к отчаянию. Да, тысячу раз права древняя книга: «В многия мудрости многия печали…»
Но полуночные страхи рассеивались – общество ликовало. Воцарение Александра было воспринято как начало радостного обновления, как приход весны после суровых холодов, как обещание благодатных перемен во всех звеньях государственной жизни. Молодой обаятельный император, ученик республиканца Лагарпа, не скупился на обещания, а его друзья-ровесники – Чарторижский, Кочубей, Строганов, Новосильцев – пылко мечтали облегчить участь крестьянства. Несмотря на мрачную тень подозрений о соучастии в убийстве отца, Александр сделался кумиром дворянства. Его вступление на престол привело в движенье перья стихотворцев. Запели старые и молодые – Державин, Херасков, Мерзляков, Карамзин, Измайлов, Озеров, Шишков:
На троне Александр! Велик российский Бог! Ликует весь народ, и церковь, и чертог, Твердят россияне и сердцем, и устами: На троне Александр! Рука Господня с нами!Впервые за все свое существование вдруг опустела Петропавловская крепость. Рассказывают, что Александр сказал: «Желательно, чтобы навсегда!» По человеколюбивому указу было возвращено на службу и восстановлено в правах до двенадцати тысяч несчастных. В первый же день восшествия на престол новый государь приказал выпустить и молодого Рибопьера, возвратив ему прежнее звание. В тот же день курьер поскакал за его матерью, которая еще не успела доехать до имения, назначенного ей местом изгнания. Был приглашен в Петербург и граф Никита Петрович Панин.
Выражая общее мнение дворянства, Карамзин в своей записке «О древней и новой России», которую он подал через великую княгиню Екатерину Павловну Александру, дал через несколько лет уничтожающую характеристику Павлу и его правлению:
«Сын Екатерины мог быть строгим и заслужить благодарность отечества; к неизъяснимому изумлению россиян, он начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя никаким уставам, кроме своей прихоти; считал нас не подданными, а рабами; казнил без вины, награждал без заслуг; отнял стыд у казны, у награды – прелесть; унизил чины и ленты расточительностью в оных; легкомысленно истреблял долговременные плоды государственной мудрости, ненавидя в них дело своей матери; умертвил в полках наших благородный дух воинский, воспитанный Екатериною, и заменил духом капральства. Героев, приученных к победам, учил маршировать; отвратил дворянство от воинской службы; презирал души, уважал шляпы и воротники; имея, как человек, природную склонность к благотворению, питался желчью зла; ежедневно вымышлял способы устрашать людей и сам всех более страшился; думал соорудить себе неприступный дворец, соорудил гробницу!»
Это было гласом общества.
Но, приветствуя перемены, в числе которых было уничтожение тайной экспедиции, чьи дела передавались в ведение Сената, и запрет печатать в газетах объявления о продаже людей – первое, робкое ограничение крепостничества – при дворе и в военных кругах порицали молодого государя за то, что он появляется среди убийц своего отца. Из разговоров с близким императрице Марии Федоровне Куракиным Кутузов знал, что вдова Павла поклялась отомстить им. Она прямо заявила Александру, что не вернется из Павловска в Петербург, пока там находится Пален.
Впрочем, и Александр с брезгливой неприязнью выносил опеку самоуверенного графа Петра Алексеевича и втайне был доволен таким оборотом. Вечно колеблясь и сам не решаясь до конца ни на что, он мог теперь возложить ответственность за перемены на плечи своей матери и скоро послал Палена в его курляндское имение.
18 июня 1801 года петербургским военным губернатором был назначен Кутузов. На другой день последовал рескрипт, по которому ему передавалось одновременно и управление гражданскими делами в столичной губернии. В июле месяце к этому добавились обязанности члена Военной комиссии, инспектора Финляндской инспекции и управление делами в губернии Выборгской.
2
Рано поутру Михаил Илларионович отправлялся в генерал-губернаторский дворец для рассмотрения текущих дел.
В эти часы из окна кареты он видел лишь плетущийся трудовой народ – мужичков в запачканных известью сапогах, спешащих на строительные работы, белолицых чухонок, несущих кувшины с молоком, корзины с зеленью на рынок, да солдат, высекающих искры подковами из гранитных мостовых.
Наступившие белые ночи внесли свои поправки: с островов возвращались в колясках подгулявшие гвардейские офицеры – вещь невозможная при покойном императоре.
Кутузов еще не привык к придуманной новой форме, особенно у офицеров. При Павле отложной воротник на мундире едва закрывал половину шеи; теперь воротник был сделан стоячим и до того высоким, что голова оказалась точно в ящике и трудно было повернуть шею. Прежде лиф – верхняя половина мундира до талии, – по росту человека, был длинный; ныне лиф укоротили более чем на пядь и фалды болтались вроде рыбьего хвоста. Шарфы стали подвязывать почти под грудь, и на шее вместо скромного галстука появилось пышное жабо. Волосы у офицеров отпускались длинные, шляпы стали носить высокие, набекрень и с черным петушьим султаном.
Тем не менее все восхищались новой обмундировкой. Недовольны были только старики, которым, как известно, не по нутру любые нововведения. «Просто пиковые валеты, да и только!» – ворчали они при виде офицеров. Все прочее, однако, осталось, как при императоре Павле: екатерининская форма так и не была восстановлена…
Генерал-губернаторские заботы требовали вникать в каждую мелочь, и Михаил Илларионович радовался любой возможности сделать доброе дело.
Да вот хотя бы прошение на имя царя Прохора Дубасова, крепостного камердинера Суворова.
«Покойный князь Италийский, граф Суворов-Рымникский, – писал Дубасов на высочайшее имя, – в вознаграждение долговременной моей службы при нем, трудов, усердия и истинной приверженности… дал своеручное письмо о произвождении мне десяти лет из доходов его имения, ежегодно серебром или золотом по тысяче рублей. Письмо сие, чтобы воспринять свое действие, поднес я в оригинале его сиятельству графу Николаю Александровичу Зубову, зятю Суворова… Однако же оставлен без всякого воззрения…»
«Дело рук Варвары Ивановны», – решил Кутузов.
Жена Суворова поспешила воспользоваться тем, что распоряжение Александра Васильевича не было оформлено в строгом соответствии с требованиями закона, и уничтожила письмо. Дубасову не только не выдали денег, но и не дали обещанную Суворовым вольную. Кутузов продиктовал отношение на имя статс-секретаря Михаила Никитича Муравьева:
«Судя по засвидетельствованию графа Зубова, признаю требование Дубасова… верования заслуживающим, к подтверждению которого и, паче, послужило бы оное оригинальное письмо, которое княгиней, быв сочтено за подложное… ею изодрано».
Указом Сената Дубасов получил с женой и детьми «на вечные времена» от рабства свободу и пять тысяч серебром с выплатой в течение пяти лет…
Собрав бумаги, которые требовали высочайшей подписи, Михаил Илларионович к десяти утра появлялся в Зимнем дворце. Едва перед ним отворяли двери кабинета, как государь, сощурившись, уже шел ему навстречу. Обычно он принимал Кутузова в присутствии своего генерал-адъютанта тридцатидвухлетнего Комаровского.
Александр Павлович был несколько близорук, но умел очаровывать улыбкой глаз. Нос у него был прямой и правильной формы, рот небольшой и очень приятный, оклад лица округлый. Он рано оплешивел, как и его брат Константин, из-за того, что в царствование отца носил пудру и зачесывал волосы: на морозе сало леденело и волосы лезли. В ранней молодости он испортил себе слух от близкого артиллерийского выстрела, плохо слышал левым ухом и, чтобы лучше понимать собеседника, наклонялся вправо.
– Какие новости в столице? – улыбаясь, спрашивал он своего генерал-губернатора.
– Все спокойно, ваше величество, – говорил Михаил Илларионович, вынимая из портфеля бумаги. – Вог только опять поутру мне встретились офицеры-семеновцы без шарфов!..
Александр, собиравшийся в бытность цесаревичем бежать в Америку, чтобы только не возлагать на себя тягостное бремя самодержца, теперь упивался властью и своим либеральным великодушием.
– Ах! Боже мой! – отвечал он с кроткой улыбкой. – Пусть они ходят как хотят. Мне еще легче будет распознавать порядочного человека от дряни.
Александр I и Кутузов тихо не терпели друг друга.
Подносимые губернатором бумаги лежали подолгу не подписанными. Александр любил оставлять многое в сомнении и неопределенности, а затем внезапным решением в противоположном ожидаемому духе приводил всех в недоумение. Противоречивые веяния проносились в его душе. Но Михаил Илларионович терпеливо ждал в таких случаях, какое же мнение из многих у государя наконец восторжествует, и ничему не удивлялся.
Он предвидел, что недолго задержится на этом престижном и хлопотном месте. Слишком много знал старый генерал о кровавой драме 11 марта, в том числе и о жалкой роли нынешнего императора, который после памятного ужина, проведенного с отцом, одетый лежал в кровати и с трепетом ожидал графа Палена.
Чрезвычайно опасно было даже задеть это событие – месть Александра следовала неукоснительно. Считают, что Наполеон раз и навсегда лишил себя возможности какой-либо дружбы с царем, когда неосторожно ответил на резкую ноту русского правительства, вызванную расстрелом по его приказу 9 марта 1804 года герцога Энгиенского. Через министра иностранных дел Талейрана Бонапарт выразил недоумение таким преувеличенным возмущением Петербурга, где после умерщвления императора Павла никто из заговорщиков даже не был наказан. «Этот намек Наполеона – отмечал один из историков, – никогда ему не был прощен, несмотря на все лобзания в Тильзите и Эрфурте…»
Любой разговор Кутузова с Александром поэтому поневоле приобретал характер хождения по канату, балансировки, искусного лавирования, с необходимой добавкой лести, ответом на что следовали фальшивые заверения государя в самых дружеских чувствах.
После высочайшей аудиенции Михаил Илларионович обычно направлялся с визитом к ее величеству Елизавете Алексеевне, а затем – с особенным удовольствием – к фаворитке Александра Марии Антоновне Нарышкиной.
3
Она была настоящей полькой – тип женщин, которые особенно нравились Кутузову, – хотя и происходила из рода Рюриковичей. Но слишком много воды утекло: князья Святополки стали считать себя шляхтой, женились и выходили замуж за поляков и прибавили к своей гордой фамилии другую – Четвертинские.
Злые языки судачили, будто не Александр, а великая княгиня Елизавета Алексеевна первой подала пример неверности: екатерининский дух вседозволенности после кончины Павла воскрес и снова торжествовал при дворе…
Замечена Мария Антоновна была уже во время праздников, посвященных коронации. И скоро черноволосая красавица с необыкновенно белой матовой кожей, слегка курносая, кареглазая, в негласной придворной табели о рангах заняла одно из высших мест, далеко опередив своего мужа, обер-гофмейстера.
Теперь, чтобы быть на виду, совершенно необходимым стало пользоваться ее благорасположением. Впрочем, Михаил Илларионович искренне наслаждался общением с красивой и очень неглупой фавориткой, которая держала себя достаточно скромно, была добра и никому не вредила.
– Рада видеть вас, генерал, – говорила она, протягивая Кутузову сразу обе руки для целования.
В простой белой кисейной тунике, смело открывавшей шею и перехваченной, согласно новой моде, под грудью и с фонариками на плечах, Мария Антоновна была неотразимо хороша. Она редко надевала драгоценности, и теперь в ее роскошных волосах была лишь живая алая роза.
Пока Мария Антоновна весело щебетала, помогая генералу подняться и направляясь под руку с ним к банкетке, Михаил Илларионович в который раз думал о тайне лукавого женского очарования: «Как же она прелестна! Создала же такое чудо природа! И в чем секрет, в чем загадка этого обаяния? Нет, не обаяния, а власти…»
– Мария Антоновна, – сказал он, садясь с ней рядом, – с нашей прошлой встречи, кажется, глаза у вас стали еще больше. Боже правый! Вы всегда смеетесь, всегда приветливы и словно бы никогда не плакали в жизни своей…
Нарышкина улыбнулась ему, но уже другой, грустной улыбкой.
– Ах, мой друг! – проронила она. – Неужто вы не знаете, сколько пережили мы с матушкой и сестренкой в последнюю польскую кампанию!..
– Да вы же были тогда ребенком, Мария Антоновна… – удивился Кутузов и взял ее руку в свою.
– И уже все понимала, – покачала Нарышкина своей маленькой головкой. – Когда восстала Варшава, наш несчастный отец твердо держал сторону русских. Мы бежали в карете, но нас догнали. Отца тотчас схватили, над ним засверкали сабли. Главарь партии остановил своих товарищей. Он сказал, что отца надо судить честным военным судом. Правосудие и состоялось. Тут же, на опушке леса, повстанцы не мешкая приговорили батюшку к повешению…
Нарышкина замолчала и закрыла руками лицо. Молчал и Михаил Илларионович, только теперь припоминая давно слышанную им историю гибели князя Святополка-Четвертинского и досадуя на себя за то, что разбередил ее рану. Но вот Мария Антоновна пересилила себя, прижала руки к груди и продолжала слегка дрожащим голосом:
– О, как мы плакали – мама, сестренка и я! Как молили палачей, которые уже перекинули веревку через сук! Они в ответ только изрыгали ругательства. Мы встали перед ними на колени, мы целовали им руки. Напрасно! Они остались непреклонны. Отец тихо успокаивал нас и просил маму позаботиться о нашем будущем…
– Может быть, не надо рассказывать больше? – мягко сказал Кутузов.
– Нет! Мне будет легче, если я выговорюсь… Среди палачей были и те, с чьими женами, сестрами, дочерьми отец еще недавно танцевал на балах мазурку и полонез. Вот они связали ему руки за спиной – он даже не успел на прощанье перекрестить нас. Вот накинули петлю на шею… Мы уже не плакали. Мы молча смотрели, как уходил от нас наш батюшка…
После долгой паузы Михаил Илларионович по-отцовски погладил ее руку и медленно вымолвил:
– Я много раз смотрел в глаза смерти. Но поверьте, Мария Антоновна, даже я, воин, содрогаюсь. Память! Как она жжет и болит! Простите же меня за неловкость. Право, я бываю так часто неуклюж! Да вот позавчера ночью лично арестовал какого-то подвыпившего гвардейского офицера, который закрывал лицо и упорно отказывался назвать свое имя. И только на гауптвахте, к моему конфузу, выяснили, что это не кто иной, как его высочество Константин Павлович! Каково было мне, старику…
Когда, рассказав еще несколько забавных случаев, Кутузов почувствовал, что Нарышкина успокоилась, то начал прощаться.
– Знайте, Михайла Ларионович, – сказала она ему на прощание, – пока вы остаетесь хозяином Петербурга, я могу спать спокойно…
«Верно, это не простая учтивость, – подумал Кутузов, покидая покои фаворитки. – Марии Антоновне, должно быть, спится спокойно. Но не спокойно молодому государю…»
4
Чего только не случается в таком огромном и суматошном городе, каков Санкт-Петербург!
Там, глядишь, пожар по вине пьяного обывателя, там злодейское ограбление, а тут вдруг объявились фальшивые ассигнации. Или совсем недавно полиция раскрыла тайный притон, куда заманивали доверчивых молодых дворян-провинциалов и обирали до нитки за картами, предварительно опоив их. Все это раздражало императора. Пока что через своего генерал-адъютанта Комаровского Александр несколько раз пенял Кутузову, что столица России никак не превращается в безмятежную Аркадию и в том повинен генерал-губернатор.
Значит, надо было ожидать первого пустякового случая, к которому государь мог бы придраться. И случай этот скоро представился.
Августовской ночью 1802 года Кутузов был поднят с постели: его звал к себе император. В Летнем саду было совершено покушение на поручика лейб-гвардии Семеновского полка Шубина. По докладу полицеймейстера выходило, что некий Григорий Иванов, находившийся прежде при дворе великого князя Константина Павловича, склонял этого Шубина войти в заговор против нового государя. Серьезное дело! Шубин никак на то не соглашался и открылся во всем своему приятелю – полковому адъютанту Полторацкому. Он предложил схватить Григория Иванова во время одного из свиданий с ним, которые назначались вечерами в Летнем саду. Полторацкий согласился, и в назначенный день и час они шли по большой аллее. В сумерках Шубин сказал:
– Слышишь, кто-то идет? Это, верно, он!..
Полторацкому и в самом деле почудились шаги, и он увидел даже, будто кто-то мелькнул за деревьями.
– Ты постой, – предложил Шубин. – А я пойду к нему навстречу…
Минут через пять Полторацкий услышал выстрел, бросился в гущу кустов и увидел своего друга лежащим на земле.
– Ах, злодей! – стонал Шубин. – Злодей меня застрелил!
Полторацкий растерялся и не знал, что делать. Он поднял Шубина и увидел, что у того бежит кровь из левой руки. К счастью, в нижнем этаже Михайловского замка еще горел огонь. Полторацкий отвел туда Шубина и вызвал лекаря. Рана оказалась неопасной: рука была только прострелена выше локтя. Пуля прошла через мякоть, не задев кость.
Полторацкий тотчас отправился на Каменный остров, где находился государь, чтобы довести до его сведения о столь важном происшествии. Был разбужен обер-гофмаршал Николай Александрович Толстой. Он решился идти в спальню к государю и доложить о случившемся. Это довершило гнев Александра, пославшего полицеймейстера за Кутузовым.
Выслушав в постели подробный доклад, Михаил Илларионович, зевая, спросил:
– А вы проверили, каковы денежные дела у этого Шубина?
– Так точно, ваше высокопревосходительство! – Полицеймейстер, маленький, проворный, с вытянутым лисьим лицом, вкрадчиво добавил: – Полторацкий показал, что его друг в долгу как в шелку…
– Все ясно!.. – ответил Кутузов и отвернулся к стенке.
Взвесив факты и рассудив, как лучше избежать неприятного объяснения с императором – раз все равно конец известен, – Михаил Илларионович решил сказаться больным.
На другой день была назначена специальная комиссия в составе престарелого фельдмаршала Каменского и генерал-адъютанта графа Комаровского. Они навестили Михаила Илларионовича.
Кутузов выглядел очень расстроенным.
– Знаю, знаю! – прервал он фельдмаршала Михаила Федотовича, едва тот начал говорить о произошедшем смещении, а затем, оборотясь к Комаровскому, сказал: – Не кажется ли вам, что этот Григорий Иванов не что иное, как призрак?
– У нас нет доказательств, – отвечал генерал-адъютант, – но мы их ищем…
На третий день после случившегося истопник Михайловского замка, ловя рыбу в канаве, которая шла от Фонтанки в Екатерининский канал, вытащил пистолет. Комаровский сразу определил, что пистолет этот из военного седла. Приказав привести к себе шубинского камердинера, он спросил, нет ли у его господина форменного седла.
– Есть, – объяснил тот, – мой барин некоторое время исправлял в полку адъютантскую должность…
Комаровский велел принести пистолеты, но камердинер нашел только один, оказавшийся зато совершенно таким же, как выловленный из канала. Между тем Шубин представил приметы Григория Иванова. Немедленно по всем трактам посланы были фельдъегеря. Узнав, что незадолго до того у Шубина сбежал один из лакеев, Комаровский снова вызвал камердинера и осведомился, не подавал ли его господин о том объявления. Камердинер рассказал, что сам относил бумагу в 3-ю адмиралтейскую часть. Открылось, что в объявлении перечислены те же самые приметы, которые приписывались мнимому Григорию Иванову.
Улики вынудили Шубина признаться, что этого Иванова никогда не существовало. Он сам прострелил себе руку и бросил пистолет в канаву. Молодой офицер наделал много долгов, которые отец отказался оплатить, и решился выдумать всю эту историю в надежде, что государь наградит его. Военный суд приговорил Шубина к смертной казни, но Александр смягчил приговор. Шубин был лишен чинов, дворянского звания и сослан в Сибирь.
Кутузову предоставили годичный отпуск. На деле же он был отстранен от всех занимаемых должностей и жил, с небольшими перерывами, в своих волынских имениях Горошки и Райгородок до 1805 года.
Здесь, пожалуй, уместно вспомнить слова, сказанные неким русским, не пожелавшим назваться, прусскому писателю Варнгагену фон Энзе об Александре I. По его наблюдению, главные черты императора – тщеславие и хитрость или притворство. Александр любил только посредственность (качество, очень распространенное среди власть имущих). Настоящий гений, ум и талант пугали его. Только в крайней нужде, против собственной воли и, так сказать, отвернувшись, он мог пользоваться подобными людьми.
Отношение русского государя к Кутузову было тому свидетельством.
5
М. И. Кутузов – Е. И. Кутузовой.
29 марта 1803 года.
«Здесь такая скука, что я не удивляюсь, что многие идут в монахи. Все равно, что жить в монастыре, что здесь…»
* * *
28 июля. Горошки.
«У меня рожь и пшеницу всю сжали. Я живу довольно уединенно. У меня молодой человек Ергольской, который, ежели не заставишь, двух слов не скажет, да один немец ученый, который иногда очень много говорит…»
* * *
4 августа. Горошки.
«Новым экономом я поныне очень доволен; он профессор; но дай Бог, чтобы у него было хотя наполовину честности противу его ума; а дурак и половины не сделает того, что можно было бы сделать. Я три недели и больше никуда из границ не выезжал и завтра еду в один фольварк[56], за 25 верст, где еще не бывал. Хлеб сняли, то есть рожь и пшеницу. Урожай хорош, пшеница в десять раз родилась, а рожь поменьше – обманули в посеве, – меньше было засеяно, нежели показали, не то раскрали мужики у эконома. Как хлеб весь снимут, то приняться надобно за строения; нету ни винницы порядочной, ни одной пивоварни, что здесь важный пункт, особливо в Райгородке. Винокурня будет порядочная, на восемь котлов; да надобно много пристроить в Райгородке для жидов. Вот мои упражнения…»
Конец 1802-го, а также весь 1803 и 1804 годы заняли устройство хозяйственных дел по имениям. Кутузов начал строительство селитряного и пивоваренного заводов, вел торговлю пенькой, льном, поташем, лесом. Уйму времени отнимали многочисленные тяжбы с соседями, разбор жалоб крестьян на жестокость управляющих, а также опыты с необычными растениями: Михаил Илларионович выписал масляничные семена кунжута, или сезама. Он построил в Горошках церковь во имя святой Екатерины и подарил богатый иконостас. А вот на ризы денег не хватило…
Вести из Петербурга приходили невеселые, хотя, читая о некоторых происшествиях в столице, Кутузов смеялся от души. Новый генерал-губернатор, как и предполагал Михаил Илларионович, сразу начал чудить и шалить. Когда к нему на прием явился бывший правитель канцелярии Кутузова, граф Каменский сперва обругал его последними словами, а затем, дав волю своей ярости, принялся тузить в бока, так что несчастный чиновник вертелся и вопил благим матом. Дурачества фельдмаршала Михаила Федотовича скоро стали всем известны. Александр приметил, что Каменский не только слишком тороплив и чрезмерно вспыльчив, но что он позволяет себе даже переиначивать получаемые им высочайшие повеления. Выведенный из себя император сказал наконец Комаровскому: «Не хочет ли граф Каменский проситься прочь? Если в сие случилось, я поставил бы свечку Казанской Божьей Матери». В том же 1802 году его сменил граф Петр Александрович Толстой…
Где-то кипела жизнь, вершилась высокая политика, а тут Кутузов решал вопрос, удастся ли ему заготовить для продажи корабельный лес. И сколько корчм и лавок следует поставить в Райгородке – до ста или еще больше?..
Были, впрочем, и счастливые часы. Как он мог не порадоваться за свою любимую дочь Лизоньку, которая вышла замуж за молодого графа Тизенгаузена! Кутузов не чаял в ней души, справедливо видел в ее натуре собственные черты, схожесть в уме и характере и именовал «милая Папушенька». Часть своей родительской нежности он был готов теперь перенести и на Лизонькиного мужа. «Ежели бы быть у меня сыну, то не хотелось иметь другого, как Фердинанд», – пишет он обожаемой дочери. Федору-Фердинанду – двадцать один год. Папушеньке – девятнадцать, и они, безусловно, счастливы!..
Зато сердится Екатерина Ильинична, что не зовет ее к себе в Горошки, под разными предлогами оттягивает приезд. Ну, конечно, она нужнее ему там, в Петербурге, – как зоркий наблюдатель, сборщик и хроникер всех событий и даже ходатай и заступница по его делам.
Но, честно сказать, одному ему и вправду жилось лучше и покойнее, хоть и крутился он в непрерывных хлопотах и заботах об урожае. И лишь изредка наезжал с визитами к соседям-помещикам.
6
Среди соседей – русских, поляков, украинцев – встречались любопытные экземпляры. Да вот хотя бы престарелый вдовец, который вовсе сдурел – завел себе девиц, которые делают с ним все что хотят: рисуют ему сажей усы, водят его в бумажном колпаке, одевают в женское платье. А намедни, рассказывал обычно немногословный кутузовский помощник Ергольский, заставили его по конюшенному двору ездить верхом на козле. Все это он исполняет безропотно и совершенно счастлив. Да, всякому свое!..
А вот другой подстарок – убежденный холостяк – приманивал Михаила Илларионовича своим хлебосольством, тонкостями кухни, умением угостить по-русски, от души. Да и не его одного. И в ближайшую субботу в небольшом, но уютном домике на берегу бархатно-зеленого от тины пруда собрался весь почет уездный: отставной генерал-интендант, искуснейший во всей округе охотник на зайцев и дичь; изрубленный в котлету майор; священник – замечательный знаток и толкователь закона Божия…
Сам хозяин – Иван Степанович, носивший такую простую фамилию, что Кутузов все время ее путал – то ли Сидоров, то ли Митрофанов, а может, и Селиванов, – приятно улыбаясь, встречал гостей на крылечке. При появлении славного генерала, самого значительного лица в губернии, рассыпался мелким бисером:
– Милости просим! Милости просим, ваше высокопревосходительство! Да за столы! Все уже готово! Есть икорка знатная! Да и семужка – деликатес! Мы ведь люди холостые, только о себе думаем! Ха-ха! Жениться опоздали!..
Иван Степанович был толст, но говорил пронзительным дискантом. Впрочем, слушать его было одно удовольствие.
– Наливайте, да пополнее, господа! Михайла Ларионович, вот водочка зорная, это – калганная, та – желудочная. А вот и родной травничек. Такой, бестия, забористый, что выпьешь рюмку – обязательно другую захочется. Все попросту, по-русски. Щи с завитками, каша с рублеными яйцами и мозгами. Объедение, доложу вам! Разварной лещ с приправой из разных кореньев и с хреном. Сосиски с крупным горохом. А телятина? Необыкновенно нежная и сочная, с огурцом. Наконец, круглый решетчатый, с вареньем пирог вместо десерта…
– Здоровье его высокопревосходительства генерала от инфантерии и кавалера Михайлы Ларионовича Кутузова! – рявкнул майор, так напрягшись, что бесчисленные рубцы и шрамы на его лице сделались исчерна-лиловыми.
Все потянулись к Кутузову, который ласково благодарил за внимание, призажмурив здоровый глаз. Затем он взял со стола одну из бутылок, с любопытством разглядывая ее, чем вызвал новый приступ словоохотливости у хозяина:
– Мы ведь не французы какие-нибудь, Михайла Ларионович! Чертова напитка кофию не пьем. А вот милости просим вашего превосходительства отведать домашних наливочек. Какая вам по вкусу придется. Все хороши, хороши! Право, язык проглотишь! Есть и кудрявая, сиречь рябиновичка, есть и малиновка, да такая, что от рюмки сам малиновым сделаешься. Ха-ха-ха! А вот вишневочка! Уж такая вышла из своих собственных вишенок, что любо-дорого! Была и клубничная, да, признаться, всю девки выпили. У нас не застоится! Эй, кликните девушек, чтобы нам спели!..
Тотчас появились кареглазые, смуглолицые украинки и, не жеманясь, запели:
Цвитэ тэрэн, цвитэ тэрэн, А цвит опадае. Хто з любовью нэ знается, Той горя нэ знае…– Вот оно как! – гордо воскликнул уже слегка захмелевший хозяин. – Право, чего не отдашь за такую песню! Поднести им вина! А каково вино-то? Подлинно отличное! Такого аквамарину никто отроду не пивал. Ну, так сознаюсь, что это простое бордоское, лишь подкрашенное по моему приказу…
«Да, видно, и в этом доме прекрасный пол правит хозяином. Здесь и не поймешь, кто у кого в рабстве… – размягченно думал Кутузов. – Велика Россия! И чего только не навидаешься в ней! В целом свете не соберешь стольких чудес, какие водятся у нас на Руси!..»
Прошла робость у хозяина от близости знаменитого генерала, а там осмелели и гости. Закрутились разговоры: майор вспоминал бои с турком, отставной интендант – как его раз чуть не повесил под горячую руку светлейший князь Потемкин, старая вдова – как еще девицей ездила в Петербург и видела Елизавету Петровну.
Михаил Илларионович забавлялся своей способностью перевоплощаться: с майором он был воин, с охотником – охотник, с помещиком – рачительный эконом, а со священником – толкователь темных мест Ветхого завета…
Между тем, раззадоренный вниманием самого Кутузова, разговором завладел старичок-охотник, бедный дворянин, от зари до зари таскавшийся по полям и лесам с ружьем.
– Ружейная охота против псовой имеет свои великие преимущества! – назидательно говорил он. – Только тот, кто ловок в стрельбе, может присваивать себе род искусства. Псовый же охотник на ловитве сам собой ничего не значит. Ведь догнать и поймать зайца, собственно, от него и не зависит. Кроме того, ружейная охота проста и безубыточна, а псовая требует многих приготовлений, разных пособий и издержек. Стрелок, вздумавший позабавиться на охоте, тихо встает с постели, раненько, без шума, выходит из дому и, никого не обеспокоив, ищет себе добычи, легонько насвистывая или тихо напевая песенку. А псовники? Какой поднимают гам, крик, свист, хлопанье арапников, рев рогов! А какая пагуба причиняется посевам и вешним всходам! Как вытаптываются луга! Все это каждый псовник знает, да не скажет…
– Все это, может быть, и верно, но я, грешен, люблю полевать с собаками, – возразил ему Кутузов. – И приглашаю вас с собой на псовую охоту. Hy, а теперь, господа, – он вынул любимый золотой брегет с екатерининским вензелем и послушал, как бьют куранты, – спасибо за угощение. Извините, что покину вас. Мне пора, как учил мудрец Сковорода, «тщету отложити мудрости земныя и в мире почити от злобы дневныя». Или, проще сказать, пойти на боковую…
7
Берега огромного озера заросли камышом и осокой, где было видимо-невидимо дичи: кряквы, чирков, кроншнепов. Среди частых промахов изредка раздавался выстрел, поражавший цель: это стрелял Кутузов. Тотчас длинноухий Марс бросался в воду и возвращался с добычей в зубах. Где-то рядом хлопало ружье: бедняга-охотник, видимо оробевший от близкого соседства с генералом, палил и палил в молоко. «Надо бы сменить место или найти своих псовников, – сказал себе Михаил Илларионович. – А то мой новый приятель никак в себя не придет, да и всех уток разгонит…»
Он уськнул Марса и отошел к кустам, где слуга держал лошадь, и вовремя. Туда же подскакал сивоусый псарь в синем пантекоровом кафтане, зеленом с откладными полями картузе и длинным охотничьим ножом у пояса.
– Михайла Ларионович! – запросто обратился он к барину. – Хватит вам пулять! Мы зайцев подняли!
– Где, братец? – взволновался Кутузов, залезая в седло.
– За леском! Скачите за мной!..
Теперь уже и Михаил Илларионович слышал звуки дальнего гона.
Псарь резво полетел прямиком – через рытвины, ямы, водомоины, пни и колоды. Кутузов шел за ним галопом, едва уклоняясь от хлеставших веток, а затем, почувствовав сильную одышку, перевел лошадь на тротт. Но вдруг впереди что-то живое зашуршало в кустах. Стон страха – человечий или нет – заставил его осадить коня. И в самый раз. Прямо под грудью лошади раздалось:
– Ахти, барин… – Женский голос был и в испуге нежен.
Михаил Илларионович нагнулся с седла:
– Ты что тут делаешь, красавица?
– Управляющий послал… Вам ягод насбирать…
Белокурая голубоглазая девушка – из русских переселенцев, каковых в Горошках было немало.
– Ну, давай я тебе пособлю. Вишь, лукошко-то опрокинулось…
– Что вы! Что вы! Управляющий узнает – накажет меня!
Кутузов засмеялся, слез с коня. Дальний гон постепенно затихал.
– А как величать тебя прикажешь?
– Марина я…
– Марина-малина! Какая ты пригожая… Ровно барышня…
– А я и жила при господах: у дочери управляющего прислуживала. Господина Ергольского…
Михаил Илларионович вынул кошелек.
– Это тебе за ягоды. А принесешь их мне под вечер сама. Слышишь? А вот эту записку, – он быстро набросал на клочке бумаги, – передашь господину Ергольскому. Ну, а теперь прощай. Попробую-ка я догнать охоту…
Но в тот день у Михаила Илларионовича не случилось больше ни одного счастливого выстрела…
8
Делу – время, потехе – час.
А сколько дел – не перечесть. К тому же пошли и всякие неприятности. Кутузов сделал Ергольского главным управляющим, а на его место взял в помощники приказчика из Бердичева. Малый разбитной, но уж больно пройдошистый. И вот какую он учинил Михаилу Илларионовичу пакость.
С утра у Кутузова с визитом был бердичевский фактор, которому генерал – с обоюдной выгодой – продал большую партию поташа. Получив и пересчитав две тысячи двести золотых червонцев, Михаил Илларионович запер их в ларчик красного дерева, от которого ключик носил всегда с собой. Дела звали его неотложно в поле: на дворе стоял сентябрь. Воротившись, Кутузов проверил, цел ли ларчик. Он был заперт. Но куда-то подевался новый помощник. Михаил Илларионович хотел разменять червонцы и шесть тысяч рублей отправить с первой почтой в Петербург – Екатерина Ильинична, как всегда, сидела без денег. Но когда отпер ларчик – ахнул: он был пуст…
Кутузов кликнул Ергольского и велел немедля скакать в Житомир. Тот полетел вихрем, но опоздал: вор уже укатил на наемном извозчике к Бердичеву, как видно, чтобы добраться до австрийской границы. Ергольской тотчас вместе с капитан-исправником, имея повеление губернатора об аресте жулика, помчался за ним. Они доехали до границы и ни с чем воротились назад. Плакали денежки! Теперь нужно где-то занимать, чтобы послать жене…
А скоро – новое несчастье. Пожар.
В Райгородке, который стараниями Кутузова превратился именно в рай для всех, один еврей в шинке топил сало. Пламя выкинуло из трубы и пошло гулять. Выгорело сорок пять корчм и до ста лавок. От Райгородка остались одни трубы. Это уже грозило великим расстройством для всего хозяйства. Ветер во время пожара был столь сильный, что бедняги не успели ничего вытащить, и теперь Михаилу Илларионовичу прежде всего надо было заботиться о погорельцах. Иные остались даже без рубашек, так как приключение случилось поздним вечером. Да, пришла беда – отворяй ворота…
Но время все лечит. Дни складывались в недели, недели – в месяцы, один год сменялся следующим. Казалось, Кутузову на роду написано провести остаток жизни новым Цинциннатом[57] – среди овощных грядок и хлебов. Одна отрада – дети, и, конечно, Папушенька. В положенный срок родилась у нее сперва Катенька, а за ней – Дашенька.
Как радовался дедушка! Какой пир закатил в Горошках! Выслал Лизоньке последние полторы тысячи рублей, отложенные на покупку семян. Да еще отправил к ней Марину – ходить за внучками. Он уже твердо знал, что может на нее положиться – благонравна, спокойна, внимательна. Оставаться же в Горошках ей было не с руки. Из Петербурга уже выехала к мужу Екатерина Ильинична.
Вскоре стали приходить первые весточки от Лизоньки. Она хлопотала, старалась вовсю. Но если бы не Марина, не миновать бы беды, когда Катенька вывалилась из колыбельки…
* * *
М. И. Кутузов – Е. М. Тизенгаузен.
Без числа.
«Вот ты и сделалась матерью, дорогая моя Лизонька. Люби своих детей, как я моих, и этого будет достаточно. Да благословит Бог тебя и твою малютку. Брюнетка она или блондинка? Не бранила ли тебя Марина за хлопоты, которые ты наделала? Любезного Фердинанда благодарю за приписку или, лучше сказать, за большое письмо. Благодарю за комплименты, которые он Лизоньке делает, и для этого ей только стоит подражать обожаемой матери…»
* * *
Надо ли говорить, что письмо это писалось, когда дражайшая Екатерина Ильинична находилась рядом. Теперь некому было извещать Михаила Илларионовича о больших и малых событиях в мире. А события не могли не волновать старого генерала.
Наметившееся охлаждение между Россией и Францией пришло к открытому разрыву. Англия возглавила новую коалицию европейских держав против Бонапарта, провозгласившего себя императором Наполеоном I. В коалицию вошли Россия и Австрия; Пруссия, из страха перед французами и их грозным вождем, уклонилась от участия…
Кутузов читал газеты, тосковал, вечерами играл с женой в Филю, или подкидного дурачка, но наконец не выдержал и отправился в Киев.
Здесь всех занимала только что случившаяся дуэль. В Киеве был расквартирован славный Московский пехотный полк, которым командовал Федор Федорович Монахтин. Многолетней заботой и тщанием он довел его до полного совершенства. Природный холостяк, полковник этот, кажется, оставил в себе только кровь, чтобы пролить за Отечество. Все же прочее, до последней пуговицы, продавал, а деньги обращал на покупку солдатам нужного по интендантской части и видел в них родных детей. Тем горше было повеление: сдать московцев Николаю Семеновичу Сулиме и принять начальство над новгородскими мушкетерами.
Полковник не стерпел обиды и потребовал от Сулимы удовлетворения.
И Монахтина, и Николая Семеновича Кутузов знал хорошо и любил как превосходных командиров. Дуэль была жестокой. Полковники бились на шпагах в пустом военном госпитале. Монахтин разрубил Сулиме лоб, а тот перебил Федору Федоровичу два пальца на левой руке.
Михаил Илларионович мог видеть их на другой день – на разводе, куда они явились, несмотря на свежие раны. Стоявший рядом с Кутузовым военный губернатор князь Васильчиков поглядывал на обоих полковников довольно сурово, но ничего им не сказал: честь офицера ценилась превыше всего…
Здесь, в Киеве, Михаила Илларионовича отыскал флигель-адъютант Федор Тизенгаузен.
Высоченный, белокурый, он ворвался в его покои и так сжал в объятиях тестя, что тот взмолился:
– Раздавишь, батюшка! Ты же не на медведя пошел!..
Кутузов получил высочайший рескрипт: государь вызывал его в Петербург, чтобы возглавить экспедиционную армию против Наполеона.
9
В крайней нужде Александр I сменил-таки гнев на милость.
Лондон был охвачен паникой. Наполеон сосредоточил двухсоттысячную армию у берегов Ла-Манша, чтобы с помощью испано-французского флота произвести высадку в Англии. Правительство Питта требовало от русских немедленной помощи.
Михаил Илларионович готовился к нелегкому походу и делал прощальные визиты. Он навестил Аграфену Александровну Рибопьер, племянницу своей жены и вдову храброго бригадира, в ее роскошном доме, более похожем на дворец. В блестящей толпе завсегдатаев выделялась эксцентричная и бойкая графиня Ромбек, сестра австрийского посла Кобенцля, покинувшего Петербург в 1797 году и ставшего министром иностранных дел в Вене. Она выучилась русским непечатным выражениям, которыми украшала французскую речь, и очень дружила с Аграфеной Александровной. Муж графини – старичок эмигрант – обычно дремал на вечерах где-нибудь в уголке, и она будила его, крича на всю залу:
– Ромбек! Держитесь же на ногах!..
И приправляла свой приказ соленым мужицким словцом.
Когда Кутузов беседовал с хозяйкой, вспоминая достоинства покойной Анастасии Семеновны, ее матушки, к нему подошел Александр Рибопьер. Скучая бездействием, двадцатичетырехлетний камергер двора просил своего двоюродного деда взять его с собой в поход.
Михаил Илларионович оборотился к его матери и твердо сказал:
– Отец пал на моих глазах: я не хочу брать на войну сына…
Навестив Марию Антоновну Нарышкину, он застал у нее красавца лейб-гусара, гибкого, словно хлыст, с черными кудрями и лихо подкрученными усиками.
– Давно хочу представить вам, Михайла Ларионович, моего брата Бориса… – сказала фаворитка.
– А-а-а… – самым добродушным тоном отозвался Кутузов. – Так это вы, сударь, чуть не отправили на тот свет моего внука…
Горячая польская кровь бросилась лейб-гусару в лицо, которое приняло цвет его алого гвардейского ментика.
– Ваше высокопревосходительство! Мы дрались на честной дуэли!..
– Полноте, полноте, князь, – успокоил его Михаил Илларионович. – Сам Саша Рибопьер рассказывал мне и о вашем искусстве, и о вашем рыцарстве…
– А у меня к вам просьба. – Мария Антоновна положила на плечо Кутузова свою прекрасную руку. – Брат мой мечтает драться против Бонапарта…
– Именно такого молодца я хотел бы видеть у себя адъютантом, – без промедления ответил Михаил Илларионович, подумав, что отказал в просьбе внуку, чтобы удовлетворить его обидчика. Да! Чего не сделаешь ради одной волшебной улыбки Марии Антоновны!
Перед уходом Кутузов сказал:
– Как вы похожи! Находясь со мной, брат ваш будет ежечасно напоминать мне о вас…
Последний вечер в Петербурге Михаил Илларионович провел в кругу своей большой семьи. Он собрал всех дочерей с их чадами. Вместе с ним готовился к походу Федор Тизенгаузен.
Когда наступила пора прощания, Кутузов крепко расцеловал самых маленьких и прослезился:
– Увижу ли я вас, дорогие детки! Помните же старика, который поведет русскую рать против непобедимого Бонапарта!..
Сноски
1
Василий II Темный (1415 – 1462) – великий князь московский с 1425 г., сын Василия I.
(обратно)2
Все даты в романе даются по старому стилю.
(обратно)3
Известный русский историк В. О. Ключевский сообщает, что Иван Грозный земщину предназначал после себя старшему сыну, а опричнину – младшему. И далее он пишет: «…есть известие, что во главе земщины поставлен был крещеный татарин, плененный казанский царь Едигер-Симеон. Позднее, в 1574 г., царь Иван венчал на царство другого татарина, касимовского хана Саин-Булата, в крещении Симеона Бекбулатовича… Иван назначал того и другого Симеона председателями думы земских бояр» (Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. М., 1988. Т. 2. С. 167 – 168).
(обратно)4
Литературный памятник начала XVIII в., предназначался для воспитания дворянских детей, составлен сподвижниками Петра I (Я. В. Брюсом и др.). Впервые издан в 1717 г.
(обратно)5
Петр Иванович Шувалов (1710 – 1762) – граф, генерал-фельдмаршал, участник дворцового переворота 1741 г. Был фактическим руководителем правительства при Елизавете Петровне. В Семилетней войне был одним из организаторов армии, особенно артиллерии.
(обратно)6
Семилетняя война – война 1756 – 1763 гг, между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией и Швецией, с одной стороны, и Пруссией, Великобританией и Португалией – с другой. Вызвана была обострением англо-французской борьбы за колонии, а также столкновением агрессивной политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России. В войне выиграла Великобритания, победив Францию и обретя торговое первенство.
(обратно)7
Кунерсдорф – деревня вблизи Франкфурта-на-Майне, у которой русские и австрийские войска 1 августа 1759 г. разгромили прусскую армию.
(обратно)8
Петр III Федорович (1728 – 1762) – российский император с 1761 г., сын герцога Голштейн-Готторпского Карла-Фридриха и Анны Петровны, внук Петра I. Он был свергнут в результате переворота, организованного его женой Екатериной, и убит.
(обратно)9
Шувалов Иван Иванович (1727 – 1797) – фаворит Елизаветы Петровны, первый куратор Московского университета, президент Академии художеств.
(обратно)10
Бестужев-Рюмин А. П. (1693 – 1766) – граф, дипломат, генерал-фельдмаршал. В 1740 – 1741 гг. был кабинет-министром, в 1744 – 1758 гг. – канцлером.
(обратно)11
Григорий Григорьевич Орлов (1734 – 1783) – граф, фаворит Екатерины II, один из организаторов дворцового переворота 1762 г., генерал-фельдцейхмейстер русской армии.
(обратно)12
Никита Иванович Панин (1718 – 1783) – граф, дипломат. Воспитатель Павла I, с 1763 г. был руководителем Коллегии иностранных дел.
(обратно)13
Обер-фохт – командир конвента рыцарей (нем.)
(обратно)14
Курляндское герцогство – государство на территории Курземе и Земгале. Столица – Митава. Герцогство образовалось при распаде Ливонского ордена, с 1617 г. – дворянская республика. С 1569 г. было вассалом Речи Посполитой, с 1710 г. – России. В 1795 г. присоединено к Российской империи (Курляндская губерния).
(обратно)15
Бирон Эрнст Иоганн (1680 – 1772) – граф, фаворит императрицы Анны Иоанновны. После дворцового переворота был сослан, Петром III помилован и возвращен в Петербург.
(обратно)16
В ратуше (от нем. Rathaus).
(обратно)17
Русско-турецкая война 1768 – 1774 гг. окончилась Кючук-Кайнарджийским миром после того, как турецкие войска были разгромлены при Ларге, Кагуле, флот разбит в Чесменском сражении и был завоеван Крым.
(обратно)18
Один золотник – примерно четыре грамма.
(обратно)19
Фузея – ружье (от фр. fusille).
(обратно)20
Румянцев-Задунайский П. А. (1725 – 1796) – граф, известный полководец, генерал-фельдмаршал, прославился в Семилетней войне, В русско-турецкой войне 1768 – 1774 гг, прославился победами при Рябой Могиле, Ларге, Кагуле.
(обратно)21
Репнин Николай Васильевич (1734 – 1801) – князь, генерал-фельдмаршал, В 1763 – 1769 гг. был послом в Польше, участник русско-турецких войн, командовал корпусом в Молдавии и Валахии. В 1775 – 1776 гг, был полномочным посланником в Турции. В 1791 г. осуществлял командование над соединенной армией во второй русско-турецкой войне. В 1794 г. стал губернатором виленским, гродненским, эстляндским и курляндским, в 1796 г. – губернатор Риги.
(обратно)22
Проклятое дерьмо! (нем.)
(обратно)23
Репнин А. И. (1668 – 1726) – князь, генерал-фельдмаршал, сподвижник Петра I, участник Северной войны. В 1724 – 1725 гг, – президент Военной коллегии.
(обратно)24
Одинец – мужская серьга-одиночка, обычно холопья серьга.
(обратно)25
Гайтан – шнурок для нательного креста.
(обратно)26
Сарти Джузеппе (1729 – 1802) – итальянский композитор и дирижер, с 1784 г. жил в России, здесь написал несколько опер, гимнов и других произведений.
(обратно)27
Энгельгард – букв.: сад ангелов (нем.)
(обратно)28
Во время русско-турецкой войны в сражении у реки Рымник 11 сентября 1789 г., русские и австрийские войска под командованием А, В. Суворова разгромили турецкую армию. Суворов получил титул графа Рымникского.
(обратно)29
Речь идет о русско-шведской войне 1788 – 1790 гг., закончившейся Верельским миром. Нассау-Зиген (1745 – 1808), русский адмирал, одержал в этой войне несколько побед, но потерпел сокрушительное поражение в июне 1790 г. при Свенскзунде.
(обратно)30
Лашоссе (1692 – 1754) – французский драматург, член Французской академии, писал драмы на сюжеты из семейной жизни.
(обратно)31
Мартинисты – мистическая секта, основанная в XVIII в, Мартинесом Паскалисом, Члены секты считали себя визионерами, то есть способными наблюдать сверхъестественные видения.
(обратно)32
Имеется в виду восстание 1773 – 1775 гг. под предводительством Е. И. Пугачева.
(обратно)33
Новиков Николай Иванович (1744 – 1818) – писатель, журналист, издатель, русский просветитель. Издавал сатирические журналы «Живописец» и «Трутень», организовал библиотеки, типографии, школы. В 1770-х гг. он примкнул к масонам. В 1792 – 1796 гг. по указу Екатерины II заключен в Петропавловскую крепость.
(обратно)34
Кропоткин Петр Алексеевич (1842 – 1921) – князь, по профессии был географом и геологом. Стал известным революционером и теоретиком анархизма, написал воспоминания «Записки революционера».
(обратно)35
Рибас Хосе де (Дерибас Осип Михайлович; 1749 – 1800) – русский адмирал, испанец, на русской службе с 1772 г.
(обратно)36
Клейноты – войсковые знаки, атрибуты власти (булава и проч.).
(обратно)37
Сипахи (спаги) – турецкая легкая конница.
(обратно)38
Русско-турецкая война 1787 – 1791 гг. окончилась Ясским договором 9 января 1792 г., который подтвердил присоединение к России Крыма и Кубани и установил границу по Днестру.
(обратно)39
Яшмак – часть покрывала, закрывающая лицо (тур.)
(обратно)40
Из романа Сервантеса «Дон Кихот».
(обратно)41
Солитер – крупный бриллиант.
(обратно)42
Эгалите – равенство (фр.)
(обратно)43
Кронос – в греческой мифологии титан, сын Геи и Урана. Он стал верховным богом, оскопив отца. Кронос проглатывал своих детей, рожденных Геей. Гее удалось спрятать только Зевса, который, возмужав, заставил Кроноса изрыгнуть проглоченных детей. Они и составили поколение олимпийских богов.
(обратно)44
Экзерциргауз – здание для строевого обучения солдат (нем.)
(обратно)45
Гро – название шелковых, самых плотных тканей, гроде-тур – одна из таких тканей (фр.)
(обратно)46
Александр Андреевич Безбородко (1747 – 1799) – светлейший князь, дипломат. С 1775 г. – секретарь Екатерины II, с 1783 г. – фактический руководитель российской внешней политики, с 1797 г. канцлер.
(обратно)47
Роббер – несколько карточных игр, составляющих одну игру, по расчету, в висте (англ.)
(обратно)48
Мундшенк – заведующий напитками (нем.)
(обратно)49
Эквилибр – равновесие (фр.)
(обратно)50
Екатерина Романовна Дашкова (1744 – 1810) – княгиня, дочь Р. И. Воронцова, сенатора и генерал-аншефа. Дашкова была участницей дворцового переворота, приведшего на трон Екатерину II. С 1769 г., около десяти лет, – за границей, где встречалась с Дидро, Вольтером, А. Смитом. В 1783 – 1796 гг. была директором Петербургской академии наук и президентом Российской академии наук.
(обратно)51
Костюшко Тадеуш (1746 – 1817) – руководитель польского восстания 1794 г., участник войны за независимость в Северной Америке в 1775 – 1783 гг. Во время восстания в Польше был пленен царскими войсками, освобожден из Петропавловской крепости в 1796 г.
(обратно)52
В начале XII в. крестоносцы основали в Палестине духовно-рыцарский орден, члены которого назывались иоаннистами. В конце XIII в. они ушли с Востока, и с 1530 по 1798 г., их резиденцией стал остров Мальта.
(обратно)53
Здесь: не стеснять своим присутствием (от фр. gener – беспокоить, стеснять).
(обратно)54
Тупей – старинная прическа: взбитый хохол волос на голове.
(обратно)55
Клеопатра (69 – 30 до н. э.) – последняя царица Египта, славилась своим умом и образованностью, Она была любовницей Юлия Цезаря, после 41 г. – Марка Антония, затем его женой. После поражения в войне с Римом Клеопатра покончила с собой, поднеся к груди ядовитую змею.
(обратно)56
Фольварк – помещичье хозяйство в феодальной Польше.
(обратно)57
Цинциннат – римский патриций, консул с 460 г. до н. э., диктатор в 458 и 439 гг. до н. э. По преданию, был образцом скромности, верности гражданскому долгу.
(обратно)


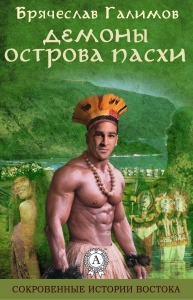






Комментарии к книге «Кутузов. Книга 1. Дважды воскресший», Олег Николаевич Михайлов
Всего 0 комментариев